Сергей Кара-Мурза Демонтаж народа. Учебник межнациональных отношений
© Кара-Мурза С.Г., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Введение
Наше постсоветское государство и общество переживают длительный глубокий кризис, но ни сами граждане, ни ученые-обществоведы, ни организованные политические партии до сих пор не могут дать ясного изложения его природы. Общество больно, но каков диагноз? Какие органы и ткани повреждены сильнее всего, где коренится болезнь? Мы угасаем, хотя прирастает ВВП, гордо смотрит двумя головами наш орел, проводятся шумные праздники – то на Неве, то в Казани. Что произошло с нами?
Чаще всего на первый план выдвигается описание социальных последствий кризиса – захирело хозяйство, много бедных, трудно прокормить ребенка. То есть по инерции болезнь общества трактуется в понятиях классового подхода – отношения собственности, распределение дохода. Но не в этом суть тех процессов, которые протекают на наших глазах. Почти очевидно, что все они – следствие какой-то более глубокой причины. Да, меняется состояние стабильных ранее социальных групп (например, идет деклассирование рабочего класса), но разве можно этим объяснить противостояние на Украине или войну в Чечне, политическую пассивность обедневшего большинства в РФ и его равнодушное отношение и к приватизации, и к перераспределению доходов?
Надо преодолеть ограничения подходов, загоняющих всю жизнь общества за узкие рамки интересов социальных групп, и посмотреть, что происходит со всей системой связей, объединяющих людей в общности, а их – в общество. Тогда мы сразу увидим, что гораздо более фундаментальными, нежели классовые отношения, являются связи, соединяющие людей в народ. И фундаментальная причина нашего нынешнего состояния заключается в том, что за двадцать лет демонтирован, «разобран» главный субъект нашей истории, создатель и хозяин страны – народ. Все остальное – следствия. И пока народ не будет вновь собран, пока его расчлененные части не будут окроплены «мертвой водой», а «живая вода» не вернет ему надличностных памяти, разума и воли, не может быть выхода из этого кризиса. Не кризис это, а Смута.
Да можно ли разобрать народ, как разбирают машину? Надо ли это понимать как метафору? Если сравнивать с машиной, то да, метафора. А если считать машину всего лишь наглядным и не слишком сложным примером системы, то термин «демонтаж» народа придется принять как нормальный технический термин. Потому что народ – именно система, в которой множество элементов (личностей, семей, общностей разного рода) соединены множеством типов связей так, что целое обретает новые качества, несводимые к качествам его частей.
Связи эти поддаются целенаправленному воздействию, и технологии такого воздействия совершенствуются. Значит, народ можно «разобрать», демонтировать – так же, как на наших глазах демонтируется рабочий класс или научно-техническая интеллигенция РФ. И если какая-то влиятельная сила производит демонтаж народа нашей страны, то исчезает общая воля, а значит, теряет силу и государство – государство остается без народа. При этом ни образованный слой, мыслящий в понятиях классового подхода, ни политические партии, «нарезанные» по принципу социальных интересов, этого даже не замечают.
Бывало ли такое, чтобы народы «разбирали», чтобы угасали их память, разум и воля? Думаю, не просто бывало, а и всегда было причиной национальных катастроф, поражений, даже исчезновения больших стран, империй, народов. В большинстве случаев нам неизвестны причины таких катастроф, историки лишь строят их версии. Сами же современники бывают слишком потрясены и подавлены бедствиями момента, чтобы вникнуть в суть происходящего.
Почему римляне равнодушно отдали свою империю и свой великий город варварам, которые в техническом и организационном плане стояли гораздо ниже римских инженеров, военных и администраторов? О производительных силах и говорить нечего. Куда делась империя скифов, соединившая земли от Алтая до Дуная? Как собрались монголы в огромный народ с огромным творческим потенциалом и почему он был «разобран» всего через триста лет? Почему русские, за короткий срок построившие державное Московское царство и присоединившие Сибирь, в начале ХVII века пережили приступ самоотречения, посадили себе на престол молоденького авантюриста, а царь прятался от польских патрулей где-то в костромских болотах?
Почему, наконец, великая Российская империя в феврале 1917 г., по выражению В.В. Розанова, «слиняла в два дня»? Кучка петербургских масонов виновата? Да она всего лишь воткнула нож в спину обессилевшим «самодержавию, православию и народности». И бессилие это готовилось, уже на стадии необратимой деградации, целых десять лет. 24 июля 1908 г. Александр Блок написал:
Что делать! Ведь каждый старался Свой собственный дом отравить, Все стены пропитаны ядом, И негде главы приклонить! ……………………. И, пьяные, с улицы смотрим, Как рушатся наши дома.После 1907 г., когда старая государственность не смогла вобрать в себя энергию революции, а просто подавила ее, кое с какими косметическими улучшениями, начался быстрый демонтаж старого имперского народа – и в Феврале полк личной охраны государя, набранный исключительно из георгиевских кавалеров, нацепил красные банты.
Тогда Россию спасло то, что подавляющее большинство населения было организовано в крестьянские общины, а в городах в трудовые коллективы было организовано несколько миллионов грамотных рабочих, проникнутых общинным мировоззрением, обуреваемых жаждой знания и новым религиозным чувством. Они еще с 1902 г. начали сборку нового, уже советского народа – обдумывали его проект благой жизни, записывали его в приговорах и наказах сельских сходов, сочиняли стихи и песни.
И то времени и духовных стимулов не хватило – матрицу для пересборки народа пришлось достраивать в Гражданской войне, когда альтернативные проекты проверялись абсолютными аргументами. Как ни гонишь от себя эту тяжелую мысль, но чем больше читаешь материалов тех лет, тем больше склоняешься к выводу, что без этой травмы могли и не собраться те «красные сотни», которые в диалоге с их «белыми» оппонентами сформулировали последние вопросы и нашли на них жесткие ответы – так, что смогли завершить войну без «хвостов» и совместно заняться народостроительством. Из этого следует и другая тяжелая, особенно для интеллигенции, мысль: для строительства народа России в его советском облике нужно было удалить или даже подавить те силы, которые до революции вели демонтаж имперского русского народа – и ту философствующую интеллигенцию, которая металась между марксизмом и либерализмом, между народопоклонством и народоненавистничеством (по выражению Солоневича, всех этих «бердяй булгаковичей»), и ту «ленинскую гвардию», что слишком глубоко погрузилась в марксизм. Первых отправили на пароходе в Париж, со вторыми обошлись круче.
Историк Г.П. Федотов, в юности марксист и социал-демократ, уехал в Париж своим ходом в 1925 г. Он вспоминал: «Мы не хотели поклониться России – царице, венчанной царской короной. Гипнотизировал политический лик России – самодержавной угнетательницы народов. Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее» [1].
А ведь Печерин – это конец 30-х годов ХIХ века! Считается (хотя точно не известно), что это о нем Пушкин писал в 1836 г.:
Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды чистый лик увидел. И нежно чуждые народы возлюбил И мудро свой возненавидел. Когда безмолвная Варшава поднялась И ярым бунтом опьянела, И смертная борьба меж нами началась При клике «Польска не згинела!», Ты руки потирал от наших неудач, С лукавым смехом слушал вести, Когда разбитые полки бежали вскачь И гибло знамя нашей чести. Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал Во прахе, пламени и в дыме, Поникнул ты главой и горько возрыдал, Как жид о Иерусалиме.Как любая большая система, народ может или развиваться и обновляться, или деградировать. Стоять на месте он не может, застой означает распад соединяющих его связей. Если это болезненное состояние возникает в момент большого противостояния с внешними силами (горячей или холодной войны), то оно непременно будет использовано противником, и всегда у него найдутся союзники внутри народа – какие-то диссиденты, масоны, сахаровы и курбские. И едва ли не главный удар будет направлен как раз на тот механизм, что скрепляет народ. Повреждение этого механизма, по возможности глубокая разборка народа – одно из важных средств войны во все времена. В наше время в западных армиях возник даже особый род войск – для ведения информационно-психологической войны. Но мы в это не верили и на уроках прошлого не учились…
Во второй половине ХХ века народ России существовал как советский народ. Когда с середины 50-х годов была начата большая программа, определенно направленная на демонтаж советского народа, наше общество в целом, включая все его защитные системы, восприняли это как обычную буржуазную пропаганду, с которой, конечно же, без труда справится ведомство Суслова.
В момент смены поколений была предпринята форсированная операция. На разрушение духовного и психологического каркаса советского народа была направлена большая кампания, названная «перестройкой». Демонтаж народа проводился сознательно, целенаправленно и с применением сильных и даже преступных технологий. Предполагалось, что в ходе реформ удастся создать новый народ, с иными качествами («новые русские», «средний класс»). Это и был бы демос, который должен был получить всю власть и собственность. Ведь демократия – это власть демоса, а гражданское общество – «республика собственников»! «Старые русские» («совки»), утратив статус народа, были бы переведены в разряд быдла, лишенного собственности и прав.
Выполнение этой программы свелось к холодной гражданской войне этого наспех сколоченного нового народа («новых русских») со старым (советским) народом. Новый народ был все это время или непосредственно у рычагов власти, или около них. Против большинства населения (старого народа) применялись средства информационно-психологической и экономической войны.
Экономическая война внешне выразилась в лишении народа его общественной собственности («приватизация» земли и промышленности), а также личных сбережений. Это привело к кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников села. Резкое обеднение привело к изменению образа жизни (типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характера жизненных планов). Это означало глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушало его мировоззренческое ядро. Воздействие на массовое сознание в информационно-психологической войне имело целью непосредственное разрушение культурного ядра народа. В частности, был произведен демонтаж исторической памяти, причем на очень большую глубину.
В результате экономической и информационно-психологической войн была размонтирована «центральная матрица» мировоззрения, население утратило целостную систему ценностных координат. Сдвиги и в сознании, и в образе жизни были инструментами демонтажа того народа, который и составлял общество и на согласии которого держалась легитимность советской государственности. К 1991 г. советский народ был в большой степени «рассыпан» – осталась масса людей, не обладающих надличностным сознанием и коллективной волей. Эта масса людей утратила связную картину мира и способность к логическому мышлению, выявлению причинно-следственных связей.
В этом состоянии у населения РФ отсутствует ряд качеств народа, необходимых для выработки проекта и для организации действий в защиту хотя бы своего права на жизнь. Можно говорить, что народ болен и лишен дееспособности, как бывает ее лишен больной человек, который еще вчера был зорким, сильным и энергичным.
Это наглядно показали «оранжевые» революции. В них ослабленному кризисом, полуразобранному народу противопоставлялся организованный и сплоченный квазинарод («оранжевый народ»), создаваемый на время революции, а потом легко демонтируемый. Не имея ни своего мировоззрения, ни своей программы, он, тем не менее, представляет собой большую и управляемую политическую силу. Опыт таких революций в Сербии, Грузии и на Украине многое прояснил для нас в причинах политического бессилия нашего населения и в той опасности, которую представляют для страны и государства технологии демонтажа народов и искусственного создания общностей, обладающих свойствами «короткоживущего» народа.
За вторую половину ХХ века процесс разборки и строительства народов стал предметом исследований и технологических разработок, основанных на развитой науке. Свержение государств и уничтожение народов происходит сегодня не в ходе классовых революций и межгосударственных войн, а посредством искусственного создания и стравливания этносов. Бесполезно пытаться защититься от этих новых типов революции и войны марксистскими или либеральными заклинаниями.
Выработка «проекта будущего» и выход из нашего нынешнего кризиса будут происходить по мере новой «сборки» народа из большинства населения на основе восстановления его культурного и мировоззренческого ядра с преемственностью исторического цивилизационного пути России. В этой работе уже принимает участие (и будет принимать еще активнее) и часть населения республик, оставшихся от разваленного Союза – опыт переживания кризиса каждой из них важен для всех.
Процесс выздоровления наших народов дошел до той стадии, на которой необходимо принципиальное обновление политической системы государства с появлением организационных форм (партий и движений), построенных исходя не из классового, а из цивилизационного подхода и соответствующих тому историческому вызову, перед которым Россия оказалась сегодня.
Для этого нам надо освоить, хотя бы в самом кратком виде, современные представления об этносах, народах и нациях, о связях этнической и национальной солидарности, о национализме и технологиях его политического применения. Сведения об этом и собраны в данной книге, написанной с учетом опыта нашей национальной катастрофы.
Раздел 1. Этносы, народы, классы
Глава 1. Поминки по Просвещению: взрыв этничности
Наши представления о человеке, обществе и государстве сформулированы с помощью интеллектуального аппарата, созданного в рамках программы Просвещения. С конца ХIХ века мышление российской, а затем и советской интеллигенции находилось под сильным влиянием исторического материализма (марксизма) – одной из главных обществоведческих концепций Просвещения. Но в отношении явления этничности (и связанных с ним понятий народа и нации) конкурирующие с марксизмом концепции Просвещения – либерализм и национализм – принципиально не отличались.
Русская культура, воспринявшая основные нормы рациональности Просвещения, в какой-то мере наложила свой отпечаток на представление об этничности, принятое в советском обществоведении, но в каком направлении? Приняв универсализм Просвещения, его идею о прогрессе цивилизации в направлении к единому человечеству, соединенному общечеловеческими ценностями, русская культура дополнила и усилила этот универсализм православной идеей всечеловечности. Для идеологии и национальной политики это дополнение было очень важно – и советская государственность, и ранее Российская империя исключали ассимиляцию народов как политическую технологию. Представление о принципах межнационального общежития основывалось на разных вариантах образа семьи народов (братство народов, симфония народов). Однако российская и советская общественная мысль лежала на траектории, заданной Просвещением.
ХХ век означал крах универсалистской концепции Просвещения. Цепь национальных революций, слившаяся в большую мировую революцию, была вызвана нежеланием народов влиться в глобальную систему капитализма под эгидой Запада на правах его периферии. Первая мировая война расколола цитадель Просвещения – сам Запад. Затем важная его часть открыто и радикально отвергла универсализм Просвещения, при этом соблазн фашизма охватил культурный слой Запада в гораздо большей степени, нежели это проявилось в политической сфере. Сразу после Второй мировой войны была разрушена колониальная система Запада – при этом этническое самосознание вырвалось с такой силой, которая не укладывалась в рамки рациональности Просвещения. Прошло еще немного времени – и потерпела катастрофу система межнационального общежития, созданная в Российской империи и затем в СССР. И в ответ на все это – неолиберализм, откат к истокам, слепой фундаментализм Просвещения в его наиболее механистической версии.
Этнолог Дж. Комарофф пишет (1993): «Несмотря на утверждения некоторых консервативных мыслителей и, особенно, Фрэнсиса Фукуямы о том, что мы дожили до «конца истории», практически нет сомнений, что история нашего времени в полном смысле слова переписывается под воздействием этнических и националистических форм борьбы. Мне как ученому трудно не испытывать достаточно сильного смущения перед сложностью тех исторических процессов, начало которым положила постколониальная политика самоосознания, а также из-за той массы убийств и геноцида, что совершаются во имя различных форм национализма, распространившихся по всей планете.
Публикации последнего времени на тему политики самоосознания начинаются обычно с того, что отмечается, насколько удивительно ошибочной и банальной оказалась евро-американская теория национального государства в ее объяснениях этого феномена. Взрывная живучесть этнического и национального сознания опрокинула все самонадеянные исторические предсказания, делавшиеся слева, справа и из центра, об отмирании культурного плюрализма в конце XX столетия. Нам говорили, что всем «исконным» культурным привязанностям придется окончательно исчезнуть под влиянием «современности», возмужания национального государства и глобализации индустриального капитализма» [2, с. 35][1].
Нежелание западных философов, особенно либерального направления, оторваться от установок методологического индивидуализма, представляющего человека «свободным атомом», делает обществоведение, а за ним и общественное сознание, неспособными принять вызовы реальности. Это само по себе становится опасным фактором углубления общего кризиса цивилизации. Отказ от научного подхода к познанию и пониманию быстротекущих процессов загоняет мысль часто в наихудший коридор из всех возможных. Если учесть, какую силу набрал Запад, то его фундаментализм надо считать угрозой самому существованию человечества.
Либеральный философ Дж. Грей в своей грустной книге «Поминки по Просвещению» называет эту «нерассуждающую склонность к индивидуализму современной англо-американской политической философии» метафорой из антиутопии Борхеса – «политическое мышление в духе страны Тлен». Речь в этой антиутопии идет об интеллектуальном сообществе, которое целиком было погружено в изучение несуществующей страны Тлен.
Грей пишет: «Фактическое доминирование в современной политической философии лишенных исторического видения и культурно ограниченных вариантов либерализма приводит в случае столкновения теории с самыми влиятельными политическими силами нашего столетия к бессилию либеральной мысли. Гегемония либерального дискурса и идеалов, приводит к тому, что эти силы, например, этничность и национализм (подобно сексуальности в викторианские времена) предаются интеллектуальному забвению, откуда они периодически появляются вновь как свидетельства живучести человеческой иррациональности, чтобы боязливо обсуждаться на ущербном «новоязе» в терминах «различия и инаковости» или просто отбрасываться как с трудом доступное пониманию отклонение от основного интеллектуального русла. Выдержанное в подобном духе понимание господствующих сил столетия как прискорбного атавизма или отклонения от требований внутренней непротиворечивости теории не предвещает ничего хорошего современной политической философии или либерализму» [3, с. 43].
Насколько несостоятельными оказались представления и либерализма, и марксизма о человеке и об этничности, показывает то, как непредсказуемо вывернулась наизнанку проблема межэтнических отношений в США. Политическая философия, уходящая корнями в Просвещение, предвидела ход событий как обретение угнетенными национальными меньшинствами равных прав с господствующим большинством. Либералы видели этот процесс в рамках расширения прав человека и развития гражданского общества, левые искали способы борьбы за равные права. Это были два вполне рациональных проекта, они осмысливались в интеллектуальных концепциях, для них накапливались ресурсы. Но развитие пошло по совсем иному пути, который породил ряд порочных кругов и, можно сказать, загнал американское общество в ловушку.
В. Малахов пишет об этом: «Чернокожие перестают интересоваться гражданским равноправием – то есть правом быть такими же, как белые. Они ставят вопрос о праве не быть такими же, как белые, о своем культурном отличии. Black culture, о которой говорят негритянские активисты в США, мыслится как совершенно особая по сравнению с культурой, завезенной в Америку белыми переселенцами. Расовый антагонизм, традиционно являвшийся одной из острейших социальных проблем Америки, в последнее десятилетие перетолковывается в антагонизм культурный. С некоторых пор стало привычным слышать о существовании на одной территории двух наций» [4]. В 90-е годы в США снова появилась расовая сегрегация школ, но теперь в результате свободного выбора негров. Представители меньшинств стали отвергать образ жизни белых, доходя до отказа от медицинского обслуживания и высшего образования.
Почему представления Запада об этничности так оторвались от реальности? Протестантская Реформация, а затем Научная революция (возрождение атомизма), соединившись в одну большую революцию, произвели в Западной Европе культурную мутацию – возникло совершенно новое представление человека о себе самом. Человек стал рациональным индивидом, свободным атомом. Это представление было закреплено Просвещением как непререкаемая догма. Высокая пластичность духовной сферы человека привела к тому, что эта догма, подкрепленная словом великих писателей и ученых, школьными учебниками и газетами, вошла в массовое сознание европейцев.
Миф о человеке как рациональном и как изолированном индивиде укреплялся всеми институтами возникшего буржуазного общества – и хозяйственным укладом современного капитализма, и образом жизни атомизированного городского человека, и социальными теориями (например, политэкономией).
Вебер пишет: «Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяйства» [5, c. 317].
Таким образом, само явление этничности как одного из наиболее мощных видов человеческой солидарности целиком выпало из сферы внимания европейской культуры. Этничность стала рассматриваться как экстравагантная и архаичная особенность «диких», почти мифических народов, живущих где-то в сельве или тайге[2].
Дж. Грей пишет: «Позитивисты полагали, что все общества постепенно отбросят традиционную приверженность сверхъестественным силам из-за потребности в рациональных, научных и экспериментальных методах мышления, предполагаемых современной индустриальной экономикой. Согласно старому доброму убеждению, широко распространенному в XIX веке, произойдет постепенная конвергенция ценностей на основе «наших ценностей, либеральных».
Всемирно-исторический провал проекта Просвещения, выразившийся в политическом отношении в крахе и разрушении в конце XX века порожденных этим проектом светских, рационалистических и универсалистских политических движений – и либеральных, и марксистских – и преобладание в политической жизни этнических, националистских и фундаменталистских сил наводят на мысль об ошибочности философской антропологии, на которой зиждился проект Просвещения. В этой философской антропологии различие культур рассматривалось как эфемерная, и даже эпифеноменальная случайность в человеческой жизни и истории.
Опровержение данной точки зрения историческим опытом представляет собой явление, исследование которого традиционное либеральное мышление, считающее различие культур формой атавизма… сочло слишком опасным. С альтернативной точки зрения, которую я хочу развить, предрасположенность к различиям между культурами – изначальное свойство рода человеческого; человеческая идентичность плюралистична и разнообразна по своей природе – как многочисленны и разнообразны естественные языки» [3, с. 133].
Провал проекта Просвещения на деле есть провал той рациональности, которую оно выработало. Мышление, проникнутое этой рациональностью, отказывается от исследования («считает его слишком опасным») феномена, которого, казалось бы, нельзя не видеть, которым проникнута вся жизнь любого общества. Сейчас трудно представить себе, какой интеллектуальной изощренности потребовало изъятие проблемы этничности из больших программ строительства наций, которые вырабатывались и осуществлялись в Европе и США – уже интеллектуалами Просвещения.
Более того, само возникновение национализма как одной из главных идеологий Просвещения было вызвано потребностью атомизированного человека найти новое основание для солидарной общности. На это прямо указывали философы, развивающие идеи Просвещения. Как писал Бенджамен Нельсон, современный индивид, лишенный подлинной основы для самоутверждения, реанимирует архаические пласты и значения культуры. Это он делает в поисках психологического исцеления от страха жизни чужих среди чужих в современных городах, представляющих собой подлинные «всеобщие чужбины».
Этот «страх перед чужими» как раз и был вызван разрушением общины традиционного общества, лишением человека того космического чувства, при котором он чувствовал себя в мире как в доме. Н. Бердяев писал о том страхе и пессимизме, который вызвало разрушение космоса человеческого общежития: «В средние века человек жил в корпорациях, в органическом целом, в котором не чувствовал себя изолированным атомом, а был органической частью целого, с которым он чувствовал связанной свою судьбу. Все это прекращается в последний период новой истории. Новый человек изолируется. Когда он превращается в оторванный атом, его охватывает чувство невыразимого ужаса» [6].
Именно попыткой вырваться из этого страха индивида объясняет Э. Фромм возникновение расизма и «мифа крови» как радикальных и архаичных проявлений этничности: «Человек, освободившийся от пут средневековой общинной жизни, страшился новой свободы, превратившей его в изолированный атом. Он нашел прибежище в новом идолопоклонстве крови и почве, к самым очевидным формам которого относятся национализм и расизм» [7, с. 474].
Более того, европейские культуртрегеры, которые несли свет цивилизации «отсталым народам», как раз и стали агентами архаизации жизни этих народов – и не только в хозяйственном плане, но и в плане межэтнического общежития. Какой огромной крови и страданий это стоило человечеству уже в ХХ веке! И ведь этого до сих пор не желает видеть просвещенный европеец.
Касаясь проблемы трайбализма и этнических войн в странах, освободившихся от колониальной зависимости, Дж. Комарофф говорит: «Осложняющим обстоятельством служат также и несбывшиеся расчеты на ослабление этнического и национального сознания по мере развития процесса деколонизации. Сегодня уже общепризнано, что колониальные режимы и их государства-преемники способствовали развитию и даже возникновению «племенных» различий» [2, с. 37].
К. Янг добавляет в докладе на той же конференции: «Мощная сила политизированного и мобилизованного культурного плюрализма теперь уже общепризнана. Журнал «Экономист» (29 июня 1991, р. 9) сокрушается по поводу «трайбализма, чья мощь оказалась одним из сюрпризов, а в своей ультранационалистической форме – одним из проклятий ХХ века» [8, с. 86].
По разным причинам и Запад, и постсоветские страны испытывают сейчас нарушение этнического равновесия вследствие интенсивных потоков миграции. То невежество в вопросах этничности, которое было порождено универсалистской социальной философией Просвещения (в версии и либерализма, и марксизма), сегодня очень дорого обходится и мигрантам, и местному оседлому населению, и государству.
Это выражается уже в языке, на котором говорят и политики, и чиновники, и СМИ, когда касаются этнических проблем. Чего стоит хотя бы дикий в своей нелепости термин «лицо кавказской национальности»! Когда возмущение этим термином достигло порога, в газетах («Комсомольская правда», 2003) стали писать: «приметы злодея: кавказской народности, на вид – 25 лет». Политики и даже государственные органы в РФ озабочены защитой прав русских за рубежом, например, права школьников на изучение русского языка в Латвии. Об этом говорят как о защите прав соотечественников, хотя это очевидно противоречит реальности. Уже более 15 лет как Латвия – иное государство, русские в ней борются не за возвращение в Россию, а за получение латвийского гражданства, никаких оснований называть их соотечественниками нет (скорее подойдет устаревшее слово соплеменники). Напротив, едва ли не большинство абхазов имеют гражданство РФ, но их соотечественниками называть не принято, хотя они-то как раз и соответствуют этому понятию.
В результате возникают напряженность и эксцессы, на которые и общество, и государство отвечают на удивление тупо, лишь подливая масла в огонь или закладывая мины замедленного действия. Самой обычной реакцией на межэтнические конфликты являются обычно проклятья в адрес «национализма и ксенофобии», которые раздаются с трибун всех уровней, и полицейские репрессии, загоняющие «дьявола национализма» в подполье. Никто не желает и слышать о «непередаваемой значимости» и «неповторимой способности к принуждению», которыми обладает этническое самосознание (К. Янг). Между тем, как пишет Г. Исаакс в известном исследовании «Идолы племени: групповая идентичность и политическое изменение» (1975), эти конфликты говорят об «отчаянном усилии, чтобы восстановить те условия жизни, при которых некогда удовлетворялись определенные потребности; чтобы вырваться за вновь окружившие их стены, даже если они только плод фантазии, и попасть туда, где они могут считать себя дома и где, объединившись со своими, они смогут вновь обрести в некоторой степени то, что можно обозначить как чувство физической и эмоциональной безопасности» [8, с. 115].
Особую значимость имеют проблемы этничности для нас в России. Мы погрузились в глубокий и затяжной кризис, из которого придется выбираться еще очень долго. Взрыв этничности, порожденный культурным и политическим кризисом перестройки, был подпитан развалом хозяйства. Грубое и даже насильственное разрушение общей мировоззренческой матрицы советского народа, глумление над символами национального самосознания и подрыв коллективной исторической памяти создали в массовом сознании провал, который мог быть заполнен только различными версиями идеологий, включающих в свое ядро этнические составляющие. И московские, и местные элиты, и теневые, в том числе преступные, силы в России и за рубежами использовали эти конъюнктурные идеологии в целях мобилизации социальной общности для решения своих политических и экономических задач, чаще всего разрушительных. Те, кто пытался этому сопротивляться, не имели инструментов, чтобы понять происходящее, и не имели языка, чтобы его объяснить людям.
Чем дальше развивается этот кризис и чем большие зоны сознания и социальной среды охватывает создаваемый реформами хаос, тем сильнее обостряется у человека потребность вновь ощутить себя частью целого, частью устойчивой социальной общности, создающей если не реальные, то хотя бы иллюзорные основания и защиты стабильного бытия. И в этой ситуации вечного переходного периода самым доступным и очевидным ответом становится идентификация себя с этнической группой – при том, что и сама этническая группа быстро трансформируется. Этническая принадлежность в нестабильном состоянии общества, особенно столь уродливо расколотом социальными противоречиями, оказывается едва ли не единственной консолидирующей силой. Реформа генерирует и радикализует этничность в России.
Мы не можем закрывать на это глаза в надежде, что все образуется само собой. Мы даже не можем ожидать, это эти проблемы осознает и разрешит государство, – и оно, и все институты общества не на высоте этих проблем. Процессы возникновения, демонтажа и пересборки всей этнической структуры России носят «молекулярный» характер и протекают на всех уровнях общества. Мы все лично – их участники и действующие лица. Мы сможем овладеть этой частью нашей трагической реальности только в том случае, если все примем участие в ее изучении, трезвом осмыслении и осторожном обсуждении на всех площадках и форумах.
Глава 2. Что такое народ
Во введении было сказано, что за последние двадцать лет был «размонтирован» народ нашей страны, что и стало главной причиной аномально глубокого и длительного кризиса. Под этим углом зрения и рассмотрим то, что происходит в нашей стране. Будем исходить сначала из обыденного представления о том, что такое народ, а затем по ходу обсуждения обратим внимание и на иные трактовки этого понятия, которых мы зачастую не знаем, но которые оказывают реальное воздействие на политику и на нашу жизнь.
Человек – существо общественное. Человек как индивид, как свободный атом, есть такая же абстракция, как материальная точка в физике. Это абстракция специфическая, возникшая и принятая в специфической культуре современного Запада, рожденного протестантской Реформацией и буржуазными революциями. Но и на Западе индивид не существует сам по себе, а включен в ассоциации разного рода, вместе составляющие гражданское общество.
Иными словами, с самого возникновения человека как вида он существует как общности – семьи соединялись в роды и общины, из них возникали племена, организованные как протогосударства, развитие государства превращало племена в народы, населяющие страны.
Довольно очевидно, что социальным «субстратом», человеческим наполнением страны является не население, не совокупность индивидов, а народ. Он может быть организован и структурирован по-разному – и как классовое гражданское общество (как на современном Западе), и как сословное общество дореволюционной России, и как кастовое общество Индии, и как «почти неклассовое и несословное» советское общество. В большинстве случаев механизмы разделения и объединения структурных элементов всех этих общественных систем являются более слабыми и более «внешними», чем разделение и соединение этническими (или квазиэтническими) границами и связями.
В марксизме главный упор делался на производственные отношения, формирующие социальную структуру общества. Такова была методология марксизма. Но при этом и сам Маркс признавал фундаментальное значение этнических связей, просто он отмечал это вскользь. Л.Н. Гумилев, объясняя свою теорию этногенеза, цитирует Маркса: «Еще у Маркса встречаем, что «одним из природных условий производства для живого индивида является его принадлежность к какому-либо естественно сложившемуся коллективу: племени и т. п.». При этом «общность по племени, природная общность выступает не как результат, а как предпосылка» [9].
Здесь мы уже входим в противоречие с марксизмом и даже с распространенными обыденными представлениями. Как мы видели выше, Маркс называл племя естественно сложившимся коллективом (оснований для этого утверждения в марксизме не дается). Это привычное представление, над которым обычно и не задумываются, было закреплено авторитетом науки (историческим материализмом). Очень многим также кажется, что этнические общности образуются естественно. Это представление ошибочно. Народы, как и племена, создаются и «демонтируются» в ходе целенаправленной деятельности самих людей, ничего естественного в этих явлениях нет.
Почему же идея разборки и создания народа нам кажется странной, а то и дикой? Только потому, что исторический материализм (как и конкурировавшие с ним идеологии западного общества, либерализм и национализм), в силу присущего им натурализма приучили нас к представлению, будто общество развивается по таким же объективным законам, как и природа. Зарождаются в дикой природе виды растений и животных, так же зарождаются и развиваются народы у людей – под действием стихийных сил, а не как результат творческих действий разумных людей, обладающих культурой. В действительности все сообщества людей складываются в ходе их сознательной деятельности. Как и другие сообщества, народы проектируются и конструируются, строятся и демонтируются.
Задумаемся над таким странным фактом: в школьных курсах истории мы получали множество знаний о царях и королях, о государствах и войнах, о «переселении народов» и нашествиях. Всегда при этом подразумевались народы как главные субъекты истории. Это они переселялись, вели войны, терпели иноземное иго. Но когда и откуда они взялись и куда делись? Об этом не говорилось. Когда и как возник русский народ? Разве это не один из главных вопросов отечественной истории? Но невозможно вспомнить тот раздел учебника, общеизвестную книгу или хотя бы статью в популярном журнале, где бы давался ответ на этот вопрос. В итоговом труде главы нашей официальной этнологии Ю.В. Бромлея (1983) вскользь, в двух словах, упоминается этот вопрос – и никакого ответа. Как будто русский народ существовал вечно как духовная субстанция, а затем, между ХIV и ХVI веками, «соткался» из этого духа.
Кажущаяся естественность возникновения народов вызвана тем, что мы живем в мире культуры, привыкли к нему и часто его просто не замечаем, особенно когда речь идет о живых существах (например, нам кажется частью природы лошадь на скачках – результат творческой деятельности человека, созданный из биологического «материала»). К тому же над нашим сознанием довлеют эволюционные представления о живом мире, к которому принадлежит и человек как биологический вид. Нам кажется, что племена и народы чем-то похожи на общности животных – стаю рыб или птиц, стадо оленей, рой пчел. Сходство это чисто внешнее, аналогия народа со стадом ничего нам для понимания этничности не дает.
Что же мы понимаем под словом «народ»? В обзоре по этой теме (1993) сказано: «Какое-либо юридическое определение «народа» отсутствует, как отсутствует какое-либо общепринятое социологическое или политическое определение. Более того, ООН очень тщательно и преднамеренно избегала попытки дать определение «народа» даже при всем том, что она дала некоторым из них право на самоопределение» [10, с. 188].
Действительно, уже в формулировке президента США Вильсона, который выдвинул эту идею, право народов на самоопределение сопровождается такими расплывчатыми оговорками, что их можно трактовать как угодно. В «Четырех принципах мира» Вильсон декларирует, что «все обоснованные национальные стремления получат самое полное удовлетворение, какое только возможно им дать, не порождая новые и не разжигая старые очаги разногласий и вражды» (цит. в [11]).
Это вполне объяснимо: любое юридическое определение понятия народ может иметь столь далеко идущие политические последствия, что юристы и политики предпочитают оставлять для себя широкие возможности разных истолкований термина. В другом обзоре (К. Янга) сказано: «Учитывая новый подъем политической либерализации, мы оказываемся перед вероятностью возрождения или выдвижения новых требований самоопределения во многих частях мира со стороны групп, определяемых на основе их культуры. Что такое «народ», имеющий право выдвигать это требование? Как может такое требование получить юридическую силу?» [8, с. 113].
Более того, даже придание термину народ максимально неопределенного смысла не спасает политиков от неразрешимых противоречий, так что в правовые документы приходится вносить дополнительную неопределенность с помощью несовместимых друг с другом утверждений.
Янг пишет: «Наличие фундаментальных противоречий во всех попытках кодифицировать ограничение сферы действия принципа самоопределения наглядно иллюстрируется расхождениями, которые имеются между статьями 1 и 6 торжественной Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 году:
«Статья 1: Все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободны определять свой политический статус и свободны осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Статья 6: Любая попытка, направленная на частичное или полное нарушение национального единства или территориальной целостности страны, является несовместимой с целями и принципами Устава Объединенных Наций.
Резолюция ООН № 1514 (XV), декабрь 1960 г.
В течение более чем четырех десятилетий общая заинтересованность новых государств и старых политических сообществ в жестком контроле за вирусом неограниченного самоопределения препятствовала его распространению. До 1991 г. только Бангладеш удалось выйти из-под опеки независимого государства» [8, с. 110].
Таким образом, смысл слова народ уточняется при помощи контекста. Часто под этим словом понимается население страны (территории) – вся совокупность тех, кто народился на этой части земли. При буквальном переводе слово народ эквивалентно слову нация, производное от латинского слова рождаться.
В некоторых контекстах слово народ сближается по смыслу с понятиями подданных или граждан. Здесь ослаблен этнический смысл связей, соединяющих людей в народ, – например, российский народ составлен из большого числа разных этносов, а в народ Франции включено большое число этнических арабов. В других случаях, напротив, под народом понимается этнос или, во всяком случае, этническая сторона дела подразумевается. В этом случае говорят «русский народ».
Но это самое первое приближение к пониманию. Дальше начинаются расхождения в толковании термина, для многих неожиданные, о которых мы никогда не думали. Прежде всего, представления о народе (народности, национальности, нации) резко различаются в «западном» и «незападных» обществах. Об этом предупреждает Л.Н. Гумилев: «Азиатские понятия термина «народ» и европейское его понимание различны. В самой Азии этническое единство воспринимается по-разному, и если даже мы отбросим Левант и Индию с Индокитаем… то все же останутся три различных понимания: китайское, иранское и кочевническое…
В Китае, для того чтобы считаться китайцем, человек должен был воспринять основы китайской нравственности, образования и правил поведения; происхождение в расчет не принималось, язык тоже, так как и в древности китайцы говорили на разных языках. Поэтому ясно, что Китай неминуемо расширялся, поглощая мелкие народы и племена.
В Иране, наоборот, персом нужно было родиться, но, сверх того, обязательно следовало почитать Агурамазду и ненавидеть Аримана. Без этого нельзя было стать «арийцем». Средневековые (сасанидские) персы не мыслили даже возможности кого-либо включить в свои ряды, так как они называли себя «благородные» (номдорон), а прочих к их числу не относили. В результате численность народа падала неуклонно…
Чтобы считаться хунном, надо было стать членом рода либо с помощью брака, либо повелением шаньюя, тогда человек становился своим. Наследники хуннов, тюркюты, стали инкорпорировать целые племена. На базе восприятия возникли смешанные племенные союзы, например казахи, якуты и т. п. У монголов, вообще весьма близких к тюркам и хуннам, получила преобладание орда, т. е. группа людей, объединенных дисциплиной и руководством. Тут не требовалось ни происхождения, ни языка, ни вероисповедания, а только храбрость и готовность подчиняться» [12, с. 63–64].
Это предупреждение очень важно для нас, поскольку мы, получив образование европейского типа, постоянно прикладываем западные понятия к нашей, во многом принципиально иной реальности[3]. Именно в представлениях о человеке, народе и обществе пролегает важная граница для различения западного и незападных обществ. П.Б. Уваров пишет: «Именно в русле этнографических и антропологических исследовательских программ возникает сравнительно удачное наименование для обществ незападного типа – традиционные общества» [13, с. 17].
В царской и советской России существовало устойчивое понятие народа. Оно вытекало из понятий Родина-мать и Отечество. Народ – надличностная и «вечная» общность всех тех, что считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства (власть персонифицировалась в лице «царя-батюшки» или другого «отца народа», в том числе коллективного «царя» – Советов). Как в христианстве «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (и к тому же «Мы – дети Божии… а если дети, то и наследники»), так и на земле все, «водимые духом Отечества», суть его дети и наследники. Все они и есть народ. Небольшая кучка отщепенцев, отвергающих «дух Отечества», из народа выпадает, а те, кто отвергает этот дух активно, становятся «врагами народа». Дело власти – за ними следить, их увещевать, а то и наказывать.
Таков был русский миф о народе, многое взявший из Православия и из космологии крестьянской общины. Мы никогда не соотносили его с иными представлениями. А ведь уже даже на ближнем от нас феодальном Западе государственность строилась на совсем других толкованиях. Например, в Польше и Венгрии вплоть до ХIХ века сохранялась аристократическая концепция нации. Так, «венгерскую нацию» составляли все благородные жители Венгрии, даже те, кто венграми не был и по-венгерски не говорил – но из нации исключались все крепостные и даже свободные крестьяне, говорившие на диалектах венгерского языка. Представления венгров о своем народе быстро изменялись в ходе сдвига, всего за столетие с небольшим, от аристократического к пролетарскому национализму [14, с. 137].
Аристократическое понимание народа на Западе было отвергнуто в ходе великих буржуазных революций, из которых и вышло гражданское общество. Было сказано, что приверженцы Старого порядка – всего лишь подданные государства («монарха»). Народом, (демосом) становятся лишь те, кто стали гражданами и совершили революцию, обезглавив монарха. Именно этот, новый народ и получает власть, а также становится наследником собственности. И этот народ должен вести непрерывную войну против всех тех, кто не вошел в его состав (например, крестьян-монархистов).
В фундаментальной многотомной «Истории идеологии», по которой учатся в западных университетах, читаем: «Демократическое государство – исчерпывающая формула для народа собственников, постоянно охваченного страхом перед экспроприацией… Гражданская война является условием существования либеральной демократии. Через войну утверждается власть государства так же, как «народ» утверждается через революцию, а политическое право – собственностью… Таким образом, эта демократия есть не что иное, как холодная гражданская война, ведущаяся государством».
Другими словами, в понятиях политической философии Запада индивиды соединяются в народ через гражданское общество. Те, кто вне его, – не народ. C точки зрения западных исследователей России, в ней даже в середине XIX века не существовало народа, так как не было гражданского общества. Путешественник маркиз де Кюстин писал в своей известной книге о России (1839 г.): «Повторяю вам постоянно – здесь следовало бы все разрушить для того, чтобы создать народ» [выделение мое. – С. К.-М.]. Это требование почти буквально и стало выполняться полтора века спустя, российскими демократами. Они, впрочем, преуспели только в разрушении всего.
Проблематика гражданского общества, в котором население разделяется на две общности, собранные на разных основаниях и обладающих разными фактическими правами, и поныне продолжает быть предметом западной политической философии. Критерии «выделения» из населения общности граждан разрабатываются и в марксистской методологии, о чем пишет А.С. Панарин, обсуждая последний труд Ю. Хабермаса: «В своей новой книге «Вовлечение другого. Очерки политической теории» (СПб., 2001) Ю. Хабермас сталкивает два понятия: «нация граждан» и «нация соотечественников». Под «нацией соотечественников», собственно, и скрывается знакомый и привычный нам исторический персонаж – народ… Хабермас полагает, что до сих пор Европа жила с амбивалентным сознанием, в котором «дорефлексивно» уживались эти два гетерогенных начала гражданственности и народности» [15, с. 141, 142].
Согласно Хабермасу, получается, что узы, скреплявшие политическую нацию вокруг ее ядра, с расширением охвата населения гражданскими правами ослабевали – и в конце концов произошла инверсия. Статус гражданина усреднился и перестал играть консолидирующую роль, но зато складывается новое ядро – народ соотечественников. Этот процесс таит в себе признаки регресса, отхода от идеалов Просвещения и демократии.
Вот слова Хабермаса, приведенные Панариным: «Своим историческим успехом национальное государство обязано тому обстоятельству, что оно заменило распадавшиеся корпоративные узы раннего новоевропейского общества солидарной взаимностью между гражданами государства. Но это республиканское завоевание оказывается в опасности, если интегративная сила гражданской нации сводится обратно к дополитической данности народа, возникающего естественным путем, то есть к чему-то, что не зависит от формирования общественного мнения и политической воли самих граждан» (цит. в [15, с. 142]).
Не будем здесь обсуждать утверждение Хабермаса, будто народ возникает «естественным» путем, без «формирования общественного мнения и политической воли». Подчеркнем лишь тот факт, что и в момент Французской революции, и в марксизме середины ХIХ века, и сегодня западная политическая философия включает в народ лишь часть (причем иногда очень небольшую часть) населения страны. Именно этой части принадлежат особые права, которыми она и отделяется от остального населения более или менее жестким барьером.
Почему российское толкование слова «народ» кажется столь отличным от современных западных? Только потому, что в состав народа в России включалось подавляющее большинство населения – трудящиеся. Очевидно, что в аристократической концепции нации (как в дворянской Польше или Венгрии) образ народа совершенно иной. Вплоть до революции 85 % населения России составляли крестьяне, которые и признавались главным ядром народа. Рабочие еще не превратились в класс (пролетариат) и в общественном сознании причислялись к трудовому люду («Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой»)[4].
Потомственное дворянство включало в себя всего лишь чуть более 1 % населения, и оно тем более не причислялось к народу, что находилось в симбиозе с крестьянством как управляющее и противопоставляющее себя крестьянству сословие. Вот как формулируется это отделение дворянства от народа в приговоре собрания крестьян четырех волостей Волоколамского уезда Московской губ., посланном в Трудовую группу I Госдумы в мае 1906 г.: «Земля вся нами окуплена потом и кровью в течение нескольких столетий. Ее обрабатывали мы в эпоху крепостного права и за работу получали побои и ссылки и тем обогащали помещиков. Если предъявить теперь им иск по 5 коп. на день за человека за все крепостное время, то у них не хватит расплатиться с народом всех земель и лесов и всего их имущества… Все трудовое крестьянство осталось разоренным, полуголодным народом, а у тунеядцев помещиков образовались колоссальные богатства» [16, т. 1, с. 111–112].
К социальным группам, которые в обыденном сознании в России не включались в народ, принадлежали и государственные чиновники (бюрократия). Российская бюрократия, порожденная реформами Петра, постепенно отдалялась и отторгалась от народа как угнетающая надстройка, к тому же постепенно проникавшаяся социальным расизмом и русофобией. Имея в качестве официальной идеологии «Православие – Самодержавие – Народность», чиновничество не могло, конечно, открыто декларировать свое отношение к народу, но в своей среде его не скрывало.
Об этом мы узнаем из личных писем поэта и дипломата Ф.И. Тютчева, которому приходилось много наблюдать царских сановников вблизи. 20 апреля 1868 г. он писал в письме к своей дочери Анне о таких правителях страны, как министр внутренних дел Тимашев и шеф жандармов Шувалов, что в их глазах «так называемая русская народность есть не что иное, как вранье журналистов», и что Россия, по их мнению, может держаться как целое «только грубой силой, физическим подавлением».
Позже, 1 декабря 1870 г., он пишет Анне, что в России господствует «абсолютизм», который включает в себя «черту, самую отличительную из всех, – презрительную и тупую ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего национального» [17].
Со своей стороны, трудящиеся все более и более воспринимали чиновников как изгоев (а в моменты революционного подъема и как извергов) русского народа. Вот наказ крестьян и мещан Новоосколького уезда Курской губ. в Трудовую группу I Госдумы (июнь 1906 г.): «Само правительство хочет поморить крестьян голодной смертью. Просим Государственную думу постараться уничтожить трутней, которые даром едят мед. Это министры и государственный совет запутали весь русский народ, как паук мух в свою паутину; мухи кричат и жужжат, но пока ничего с пауком поделать нельзя» [16, т. 2, с. 237].
Разделение народа и чиновничества воспринималось в России как данность, над ним никто и не задумывался. Философ-эмигрант В. Вейдле опубликовал в Париже («Современные записки», 1937) работу «Три России». По поводу революции Октября 1917 г. он пишет: «Восстание народа против мундира, чиновника, указа было явлением стихийным и потому не лишенным трагического величия. Причина этого явления – полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, т. е. ко всей той половине русской земли, которая не народ» (цит. в [18]).
Из народа в дореволюционной России была исключена также возникшая в процессе модернизации совершенно особая (и в социальном, и в мировоззренческом плане) группа – интеллигенция. Причины этого обоюдного разделения (при всем народопоклонстве русской разночинной интеллигенции) – очень большая и важная тема, одна из главных в русской философии начала ХХ века (достаточно назвать сборник «Вехи» 1909 г.). Здесь мы будем касаться ее лишь вскользь, но зафиксируем сам этот факт.
А. Блок написал в статье «Народ и интеллигенция»: «Народ и интеллигенция – это два разных стана, между которыми есть некая черта. И как тонка эта черта между станами, враждебными тайно. Люди, выходящие из народа и являющие глубины народного духа, становятся немедленно враждебны нам; враждебны потому, что в чем-то самом сокровенном непонятны» [19].
Позже эту же мысль Блок высказывает в письме матери (19 июня 1917 г.): «Я нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять, начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны)» [20].
С иной, противоположной Блоку позиции писал М.О. Гершензон, идеолог либеральной интеллигенции, которая после революции 1905–1907 гг. все больше и больше сдвигалась к противопоставлению себя народу как иной, враждебной расе: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» [21, c. 101].
После революции и Гражданской войны основная масса чиновничества и интеллигенции СССР рекрутировалась уже из тех, кто прежде принадлежал к «трудящимся». Более того, в массе своей партийно-государственный аппарат был заполнен бывшими командирами Красной Армии, прошедшими школу Гражданской войны. Их костяк составляли выходцы из крестьян и средних слоев малых городов центральной России. Население этих областей было главным источником людских ресурсов при наборе в армию Первой Мировой войны, а потом и главным источником для Красной Армии. Как пишут, здесь исторически сформировался «специфический социокультурный элемент и самостоятельный культурно-антропологический тип человека в рамках русского этноса, который нельзя считать ни интеллигенцией, ни пролетариатом. Они были настроены очень сильно против дворян и выступили против Белого движения осенью 1919 года» [18]. Этот тип называли «красные сотни» – со времен восстания Разина.
О роли этой части народа в становлении советской бюрократии сказано: «В конце Гражданской войны Красная Армия, составлявшая 5 млн. человек, превратилась в основной канал набора в большевистскую партию. Ветераны Красной Армии образовали костяк советской администрации. Представители нового поколения гражданской войны из провинций сформировали новый растущий элемент в партии. Сталин мог уверенно опереться на новое поколение гражданской войны родом из провинций» [22].
Примерно так же видит этот процесс Л.Д. Троцкий: «Немаловажную роль в формировании бюрократии сыграла демобилизация пятимиллионной Красной Армии: победоносные командиры заняли ведущие посты в местных советах, в хозяйстве, школьном деле» [23].
Дети рабочих и крестьян заполнили рабфаки и вузы и быстро сформировали массу трудовой интеллигенции. Таким образом, сословное деление было преодолено, и две важные социальные группы вернулись в народ. Дворяне и буржуазия как класс исчезли, дети их в массе своей влились в трудовую интеллигенцию и также стали частью народа (вплоть до нового раскола, который стал назревать с 60-х годов ХХ века). Контингент изгоев резко сократился в объеме и утратил определенность своей социальной структуры (точнее, в большинстве своем он был представлен как раз частью бюрократии и интеллигенции). Эта часть, исключенная из народа, составляла общность врагов народа. Процесс лишения прав этой общности и репрессий ее значительной части в какой-то момент приобрел трагические формы, что было одним из следствий преобразования советского общества в 30-40-е годы в общество тоталитарное, организованное для преодоления чрезвычайного периода.
Здесь для нас важен тот факт, что в 1920–1970 годы народом в СССР являлось, по общему мнению, практически все население.
Глава 3. Общности социальные и этнические
В СССР представление об обществе и скрепляющих его связях базировалось на классовом подходе, который внедрялся в сознание системой образования и СМИ. Это было так привычно, что никого не удивлял очень странный, в действительности, факт: из школьной и вузовской программ мы получали связное (хотя и упрощенное) представление о том, как образовались главные социальные общности классового общества – буржуазия и пролетариат. Но никогда не заходила речь о том, как возник русский народ. Когда он возник, где, под воздействием каких событий и условий? Мы учили историю древней Руси – вятичи, древляне, варяги, печенеги… Князь Игорь ходил походом на половцев, Владимир крестил киевлян в Днепре. О русском народе пока что речи не было, действовали славянские племена. Потом незаметно в обиход вошли слова «русские» и «народ». А между этими, видимо, очень разными эпохами – провал. Как будто народ возник по знаку свыше или вследствие какого-то природного катаклизма.
Инерция этого представления велика, поэтому надо кратко остановиться на отношении между понятиями класса и народа, между социальными и этническими общностями.
Во-первых, надо определенно отвергнуть принятое в историческом материализме положение, согласно которому народы возникают и скрепляются общественными связями естественно. Другое дело – классы. Для их возникновения нужны не только объективные основания в виде отношений собственности, но и сознательная деятельность небольших групп людей, которые вырабатывают идеологию. Эти люди, сами обычно из другого класса (как буржуа Маркс и Энгельс или дворянин Ленин), вносят эту идеологию в «сырой материал» для строительства нового класса и «будят» его. Тогда класс обретает самосознание, выходит из инкубационного состояния и претерпевает трансформацию из «класса в себе» в «класс для себя» – класс, способный к политическому действию.
Для этого представления нет никаких исторических или логических оснований. Все отношения людей в человеческом обществе есть порождение культуры и опираются не на естественные факторы, а на результаты сознательной деятельности разумного человека. Народ нисколько не более «природен», чем класс или сословие. Разница в том, что народ есть общность с более прочными связями – связями родства, общения на родном языке и связями общего неявного знания, порожденного общей исторической памятью и общим мировоззренческим ядром.
Класс же есть общность, собравшаяся на гораздо менее определенном и менее многозначном основании – отношениях собственности. Само понятие класса возникло очень недавно, причем в специфической социальной и культурной обстановке – буржуазной викторианской Англии ХIХ века. Проникая, вместе с марксизмом, в иные культуры, понятие класса приспосабливалось к местным воззрениям и употреблялось как туманная метафора, часть идеологического заклинания, которое призвано было оказать магическое действие на публику.
Например, в сословном российском обществе начала ХХ века понятие класса не обладало познавательной силой для обозначения социальных сущностей. Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «В мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство мелкобуржуазным, реакционным классом» [24, с. 88–89]. Таким образом, в России под «пролетариатом» понимался не класс, а именно народ, за исключением очень небольшой, неопределенной группы «буржуев».
Эта «национализация» классовых понятий русской культурой – явление хорошо изученное. А.С. Панарин пишет об этой стороне советской революции: «Язык стал по-своему перерабатывать – окультуривать и натурализировать на народной почве агрессивные классовые лексемы. Одно из чудес, которые он тогда совершил, это сближение инородного слова «пролетариат» с родным словом «народ», в результате чего возникло натурализированное понятие «трудовой народ». С пролетариатом могло идентифицировать себя лишь меньшинство, с трудовым народом – большинство, при том что последнее понятие вбирало в себя марксистские классовые смыслы, одновременно смягчая их и сближая с национальной действительностью» [25, с. 137].
Основатели марксизма часто и сами соединяли категории классовые и национальные. Так, Энгельс в письме Марксу 7 октября 1858 г. назвал англичан «самая буржуазная из всех наций». А Ирландия у Энгельса – «крестьянская нация». Ю.В. Бромлей предлагал ввести, в дополнение к разграничению наций на буржуазные и социалистические, понятия «рабовладельческая народность» и «феодальная народность» [26, с. 275][5].
В массовом сознании русских в начале ХХ в. пролетариат отождествлялся с народом – а что же представляла из себя буржуазия? Была ли она для русских крестьян действительно классом? М.М. Пришвин пишет в дневнике (14 сентября 1917 г.): «Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс «эгоистических побуждений», но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений» [27]. И здесь внешне классовому понятию придается совершенно «неклассовый» смысл, несущий нравственную оценку людям, которые в трудное время ущемляют интересы «общества».
Даже когда возникал конфликт, который хоть отдаленно можно было притянуть к категории классового (как конфликт помещика с крестьянами), он принимал этническую окраску, как конфликт разных народов. М.М. Пришвин записал в дневнике 19 мая 1917 г.: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков». 24 мая он добавил: «Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи злобствуют на меня за то, что я хочу ввести закон в этот хаос». 28 мая читаем такую запись: «Как лучше: бросить усадьбу, купить домик в городе? Там в городе хуже насчет продовольствия, но там свои, а здесь в деревне, как среди эскимосов, и какая-то черта неумолимая, непереходимая»[6] [27].
В свою очередь крестьяне в их конфликте с помещиками сравнивали их с французами 1812 года. Так, сход крестьян дер. Куниловой Тверской губ. писал: «Если Государственная дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, все земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, а нам от злых кровопийных помещиков» [16, т. 2, с. 272].
И главное требование революции (национализация земли) воспринималась крестьянами как народное дело, а не как выражение классового интереса крестьян. Вот опубликованная в то время запись разговора, который состоялся весной 1906 г. в вагоне поезда. Попутчики спросили крестьянина, надо ли бунтовать. Он ответил: «Бунтовать? Почто бунтовать-то? Мы не согласны бунтовать, этого мы не одобряем… Бунт? Ни к чему он. Наше дело правое, чего нам бунтовать? Мы землю и волю желаем… Нам землю отдай да убери господ подале, чтобы утеснения не было. Нам надо простору, чтобы наша власть была, а не господам. А бунтовать мы не согласны».
Один из собеседников засмеялся: «Землю отдай, власть отдай, а бунтовать они не согласны… Чудак! Кто же вам отдаст, ежели вы только желать будете да просить… Чудаки!» На это крестьянин ответил, что за правое дело народ «грудью восстанет, жизни своей не жалеючи», потому что, если разобраться по совести, это будет «святое народное дело» [28, c. 19].
Даже и в разных культурных условиях самого Запада, где возникло представление о классах, основания для соединения людей в классы виделись по-разному. О. Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на различии между богатыми и бедными, прусский – на различии между повелением и послушанием. Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное. Основанием для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц (каким является Англия), служит общее чувство необеспеченности. В пределах же государственного общения (т. е. в Пруссии) – чувство своей бесправности» [29, с. 71].
А в США вообще «граждане не способны мыслить конкретно в категориях классов» – другая культура, другое общественное сознание. Попытки разделить сферы влияния классового и этнического подходов, кажется, не слишком плодотворны. Как пишет Янг, «классовый подход описывает вертикальное, иерархическое разделение в политическом обществе, в то время как культурный плюрализм [этничность] часто рассматривает в основном разделения горизонтальные» [8, с. 118]. Но классификация явлений «по вертикали» (например, на собственников капитала и неимущих пролетариев) и «по горизонтали» (например, людей с одинаковым положением относительно собственности, но разной национальности) оказывается малоинформативной в условиях быстрых перемен, когда не сложился и тем более не вошел в обыденное сознание стабильный набор понятий и признаков.
Янг продолжает: «Сила концептуального анализа, отдающего предпочтение классу, зависит от учета сознания… Аналитическая сила классового анализа совершенно очевидна в тех случаях, когда в основе общественных классов лежат широко распространенные и воспроизводящиеся из поколения в поколение идеологии самоосознания, как это часто имело место в Западной Европе, и когда эти классы становятся инкорпорированными в формальную структуру политической и социальной организации, структурирующую общественный конфликт» [8, с. 119].
В нестабильные переходные периоды, когда общественные структуры подвижны, класс, по словам Янга, становится подобен этничности и должен рассматриваться как явление условное и зависящее от обстоятельств. Проблема соотнесения социальных и этнических общностей, класса и этноса, класса и расы сейчас привлекает все больше внимания социологов и этнологов США (см. [41, с. 62–63]).
Для того чтобы класс возник, требуется, чтобы принадлежащие к нему люди сами считали себя классом. Маркс даже выработал сложную пару понятий – «класс в себе» и «класс для себя». Рабочие, которые не осознали себя классом, это еще не класс, это «класс в себе» – то «сырье», которое еще надо подвергнуть специальной обработке, чтобы получился класс. В России «обработчики» появились только в конце ХIХ века, само слово было мало кому известно, потому и классы возникнуть не успели. А в США и слово совсем не прижилось.
Маркс и Энгельс высоко оценивали революционный потенциал гражданской войны в США, которая велась федеральным правительством под лозунгом ликвидации рабства. Они считали, что борьба за освобождение расовой общности органично перейдет в борьбу общности классовой, которая существует так же объективно, как раса. Они писали в приветствии президенту США Линкольну в ноябре 1864 г.: «Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного строя» [30].
Говоря о соотношении этноса и класса, важно вспомнить факт, на который настойчиво обращают внимание антропологи. Становление рыночной экономики и классового общества в Европе происходило вслед за колонизацией «диких» народов. Об этом анализе Маркса К. Леви-Стросс пишет: «Из него вытекает, во-первых, что колонизация предшествует капитализму исторически и логически и, далее, что капиталистический порядок заключается в обращении с народами Запада так же, как прежде Запад обращался с местным населением колоний. Для Маркса отношение между капиталистом и пролетарием есть не что иное, как частный случай отношений между колонизатором и колонизуемым» [31, с. 296].
Необходимым культурным условием для разделения европейского общества на классы капиталистов и пролетариев был расизм. Отцы политэкономии А. Смит и Д. Рикардо говорили именно о «расе рабочих», а премьер-министр Англии Дизраэли о «расе богатых» и «расе бедных». Первая функция рынка заключалась в том, чтобы через зарплату регулировать численность расы бедных.
Для нашей темы важен тот факт, что вначале расизм развился в отношении народов колонизуемых стран (особенно в связи с работорговлей) – как продукт этнических контактов, сопряженных с массовым насилием. Уже затем, в несколько измененной форме, расизм был распространен на отношения классов в новом обществе самого Запада. Пролетарии и буржуа на этапе становления современного капитализма были двумя разными этносами.
Отношение между капиталистом и пролетарием было не чем иным, как частным случаем межэтнических отношений – отношений между колонизатором и колонизуемым. Историки указывают на важный факт: в первой трети ХIX века характер деградации английских трудящихся, особенно в малых городах, был совершенно аналогичен тому, что претерпели африканские племена в ходе колонизации: пьянство и проституция, расточительство, потеря самоуважения и способности к предвидению (даже в покупках), апатия. Выдающийся негритянский социолог из США Ч. Томпсон, изучавший связь между расовыми и социальными отношениями, писал, что в Англии драконовскую эксплуатацию детей оправдывали абсолютно теми же рациональными аргументами, которыми оправдывали обращение с рабами-африканцами.
Особенно усложняется разделение «класс-этнос» во время переходных периодов в многонациональных странах (как, например, в настоящее время в постсоветских странах). Такие ситуации наблюдались, например, в Южной Африке и США, где классовый анализ без учета этнического (даже расового) был непригоден.
Янг пишет, что понятия расы и класса смешиваются и перетекают друг в друга во многих случаях. Раса – одна из форм проявления этничности, но часто совпадает с системой трудовой эксплуатации (африканские рабы, контрактные рабочие из Азии, принудительно закрепощенные американские индейцы). И до сих пор в ЮАР и США раса и класс перекрываются в очень большой степени. Одни склонны видеть в эксплуатации расовую проблему, другие классовую, но для понимания реальности важны обе стороны дела [8, с. 120].
Взаимные переходы социальных и этнических оснований консолидации сообществ наглядно наблюдаются сегодня в процессе интенсивного внедрения в «национальные» государства Западной Европы мигрантов из незападных стран. Даже во Франции, которая гордится своей доктриной и своим опытом объединения множества народностей в единую нацию французов, интеграция мигрантов последних десятилетий не удалась – происходила их геттоизация. Французская нация, ее социальный строй и государство не справились с задачей интеграции мигрантов в общество.
В. Малахов пишет: «Препятствия на пути к социальной интеграции побуждают мигрантов формировать собственные этнические сообщества, в рамках которых удерживаются язык и определенные культурные образцы. Подобные сообщества существуют сегодня практически во всех европейских странах… Особенно важно при этом, что такие группы характеризуются общностью социально-экономической позиции. Это придает каждой группе четкую маркировку (ее члены опознаются, скажем, как мелкие торговцы, чистильщики обуви, хозяева прачечных, держатели ресторанов, распространители газет и т. д.). Именно в таком качестве эти группы предстают для остальных членов общества»[7] [32].
В России в начале ХХ века также делались предупреждения об ограниченности возможностей классового подхода для понимания общественных процессов, однако перестроиться сознание активных политических сил не успело. С.Н. Булгаков писал тогда: «Существует распространенное мнение, ставящее выше нации классы. «Пролетарии не имеют отечества», «пролетарии всех стран, соединяйтесь», – кому не знакомы в наши дни эти лозунги. Нельзя уменьшать силы классовой солидарности и объединяющего действия общих экономических интересов и борьбы на этой почве. И однако при всем том национальность сильнее классового чувства, и в действительности, несмотря на всю пролетарскую идеологию, рабочие все-таки интимнее связаны с своими предпринимателями-соплеменниками, нежели с чужеземными пролетариями, как это и сознается в случае международного конфликта. Не говоря уже о том, что и экономическая жизнь протекает в рамках национального государства, но и самые классы существуют внутри нации, не рассекая ее на части. Последнее если и возможно, то лишь как случай патологический…
Существует национальная культура, национальное творчество, национальный язык, но мир не видел еще классовой культуры. Нервы национальной солидарности проникают через броню классового отъединения. Если это не сознается при обычных условиях жизни, то лишь по той же самой причине, по которой низкий пригорок может заслонять на близком расстоянии высокую гору, но она становится видна, стоит отступить от него на несколько шагов. Класс есть внешнее отношение людей, которое может породить общую тактику, определять поведение, в соответствии норме классового интереса, но оно не соединяет людей изнутри, как семья или как народность. Между индивидом и человечеством стоит только нация, и мы участвуем в общекультурной работе человечества, как члены нации» [33, с. 187, 188].
Это наблюдение С.Н. Булгакова не имеет, конечно, силы общей закономерности. Прошло всего несколько лет после этого его утверждения, и социальный конфликт в России именно «рассек нацию на части» – вплоть до гражданской войны. Рабочие и крестьяне воевали со своими «предпринимателями-соплеменниками» и помещиками буквально как с иным, враждебным народом. Классовое и этническое чувство могут превращаться друг в друга.
В реальной политической практике революционеры обращались, конечно, именно к народному, а не классовому, чувству – именно потому, что народное чувство ближе и понятнее людям. Так, Ленин писал в листовке «Первое мая» (1905 г.): «Товарищи рабочие! Мы не позволим больше так надругаться над русским народом. Мы встанем на защиту свободы, мы дадим отпор всем, кто хочет отвлечь народный гнев от нашего настоящего врага. Мы поднимем восстание с оружием в руках, чтобы свергнуть царское правительство и завоевать свободу всему народу… Пусть первое мая этого года будет для нас праздником народного восстания, – давайте готовиться к нему, ждать сигнала к решительному нападению на тирана… Пусть вооружится весь народ, пусть дадут ружье каждому рабочему, чтобы сам народ, а не кучка грабителей, решал свою судьбу» [34, с. 83].
Позже А. Грамши, разрабатывая доктрину революции уже для индустриального общества, предупреждал об абсолютной необходимости воплощения классового движения в национальное, этническое. Он писал в работе «Современный государь», что для понимания социальных явлений необходимо глубоко осмыслить понятие «национального», во всей его «оригинальности и неповторимости». В этом Грамши едва ли не первым теоретически преодолел универсалистские догмы Просвещения, согласно которым этничность – не более чем слабый пережиток в сознании людей. Грамши предупреждал, что «обвинения в национализме бессмысленны», ибо национальное есть неустранимый срез социального процесса. Он создавал новую теорию государства и революции (концепцию культурной гегемонии), в которой «потребности национального характера» были бы полноправно соединены с потребностями социальными, и предупреждал, что «руководящий класс будет таковым только в том случае, если он сумеет дать точное истолкование этой комбинации». Да, Грамши признавал, «что существует определенная тенденция совершенно замалчивать или лишь слегка затрагивать» проблему этого соединения – что мы и наблюдали в последние десятилетия в своей стране.
Перед коммунистическим движением Грамши ставил задачу принципиальной важности, о котором мы никогда не говорили. Можно сказать, задачу преодоления интернационализма. Он писал о роли пролетариата: «Класс интернационального характера – поскольку он ведет за собой социальные слои, имеющие узконациональный характер (интеллигенция), а часто и еще более ограниченный характер – партикуляристские, муниципалистские слои (крестьяне), – постольку этот класс должен в известном смысле «национализироваться» и притом далеко не в узком смысле, ибо, прежде чем будет создана экономика, развивающаяся согласно единому мировому плану, ему предстоит пройти через множество фаз, на которых могут возникнуть различные региональные комбинации отдельных национальных групп» [35].
Грамши указывает на тот факт, что существуют «социальные слои, имеющие узконациональный характер» (крестьяне, интеллигенция). Следовательно, при построении солидарного общества этническое переплетается с социальным, хотя и менее наглядно, чем это было в этническом разделении негров-рабов и белых плантаторов в США. Попытка навязать крестьянам, тем более в многонациональном государстве, «пролетарский интернационализм», да к тому же представляя национализм реакционным чувством, приведет общество к тяжелым конфликтам.
Надо только подчеркнуть, что интеллигенция, носящая «узконациональный характер» и склонная к национализму как идеологии, в то же время является космополитическим народом, она экстерриториальна. Об этой стороне дела Грамши не говорит, но в политической практике послевоенного периода это проявилось с очевидностью.
Идея о том, что интеллигенция представляет собой особый народ, не знающий границ и «своей» государственности, получила второе дыхание в «перестроечной» среде в СССР и странах Восточной Европы. Но идея эта идет от времен Научной революции и просвещенного масонства ХVIII века, когда в ходу была метафора «Республика ученых» как влиятельного экстерриториального международного сообщества, образующего особое невидимое государство – со своими законами, епископами и судами. Их власть была организована как «невидимые коллегии», по аналогии с коллегиями советников как органов государственной власти немецких княжеств[8].
Во время перестройки, когда интеллектуалы-демократы искали опору в «республике ученых» (западных), стали раздаваться голоса, буквально придающие интеллигенции статус особой национальности. Румынка С. Инач, получившая известность как борец за права меньшинств, писала в 1991 г.: «По моему мнению, существует еще одна национальность, называемая интеллигенцией, и я хотела бы думать, что принадлежу также и к ней».
Но сращивание этнических и социальных характеристик – общее явление, особенно в традиционных обществах. Этнизация социальных групп (и наоборот) – важная сторона социальной динамики, которая может быть целенаправленно использована и в политических целях. М. Вебер не раз указывает на взаимосвязь этнических и социальных факторов в выделении евреев, в частности, в их обособлении от крестьян, составлявших до ХIХ века большинство населения Европы.
Он пишет: «У пуритан (Бакстера) «в иерархии угодных Богу профессий за профессиями ученых следует сначала земледелец… Иной характер носят высказывания Талмуда. См., например, указания рабби Елеазара, правда не оставшиеся без возражений. Смысл этих указаний сводится к тому, что коммерцию следует предпочитать сельскому хозяйству (рекомендация капиталовложения: 1/3 в земледелие, 1/3 в товары, 1/3 держать наличными деньгами)» [5, с. 266].
Но и в среде буржуазии евреи заняли на первой стадии развития современного капитализма особую нишу – финансово-посредническую. Вебер пишет: «Для английских пуритан современные им евреи были представителями того ориентированного на войну, государственные поставки, государственные монополии, грюндерство, финансовые и строительные проекты капитализма, который вызывал у них ужас и отвращение. (По существу, эту противоположность можно с обычными, неизбежными в таких случаях оговорками сформулировать следующим образом: еврейский капитализм был спекулятивным капитализмом париев, пуританский капитализм – буржуазной организацией трудовой деятельности)» [5, с. 260].
Обособление, приобретающее характер этнического, происходит и в лоне одного и того же народа при его социальном разделении. Выше уже говорилось, что в период упадка феодализма сословия дворян и крестьян начинают относиться друг к другу как к иным народам. Этого не было в раннем феодализме, когда оба сословия жили в лоне одной культуры и еще не произошло разрыва образов жизни.
Д.С. Лихачев так описывал общность социального порядка древнерусского общества, несмотря на уже сложившуюся сословную иерархию: «Предполагается единый быт всех слоев общества, единый круг чтения для всех, единое законодательство – как и единая денежная система. У одних побогаче, у других победнее, но в целом одинаковая. «Домострой» предлагает общие нормы семейной жизни для всех классов и сословий. Различие, которое допускается, – только в числе, количестве, богатстве. Двор одинаковый у крестьянина, купца, боярина – никаких отличий по существу. Все хозяйство ведется одинаково» (цит. по [13, с. 105]).
Но в послепетровский период произошло не только укрепление системы крепостного права, но и вестернизация дворянского сословия. Сословные различия стали принимать многие черты этнических. А.С. Грибоедов писал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые еще не успели перемешаться обычаями и нравами» (см. [36, с. 382]).
Этнизация социальных групп происходит и сверху, и снизу. Историк, исследователь трудов М. Вебера А. Кустарев пишет: «Беднота способна быть этнически партикулярной [то есть отличаться от других этнически. – С. К.-М.] и так бывает, на самом деле, очень часто. Менее очевидно, но более интересно то, что длительное совместное проживание в условиях бедности порождает тенденцию к самоидентификации, весьма близкой к этнической (вспомним еще раз замечание Вебера об относительности различий между социальной и этнической общностью). Изоляция вследствие бедности – один из механизмов зарождения партикулярности, которая в любой момент может быть объявлена этнической» [37].
Разделение по доходам (а значит, и по образу жизни) – не единственное основание для этнизации социальных групп. В России уже много веков возникли и существуют особые социальные и культурные общности – казаки. Основную массу их составляли бежавшие от крепостного права русские крестьяне. Но в целом этнический состав казаков был очень пестрым, казаческая военно-крестьянская община была своеобразным «плавильным тиглем», и казаки по многим признакам представляли этнические общности.
Вот красноречивый пример. В 1723 г. была проведена перепись Уральского казачьего войска. В него входили казаки с Дона, с Кавказа и из Запорожья, астраханские, ногайские и крымские татары, башкиры, калмыки, мордва, поляки, туркмены, черкесы, чуваши, шведы и др. В войске было установлено двуязычие (на равных правах использовались русский и башкирский языки). В 1798 г. башкир официально перевели в военно-казачье сословие, было образовано 11 башкирских кантонов (и 2 кантона уральских казаков). Эта система существовала до 1865 г., потом была ликвидирована вместе с военно-сословными привилегиями башкир [38].
А. Кустарев пишет: «В принципе любая компактная группа может найти основания для того, чтобы объявить себя «этнической». Например, южнорусские казаки считают себя этнической группой, и никакие ухищрения теоретизирующих этнографов не дадут достаточных оснований утверждать, что это не так». Действительно, приобретение статуса народа, дающего совершенно иные права и возможности в национальном государстве при утвержденном праве наций на самоопределение, является вопросом политическим, то есть решается исходя из баланса сил, а не «результатов экспертного заключения лингвистов и этнологов».
Реально сейчас, когда развален Советский Союз и зашаталось национальное государство Российской Федерации, в среде бывших казаков возникло движение, направленное на получение политических и экономических выгод – оно требует признать казаков народом (более того, «репрессированным народом»). И требование это вовсе не абсурдно, хотя и разрушительно для большого народа в целом.
Этот вывод Вебер формулирует в очень жесткой форме – любая коллективная общность людей может приобрести черты этнической. А. Кустарев напоминает: «Любая социальная группа, как настаивал уже Макс Вебер, в пределе – этническая группа. Все, в конечном счете, зависит от того, насколько она (или, как часто уточняют, ее «элита») сознает и культивирует свою партикулярность, какое придает ей значение и в какой мере учитывает свою партикулярность в отношениях с другими (чужими) группами. Естественно, что в этнополитическом дискурсе появляется понятие micronation» [37].
Самой наглядной иллюстрацией того разрушительного потенциала, которым обладает процесс «размножения» микронаций для большой нации, стал порочный круг, в который попали США, введя в политическую практику принцип мультикультурализма[9]. Он означает, что любая общность, обладающая культурными особенностями и признаками этничности, обладает правом на культурную автономию от целого, от «большой» культуры. В прошлом возможность меньшинств следовать своим особым традициям, которые противоречат общим устоям, становились предметом договоренностей (часто негласных), а не предметом права.
Мультикультурализм, возведенный в ранг государственной политики США, стимулировал этнизацию всяких вообще меньшинств (включая, например, гомосексуалистов)[10]. Теперь они, получив, как особая микронация, право на самоопределение, становятся и политической силой. Общие культурные устои низводятся на уровень частных. Разрушительный потенциал мультикультуризма для больших наций и народов огромен. Вот важный прецедент в области права: в 1996 г. в штате Висконсин (США) суд оправдал иммигранта из Юго-Восточной Азии, обвиненного в растлении двух 11-летних девочек, на основании того, что «сексуальные контакты с молодыми девушками являются традиционной чертой азиатской культуры. В порядке порицания суд приговорил растлителя к бесплатному двухмесячному изучению английского языка – чтобы стимулировать его контакты с англоязычной протестантской культурой [39].
Либеральный философ Дж. Грей пишет: «Требование сторонников мультикультурализма предоставить культурным меньшинствам, как бы они ни определялись, права и привилегии, отвергающие культуру большинства, по сути дела упраздняет саму идею общей культуры. Эта тенденция, следовательно, усиливает рационалистическую иллюзию Просвещения и радикального либерализма, воплощенную в большинстве современных североамериканских практик… а именно иллюзию, что преданность общим устоям может существовать благодаря признанию абстрактных принципов без опоры на общую культуру. Сама идея общей культуры начала рассматриваться как символ угнетения» [3, с. 59].
Это – иное проявление того процесса, с которым не справилась советская государственность. В СССР шел процесс этнизации административно-государственных единиц и, соответственно, процесс огосударствления этносов. Окрепнув, элиты этих региональных общностей стали разрывать единое государство. В США, где в этническом тигле уже, казалось бы, сплавилось множество этнических общностей иммигрантов, политика мультикультурализма привела к возрождению забытых «корней». Население США все более разбредается по микронациям – в разнородные расовые, языковые, этнические и религиозные общины. Согласно переписи 1990 года, только 5 % граждан США считали себя в тот момент «просто американцами», остальные относили себя к 215 этническим группам.
Как пишет В.Л. Иноземцев, «мультикультурализм – это цена, которую Америке приходится платить за ее неспособность или нежелание инкорпорировать в себя афроамериканцев на тех же принципах и в той же мере, в какой она уже инкорпорировала множество других групп» [39].
Соединяясь с представлениями постмодернизма, мультикультурализм размывает большие устойчивые сущности, нисколько не разрешая проблемы меньшинств. В. Малахов пишет: «Постмодернистскую форму мультикультуралистского дискурса поддерживают преуспевающие интеллектуалы из университетской среды и масс-медиа. Именно они распространяют риторику difference, пришедшую на смену риторике Тождества. Да здравствует Различие – но без изменения существующего порядка. Мы приветствуем вашу инаковость – но при условии, что вы останетесь там, где вы находитесь сейчас и что наше благополучие не претерпит ущерба. Насладимся праздником Различия в китайских ресторанах и на фольклорных фестивалях» [40].
В целом отношение и взаимопроникновение разных социальных, культурных и этнических общностей становится все более и более актуальной темой. Нынешняя глобализация разрушает или ослабляет национальное государство. Это активизирует разные, часто идущие в противоположных направлениях процессы этногенеза. С одной стороны, угроза культурного единообразия и утраты своей национальной идентичности при ослаблении защитных сил государства заставляет каждый этнос укреплять собственные «границы».
Дж. Комарофф пишет: «Страны становятся частями обширной и интегрированной общепланетарной мастерской и хозяйства. Но по мере того, как это происходит, их граждане восстают против неизбежной утраты своего неповторимого лица и национальной суверенности. По всему миру мужчины и женщины выражают нежелание становиться еще одной взаимозаменяемой частью новой общепланетарной экономической системы – бухгалтерской статьей «прихода», единицей исчисления рабочей силы. В результате возник новый «трайбализм». На всем пространстве от бывшего Советского Союза до Боснии и Канады люди требуют права на выражение своего собственного этнического самосознания» [2, с. 48].
За благополучный период советской жизни мы забыли об особом проявлении кризиса, которое наблюдалось на нашей территории и с которым столкнулась советская власть в 20-е годы. Речь идет о таком трайбализме, при котором возникали новые «сборные» народы, которые собирались в общности с архаическим укладом хозяйства – чтобы сообща выжить в условиях бедствия. У Андрея Платонова есть рассказ о том, как студента родом из Средней Азии послали из Москвы на родину, чтобы он нашел и привел из пустыни такой народ, который называл себя «джан» (его мать ушла с этим народом).
«Трайбализм обездоленных» приобретает в западных городах и радикальные формы. Те меньшинства, которые чувствуют себя угнетенными в национальных государствах «первого мира», при ослаблении этого государства организуются для борьбы с ним под знаменем «нового трайбализма». Совершенно необычные этнические формы приобрела, например, во Франции социальная группа детей иммигрантов из Северной Африки. Темнокожие подростки, которые жгли автомобили в предместьях Парижа, вовсе не были движимы оскорбленными чувствами араба или мусульманина. Нет у них ни религиозной, ни классовой мотивации. О себе заявила новая микронация, которая желает жить во Франции, но жить, не признавая устоев общей культуры.
Города, превратившиеся для этих юношей и подростков в гетто, из которого нет нормального выхода в большой мир, сформировали из них что-то вроде особого племени, не имеющего ни национальной, ни классовой принадлежности. Это «интернациональное» племя враждебно окружающей их цивилизации и презирает своих отцов, которые трудятся на эту цивилизацию и пытаются в нее встроиться. У этого племени нет ни программы, ни конкретного противника, ни даже связных требований. То, что они делают, на Западе уже десять лет назад предсказали как «молекулярную гражданскую войну» – войну без фронта и без цели, войну как месть обществу, отбросившему часть населения как обузу. Десять лет назад эта война прогнозировалась как типично социальная, но теперь видно, что она приобрела черты войны этнической.
Тесное переплетение социального и этнического происходит и в условиях того бедствия, которое переживает сегодня Россия. По данным социологов, большинство граждан видит в противостоянии богатых и бедных, порожденном реформой, не столько классовое противоречие, сколько раскол народа, «растаскивание» общества [42].
Литература
1. Г.П. Федотов. Лицо России. – Вопросы философии. 1990, № 8.
2. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
3. Дж. Грей. Поминки по Просвещению, М.: Праксис, 2003.
4. В. Малахов. Ностальгия по идентичности. – «Логос». 1999, № 3.
5. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. – В кн.: М.Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
6. Бердяев Н. Смысл истории. – В кн. «Смысл творчества». М., 1989.
7. Э. Фромм. Пути из больного общества. – В кн. «Проблема человека в западной философии». М.: Прогресс. 1988.
8. К. Янг. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
9. Л.Н. Гумилев, К.П. Иванов. Этнические процессы: два подхода к изучению. – СОЦИС, 1992, № 1.
10. К. Нагенгаст. Права человека и защита меньшинств: этничность, гражданство, национализм и государство. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
11. О.Ю. Малинова. Либерализм и концепт нации. – ПОЛИС. 2003, № 2.
12. Л.Н. Гумилев. Этногенез и биосфера земли. – Л.: Изд-во ЛГУ. 1989.
13. П.Б. Уваров. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции. М.: АИРО-ХХ. 2005.
14. Э. Кисс. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические процессы. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
15. А.С. Панарин. Стратегическая нестабильность в ХХI веке. М.: Алгоритм. 2003.
16. Л.Т. Сенчакова. Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905–1907. Т. 1, 2. М.: Ин-т российской истории РАН. 1994.
17. В.В. Кожинов. Федор Тютчев. – М.: Алгоритм, 2000.
18. В.Е. Соболев. Сталин построил третью Россию. – «Российский Кто есть Кто», 2004, № 6.
19. А.А. Блок. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 5. М-Л., 1962. С. 323–324.
20. А.А. Блок. Соч. Т. 8. М-Л. 1963. С. 503.
21. М.О.Гершензон. Творческое самосознание. – В кн. Вехи. Интеллигенция в России. М.: Молодая гвардия. 1991.
22. Гражданская война в России: перекресток мнений. М., 1994. С. 353.
23. Л.Д. Троцкий. Преданная революция. М., 1991. С. 78.
24. Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 1990.
25. А. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006.
26. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М., 1983.
27. М.М. Пришвин. Дневники. 1914–1917. М.: Московский рабочий. 1991.
28. С.В. Тютюкин. Июльский политический кризис 1906 г. в России. М.: Наука. 1991.
29. О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. М.: Праксис. 2002.
30. К. Маркс. Президенту Соединенных Штатов Америки Аврааму Линкольну. Соч., т. 16, с. 18.
31. С. Levi-Strauss. Antroрología estructural: Mito, sociedad, humanidades. México: Siglo XXI Eds. 1990.
32. В. Малахов. Зачем России мультикультурализм? – В кн.: Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М. 2002, с. 48–60.
33. С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции). В кн.: С.Н.Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
34. В.И. Ленин. Первое мая. Соч., т. 10.
35. А. Грамши. Современный государь. – Тюремные тетради. Т. 3. М.: Мысль, 1959.
36. М.В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. М., 1977.
37. А. Кустарев. Национал-государство, его наследники и наследие – рelag.ru/geoeconomics/kaрital/evolution/heritage/
38. Д. Грушкин. «Национальные» движения в Республике Башкортостан: тенденции и перспективы». – В кн. «Бунтующая этничность». М.: РАН. 1999.
39. В.Л. Иноземцев. Иммиграция: новая проблема нового столетия. Методологические аспекты. – СОЦИС. 2003, 6.
40. В. Малахов. Культурный плюрализм versus мультикультурализм. – «Неприкосновенный запас». 2002. № 5.
41. А.Й. Элез. «Этничность»: средства массовой информации и этнология. – В кн. «Этничность, толерантность и СМИ». М.: РАН. 2006.
42. В.В. Петухов. Новые поля социальной напряженности. – «СОЦИС». 2004, № 3.
Раздел 2. Концепции этничности
Глава 4. Народ – создание природы или человеческого общества?
В предыдущей главе утверждалось, что народы не возникают естественным путем, как это предполагают натуралистические концепции общества, а складываются в ходе сознательной деятельности людей, то есть являются продуктами культуры.
Эта деятельность велась с момента возникновения человека. Чтобы семьи соединялись в роды, кланы и общины, требовалось сформулировать жесткие культурные нормы (вроде табу на инцест) и выработать механизмы по надзору за их соблюдением. Это – явления культуры, а не природы. Историк древнего Востока Л.С. Васильев пишет: «Как утверждает известный французский антрополог К. Леви-Стросс, первоосновой социокультурного начала была сексуальная реформа, запрет инцеста, что породило систему упорядоченных коммуникаций, основанную на принципе эквивалентного взаимообмена. Обмен женщинами, дочерьми и сестрами, ограничивший беспорядочное половое общение в рамках первобытного стада и породивший ранние формы жестко фиксированных брачных связей, способствовал установлению нормативного родства, в связи с чем были определены старшинство поколений, брачные классы и в конечном счете основанные на этом родовые и родоплеменные общности» [1].
Превращение родов и родственных кланов в более жестко связанную этническую общность (племя) требовало уже управления с более сложной структурой – протогосударства. Л.С. Васильев так представляет этот процесс: «Социологи и антропологи подвергли обстоятельному анализу феномен механической солидарности разраставшихся на основе сегментации семейно-клановых групп многочисленных родственных кланов в зоне обитания данной этнической общности. Базирующаяся на общности происхождения, культуры, языка, спаянная ритуальными нормами (обряды инициации, мужские дома, празднества) и легендарно-мифологической традицией, такого рода общность, обычно всегда именовавшаяся племенем, подчас исчисляется сотнями тысяч. Именно в ее недрах фиксируется солидарность, которая реализуется автоматически» [1].
Чтобы племя развивалось, создавая основу для возникновения народа, требуется уже государственная власть, с ее жрецами, религиозными культами, границами и войском. Читаем у Л.С. Васильева: «Укрупненная система мелких первичных протогосударств – это сложное или составное протогосударство, имеющее иерархическую внутреннюю структуру и знакомое с определенным количеством оторванных от сельскохозяйственного производства групп администраторов, воинов, жрецов и обслуживающего верхи персонала (слуги, рабы, ремесленники). Администраторы – это общинная выборная верхушка; воины – это группа профессионалов-дружинников, всегда готовая повести за собой всех остальных, способных носить оружие. Слуги и рабы принадлежат к числу неравноправных чужаков, чаще всего захваченных в ходе войн. Из их же числа, а также из числа собственных мастеров, если они имелись в коллективе, формируются профессионалы-ремесленники, прежде всего металлурги-кузнецы, продукт труда которых становится особенно важным с момента, когда неолитические коллективы вступают в век бронзы. Но едва ли не наиболее важной прослойкой в формирующемся протогосударстве всегда были жрецы. Во всяком случае глава протогосударства часто одновременно был высшим жрецом-первосвященником» [1].
Древние греки (эллины) сформировались путем объединения родственных этнических групп и ассимиляции малых общностей (Геродот писал, что эллины численно возросли потому, что «включили в себя множество племен»). Создание межплеменных союзов уже отражено древними историками в письменной форме. Античные авторы (например, Страбон и Геродот) выделяли общности родственных племен – галлы, иллирийцы и пр. При этом они указывали входящие в их состав племена (у Страбона говорится: «Племена паннонцев суть: бревки, андезитии, дитионы, пирусты, мазеи, деситиаты»).
Когда на раннем этапе Нового времени складывались национальные государства в Западной Европе, строительство нации считалось священной обязанностью государства. У антропологов в ходу поговорка: «не нации порождают национализм, а национализм нации». Только тогда, как пишет антрополог Геллнер, «понятие «человек без национальности» стало почти невообразимым… противоречит общепризнанным категориям и провоцирует отвращение» (цит. в: [2, с. 93]).
В этой главе мы не будем говорить о созидающих народы силах и необходимых для этого условиях. Пока что проиллюстрируем на более или менее наглядных примерах саму мысль о том, что народы создаются. Ведь до сих пор даже в просвещенных гуманитарных кругах многие считают, что этничность есть биологическое, изначально данное человеку свойство.
Взглянем на близкую нам историю. Народы (нации) большинства нынешних великих держав появились совсем недавно, хотя некоторые из них и носят древние имена и унаследовали многое из своих древних культур (унаследовали то, что для них отобрали из этих культур «строители»). Вождь либерального объединительного движения в Италии К. Кавур, став в 1861 г. главой первого правительства, сказал: «Мы создали Италию, давайте создавать итальянцев».
Современные японцы созданы в ходе большой, сознательно выработанной программы модернизации – Реставрации Мэйдзи – во второй половине ХIХ века. Для собирания раздробленных феодальных кланов и общин был создан и политическими средствами утвержден миф об императоре и его божественном происхождении. До этого император существовал в Японии много веков, но представлял очень слабую власть. Реставрация Мэйдзи задала новый формат верховной власти и ее отношений с феодальными кланами.
Древние религиозные верования были превращены в государственную религию синтоизм, которая была внедрена политическими средствами и служила могучим инструментом консолидации общества. Через систему образования и культуру в японцах было возбуждено чувство национализма, в который была заложена идея форсированного промышленного и технического развития. Так возникла Япония как государство-нация и то, что мы называем японским народом. Нечего и думать, чтобы такие сложные конструкции возникли естественно, сами собой, за столь короткий срок.
И. Валлерстайн в конце 80-х годов в работе «Существует ли Индия?» поднял вопрос о правомерности обращать назад, в историю, наши современные представления о странах и народах. Он пишет, что сегодня существует Индия, которая обладает достаточным набором атрибутов государства и нации. Но как относиться к книге «История Индии XVI века»? Представим себе, что этот полуостров был колонизирован наполовину англичанами, а наполовину французами. Тогда после освобождения от колониальной зависимости здесь наверняка возникли бы два государства. Одно из них, англоговорящее, могло бы называться, например, Дравидия, другое, франкоговорящее, – Брахмания. В этом случае мы читали бы сегодня книги под названием «История Дравидии ХVI в.» или «Культура Брахмании накануне колонизации». Валлерстайн пишет, что подобную операцию «проблематизации прошлого» можно применить к любой стране, в том числе европейской.
Процесс строительства народа резко ускоряется в переломные моменты истории (как это было и в случае Японии, которой угрожала колонизация, империалистическая экспансия Запада). Так, американский народ США был «собран» в ходе войны за независимость, и его «сборка» производилась отцами нации вполне сознательно, проект вырабатывался на технических совещаниях, как в КБ. Идеологам независимости из числа англичан-протестантов приходилось решать ряд новых задач – кого из пестрого этнического состава населения колоний и в каком статусе включать в число граждан «сверкающего города на холме» (например, немногочисленным выжившим индейцам права гражданства были предоставлены только в 1924 г., а негры еще долгое время выдерживались в статусе рабов).
Основывая колонии вдалеке от Европы, европейцы привозили с собой и идею нации, которые в этот период складывались в Старом свете. Новые государства-нации формировались на месте колоний в ходе войны за независимость, как это произошло в США, а затем в латинской Америке. К. Янг пишет: «За исключением Гаити, эти движения за независимость возглавлялись поселенцами, которые до того считали себя заморскими фрагментами своих «материнских» империй. Со временем же они претерпели метаморфозу обретения статуса наций. Для тех тринадцати колоний, которые существовали в момент провозглашения независимости в 1776 г., было привычным считать свои «права» проистекающими из их статуса как «англичан» и закрепившимися порознь в отдельно взятых колониях. Ко времени Токвиля идея американской нации уже глубоко укоренилась на базе народного суверенитета» [2, с. 94].
Таким образом, чтобы обрести независимость и создать признанное государство, требовалось из англичан-переселенцев создать новый народ. Учредители государства США настолько хорошо понимали значение этой функции, что регулярно занимались «ремонтом и модернизацией» своего народа, устраняя те опасности, которые вызывали новые волны иммиграции (например, массовый наплыв ирландских и немецких католиков в 1840–1850 гг., который угрожал размыть протестантское ядро государственной идеологии). В конце ХIХ в. работник службы социального обеспечения в отчете о положении семьи выходцев из Италии написал: «Пока не американизировались. Все еще готовят на итальянский манер». Сейчас в США интенсивно разрабатывается новый проект нациестроительства ввиду быстрого изменения этнического состава населения.
Опыт США замечателен тем, что это был почти чистый эксперимент. Здесь при помощи большой «этнической чистки» было создано пространство без истории, на котором можно было реализовать утопию европейского Просвещения, построив на пустом месте идеальное государство, сконструированное в полном соответствии с ньютоновской моделью мироздания, и населив его сборным народом, чья коллективная память не была бы замутнена ценностями традиционного, сословного общества. Такого «чистого листа» не могла предоставить ни одна страна протестантской Европы, даже после сожжения миллиона «ведьм». Кстати, для воспитания нового, «чистого» народа, отцам нации приходилось посылать на костер и на виселицу своих «ведьм» с признаками ереси вплоть до ХVI века (философы Гарвардского университета в 1692 г. за два месяца послали на костер и на виселицу 150 женщин в маленьком местечке Сейлем).
Сознательное строительство народов происходило и в бывших испанских колониях. Как пишет К. Янг, «в XIX веке понятие «Мексика» было слишком слабой идеей, чтобы сдерживать Центральную Америку в рамках ее границ. Только со временем возникла мощная национальная идеология, соткавшая миф о метисах; его укреплению способствовала Мексиканская революция» [2, с. 94]. Таким образом, именно в ходе мексиканской революции в первой трети ХХ века было проведено конструирование и строительство современного большого народа Мексики, причем удалось решить сложную задачу соединения в один народ потомков испанских колонизаторов с представителями множества индейских племен.
Недавней почти экспериментальной работой по конструированию нового этно-религиозного сообщества стало создание народа фалаша, эфиопских евреев (или Израиля «второго сорта»). Их бегство в Израиль имело черты политического и духовного ритуала и привлекло к себе внимание всего мира. К. Янг высоко оценивает работу антрополога Дж. Квирина, который «дает интересную и хорошо документированную интерпретацию длительного и сложного процесса их самоосознания как «израильтян второго сорта». В самом Израиле отношение к вопросу неоднозначное, поскольку при этом ставится под сомнение применение «закона о возвращении» и оправданность сенсационных воздушных перебросок, с помощью которых большинство из них было перемещено на историческую родину евреев. Автор мастерски демонстрирует сложность и случайность процессов формирования группы в долгосрочной перспективе» [2, с. 90].
Если мы обратимся к опыту ближней нам Европы, то здесь в ХIХ веке мы видим целенаправленное создание народов, у которых до этого даже названия не было. К. Нагенгаст пишет: «Многие «национальности» Восточной и Центральной Европы, в основании которых лежат предполагаемый общий язык, реальные или мифические предки и история, были в буквальном смысле созданы элитами, причем некоторые представители этих элит даже не могли говорить на языках изобретенных таким образом национальностей» [3, с. 181]. Например, известный чешский филолог Ян Коллар сам был словаком, но отстаивал идею единого чехословацкого языка и работал над созданием современного литературного чешского языка, хотя сам до конца жизни писал по-немецки.
Возникает особый тип духовных лидеров, которые занимались «сборкой» народов (в Чехии, а потом и у южных славян их называли «будители»). В лабораториях вырабатываются литературные языки и пишется история и мифология. Э. Кисс пишет: «Будители достигли совершенно разных политических результатов, что особенно наглядно проявилось в случаях с численно небольшими группами, не обладавшими на протяжении своей истории политической независимостью. Так, в 1809 г. некий филолог изобрел наименование «словенцы» и стал творцом словенского национального самосознания. Движение, началу которого он содействовал, привело в конечном счете к тому, что Словения приобрела республиканский статус в рамках Югославии, а в прошлом году стала независимым государством. Вместе с тем членам других диалектных групп, например сорбам [лужичанам], так и не удалось выработать единого коллективного самосознания, и их политическое и культурное присутствие в современной Европе никак поэтому не ощущается» [4, с. 148–149].
За вторую половину ХХ века проблема создания народа стала предметом исследований и технологических разработок, основанных на развитой науке. Быстрому продвижению в этой области помог опыт фашизма, который с конца 20-х годов за десять лет создал из рассудительных немцев совершенно новый самоотверженный и фанатичный народ. Этот народ фашистской Германии обладал качествами, каких не было у того «материала», из которого он был создан.
Идеологи фашизма поставили сознательную цель «пересборки» немцев как жестко скрепленного народа – с одновременным отъединением их от других народов и даже противопоставлением большинству других народов (в этом, кстати, одно из принципиальных отличий фашизма от коммунизма – квазирелигиозной идеи соединения, даже братства народов).
Фашисты по-новому применили одно из главных средств соединения людей в народы – язык. Они создали тип слова, сила которого заключалась не в информационном содержании, а в суггесторном воздействии, во внушении через воздействие на подсознание. Возник особый класс слов-символов, заклинаний. Гитлер писал в «Mein Kamрf»: «Силой, которая привела в движение большие исторические потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен только волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется могуществу слова». Муссолини также высказал сходную мысль: «Слова имеют огромную колдовскую силу».
Языковую программу фашизма иногда называют «семантическим терроризмом», который привел к разработке «антиязыка». В этом языке применялась особая, «разрушенная» конструкция фразы с монотонным повторением не связанных между собой утверждений и заклинаний. Этот язык очень сильно отличался от «нормального».
Фашизм новаторски применил технологии спектакля и зрительных образов для сплочения немцев как зрителей. Перешагнув через рационализм Нового времени, фашизм «вернулся» к древнему искусству соединять людей в экстазе через огромное шаманское действо – но уже со всей мощью современной технологии. При соединении слов со зрительными образами возник язык, с помощью которого большой и рассудительный народ был превращен на время в огромную толпу визионеров, как в раннем Средневековье.
Фашисты первыми использовали для активизации этничности и идеологического сплочения населения в новый народ представление пространства в виде географических карт. Карта как способ «свертывания» и соединения разнородной информации обладает не просто огромной, почти мистической эффективностью. Карта мобилизует пласты неявного знания и мобилизует подсознание, гнездящиеся в нем иррациональные установки и предрассудки – надо только умело подтолкнуть человека на нужный путь работы мысли и чувства. При этом возможности создать в воображении человека именно тот образ, который нужен идеологам, огромны. В то же время карта воспринимается как продукт уважаемой и старой науки и воздействует на сознание человека всем авторитетом научного знания. Фашисты установили, что чем лучше и «научнее» выполнена карта, тем сильнее ее воздействие. И они не скупились на средства, так что фальсифицированные карты, которые оправдывали геополитические планы нацистов, стали шедеврами картографического издательского дела. Эти карты заполнили учебники, журналы, книги.
Идеологи фашизма активно перестраивали мировоззренческую матрицу немцев. Они сумели внедрить в массовое сознание холизм – ощущение целостности Природы и связности всех ее частей («одна земля, один народ, один фюрер» – выражение холизма). Философы говорят: «фашизм отверг Ньютона и обратился к Гете». Этот великий поэт и ученый развил особое, тупиковое направление натурализма, в котором преодолевалось разделение субъекта и объекта, человек «возвращался в Природу». Эта философия, созданная в лаборатории, служила политическим целям. «Возврат к истокам» и представление общества и его частей как организма (а не машины) оправдывали частные стороны политики фашизма как удивительного сочетания крайнего консерватизма с радикализмом.
У Ницше была взята идея вечного возвращения, и представление времени в фашизме опять стало нелинейным. Идеология фашизма – постоянное возвращение к истокам, к природе (отсюда сельская мистика и экологизм фашизма), к ариям, к Риму, построение «тысячелетнего Рейха». Было искусственно создано мессианское ощущение времени, внедренное в мозг рационального, уже перетертого механицизмом немца. Была сфабрикована целая система мифов – антропологический миф о человеке как «хищном животном» (белокурой бестии), миф избранного народа (арийской расы), миф крови и почвы.
Немцам было навязано романтическое антибуржуазное самоосознание как народа земледельцев. Один из идеологов фашизма писал: «Ни герцоги, ни церковь, ни даже города не создали германца как такового. Немцы произошли от крестьян, а герцоги, церковь и города только наложили на них определенный отпечаток. Германское крестьянство… представляло собой основу, определившую направление и характер дальнейшего развития. Мы, национал-социалисты, восстановившие старую истину, что кровь является формообразующим элементом культуры народа, абсолютно четко представляем себе суть вопроса» [5].
В результате жесткой мифологизации и символизации прошлого у немцев-фашистов возникло химерическое, расщепленное сознание. Их мессианизм с самого начала был окрашен культом смерти, разрушения. Режиссеры массовых митингов-спектаклей возродили древние культовые ритуалы, связанные со смертью и погребением. Это позволило разжечь в немцах архаические взгляды на смерть, предложив, как способ ее «преодоления», самим стать служителями Смерти. Так удалось создать особый, небывалый тип храброй армии – СС.
О массовой психологии фашистов, которая выросла из такой философии, написано довольно много. Ее особенностью видный философ Адорно считает манихейство (четкое деление мира на добро и зло) и болезненный инстинкт группы – с фантастическим преувеличением своей силы и архаическим стремлением к разрушению «чужих» групп.
Поучительным был и опыт «демонтажа» этого нового народа после поражения фашистской Германии во Второй мировой войне. Таким образом, дважды всего за тридцать лет была произведена «пересборка» большого европейского народа с великой культурой и огромной историей (к тому же этот большой эксперимент этнической и социальной инженерии дополнен важным опытом параллельного строительства из части немцев особого народа ГДР, который вот уже более пятнадцати лет после ее ликвидации не может ассимилироваться с основной частью нации).
Формирование этничности ГДР стало одной из важных глав всей истории этногенеза немцев Германии в ХХ веке. Одним из идеологических инструментов «бархатной» революции в ГДР в 1989 г. была идея воссоединения немецкого народа. Символическое значение имела сама декларация, в которой небольшая часть населения, выступавшая против власти ГДР, объявила себя народом. В ноябре 1989 г. в Дрездене митинг молодежи стал скандировать: «Мы – народ!» Это было уговоренным актом с разрешения правящей верхушки США и СССР. Новый народ, отвергающий государственность ГДР, получил внешнюю легитимацию двух ведущих сверхдержав[11].
Далее в присвоении звания «народ» был совершен важный шаг. Вначале митингующие кричали: «Wir sind das Volk!», что буквально означало «Мы – народ!» Затем вдруг определенный артикль был заменен на неопределенный: «Wir sind ein Volk!» И возникла неопределенность, которая могла трактоваться и трактовалась как «Мы – один народ!» Так митинг декларировал не только свое право как народа на самоопределение, но и объявлял о своем решении объединиться с ФРГ в один народ. Массы населения поняли, что вопрос решен на мировом уровне – и приняли свою судьбу.
Завершить эту главу можно замечанием К. Янга о том, что множество хорошо изученных в антропологии конкретных исторических процессов становления и пересборки народов побуждают к тому, «чтобы этничность понималась не как некоторая данность, но как результат созидания, как инновационный акт творческого воображения. Очень сложным путем и благодаря действию многих механизмов сознание, однажды зародившись, развивалось путем последовательных переопределений на всех уровнях государства и общества. Со временем оно стремилось к проецированию себя на все более обширные социальные пространства. Процесс социального конструирования происходит и на индивидуальном, и на групповом уровнях; в ходе бесчисленного множества взаимодействий в обыденной жизни индивиды участвуют в постоянном процессе определения и переопределения самих себя. Самосознание понимается таким образом не как некая «фиксированная суть», а как «стратегическое самоутверждение» [2, с. 117].
Глава 5. Что такое этничность. Первое приближение
Для обсуждения процессов создания, демонтажа и пересборки народов требуется изложить те представления об этничности, которые мы принимаем в этом обсуждении.
Когда мы рассматриваем общественные процессы через призму национальных отношений, сразу сталкиваемся с понятием этнос, а также с производными от него понятиями этничность, этнизация, этноцентризм, этническое меньшинство, этнический конфликт, этническое насилие и даже этноцид.
Племя, народность, народ, национальность, нация – для всех них этнос является общим, «родовым» понятием. У нас в этом смысле обычно применяется слово «народ». Общим внешним признаком того, что стоит за словом «этнос», служит тот факт, что им обозначаются общности, имеющие самоназвание (неважно даже, сама ли общность его для себя изобрела или его ей навязали извне). Нет народа без имени (при этом другие народы могут называть один и тот же народ по-разному, не обращая внимания на его самоназвание – пусть немцы называют себя «дойч», а испанцы называют их «алеман», мы-то знаем, что они немцы). Логично считать, что раз у общности есть самоназвание, значит, у нее есть и самосознание. И если правнук русского эмигранта во Франции говорит, что он русский, то он сможет (если захочет) объяснить, что он под этим понимает и что его связывает с русским народом[12].
Понятия народ, демос, нация, национальность, раса, национализм, расизм и т. п. предельно нагружены идеологически. Поэтому читать эту книгу надо, постаравшись хотя бы на время отрешиться от злободневных идеологических пристрастий. На людей, глубоко погруженных в конфликт интересов, связанных с этничностью, бесполезно воздействовать логикой, теориями и аналогиями. В. Малахов в одной из дискуссий предупреждал: «Что касается «нации» и «этноса», то это настолько идеологически нагруженные слова, в них заложены такие эмоциональные и политические инвестиции, что ожидать установления научного согласия относительно их определений – просто наивно… От того, как определить ту или иную группу – как «нацию» или как «народность», зависит направление колоссальных денежных потоков…
Если вы видите в девяноста случаях из ста, что под нацией понимают этнос, или под этносом понимают кровнородственное сообщество, или считают этнос автономным агентом социального действия, самостоятельным, либо коллективной персоной – чисто теоретически это опровергнуть невозможно» [6].
И тем не менее, значительная часть нашей интеллигенции пока еще способна рассуждать хладнокровно, подходя к предмету с соблюдением норм рациональности. Лучше использовать оставшееся относительно спокойное время для взаимопомощи в ликвидации нашей общей безграмотности. Для этой книги я отобрал наиболее проверенные, обсужденные сведения – исходя из того, как я представляю себе потребности нашего общества в знаниях об этничности.
Греческое слово «этнос» в древности означало любую совокупность одинаковых живых существ (такую, как стадо, стая и пр.). Позже оно стало использоваться и для обозначения «иных» – людей, говорящих на непонятных языках (в смысле, близком к слову «варвары»). В дальнейшем слово «этнический» употребляется, когда речь идет о неиудеях и нехристианах. В церковном языке оно означало язычество и языческие суеверия. В западное европейское богословие слово «этнический» в этом смысле вошло в 1375 г. Позже оно проникло в светский язык и стало использоваться для обозначения культур, непохожих на европейские.
В конце XIX века этническими называли любые сообщества людей, непохожих на «цивилизованных». Любую самобытную культуру называли этнической (как иронизируют этнологи, «своя культура этнической быть не могла»). Например, в США этническими назывались индейские сообщества, потом социологи стали называть так группы иммигрантов («этнические поляки» и пр.), а во второй половине ХХ века «этничность обрели практически все».
Придерживаясь различных и даже взаимоисключающих представлений о происхождении этничности, большинство ученых, однако, признает, что общность людей, сложившаяся как этнос, есть присущая человеческой истории форма жизни, подобно тому как животному миру присуща форма биологического вида. Из этого следует, что даже если этническую общность понимать как общность культурных признаков, развитие человеческой культуры происходило не путем ее равномерной беспорядочной «диффузии» по территории Земли, а в виде культурных сгустков, создателями и носителями которых и были сплоченные общности – этносы. Между ними происходило непрерывное общение, обмен культурными элементами, но при этом сохранялась система, культурная целостность, отличная от иных целостностей. В развитии культуры человечество шло не цепью и не толпой, а организованными «отрядами» – этносами.
Большую роль в распространении и внедрении современных понятий этнической (национальной) принадлежности сыграли переписи населения, которые начали проводиться в Европе с середины XIX века. В них этничность, как правило, приписывалась по признаку языка или религии. Так, в переписи в России (1897 г.) – по признаку языка, а в Греции начиная с 1856 г. по признаку религии, а потом по двум признакам: языку и религии. Люди стали официально получать «национальность». Таким образом, это очень недавнее изобретение. И. Валлерстайн высказал важную мысль: «Категории, которые наполняют нашу историю, были исторически сформированы (и в большинстве всего лишь век назад или около этого). Настало время, когда они вновь открылись для исследования» [7].
Там, где понятие национальности уже вошло в обыденное сознание и стало привычным, люди считают, что этническое самоосознание людей – вещь естественная и существовала всегда и везде. Как считают социальные психологи (Т. Шибутани), в настоящее время «этнические категории составляют важную основу для стратификации, так как люди считают их естественными подразделениями человечества». В действительности это подразделение людей не является естественным и даже появилось не слишком давно.
Даже и в ХХ веке на земле остаются уголки, где этничность «навязывается» людям извне, сами они в этих категориях о себе не думают. В Новой Гвинее до начала массовых антропологических и этнографических исследований группы туземного населения, как правило, не имели даже самоназваний. Похожая ситуация была в Австралии. Границы так называемых «племен» отличались условностью, самосознание их членов было выражено весьма слабо. До тех пор, пока не появились антропологи и туристы, «племена» часто не имели названия. В Африке названия присваивали колониальные администрации, произвольно причислявшие к тому или иному «этнониму» различные группы населения. В частности, термин «йоруба», будучи колониальным изобретением XIX века, долгое время был «не более чем китайской грамотой» для тех, кого им называли[13] [8, с. 39].
Совсем недавно категория национальности была неизвестна и просто недоступна для понимания жителям некоторых областей даже Европы. Во время первой переписи 1921 г. в восточных районах Польши, вышедшей из состава Российской империи, крестьяне на вопрос о национальности часто отвечали: «тутейшие» (местные). На вопрос о родном языке они отвечали: «говорим попросту» (то есть говорим как простые люди, не как паны). В быту они делили себя на людей «с польской верой» (католиков) и людей «с русской верой» (православных). Сегодня этих крестьян однозначно зачислили бы в белорусы (в соответствии с их разговорным языком), но сами они свое отличие от господ (поляков-католиков) мыслили как социальное и религиозное, а не этническое или национальное [9].
В 1945 г. при переписи в Югославии оказалось невозможно определить этническую принадлежность большой группы населения в Юлийской Краине (юго-западнее Триеста). Жители одинаково хорошо владели двумя языками – итальянским и славянским (было трудно определить точно, что это за диалект). Они были католиками, а сведения о своем этническом происхождении считали «несущественными». Часть этих людей потом все же признала себя либо хорватами, либо словенцами – под административным давлением, а не по внутреннему убеждению.
Так же обстояло дело и в СССР. А.В. Кудрин приводит выдержку из работы П.И. Кушнера «Этнические территории и этнические границы» (М., 1951): «Выявление национальности затруднялось тем, что в первые годы советской власти существовали этнические группы, не сложившиеся в народности. Для членов таких первичных этнических объединений было очень трудно без помощи переписчика сформулировать ответ о национальной принадлежности. В сомнительных случаях учитывались не только показания населения, но его язык и особенности культуры». Однако, несмотря на все усилия переписчиков и школьных учителей, даже в послевоенный период приходилось констатировать, что «сохраняются у отдельных групп населения наряду с пониманием принадлежности к определенной народности или нации родоплеменные и земляческие представления об этнической общности» [9].
Директор Института антропологии и этнографии РАН В.А. Тишков писал в 1990 г.: «В нашей стране вплоть до первых десятилетий XX в., а отчасти и по сегодняшний день, этническое самосознание было и остается на массовом уровне довольно зыбким. Даже, например, у крупных народов Средней Азии и Казахстана, которые квалифицируются по нашей иерархии этнических образований как «социалистические нации», еще в 20-е годы преобладали в самосознании и самоназвании локальные или родоплеменные названия. Среди узбекоязычного и таджикоязычного населения среднеазиатских оазисов, а также Южного Казахстана употреблялись этнонимы: таджик (как коренное оседлое население оазисов независимо от языка), сарт, тат, чагатай. Они перекрывались локальными наименованиями: бухарец, ташкентец, самарканди, пухори (имелись в виду не только данный город, но и его округа). Даже во время двух последних переписей (1979 и 1989 гг.) некоторые группы в составе узбеков называли себя «тюрк», в связи с чем в Фергане, например, под одним названием оказались два совершенно разных народа – этнографическая группа узбеков и турки-месхетинцы…
Многие народы или даже родоплеменные группы, в представлениях и лексиконе которых не было не только самого понятия «нация», но даже иногда и ее названия (азербайджанцы, например, назывались до этого «тюрками»), не только действительно совершили разительные перемены в своем развитии, но и быстро овладели самой идеей нации, включив в нее значительные мифотворческие, сконструированные начала» [10].
В Новое время, когда наука в европейских странах стала активно формировать общественное сознание, возникновение слова, обозначающего явление, становилось пусковым событием для того, чтобы этим явлением занялась наука. Этничность (национальность) стала предметом научных и философских изысканий. То, что существовало неявно, как «вещь в себе», приобретает активность и создается, как было «создано» наукой и научной технологией электричество[14].
Истоки теорий национальной идентичности можно найти еще в классической немецкой философии (например, у Шеллинга, который задался вопросом о причинах разделения единого человечества на народы, т. е. об этногенезе). В ХIХ веке возникли научные общества, например, Лондонское этнологическое общество, стали выходить специальные труды[15]. Классическими стали работы Л.Г. Моргана «Лига ирокезов» (1852), Дж. С. Милля «Национальность» (1862) и Э. Ренана «Что такое нация» (1882). Однако те научные представления, которые служат инструментом для современного исследователя, вырабатывались уже в ХХ веке[16].
Круг этих представлений очень широк. В их создании прямо участвовало языкознание (важный момент этнической идентификации – выработка своего имени, этнонима, придание языку роли «этнической границы»). Другим важным способом национальной идентификации является выработка и усвоение мифов. Изучением их структуры и принципов их создания занимаются многие разделы антропологии и культурологии (культурная антропология). Коллективным бессознательным, на уровень которого погружается этническое самоосознание, занялись психологи и психоаналитики (этнопсихология). Социальным взаимодействием людей в этническом сообществе и с другими этносами занимаются социологи. Все более важной частью экономической науки становится этноэкономика – исследование взаимосвязи между этническими факторами и типом хозяйственных укладов. В последние десятилетия этнические проблемы стали одним из главных предметов политических наук.
Фактически осмысление этничности стало необходимым разделом всех наук о человеке и обществе. В каком-то смысле это привело к тому, что само явление этничности утратило свою собственную определенность, а стало представляться как множество своих ипостасей – политических, социальных, экономических, культурных и т. д.
Некоторые ученые стали даже считать, что этничность – лишь обобщенное имя, под которым нет реальной сущности и которое не имеет смысла вне более конкретных и жестких частных понятий[17]. Крупный американский социолог П.А. Сорокин писал: «Национальности как единого социального элемента нет, как нет и специально национальной связи. То, что обозначается этим словом, есть просто результат нерасчлененности и неглубокого понимания дела» [11]. Это существенное предупреждение, но без «нерасчлененного» понятия не обойтись – надо лишь иметь в виду тот контекст, в котором оно употребляется, и не требовать жесткой однозначной дефиниции. В текстах многих ученых даже напоминается: «Этничность (ethnicity) – термин, не имеющий в современном обществоведении общепринятого определения»[18].
Это утверждение надо понимать так, что сложное явление этничности принимает определенный смысл лишь в определенном контексте, который при строгих рассуждениях требуется специально оговаривать. Для пояснения этой ситуации привлекают даже известную притчу о слоне – явлении, которому семеро слепых дали семь разных определений. Каждый из слепых ощупал какую-то одну часть слона и составил образ, дающий представление о какой-то одной стороне объекта.
В этом нет ничего необычного. Подобных явлений множество. Им, как и этничности, в принципе нельзя дать т. н. «замкнутого» определения. Их определение складывается из содержательных примеров, и чем больше таких примеров, тем полнее и полезнее становится определение. Есть, например, такое многим известное явление, как жизнь. А четкого определения, независимого от контекста, этому явлению дать не удается[19]. А полное определение атома, по словам Лэнгмюра, содержится лишь во всей совокупности текстов физики.
Здесь мы не будем пытаться полно описать нашего «слона», этому посвящена большая литература. Просто укажем на многообразие объекта, а дальше будем стараться яснее обозначать контекст, в котором ведутся рассуждения об этничности.
Взять, например, такую сторону вопроса, как этническая идентичность. Ясно, что само явление этничности возникает (или выявляется) лишь тогда, когда люди идентифицируют себя как принадлежащие к какому-то конкретному этносу и отличают себя от иных этносов. Выше мы видели, что в некоторых исторических условиях у людей и не возникает такой потребности. В совокупности их жизненных процессов процесс этнической идентификации отсутствует (или, как говорят, в «идентификационном пространстве личности» занимает незначительное место). Значит, этничности как статическому, более или менее устойчивому свойству человеческой общности соответствует процесс этнической идентификации. Статика и динамика этничности взаимосвязаны.
Часто национальная идентификация «включается» политическими событиями, а через какое-то время другие события ее тормозят или даже «отключают». На наших глазах менялись условия, и в некоторых общностях процесс их идентификации ослабевал или усиливался – одни и те же люди то называли себя русскими, то вдруг оказывались прирожденными евреями или находили и выпячивали свои немецкие корни. Сравнительно недавно в судьбе русских большую роль играли сильные соседние народы – половцы и печенеги. Потом по каким-то причинам, которые до нас не дошли, их потребность в идентификации себя как половцев и печенегов угасла, и они совершенно незаметно для себя и для соседей растворились в других народах[20].
Но уже этот частный процесс идентификации имеет довольно сложную структуру. В ней выделяют когнитивный компонент (знания о признаках, особенностях и собственного этноса, и важных для него «иных») и аффективный компонент – чувство принадлежности к своему народу, отношение к этой принадлежности. Один русский горячо любит русский народ, другой, как Смердяков, является русофобом и страдает от своей принадлежности к нему. Это аффективная сторона их этнической идентификации. Когнитивный компонент имеет рациональную природу, а аффективный эмоциональную.
В своей лекции 1882 г. Ренан показывает, как по-разному влияла на этническую идентификацию политика разных монархов в зависимости от выбранной ими национальной доктрины. Франция была населена множеством племен кельтской, иберийской и германской групп – бургундцами, ломбардцами, норманами, визиготами, аланами и т. д. Семь веков королевская власть настойчиво способствовала их соединению в один большой народ, и уже в ХVIII веке практически никто из французов не идентифицировал себя с каким-то из этих исходных этносов.
Совершенно по-другому вели себя султаны Турции, и даже в ХIХ веке турки, славяне, греки, армяне, арабы и курды были в Турции столь же разделенными общностями, как и в начале становления империи. Более того, Ренан обращает внимание на европейские Венгрию и Богемию, где венгры и славяне или немцы и чехи 800 лет сосуществовали, «как масло и вода в пробирке».
Процесс идентификации подразделяется на фазы, этапы. В первой фазе происходит классификация человеческих групп на «мы» и «они». По мнению антропологов, зачатки деления «свой» – «чужой» относятся к ранним, базовым структурам культуры. Однако с самого же начала существовала и тенденция к преодолению замкнутости группы. Как заметил К. Леви-Стросс, уже в первобытной культуре тотемистические классификации указывают на стремление разорвать замкнутость групп и развить понятие, по смыслу приближающееся к понятию «человечества без границ».
Во второй фазе процесса идентификации идет работа по «формированию образов» – этническим общностям приписываются определенные культурные и другие характеристики. Целостный образ того или иного этноса – сложная система. Некоторые наглядные элементы этой системы входят в обиход как этнические маркеры, стереотипные, привычные черты образа.
Для «узнавания» своего этноса нужно его соотнесение с другим, то есть необходимо наличие в зоне видимости других этносов, не похожих на свой. «Непохожесть», возможность распознавания обеспечивают так называемые этнические маркеры. Они определяют социальное поведение людей, обусловленное отношениями «этноносителей». Различение людей по этническим признакам, с которыми сцеплены главные этнические ценности, устанавливает этнические границы. Говорится, что этнос существует благодаря этнической идентичности членов группы, основой которой являются этнические границы[21].
Этническими маркерами могут быть внешние антропологические характеристики или наследственные физиологические особенности организма (например, недостаток в крови фермента, окисляющего спирт, из-за чего человек быстро пьянеет). Еще более сложными маркерами могут служить этнические психозы, присущие лишь определенным общностям (например, шизофрения у европейцев).
Как замечают этнологи, маркер может не иметь никакой «культурной ценности», он всего лишь позволяет быстро и просто различить «своих» и «чужих»[22]. И. Чернышевский полагает, что «таков генезис всех (или почти всех) значимых этнических различий. При этом [маркер] как различительный признак, как правило, обладает минимальной затратностью на его распознавание: это «цепляющая мелочь» – которая, однако, достаточно надежно маркирует границу «своего» и «чужого».
Он цитирует Ветхий завет (Книги Судей, 12, 5–6) – эпизод со словом «шибболет» (колос), которого не могли произнести ефремляне. Это незначительное этническое различие внезапно стало «вопросом жизни и смерти» (в эпизоде дано одно из первых описаний геноцида): «И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: «позвольте мне переправиться», то жители Галаадские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: скажи: «шибболет», а он говорил: «сибболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи» [13].
Этнос является носителем культурных традиций, которые выработались за долгий период адаптации к природной и социальной среде. В нем сложились и социальные механизмы поддержания этих традиций и их передачи новым поколениям. Сохраняются и этнические маркеры, служащие для быстрого обозначения этнических границ.
В советском обществоведении было принято определение, сформулированное в 70-е годы ХХ в. академиком Ю. Бромлеем: «Этнос может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)» [14, с. 58].
По сравнению с другими большими социальными общностями (классами, «стратами», сословиями) этнос является самой устойчивой группой. Это происходит потому, что передача культурных традиций в свою очередь скрепляет этнос. Этот процесс не позволяет ему рассыпаться на индивидов, он сплачивает их в более мелкие общности и порождает множественные связи между ними, так что образуются даже профессиональные категории, выполняющие функцию сохранения и передачи традиций и одновременно этнической идентичности (например, духовенство, учительство).
Критерии для проведения этнических границ и применяемые при этом маркеры различны в разных культурах, да и сами границы не являются неподвижными. Например, чернокожие граждане США, поселившиеся в Америке вместе с первыми европейскими иммигрантами и уже четыре века говорящие на английском языке, официально считаются отдельной этнической группой, и эта их идентичность сохраняется. Считается, что первопричиной ее возникновения была социальная граница между рабами и господами. Черный цвет кожи стал восприниматься как маркер, обладающий отрицательным смыслом – как клеймо (stigma) на человеке с низким социальным статусом. Напротив, в Бразилии чернокожие не считаются этнической группой, и цвет кожи не учитывается в официальных документах (например, в переписях населения).
В последние десятилетия в США ведется интенсивная работа по ослаблению этого этнического барьера и интеграции негров в американскую нацию (это наглядно отражается, например, в голливудских фильмах). Но в то же время этнические границы возникают внутри чернокожего населения. Его быстрое социальное расслоение привело к появлению новых типов идентичности. Представители среднего класса называют себя aframerican – американцы африканского происхождения. Менее образованные и состоятельные называют себя, как и раньше, black – черные. К тому же появились черные мусульмане (black Muslim), черные иудеи (black Jew) и др. [9].
Но все, о чем мы говорили выше, относится лишь к формальному обозначению видимых сторон явления этничности. Главное же – в понимании сущности явления. Где оно кроется? Как возникает? Какому миру принадлежит – миру природы или миру культуры? Именно в таком понимании этничности возникли две несовместимые концепции, которые развиваются по двум непересекающимся траекториям. Обе они корректируются и наполняются новым и новым фактическим материалом. Оба сообщества ученых, принимающих ту или иную концепции, находятся в диалоге, следят за работами друг друга и выступают друг для друга оппонентами. Здесь мы их кратко обозначим, а затем изложим каждую концепцию отдельно.
Во-первых, надо учесть, что в наших рассуждениях об обществе, в том числе об этнических общностях, мы пользуемся понятиями, заимствованными из арсенала западной, европейской философской мысли. Лишь небольшое число эрудированных специалистов знает, в каких понятиях трактовалось явление этничности в незападных культурах, тем более до заимствования ими языка и логики европейской науки. Очень трудно понять, как мыслили о племенах и народах китайцы, индусы, американские индейцы или австралийские аборигены. Читая переводы их старых книг, мы на деле читаем переложение их текстов на язык привычных нам понятий – переложение, сделанное более или менее вдумчивым и знающим переводчиком.
Вот, например, переводы рассказов китайского писателя XVII века Пу Сун-лина «Лисьи чары», одного из сокровищ китайской литературы. В русскую культуру его ввел выдающийся знаток и исследователь китайской литературы В.М. Алексеев (с 1918 г. профессор Петроградского университета, с 1929 – член АН СССР). Его замечательное предисловие само по себе есть произведение высокой культуры. Действие рассказов происходит почти на всей территории Китая, множество деталей передает социальные образы действующих лиц, но этническая сторона персонажей и их поведения полностью отсутствует.
Более того, мой отец, китаевед, выполнил в 1928 г. первый перевод на русский язык главного труда Сунь Ятсена «Три народных принципа». Я пользуюсь рукописью этого перевода. Она содержит большое количество примечаний, объяснений и предупреждений о том, что найденные наиболее близкие по смыслу русские эквиваленты в действительности вовсе не близки смыслу китайских выражений. Само название, в которое входит слово «народ», невозможно перевести кратко, поскольку составляющие его три иероглифа выражают целую систему смыслов.
Наиболее точным было бы русское название «Три народизма», и речь в книге идет о трех сторонах одной проблемы – возрождения китайского народа (или даже проблемы превращения китайцев в народ). Это была совершенно новая постановка проблемы для Китая. Чтобы спасти Китай от превращения его в периферийный придаток Запада, надо было перенять у Запада технологию создания политической нации – так же, как во времена Петра Великого России надо было перенять у Запада технологию управления и военного дела.
Язык обществоведения, которым мы пользуемся, был создан в Европе в рамках проекта Просвещения, то есть очень недавно. Это была часть того нового языка, который вырабатывало молодое буржуазное общество. В нем отразилась определенная картина мира и определенная антропология – представление о человеке. Понятно, что при переносе понятий этого языка в русскую культуру мы неизбежно принимали и сцепленные с ними неявные смыслы. В частности, антропологии нарождавшегося западного буржуазного общества была присуща жесткая натурализация (биологизация) человеческого общества. Как говорят, «социал-дарвинизм» возник гораздо раньше самого дарвинизма.
В представлениях о человеческих общностях с самого начала был силен компонент социобиологии, в разных ее вариантах. Американский антрополог М. Салинс писал: «То, что заложено в теории социобиологии, есть занявшая глухую оборону идеология западного общества: гарантия ее естественного характера и утверждение ее неизбежности» [15, с. 132].
Перенесение понятий из жизни животного мира («джунглей») в человеческое общество мы видим уже у первых философов капитализма. Это создало методологическую ловушку, о которой М. Салинс пишет: «Раскрыть черты общества в целом через биологические понятия – это вовсе не «современный синтез». В евро-американском обществе это соединение осуществляется в диалектической форме начиная с XVII в. По крайней мере начиная с Гоббса склонность западного человека к конкуренции и накоплению прибыли ассоциировалась с природой, а природа, представленная по образу человека, в свою очередь вновь использовалась для объяснения западного человека. Результатом этой диалектики было оправдание характеристик социальной деятельности человека природой, а природных законов – нашими концепциями социальной деятельности человека. Человеческое общество естественно, а природные сообщества человечны. Адам Смит дает социальную версию Гоббса; Чарльз Дарвин – натурализованную версию Адама Смита и т. д.
С XVII века, похоже, мы попали в этот заколдованный круг, поочередно прилагая модель капиталистического общества к животному миру, а затем используя образ этого «буржуазного» животного мира для объяснения человеческого общества… Похоже, что мы не можем вырваться из этого вечного движения взад-вперед между окультуриванием природы и натурализацией культуры, которое подавляет нашу способность понять как общество, так и органический мир… В целом эти колебания отражают, насколько современная наука, культура и жизнь в целом пронизаны господствующей идеологией собственнического индивидуализма» [15, c. 123, 132].
Так возникло и представление об этничности, которое господствовало в западной науке до недавнего времени. Оно получило название примордиализм (от лат. рrimordial – изначальный). Согласно этому учению, этничность рассматривается как объективная данность, изначальная характеристика человека. Иными словами, этничность есть нечто, с чем человек рождается и чего не может выбирать. Она неизменна, как пол или раса (хотя в последнее время кое-кто стал менять и пол, и расу). Этничность является органичным образованием – вещью, которая запечатлена в человеке и от которой он не может избавиться.
Что касается культурных характеристик личности, то этнические черты, согласно концепции примордиализма, оказываются базовыми элементами личности (это «сущностные структуры самой личности, являющиеся вместилищем этнической субстанции»)[23].
Начиная с 50-х годов ХХ века, в ходе распада системы колониальной зависимости и сопровождавшего этот процесс роста этнического самосознания, стал складываться иной подход к представлению этничности, названный конструктивизмом. Конструктивизм отвергает идею врожденного, биологического характера этничности. Ученые этого направления исследовали этничность как результат деятельности социальных факторов в конкретных исторических условиях. Этничность в таком представлении понималась как принадлежность человека к культурной группе. Разные ее проявления – результат творческой деятельности различных социальных агентов (государства, иных типов власти, церкви, политических и культурных элит, окружающих «простых» людей).
При таком подходе этничность можно рассматривать как процесс, в ходе которого дается интерпретация этнических различий, выбираются из материала культуры этнические маркеры, формируются этнические границы, изобретаются этнические мифы и традиция, формулируются интересы, создается (воображается) обобщенный портрет этнического сообщества, вырабатываются и внедряются в сознание фобии и образы этнического врага, и т. д. Такая этничность не наследуется генетически, ей научаются. Человек обретает этническую идентичность в процессе социализации – в семье, школе, на улице.
Глава 6. Концепции этничности: примордиализм
Начнем с примордиализма, самого старого из научных подходов к представлению об этничности. Представления об этносах как сообществах, соединенных кровно-родственными (биологическими) связями, положенные в основание примордиализма, имеют свои истоки еще в философии античности. Считается, что как современный научный подход эти представления стали складываться в начале ХХ века после работ Э. Дюркгейма о групповой солидарности[24].
Как научная дисциплина антропология и этнология возникла под давлением практических задач, возникших при становлении колониальной системы, и усилия ученых были направлены на описание и изучение неевропейских народов, находившихся под властью европейцев. Как говорят, исследования в этих науках «выполнялись европейцами для европейцев». Иногда различают этнологию как конкретно-историческое изучение отдельных народов и социальную антропологию как поиск общих закономерностей становления и развития этнических общностей.
По выражению К. Леви-Стросса, прикладная антропология родилась под сенью колониализма. Это дало основание многим авторам левых взглядов неприязненно относиться к этнологии как чему-то вроде «продажной девки империализма» (см., например, [12, с. 72–73]). Эта позиция, на мой взгляд, неразумна. Да, любая общественная наука обслуживает идеологию и власть. Но при этом (и даже именно поэтому) она получает достоверные знания и вырабатывает объективные методы познания, ценность которых далеко выходит за рамки потребностей власти. Эти знания и эти методы надо осваивать независимо от отношения к «заказчикам».
Власти США уже в 1860 г. привлекали антропологов к решению задач по управлению индейскими сообществами. Но систематически стали использовать антропологов англичане. С 1908 г. английские антропологи активно работали в Нигерии, затем в Судане по заказу колониальных властей были проведены первые этнографические исследования. В некоторых колониях была введена официальная должность правительственного антрополога[25]. В период между Первой и Второй мировыми войнами значительное число антропологов служили в МИДе и Министерстве по делам колоний Англии. С 50-х годов специалистов по антропологии и этнологии стали активно привлекать правительство и спецслужбы США для прикладных исследований в Латинской Америке, а также в разработках, связанных с войной во Вьетнаме. Это вызвало кризис в научном сообществе[26].
Накапливая большой эмпирический материал, антропологи претендовали на участие в разработке колониальной политики и становились влиятельными экспертами по проблемам управления колонизированными народами. Один из основателей английской антропологии А. Радклифф-Браун, критикуя реформаторский энтузиазм колониальных властей, говорил, что в молодости он общался с П.А. Кропоткиным, который внушил ему важную мысль: прежде чем пытаться реформировать общество, надо его изучить. Жаль, что российские реформаторы конца ХХ века к таким мыслям были глухи.
Развитие этнологии было сопряжено с острыми идеологическими проблемами и сопровождалось конфликтами. Так, в 1863 г. произошел раскол Лондонского этнологического общества в связи с расовой проблемой, обострившейся в ходе гражданской войны в США. Организатор раскола и создатель нового Антропологического общества Дж. Хант опубликовал статью «Место негра в природе», в которой представлял африканцев как отличный от европейцев вид. Это был программный манифест биологизаторства в этнологии [17].
Необходимость познания этничности с помощью научной методологии обострилась в ходе «второй волны глобализации» – империализма, когда интенсивное вторжение западного капитализма дестабилизировало традиционные общества и вызвало множество конфликтов, структуру и динамику которых было нельзя понять с помощью здравого смысла. Как считают современные этнологи, «примордиализм возник при изучении этнических конфликтов, эмоциональный заряд и иррациональная ярость которых не находили удовлетворительного объяснения в европейской социологии и представлялись чем-то инстинктивным, «природным», предписанным генетическими структурами народов, многие тысячелетия пребывавших в доисторическом состоянии» [2][27].
Быстрое развитие этнологии происходило после Второй мировой войны в период разрушения мировой колониальной системы. Шире всего исследования проводились в США. В 70-е годы считалось, что в США работали две трети специалистов в антропологии и этнологии всего мира. Они имел достаточно ресурсов, чтобы вести работы во всех частях света, к тому же и в самих США начался новый виток обострения этнических проблем.
К. Янг пишет: «Послевоенное развитие политической истории радикально трансформировало политику культурного плюрализма [этничности]. Не менее важная метаморфоза произошла в области концептуализации этого феномена со времени 1950-х годов. С того момента возникли три новых подхода в теоретических рассуждениях, которые я могу обозначить как инструменталистский, примордиалистский и конструктивистский» [2, с. 112–113].
Как указывает в обзоре западной этнологии В.В. Коротеева, среди известных ученых открыто признавали себя примордиалистами К. Гирц (Geertz) и Э. Шилз (Shils), чьи основные работы были написаны в 1950–1960 годы [18].
Начиная с 80-х годов ХХ века, когда произошло взрывное нарастание межэтнических противоречий и конфликтов во всех многонациональных государствах, исследования этничности и посвященная этому предмету литература стали быстро расширяться. Антрополог К. Вердери пишет: «В период 80-х и 90-х годов научная индустрия, созданная вокруг понятий нации и национализма, приобрела настолько обширный и междисциплинарный характер, что ей стало впору соперничать со всеми другими предметами современного интеллектуального производства» [19].
Этнолог Э. Кисс пишет об этой установке придавать этничности характер природной сущности, записанной в биологических структурах человека: «Общности, как и те значения, что мы им придаем, формируются в ходе исторического процесса… Тенденция считать нации «чем-то заданным изначально» является всего лишь иллюстрацией более общей склонности людей к натурализации (объяснению исторических процессов с точки зрения законов природы. – Прим. пер.) исторических событий… В то время как для определения человеческого рода в качестве природной категории существуют истинные биологические основания, нации являются конструкциями историческими, но все виды национализма, включая и культурный, склонны рассматривать нации в качестве естественных или, по крайней мере, очень древних коллективов. Это, однако, иллюзия» [4, с. 147].
Как говорилось выше, склонность к натурализации – важная сторона идеологии и даже мировоззрения западного общества, возникшего в Новое время («современного общества»). Американский антрополог М. Салинс даже считает это исходной («нативной», заложенной в самое основание идеологии) установкой западного представления о человеке. Он пишет в большом труде «Горечь сладости или исходная антропология Запада»: «Пожалуй, не требует доказательства тот факт, что наша фольклорная антропология склонна объяснять культуру природой. Варьируя от расизма на улицах до социобиологии в университетах, проходя через многочисленные речевые обороты повседневного языка, биологический детерминизм есть постоянный рецидив западного общества… Биологический детерминизм – это мистифицированное восприятие культурного порядка, особенно поддерживаемое рыночной экономикой. Рыночная экономика заставляет участвующих в ней воспринимать свой образ жизни результатом потребностей плоти, опосредованных рациональным посредничеством их воли» [20].
Надо сказать, что во взаимовлиянии идеологии и науки «инициатива» принадлежит как раз идеологии молодого буржуазного общества. Это видно из истории создания Дарвином его теории происхождения видов. Начав свой труд, он тесно общался с английскими селекционерами-животноводами новой, капиталистической формации, которые изменяли природу в соответствии с требованиями рыночной экономики. Приложение политэкономии к живой природе породило в среде селекционеров своеобразную идеологию с набором выразительных понятий и метафор. Находясь под влиянием этой развитой идеологии, Дарвин перенес эти «ненаучные» понятия и метафоры на эволюцию видов в дикой природе, за что критиковался своими сторонниками (как отмечали многие авторы, сам язык «Происхождения видов» побуждает прикладывать изложенные в этом труде концепции и к человеческому обществу, то есть объективно они изначально несут идеологическую нагрузку). Понятие «искусственного отбора» дало центральную метафору эволюционной теории Дарвина – «естественный отбор».
Другое мощное влияние на Дарвина оказали труды Мальтуса – идеологическое учение, объясняющее социальные бедствия, порожденные индустриализацией в условиях капиталистической экономики[28]. В начале XIX в. Мальтус был в Англии одним из наиболее читаемых и обсуждаемых автором и выражал «стиль мышления» того времени. Представив как необходимый закон общества борьбу за существование, в которой уничтожаются «бедные и неспособные» и выживают наиболее приспособленные, Мальтус дал Дарвину вторую центральную метафору его теории эволюции – «борьбу за существование» [21].
Научное понятие, приложенное к дикой природе, пришло из идеологии, оправдывающей поведение людей в обществе. А уже из биологии вернулось в идеологию, снабженное ярлыком научности. Историк дарвинизма Дж. Говард пишет: «После Дарвина мыслители периодически возвращались к выведению абсолютных этических принципов из эволюционной теории. В английском обществе позднего викторианского периода и особенно в Америке стала общепринятой особенно зверская форма оправдания социального порядка, социал-дарвинизм, под лозунгом Г. Спенсера «выживание наиболее способных». Закон эволюции был интерпретирован в том смысле, что победа более сильного является необходимым условием прогресса» (см. [22]).
Как только в России был взят курс на построение буржуазного общества, в общественное сознание также стали внедряться, через СМИ, систему образования и художественные произведения, биологизаторские представления о человеческом обществе. Эта программа была форсированной и быстро вовлекла в себя даже ту часть идеологизированных ученых, которые в своей узкой области этот подход отвергают. Так, директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков, в 1992 г. бывший Председателем Госкомитета по делам национальностей в ранге министра, в интервью в 1994 г. утверждает: «Общество – это часть живой природы. Как и во всей живой природе, в человеческих сообществах существует доминирование, неравенство, состязательность, и это есть жизнь общества. Социальное равенство – это утопия и социальная смерть общества» [23]. Этот идеологический тезис, в котором натурализация общества доведена до гротеска, примечателен тем, что в этнологии, специалистом в которой и является В.А. Тишков, он отвергает примордиализм.
Примордиалистов разделяют на два направления: социобиологическое и эволюционно-историческое.
С точки зрения социобиологии этнос есть сообщество особей, основанное на биологических закономерностях, преобразованных в социальные. Биологический примордиализм был характерен для романтической немецкой философии с ее мифом «крови и почвы», от нее он был унаследован и основоположниками учения марксизма. Как считает В. Малахов, среди серьезных ученых примордиалистов такого рода «в настоящее время очень немного» и столь примитивный примордиализм «давно уже стал пугалом для критики» [24].
Тем не менее, миф крови время от времени реанимируется даже в среде элитарных интеллектуалов. Так, историк и политолог, эксперт «Горбачев-фонда» В. Д. Соловей пишет: «Русскость – не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость – это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости» [25, с. 306].
В. Д. Соловей изобретает доктрину, совершенно противоречащую традиционным русским представлениям. В. В. Кожинов в статье «Русская идея» в журнале «Диалог» пишет: «Традиция самоопределять себя не по крови, а по культуре и государственной принадлежности дала на Руси поразительные примеры. Возьмем две такие грандиозные фигуры ХVII века, как патриарх Никон и идеолог старообрядчества протопоп Аввакум. И тот, и другой были чистокровными мордвинами, но относили себя к русским – так же, как русским считал себя грузин князь Багратион – один из славнейших героев Отечественной войны 1812 года… Князь Игорь, о котором идет речь в «Слове о полку Игореве», был на три четверти половец и, конечно же, говорил в детстве на половецком языке, потому что мать и бабушка его были половчанками… В жизни все было сложнее, чем на картине Ильи Глазунова, где с одной стороны мы видим белокурого русского князя Игоря, а с другой – его противника косоглазого половца».
С.Н. Булгаков видит в «мифе крови» отзвуки ветхозаветных представлений об этничности. Он пишет: «Субстратом расы, как многоединства, для расизма является кровь. Основное учение именно Ветхого Завета о том, что в крови душа животных (почему и возбраняется ее вкушение), в известном смысле созвучно идее расизма. Раса мыслится не просто как коллектив, но как некая биологическая сущность, имманентная роду» [26].
Булгаков пытается дать богословское доказательство ложности сведения этничности к биологическим различиям (различиям «крови»). Он пишет далее в своем трактате: «Допустим ли и в какой мере национализм в христианстве? Что есть народность?.. Библейской антропологии, как ветхо– так и новозаветной неустранимо свойственна эта идея многообразия человечества, не только как факт, но и как принцип… Однако, это не только не представляет противоположности единству человеческого рода, но его раскрытие и подтверждение: не множественность кровей и их «мифа», как это следует согласно доктрине расизма, раздробляющей человечество на многие части и тем упраздняющей самую его идею, но именно обратное: единство человеческого рода, как единство человеческой крови. Это прямо выражено в одном из самых торжественных апостольских свидетельств, – в речи ап. Павла в афинском Ареопаге, этом духовном центре язычества: «от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Д. Ап. XVII, 26) [там же].
Представители эволюционно-исторического направления в примордиализме рассматривают этнос скорее как общность, в которой взаимная привязанность достигается воздействием социальных условий, а не ходом биологического развития, но закрепляется жестко. Один из основателей этого направления Э. Смит определяет этнос как «общность людей, имеющих имя, разделяющую мифы о предках, имеющую совместную историю и культуру, ассоциированную со специфической территорией и обладающую чувством солидарности».
В своей радикальной форме примордиализм трактует «этнос как биосоциальное явление, соединяющее естественную природу с обществом». При этом указывают на тот факт, что общности, из которых возникают этносы – род и племя, – представляли собой «расширенные семьи», продукт развития кровнородственных связей. Отсюда следовало, что этнос – кровнородственное сообщество и потому соединяющие его связи имеют биологическую природу[29].
Против такой трактовки есть сильный фактический довод: далеко не все народы прошли в своем развитии через этап родового деления. Л.Н. Гумилев приводит большой перечень таких народов и делает вывод: «Многие этносы делятся на племена и роды. Можно ли считать это деление обязательной принадлежностью этноса или хотя бы первичной стадией его образования или, наконец, формой коллектива, предшествовавшей появлению самого этноса? Имеющийся в нашем распоряжении достоверный материал позволяет ответить – нет!» [27, с. 79].
Он приводит случаи, когда этническая общность очевидно соединялась независимо от развития кровнородственных связей: «Случается, что религиозная секта объединяет единомышленников, которые, как, например, сикхи в Индии, сливаются в этнос, и тогда происхождение особей, инкорпорированных общиной, не принимается во внимание» [27, с. 78][30].
Гипотеза о том, что этносы складываются на основе кровного родства, вытекает из тех представлений о происхождении человека (антропогенезе), которые бытовали на раннем этапе развития эволюционного учения. Тогда считалось, что в течение длительного исторического периода люди жили в форме первобытного стада – пока не научились производить орудия труда и труд не «создал человека». Если не видеть иных воздействий культуры на антропогенез, кроме производства, то длительное существование в полуживотном состоянии стада кажется правдоподобным.
Энгельс пишет П.Л. Лаврову (12 ноября 1875 г.): «Существенное отличие человеческого общества от общества животных состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, тогда как люди производят. Уже одно это – единственное, но фундаментальное – различие делает невозможным перенесение, без соответствующих оговорок, законов животных обществ на человеческое общество» [28]. Но эта модель неверна, ибо исключает гораздо более мощные факторы антропогенеза. Сам Дарвин писал в «Происхождении человека»: «Из всех различий между человеком и животными самое важное есть нравственное чувство, или совесть». Но если есть совесть – нет стада.
Идея о том, что этнические общности, даже на уровне племени, соединяют людей, обладающих «стадным сознанием», проводится Марксом и Энгельсом сознательно и настойчиво. В «Немецкой идеологии» они пишут: «Сознание необходимости вступать в сношения с окружающими индивидами является началом осознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени; это – чисто стадное сознание, и человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или что его инстинкт осознан. Это баранье, или племенное, сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту населения» [29, с. 30].
Это представление неверно, племенное сознание – это сознание религиозного, нравственного и разумного человека, никаким первобытным стадом племя не было. Развитие органов и способностей, присущих только человеку и выделяющих его из животного мира (руки, гортани, мозга – а значит, членораздельной речи, разума и нравственности), произошло скачкообразно, в результате кооперативного (синергического) взаимодействия этих способностей. Например, рука человека стала способна изображать графические символы и образы параллельно с развитием словесного языка.
Конечно, это была эволюция, но по своей скорости она настолько отличалась от биологической эволюции животных видов, что можно говорить о моментальном, революционном превращении стадных (социальных) животных в человека. Исходя из общих соображений, даже не привлекая специальные знания об антропогенезе (происхождении человека), можно сказать, что превращение стада обезьян в общность людей было процессом крайне неравновесным. Когда зачатки нравственности, которые имеются у всех социальных животных, складывались в систему, обладающую кооперативными эффектами, решающий конфликт между «человеком» и «животным» происходил в течение дня или даже минуты. За «безнравственное поведение» кто-то изгонялся из стада.
Печальная судьба изгоя сразу ставила всех перед экзистенциальным выбором – подчиниться нормам нравственности или следовать животным инстинктам с риском стать изгоем. Это уже был вопрос жизни и смерти особи. Так медленная биологическая эволюция ускорялась на много порядков искусственным отбором с помощью фильтра культуры и силы власти («вожака и его дружины»). Та часть стада, которая генетически еще была не готова стать людьми, изгонялась. Потомство давали уже люди, которые кроме генов передавали своим детям уроки, полученные при сценах наказания или изгнания «безнравственных». Человеческая общность, грубо говоря, возникала за одно поколение. Длительное существование «стада полуживотных» как устойчивой системы можно представить себе только если вернуться к тому крайнему механицизму, которым отличался классический исторический материализм, мыслящий лишь в понятиях линейных равновесных процессов.
Нравственность возникла у человека скачкообразно, по историческим меркам моментально. В этом смысле верным является именно религиозное представление – человек был буквально сотворен. Его пребывание в состоянии человека-зверя было столь кратковременным и аномальным, что считать его особым историческим этапом нельзя. В историческом масштабе времени первобытного стада как типа общности не существовало.
Крупнейший американский лингвист, философ и антрополог Ф. Боас в одной из важнейших своих работ «Ум первобытного человека» (1911) показал, что между интеллектуальными возможностями цивилизованного человека и «дикаря» нет значимых различий – ум первобытного человека был столь же совершенной машиной, что и сегодня [30, с. 257][31].
Однако в советское обществоведение вошло представление Энгельса о человеке-звере. В основном учебнике исторического материализма сказано: «Прямые предки человека – ископаемые человекообразные обезьяны – были стадными животными. Выделение человека из животного мира произошло в рамках определенного коллектива. Этим коллективом было первобытное стадо. Исследователи первобытного общества рассматривают его как переходную форму.
Первобытное стадо объединяло людей, которые производили орудия труда и использовали их для добывания средств к существованию и защите от опасности. Здесь, видимо, существовала простая кооперация и разделение труда по полу и возрасту. Первобытные люди трудились и защищали себя от внешних опасностей сообща, и это было необходимым условием их существования и развития. Здесь уже начали действовать социальные закономерности.
Но вместе с тем в первобытном стаде были еще сильны остатки животного состояния и наряду с социальными действовали и биологические законы Первобытное стадо существовало сотни тысяч лет, пока происходило формирование труда, общества и становление физического облика современного человека… Весьма низкий уровень производства, скудость средств существования и большая зависимость от природных условий приводили к тому, что первобытное стадо, которое было, очевидно, довольно неустойчивым образованием, распадалось и возникало вновь, а численность его была незначительной.
Таким образом, первобытное стадо было самой ранней, первоначальной переходной формой общности, в рамках которой происходило становление человека. Оно возникло, когда человек выделился из животного мира, начав производить орудия труда, и существовало вплоть до завершения видовой эволюции человека и появления человека современного типа» [31, с. 232].
Это видение противоречит данным антропологии. Первобытный человек, собиратель и охотник, вовсе не испытывал «скудость средств существования», он жил в обстановке изобилия, поскольку еще не имел развитых социально обусловленных («престижных») потребностей. Это был именно «золотой век» – у человека оставалось много времени для созерцания, размышления и общения. И люди сразу стали сплачиваться в общности по культурному родству, а не по физическому. Это значит, этническая дифференциация наступила с первых же моментов пробуждения человеческого разума.
Советская этнология пошла по другому пути, она по сути приняла утвержденную в историческом материализме модель истории человечества как смены формаций – и привязала стадии этногенеза к формациям. Первобытное стадо – общность без каких-либо этнических черт, первобытно-общинный строй – род и племя, феодальный строй – народ, капиталистический строй – буржуазная нация, социалистический строй – социалистическая нация, коммунизм – слияние наций в единую мировую общину. Соответственно, Ю.В. Бромлей пишет: «Рассмотрение этнической проблематики в исторической перспективе позволяет констатировать наличие в истории рода человеческого безэтнического периода. Возникновение этнических общностей относится лишь к периоду развитого первобытного (бесклассового) общества» [14, с. 386].
Представление о том, что общности людей существовали длительное время в безэтническом состоянии, связанные биологически (кровью), имело важные последствия – оно во многом определило приверженность к примордиализму, к натурализации этнических связей. Ю.В. Бромлей кладет это представление в основу своего труда, утверждая уже в самом его начале: «Первое объединение людей – первобытное стадо – еще не представляло подлинного социального организма. Будучи формой, переходной между зоологическим объединением, с одной стороны, и «готовым» человеческим обществом – с другой, оно представляло собой биосоциальное образование» [14, с. 34].
Изучение сохранившихся памятников существования первобытного человека (а это продукты материальной культуры) позволили антропологу А. Леруа-Гурану сделать принципиально иное утверждение, – что первобытный человек не мог жить ни стадами, ни в одиночку, а только в тех общественных формах, какие известны и теперь [32, с. 201]. С момента выхода из животного состояния жизнь человека была основана на семье, а семьи собирались в этнические общности.
Если так, то это служит общим доводом против представления этноса как продукта развития кровнородственных связей. Родственные связи в человеческом обществе наполняются качественно иным смыслом, чем у животных. Уже семья человека, наделенного разумом и нравственностью, есть продукт культуры, а уж тем более таковым является соединение семей в род. Под воздействием культуры смысл и значение кровнородственных связей меняются до неузнаваемости. Одно дело – семья в китайской культуре, другое – кровнородственные связи в нынешнем чеченском тейпе, когда в ходе глубокого кризиса опять стали очень важны семейно-родовые общности. На наших глазах всего за 30 лет в ходе форсированной урбанизации изменилась система родственных связей в русских городских семьях. Эти связи и слабее, и уже, чем в деревенских семьях первой половины ХХ века, однако все еще сильны и многообразны.
Но вот какое ослабление семейных связей произошло, например, в ходе протестантской Реформации в части англо-саксонских народов. Макс Вебер посвящает этой стороне дела очень большое внимание. Он пишет: «Эта отъединенность является одним из корней того лишенного каких-либо иллюзий пессимистически окрашенного индивидуализма, который мы наблюдаем по сей день в «национальном характере» и в институтах народов с пуританским прошлым, столь отличных от того совершенно иного видения мира и человека, которое было характерным для эпохи Просвещения» [33, с. 144]. Эта религиозная проповедь, распространяемая в массовой литературе, оказывала на людей вполне реальное воздействие, которое резко ослабляло кровнородственные связи как инструмент для соединения человеческих общностей.
Таким образом, «естественные» узы в человеческих сообществах действуют в соответствии с культурными нормами, которые складываются в конкретном сообществе в конкретную историческую эпоху. В силу множества не поддающихся измерению причин в Швейцарии и Англии исключительное влияние получила проповедь Кальвина с его учением о предопределенности – и рассыпаются в прах родственные связи. Значит, даже такие связи конструируются и демонтируются. Тем более это справедливо по отношению к связям этническим, то есть не прямым семейным, а воображаемым.
Тем не менее Л.Н. Гумилев представляет становление этнической общности как разновидность биологической эволюции (отводя роль главного природного фактора не кровным связям, а ландшафту). Он пишет: «Этносы возникают и исчезают независимо от наличия тех или иных представлений современников. Значит, этносы – не продукт социального самосознания отдельных людей, хотя и связаны исключительно с формами коллективной деятельности людей… Итак, биологическая эволюция внутри вида Homo saрiens сохраняется, но приобретает черты, не свойственные прочим видам животных. Филогенез преображается в этногенез» [27, с. 233]. Об этом течении в примордиализме будет сказано ниже.
Главное в примордиализме то, что он придает этничности смысл онтологической сущности – всеобщей сущности бытия, сверхчувственной и сверхрациональной. В важной статье А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев пишут: «Примордиализм онтологизирует этничность, описывает ее через «объективные характеристики», хотя различные примордиалистские версии весьма расходятся в трактовке специфики и содержания этих объективных характеристик. Они могут быть как биологическими и психологическими («уровень пассионарности», коллективные архетипы), так и социальными или историческими (местоположение на «цивилизационных платформах» или в «общественно-экономических формациях»)» [34].
Способом научного познания, которым пользуется примордиализм, является методологический эссенциализм (от лат. essentia – сущность) – метод, имеющий своей целью открытие истинной «природы вещей». В крайнем случае приверженцы примордиализма доходят до буквального овеществления этничности, считая ее материальной субстанцией, включенной в структуры генетического аппарата человека.
Смысл сущностного подхода в том, что этничность понимается как вещь, как скрытая где-то в глубинах человеческого организма материальная эссенция (скрытая сущность)[32]. Условно говорят, что она находится в крови, но это не следует понимать буквально. В Средние века говорили «плоть», и это было менее претенциозно, хотя и не так зловеще. Интереса к поиску этой субстанции научными методами приверженцы этого подхода не проявляют. Зачем? Ее существование есть для них самоочевидная истина.
В. Малахов говорит о примордиализме так: «Условно говоря, этот тип мышления называется эссенциализмом… Неразлучная спутница эссенциализма – интеллектуальная процедура, которая в философии науки называется гипостазирующей реификацией. Гипостазирование, – это принятие предмета мыслимого за предмет как таковой, а реификация – это принятие того, что существует в человеческих отношениях, за нечто, существующее само по себе. Если гипостазирование – это превращение мысли в вещь, то реификация – это превращение отношения в вещь. В любом случае и то и другое предполагает овеществление того, о чем мы мыслим» [6].
В последние десятилетия биологический примордиализм сдал свои позиции. Видный этнолог Р. Брубейкер утверждает: «Сегодня ни один серьезный исследователь не придерживается мнения, рутинным образом приписываемого карикатурно изображаемым примордиалистам, будто нации или этнические группы суть изначальные, неизменные сущности. То, что я критикую, – это не соломенное чучело примордиализма, но более убедительная субстанциалистская позиция сознания, приписывающая реальное, устойчиво длящееся существование нациям, как бы они при этом ни воспринимались» (см. [6]).
Этого же мнения придерживаются А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев, которые исследуют межэтнические отношения на постсоветском пространстве. Они пишут: «Современный примордиализм отходит, конечно, от примитивного повествования о врожденных, извечно существующих, внеисторических силах, которые лишь манифестируют себя в предсказуемой возне своих социальных марионеток – групп, масс, людей, политиков, элит. Он лишь полагает, что «социальное движение», например, политизация этничности и вызревание протонаций, будет носить весьма определенный характер потому-то и потому» [34].
Дж. Комарофф, напротив, удивляется не тому, что исследователи отходят от представлений примордиализма, а тому, что этот отход происходит медленно: «Поразительным здесь является живучесть этого теоретического репертуара, претерпевшего за последние двадцать лет удивительно мало изменений, несмотря на многочисленные доказательства очевидной беспомощности большей части его подходов. Сколь много еще раз, например, придется доказывать, что все случаи этнического самосознания созданы историей, прежде чем примордиализм будет выброшен на свалку истории идей, к которой он и принадлежит. Вероятно, только ирония может оказаться способной смыть его раз и навсегда» [8, с. 39].
Рассуждения на этнические темы в категориях примордиализма легко идеологизируются и скатываются к расизму, так что в обзорных работах антропологи стараются отмежеваться от «экстремальных форм, в которых примордиализм забредает в зоопарк социобиологии» (К. Янг). Здесь, кстати, надо сказать об уже давно установленной и в настоящее время общепринятой вещи – раса и этничность суть разные категории. В некоторых ситуациях расовые признаки могут служить грубым маркером этнической принадлежности (например, если мы знаем, что перед нами француз и китаец).
Но в общем случае надо учитывать, что расы полиэтничны, а многие этносы сложились из людей разных рас. 45 % современного человечества составляют группы, смешанные в расовом отношении или включающие в себя представителей разных рас. Например, в ряде стран Латинской Америки большинство граждан родились от смешанных браков между людьми разных рас. Среди кубинцев примерно половина негров и мулатов, в середине 60-х годов ХХ века в Панаме 61 % населения были метисами, в Сальвадоре 77 %, в Парагвае 92 %[33].
Несмотря на вышесказанное, многие этнологи считают, что идеи примордиализма вовсе не «выброшены на свалку истории». В. Малахов в одной дискуссии так выразил свои впечатления: «Я особенно хорошо знаю немецкоязычную ситуацию и вижу, с какой гигантской симпатией они относятся к нашим работам, занимающимся конкретными исследованиями, особенно если те (а это обычное дело) исходят из эссенциалистской и даже примордиалистской методологии… Там, кстати, наряду с убежденными примордиалистами спекулятивного, так сказать, плана, есть и примордиалисты органицистского, биологистского толка. Петер ван ден Берге, например. Это исследователь, который фактически сводит этничность к генам. По его теории этническая группа обречена на воспроизводство в своем поведении и мышлении тех образцов, которые заложены в генотипе ее членов» [6].
Тем не менее даже среди ученых, принимающих концепцию примордиализма, изначальной данностью большинство все же считает не кровь, а запечатленные в младенчестве культурные структуры. К. Янг пишет: «Человеческие существа рождаются как несформировавшиеся до конца животные, реализующие себя через создаваемую ими культуру, которая и начинает играть роль примордиальной «данности» в общественной жизни. Барт усматривает суть самосознания в наборе ключевых значений, символов и основных ценностных ориентаций, через которые данная группа осознает свое отличие от «других»; граница – это ядро сознания. Для Кейеса примордиальные корни этничности «берут начало из интерпретации своего происхождения в контексте культуры» [2, с. 115].
Действительно, человек рождается в семье, где его окружают люди определенной этнической группы. Уже младенцем он включается в этническое пространство: его окружают предметы, присущие культуре данного этноса (одежда, украшения, утварь и т. д.), люди вокруг него говорят на языке, который становится для него родным, когда он сам еще не научился говорить. Это человеческое и культурное окружение становится для ребенка «защитным коконом» (как говорят, онтологической системой безопасности). Ребенок, еще не умея говорить, преодолевает страх перед неопределенностью благодаря этой защите, у него возникает чувство доверия к «своим». Его принадлежность к своему этносу воспринимается как изначальная, как примордиально данная. Таким образом, обыденное сознание людей проникнуто примордиализмом.
Дж. Комарофф пишет: «Достигнув завершенности и объективированности, этническое самосознание обретает большую значимость для объединяемых этой идеей людей, вплоть до такой степени, что оно начинает казаться им естественным, сущностным и изначально данным. Здесь уместна метафора, предложенная Марксом: будучи построенным, здание, которое прежде существовало исключительно в воображении его конструктора – всегда архитектора, а не пчелы – приобретает несказанную материальность, качества объективности и обжитости, несмотря на то, что оно может быть и демонтировано» [8, с. 43].
В условиях кризиса и нестабильности общества и государства этничность становится самым эффективным и быстрым способом политической мобилизации. Обращение к «крови», к солидарности «родства» легко воспринимается сознанием, сильно действует на чувства и будит коллективную память. Поэтому политик, вынужденный решать срочные задачи, почти всегда говорит на языке примордиализма. Иначе он не найдет общего языка с «простым человеком», который является прирожденным примордиалистом – потому что застает социальную реальность в ее уже готовой этнической форме.
Как пишут, в разных выражениях, этнологи, политик имеет перед собой социальное пространство с уже обозначенными, устоявшимися групповыми границами «этнических организмов». Люди мыслят социальную реальность так, как если бы она была «объективной» – психологической или даже биологической. Политик, даже зная, что это обыденное понимание этничности неверно, не имеет в момент кризиса времени и возможности вести теоретические дискуссии и пытаться перестроить язык понятий, на котором мыслят противоборствующие группы. Он приспосабливается к этому языку.
Это, в свою очередь, побуждает интеллектуалов, «обслуживающих» разные политические течения, не просто принимать язык примордиализма, но и творчески развивать его, усиливать, насыщать образами и «историческими фактами». Например, американский политолог Хантингтон в книге 1996 г. предсказывает «столкновение цивилизаций», якобы вызванное различием иррациональных культурных представлений Запада и исламского мира, возникших в незапамятные времена. Так образуется порочный круг, объясняющий господство примордиализма и в массовом сознании, и в сознании политизированной интеллигенции.
Судьба этого представления об этничности в российском дореволюционном и советском обществоведении была сложной. От западной консервативной мысли русский образованный слой воспринял примордиалистское представление о божественном происхождении народов. На умы просвещенной элиты повлиял видный мыслитель Ж. де Местр, который, скрываясь от Французской революции, долго прожил в Петербурге.
В концепции де Местра народ – ключевое понятие. Он считал, что внешние эмпирические признаки, определяющие сообщество людей как народ, лишь выражают скрытые глубокие ценности трансцендентального, потустороннего характера. «Народ обладает всеобщей душой и неким подлинным моральным единством, которое и приводит к тому, что он есть то, что есть», – писал де Местр.
В этом представлении возникновение народа – «чудо», «тайна». Вождь-праотец в гениальном озарении осознает и сообщает людям общности ее характер, ее душу, которая содержится в общности, как дерево в семени. Бог создает народ, как создал он растения и животных, он изначально наделяет народ присущим ему набором черт, которые находятся в потенции и разворачиваются в процессе развития (если позволят условия и появится основатель народа, осознавший характер народа и нашедший средства для его развития). Но характер народа «всегда один и тот же», изменить его не дано. Поэтому народ, например, не может надолго приобрести права помимо тех, которые соответствуют его «естественной конституции» (например, не для всех народов подходит состояние политической свободы). То, что связывает людей в народ, происходит из внерациональных источников [35].
С антиклерикальными идеями Просвещения русская интеллигенция ХIХ века восприняла и примордиалистскую тенденцию к натурализации человеческого общества. При этом быстрое распространение в среде интеллигенции атеизма ослабило нейтрализующее воздействие православия с его всечеловечностью. Это укрепило в образованном слое России неосознанную уверенность в «естественном» происхождении языков и народов.
Так, например, психиатр и «теоретик русского национализма» И.А. Сикорский (отец известного авиаконструктора) писал в 1895 г.: «Черты народного характера, его достоинства и недостатки передаются нисходящим поколениям: через тысячи лет в данной расе мы встречаем те же особенности народного характера» [36].
В этом же направлении действовал и политический фактор – демократическая часть интеллигенции видела в нерусских народах Российской империи союзника в борьбе против монархии и поддерживала идеологический примордиализм национальных элит. Именно на примордиализме культивировался этнический национализм элит, который помог расчленить Российскую империю в 1917 г., привел к затяжной гражданской войне на окраинах России, местами был актуализирован в его антисоветской версии во время Отечественной войны, а затем в полной мере был использован против СССР в годы перестройки и в настоящий момент используется против РФ.
Когда правящие круги Польши и Австро-Венгрии начали «конструировать» на основе русофобии национальное самосознание части нынешних украинцев (в Галиции), к этой кампании присоединились и влиятельные круги либерально-демократической интеллигенции в столице России. Предводитель украинского масонства историк Грушевский печатал в Петербурге свои политические этнические мифы, нередко совершенно фантастические, но виднейшие историки из Императорской Академии наук делали вид, что не замечают их.
Историк-эмигрант Н.П. Ульянов пишет в книге «Происхождение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 1966): «Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Существовал неписаный закон, по которому за самостийниками признавалось право на ложь. Разоблачать их считалось признаком плохого тона, делом «реакционным», за которое человек рисковал получить звание «ученого-жандарма» или «генерала от истории» (главы из книги Н.П. Ульянова опубликованы в [37]). Именно в среде демократической интеллигенции был создан и мощный политический миф о России как «тюрьме народов», который поддерживается в разных формах уже более ста лет. Наличие такого «черного мифа» – необходимое условие для сплочения этноса на основе примордиализма.
В просвещенной, тем более западнической российской элите в начале ХХ века, как уже писалось выше, произошел сдвиг к социал-дарвинизму и даже расизму, хотя он и проявлялся очень редко, в критических ситуациях типа войн и революций. И.А. Сикорский в своей лекции «Характеристика черной, желтой и белой рас в связи с вопросами русско-японской войны» (Киев, 1904) утверждал: «В современной русско-японской войне мы имеем дело с событиями и условиями, совершенно отличными от тех, с какими европейские народы привыкли иметь дело… Мы стоим в настоящую минуту лицом к лицу с крупным биологическим событием, которое выяснилось и поднялось во всей своей жизненной силе. Русский народ, по общему признанию даже народов Западной Европы, явился бесспорным распространителем европейской культуры среди народов желтой расы. Главным фактором здесь является глубокая биологическая основа… Антропологические исследования, произведенные над населением Сибири, показали, что русскими уже порядочно распахана биологическая нива сибирских инородцев: повсюду возникло от смешанных браков здоровое, крепкое, духовно одаренное население, впитавшее в себя русскую душу и русский народный дух, словом – обнаружился великой важности факт плодотворного усвоения инородческим населением биологических и нравственных черт русского народного гения. Среди этой молчаливой великой работы природы, при полном развитии мирного процесса, японец стремительно врывается в спокойное течение широких событий и хочет повернуть гигантское колесо жизни в другую сторону. При первой вести об этом русский народ почуял в себе биение исторического пульса и встал как один человек на защиту своего исторического призвания – вливать свои здоровые соки в плоть и кровь, в нервы и душу монгольских племен, для которых он является высшей духовной и биологической силой» [38].
Примордиализм был включен и в модель исторического процесса, созданную Марксом и Энгельсом (исторический материализм). В этой модели главными социальными действующими силами являются классы, этническая сторона человеческих общностей специально не обсуждается, но в неявной форме примордиализм присутствует в трактовке этничности.
Понимание этничности в духе примордиализма укоренилось и в советском истмате, в общем, без всякой рефлексии (хотя идеи социал-дарвинизма были отброшены). Просто продолжили следовать представлениям, бытовавшим в кругах левой интеллигенции во второй половине ХIХ века. С.Н. Булгаков писал об этих представлениях: «Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы, которая занимала умы только славянофилов, довольствуясь «естественными» объяснениями происхождения народности (начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной проблемы, до современных марксистов, без остатка растворяющих ее в классовой борьбе)» [39, с. 171].
Исходя из господствующих тогда представлений примордиализма трактовали понятие народа и евразийцы 20-х годов, работы которых оказали большое влияние на теоретические установки советской элиты сталинского периода. Евразиец Л. Карсавин писал о народе как едином теле, биологизируя этот тип человеческой общности: «Можно говорить о теле народа… Мой биологический организм – это конкретный процесс, конкретное мое общение с другими организмами и с природой… Таким же организмом (только сверхиндивидуальным) является и живущий в этом крае народ. Он обладает своим телом, а значит всеми телами соотечественников, которые некоторым образом биологически общаются друг с другом» [40]. Конечно, здесь термины «тело», «биологический организм» употреблены как метафоры, но выбор метафор, тем более таких жестких, отражает укорененные представления.
Почти в неизменном виде было воспринято из марксизма и представление о нации, положенное в основу национальной политики СССР. И.В. Сталин еще в 1913 г. сформулировал определение, которое стало в СССР официальным: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [41].
Этнолог К. Нагенгаст пишет об этом общем для Европы того времени воззрении: «Пользующиеся терминами «нация» и «национализм» обнаруживают склонность считать их значения само собой разумеющимися, исконными, освященными практикой и неоспоримыми. Сложившееся положение говорит очень многое об их легитимизирующей силе и ведущей роли в современном мире. Однако практически все из наиболее проницательных специалистов-теоретиков в данной области сходятся во мнении, что эти термины принадлежат к тому слою современных понятий, которые служат делу идеологического оправдания и политической легитимизации определенных представлений о территориальном, политическом и культурном единстве.
Будучи необходимыми для процессов внутренней интеграции новых европейских государств, подобного рода понятия были порождены эпохой Возрождения, временами колониальной экспансии, религиозных войн и либерального буржуазного капитализма. Другими словами, именно потребность современного государства в интегрированности населения положила начало идеологии национализма, которая в свою очередь создала нацию. Как отмечал Эрик Хобсбаум, не нация создала государство, а государство породило нацию» [3, с. 177].
В позднее советское время обе альтернативные концепции этничности – и официальная теория этноса Ю.В. Бромлея, и теория этногенеза Л.Н. Гумилева – сходились в своем примордиализме. Согласно взглядам Ю.В. Бромлея, этнос – социальная группа, характеризующаяся присущими ей устойчивыми этническими свойствами, которые сформировались в конкретных природных, социально-экономических, государственных условиях. Здесь не выделяется какого-либо особого биологического и вообще природного фактора, предопределяющего этногенез, – этничность задается всем комплексом условий, который складывается объективно, «естественно». Сейчас считается, что подход Ю.В. Бромлея является этноцентричным, он сводит национальное к этническому.
Л.Н. Гумилев представляет социобиологическое направление в примордиализме и рассматривает этнос как биологическое сообщество вида Homo Saрiens, включенное в конкретный биогеоценоз. Он подчеркивает, что этнос есть «естественно сложившийся коллектив людей» и пишет: «Этнос – коллектив особей, противопоставляющих себя всем прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет… Поскольку это явление повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной» [42, с. 41].
При этом, в отличие от приверженцев крайнего биологического примордиализма Л.Н. Гумилев отрицает генетическую передачу этнических признаков (через «кровь»): по его словам, «нет человека вне этноса, кроме новорожденного младенца». Один этнос отличается от другого «своеобразным стереотипом поведения». Иными словами, речь идет об этничности как проявлении именно социальных характеристик. Л.Н. Гумилев пишет: «Феномен этноса – это и есть поведение особей, его составляющих. Иными словами, он не в телах людей, а в их поступках и взаимоотношениях… Именно характер поведения определяет этническую принадлежность».
Примордиализм учения Л.Н. Гумилева об этногенезе заключается прежде всего в том, что этнические свойства, по его мнению, жестко задаются общности природным фактором, который он называет этническим полем.
Он пишет: «Скажем прямо – в природе существует этническое поле, подобное известным электромагнитным, гравитационным и другом полям, но вместе с тем отличающееся от них. Проявляется факт его существования не в индивидуальных реакциях отдельных людей, а в коллективной психологии, воздействующей на персоны… Из факта целостности групп и их единства, выражающегося в единстве их строения и поведения в эволюционном процессе, мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координирующие этот процесс. Поля эти можно назвать филогенетическими» [27, с. 291].
Таким образом, речь идет о воздействии столь сильном, что оно предопределяет строение групп, их коллективную психологию и поведение. Это воздействие филогенетическое, то есть задающее свойства и будущее развитие общности.
Л.Н. Гумилев не представляет ясно природы этнического поля, изложение его метафорично. Однако он считает, что гипотеза эта настолько сильна, что следуя ей можно интерпретировать «весь собранный этнологический материал». Он пишет: «Поле организма – это продолжение организма за видимые его пределы, следовательно, тело – та часть поля, где частота силовых линий такова, что они воспринимаются нашими органами чувств. Ныне установлено, что поля находятся в постоянном колебательном движении, с той или иной частотой колебаний… К кругу вибраций, влияющих на человека, относятся колебания активности органов, суточные, месячные, годовые и многолетние, обусловленные влиянием Солнца, Луны, изменениями геомагнитного поля и другими воздействиями внешней среды. Одного этого наблюдения достаточно для интерпретации всего собранного этнологического материала…
Исходя из приведенных данных, ясно, что определенная частота колебаний, к которой система (в нашем случае – этническая) успела приспособиться, является для нее, с одной стороны, оптимальной, а с другой – бесперспективной, так как развиваться ей некуда и незачем. Однако ритмы эти время от времени нарушаются толчками (в нашем случае – пассионарными), и система, перестроенная заново, стремится к блаженному равновесию, удаляя элементы, мешающие данному процессу. Таким образом, на уровне этноса наблюдается причудливое сочетание ритмов и эксцессов, блаженства и творчества, причем последнее всегда мучительно» [27, с. 293–294].
При таком взгляде этнические контакты выглядят как взаимодействие полей с разными ритмами. Л.Н. Гумилев пишет: «Принцип, характерный для всех этносов, – противопоставление себя всем прочим («мы» и «не мы»), находящийся в непосредственном ощущении, с предложенной точки зрения может быть истолкован просто. Когда носители одного ритма сталкиваются с носителями другого, то воспринимают новый ритм как нечто чуждое, в той или иной степени дисгармонирующее с тем ритмом, который присущ им органически. Новый ритм может иногда нравиться, но несходство фиксируется сознанием как факт, не имеющий объяснения, но и не вызывающий сомнения. А проявляются ритмы этнического поля в стереотипе поведения, как уже было сказано, неповторимом» [27, с. 294].
Очевидно, что эта концепция проникнута эссенциализмом. Передача этничности не требует участия генетического аппарата («крови»), но сама этничность представляет собой вещь, нечто вроде вибратора, излучающего колебания определенной частоты за пределы человеческого тела.
В этом ключе Л.Н. Гумилев так объясняет этнизирующее влияние матери на новорожденного: «Поскольку в основе этнической общности лежит биофизическое явление, то считать его производным от социальных, экологических, лингвистических, идеологических и т. п. факторов нелепо.
И теперь мы можем ответить на вопрос: почему «безнациональны», т. е. внеэтичны, новорожденные дети? Этническое поле, т. е. феномен этноса как таковой, не сосредоточивается в телах ребенка и матери, а проявляется между ними. Ребенок, установивший связь с матерью первым криком и первым глотком молока, входит в ее этническое поле. Пребывание в нем формирует его собственное этническое поле, которое потом лишь модифицируется вследствие общения с отцом, родными, другими детьми и всем народом. Но поле в начале жизни слабо, и если ребенка поместить в иную этническую среду, перестроится именно поле, а не темперамент, способности и возможности. Это будет воспринято как смена этнической принадлежности, в детстве происходящая относительно безболезненно…
Ясно, что здесь действуют не генный аппарат, а биополя ребенка и взрослого, взаимодействующие при общении. Сказанное справедливо не только для персон, но и для систем высшего порядка – этносов» [27, с. 295].
Изменения в процессе этногенеза происходят за счет «пассионарного толчка, возникающего иногда на определенных участках земной поверхности» – это взрывное нарушение присущих этническому полю ритмов и приобретение новых ритмов.
В общем, современная гуманитарная интеллигенция РФ унаследовала от советского обществоведения представление об этничности, свойственное примордиализму. Как пишут А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев, «до сих пор все вчерашние советские люди однозначно воспринимают свою этничность как национальность, то есть воспринимают свое культурное ассоциирование в политически значимых категориях власти и полноты прав на данной территории, в данных политических границах» [34].
В свою очередь, этничность, которая равноценна национальности, считается данностью. Ф.С. Эфендиев, Т.А. Мазаева (г. Нальчик) сообщают, как на одном собрании «представитель традиционного для Чечни суфийского тариката напомнил о том, что в Коране, который является прямой речью Аллаха, есть фраза: «Я создал вас племенами и народами». Далее он неожиданно заявил: «Даже веру, то есть ислам, мы выбрали и добровольно приняли, а вот быть или не быть чеченцем, никто из нас не выбирал. Этот выбор сделал за нас даровавший нам жизнь Аллах – это божий промысел, его нельзя изменить, ему можно лишь следовать» [43].
Видный обществовед, до осени 1993 г. председатель Палаты национальностей Верховного Совета РСФСР Р. Абдулатипов утверждал: «Человека без национальности нет. И если какой-то умник-ученый утверждает, что национальность не врожденное человеческое свойство, это вовсе не означает, что у этого умника нет национальности. Иное дело, что биологическая принадлежность к нации как бы обрамляется элементами национальной культуры, традиций, воспитания» [44, с. 32].
В этом же ключе представляет этничность советник президента Татарстана Р. Хакимов, считающий, что «этнос несет в себе биологическую энергию и подчиняется иным законам, нежели социальные процессы», что «этнический признак – не благое пожелание и, тем более, не злокозненный умысел каких-то «сепаратистов», он дается по рождению» [45]. Это – общая установка. Э. Алаев пишет: «Принадлежность к определенному этносу – третье имманентное качество человека – после принадлежности к полу и к определенному возрасту» [46].
В свете эволюционно-исторического примордиализма видит этничность Ю.В. Крупнов. Он пишет: «Кто такие русские? Как определить, как выявить саму русскость? Как сформулировать ее в виде задачи? С моей точки зрения, русские – это, во-первых, те, которые тысячу лет верны первоначальному христианству, поскольку оно фактом Христа задает высший образец порядка и красоты для личности каждого человека и, во-вторых, это те, которые сумели объединить народы России и мира на победу над, как минимум, двумя властителями – корсиканцем Наполеоном и австрийцем Гитлером» [47]. Здесь равноположенными категориями для русскости служат чисто этнические характеристики – корсиканец и австриец.
Романтические критерии русскости, предложенные Ю.В. Крупновым, познавательной силы не имеют, они лишь служат значком, выражающим установку на примордиализм. Разве «верность первоначальному (!) христианству» может служить абсолютным атрибутом этничности? Ведь само христианство означало преодоление язычества (буквально этничности), это предельно универсалистская религия. Применять ее как этнический маркер просто невозможно (не говоря уж о том, что болгары, греки и сербы ничуть не меньше русских могут удовлетворить этому критерию). Но главное, сама апелляция к религии для решения сугубо земного (даже политического) вопроса об этническом статусе человека есть, по выражению Достоевского, попытка навязать Церкви «меч кесаря»[34].
Представления примордиализма приобрели в среде гуманитарной интеллигенции жесткий характер и непосредственную прикладную направленность в последние 15 лет как инструмент политической мобилизации этничности. Это – важное общемировое изменение в общественном сознании, которое мы до сих пор не осмыслили. А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев считают его историческим событием: «Этнический ренессанс связан с изменением специфики доминирующих определений этничности: культурная принадлежность начинает восприниматься в политически звучных категориях. Происходит один из исторических «сдвигов» в определениях этичности» [34].
Примордиализм перестал быть только научной концепцией и взят на вооружение политиками самого разного толка, особенно в ситуации острых межэтнических противоречий. Катастрофа ликвидации Советского Союза и тот всесторонний кризис, который ее сопровождает, породил во всех переживающих это бедствие народах ощущение угрозы самому их бытию, а вследствие этого и обострение этнического чувства. Бурно идет процесс этнического мифотворчества в среде интеллигенции народов Северного Кавказа.
Эти мифы создаются, чтобы объяснять современные, вызванные общим кризисом этнические конфликты исконными «культурными различиями» и «архетипами», доставшимися от первобытных предков. При этом момент возникновения народов и обретения ими их «исконных» территорий относят в третье тысячелетие до новой эры. Ни о какой науке тут и речи не идет, в интересах местных элит фабрикуются идеологические средства, включающие в себя «культурный расизм».
У русских, как у державного народа, это выражено в гораздо меньшей степени, чем у малых народов, но тоже наблюдается. Это – результат бедствия, которое переживают наши народы. Гуманитарная интеллигенция в такие моменты оказывается перед выбором – способствовать этому сдвигу, пропагандируя примордиалистские представления об этничности с помощью авторитета науки, или рационализировать наш кризис и порожденные им национальные проблемы, снимать с этнического чувства его магическую оболочку.
В.А. Шнирельман пишет о той роли, которую сыграли эти представления в обострении обстановки на Северном Кавказе: «Акцент на самобытности в постсоветский период перерос в представление о «биоэтногенетическом основании» отдельных народов, об их «этнопсихологической совместимости» или «несовместимости», т. е. создал благодатную почву для культурного расизма. Социологические опросы показали, что если в последние советские десятилетия источник национальных обид и националистических настроений общественное сознание объясняло политическими факторами, то к середине 1990-х гг. люди начали видеть в агрессивности едва ли не генетическое свойство отдельных этнических групп.
На Северном Кавказе возникла такая научная дисциплина, как этнопсихология, и ее представители начали создавать научное обоснование для такого рода представлений, делая акцент на необычайно устойчивых групповых (этнических) ценностях, «предопределяющих характер взаимодействия народов на межличностном и межгрупповом уровнях». Эта тенденция, импульс которой задали ученые из федерального центра, получила на Северном Кавказе широкое распространение, хотя некоторые местные авторы выступали против нее и подчеркивали, что она оправдывает национальную вражду, делая ее едва ли не естественным законом» [49].
Говоря об эволюции обстановки в последнее время (во второй половине 1980—1990-х годах), автор добавляет: «В это время кардинально изменилась сама социальная функция этногенеза и этнической истории: если прежде преобладали познавательная и дидактическая цели, то теперь на первый план вышли идеологические и политические вопросы… Сегодня северокавказские специалисты подчеркивают, что актуализация исторической памяти сыграла значительную роль в политическом развитии региона и к ней постоянно обращались все действующие политические силы для продвижения своих проектов. В частности, на Северном Кавказе актуальным стал «синдром жертвенности и вчинения исков»… Негативные представления о других, вплоть до их дегуманизации и демонизации, продолжают играть роль важнейшего аргумента, оправдывающего этнические столкновения и чистки» [там же].
За последние 15 лет эти процессы набрали такую интенсивность и инерцию, что сегодня надо говорить о совершенно новом «срезе» нашего кризиса. Мы оказались перед лицом тяжелого исторического выбора, к которому плохо подготовлены. Уже пройдены те критические точки, до которых можно было поставить эти процессы под контроль с помощью культурных, экономических и социальных средств, воздействующих на эти процессы как на «черный ящик». Теперь требуется понимание и мобилизация больших ресурсов. Мы упустили время, чтобы влиять на «раскручивание» этничности в инкубационной фазе.
А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев говорят о том, что этот критический переход предсказывался довольно давно: «Еще двадцать лет назад Дж. Ротшильд фактически сформулировал необратимость (почти неотвратимость) процессов политизации этничности в современную эпоху; «этот процесс, посредством которого данная этническая группа двигается от (1) агрегирования носителей примордиальных маркеров, через (2) мобилизацию этничности к (3) ее политизации, и который крайне трудно развернуть в обратную сторону, по крайней мере в нашу современную эпоху всеобщей грамотности. Это означает, в частности, что, будучи политизирована, этническая группа вряд ли в последующем будет удовлетворена лишь экономическими уступками со стороны государства/доминирующего этнического большинства. Как только корпоративные требования сформулированы в политической повестке, возможности лишь индивидуальной вертикальной мобильности больше не соблазняют представителей данной этнической группы» [34].
Более того, те выступления представителей этнических элит, которые были катализатором этого процесса и на которые можно влиять в рамках общественного диалога, уже в большой мере перестали влиять на ход событий – как стартер, запустивший большой мотор.
А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев делают очень тяжелый, если вдуматься, вывод: «Дискриминационные практики лишь отчасти коррелируют с развернутостью националистических идеологий или «политикой». Другими словами: обыватель не очень ждет эксперта-примордиалиста или опирающегося на его оценки политика для того, чтобы практиковать свои собственные взгляды. Он даже не ждет очередных медиа-новостей, чтобы снова убедиться в своих фобиях. Полагать, что социальные науки «создают» предпосылки для дискриминационных практик – значит игнорировать то обстоятельство, что эти практики уже некоторым образом развернуты, и политик в соответствующих дискриминационных решениях опирается не на академический примордиализм, а на «примордиализм» обывателя» [34].
Понятно, что преодолеть «примордиализм обывателя» можно лишь путем «молекулярного» изменения культуры и массового сознания, что достигается посредством улучшения социально-экономических условий и устранения тех факторов, которые мобилизуют этническое сознание в конфронтации с соседними народами или «центром». Это долгий и кропотливый процесс государственного, экономического и культурного строительства.
И все же важно, с какими установками подходит к этой задаче культурная элита каждого народа. Одно дело – установка на рационализацию этнического сознания, на «охлаждение» этого «реактора» и на выработку того типа национализма, который служит снижению уровня межэтнической напряженности и скреплению большой гражданской нации. Другое дело – установка на укрепление «примордиализма обывателя», легитимацию иррациональных элементов этнического сознания и «голоса крови».
С тяжелым чувством приходится признать, что по мере углубления российского кризиса наблюдается сдвиг даже самой просвещенной части российской интеллигенции к установке на примордиализм, на то, чтобы подталкивать массовое сознание к национализму не гражданскому, а этническому.
М. Ремизов, один из самых видных представителей «молодых консерваторов», пишет на популярном Интернет-сайте (aрn.ru): «Обладая сильной и открытой геокультурной идентичностью, нация может эффективно ассимилировать и «облучать» этнически чуждые элементы. Но ровно до тех пор, пока преобладающая часть ее демографического тела соотносит себя с этой «открытой» геокультурной идентичностью автоматически, «примордиально». То есть не по зову души, не по гражданскому выбору, не по житейским обстоятельствам, а по факту рождения («происхождения», «крови»…)» [50].
Так возникает целая система воспроизводства примордиализма в сознании российского общества. Выступая в дискуссии по проблеме этноцентризма, В. Малахов сказал: «Между академической литературой и популярными изданиями существует явная связь. Этноцентричность академического дискурса не может не сказаться на публикациях, предназначенных для широкой аудитории. Когда в учебниках и популярных брошюрах уже в виде формул, в виде окончательных дефиниций преподносятся весьма сомнительные допущения (да еще набираются жирным шрифтом), мы имеем дело с некоей индоктринирующей процедурой…
Знания, продуцируемые академической наукой, оказываются востребованными действующими политическими деятелями или людьми, ответственными за принятие решений. Кроме того, производимое наукой знание транслируется через масс-медиа в самые широкие слои населения. Телекомментаторы и журналисты, работающие в массовой печати, может быть, высоколобых текстов в руки не берут, но они просматривают словари и энциклопедии, они читают популярные брошюры, которые учеными мужами и учеными женами пишутся.
Приходится констатировать, что этот язык, а значит, и язык чиновников, и язык низовых политических активистов в конечном итоге определен тем языком, который вырабатывает академическая наука» [6].
Надо надеяться, однако, что это – не окончательный выбор, а колебания на нынешнем распутье.
Глава 7. Концепции этничности: конструктивизм
Исследования этнических проблем 60-70-х годов ХХ века привели к совершенно новой концепции природы этничности. Она исходила из противоположной примордиализму установки: этничность не есть нечто данное человеку изначально, она не есть «вещь», таящаяся в биологических структурах организма («крови») или в свойствах ландшафта. Она не есть даже печать, неизгладимо поставленная на людях культурой в незапамятные времена. Этничность «конструируется» людьми в ходе их творческой социальной деятельности – и постоянно подтверждается или перестраивается.
На практике из этих принципов определенно исходили французские короли, уже в Средние века начавшие целенаправленное формирование нации французов из множества населявших их земли народностей. Этот принцип так сформулировал Руссо в «Общественном договоре»: «Тот, кто берет на себя смелость конституировать народ, должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого индивида, который сам по себе есть некое совершенное и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивид в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие… Нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен такие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других» (цит. в [51, с. 406]).
Иными словами, созидание народа включает в себя и созидание тех свойств человека, которые превращают его в частицы народа, а также тех механизмов (тех «сил»), которые и придают совокупности людей качества народа. Уже из слов Руссо видно, что в каждом конкретном случае программы созидания народа различаются. Например, во Франции конца ХVIII в. человек представлялся уже изолированным индивидом («совершенным атомом»), так что соединение его в народ требовало «изменить его природу». В России, где атомизации не произошло, такой задачи не стояло.
Эта концепция получила название конструктивизма. Наиболее часто упоминаемыми западными учеными, работающими в рамках концепциии конструктивизма, являются Эрнст Геллнер, Бенедикт Андерсон и Эрик Хобсбаум.
О первом этапе выработки этого подхода К. Янг пишет так: «Суть дела сводилась таким образом к тому, чтобы этничность понималась не как некоторая данность, но как результат созидания, как инновационный акт творческого воображения. Очень сложным путем и благодаря действию многих механизмов сознание, однажды зародившись, развивалось путем последовательных переопределений на всех уровнях государства и общества. Со временем оно стремилось к проецированию себя на все более обширные социальные пространства. Процесс социального конструирования происходит и на индивидуальном, и на групповом уровнях; в ходе бесчисленного множества взаимодействий в обыденной жизни индивиды участвуют в постоянном процессе определения и переопределения самих себя. Самосознание понимается, таким образом, не как некая «фиксированная суть», а как «стратегическое самоутверждение» [2, с. 117].
Представления конструктивизма распространялись в среде специалистов довольно быстро. В. Малахов пишет (называя примордиализм эссенциализмом, т. е. пониманием этничности как сущности, вещи): «В западной социальной мысли постепенный отказ от эссенциализма, или субстанциализма, начался в 1980-е годы, и цезуру здесь провели две работы: «Нации и национализм» Эрнеста Геллнера и «Воображаемые сообщества» Бенедикта Андерсона. Плюс сборник статей под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рэйнджера «Изобретение традиции». Потом был Хобсбаум с книгой «Нации и национализм после 1780 года». После этих публикаций даже те авторы, кто, в общем, не разделяет их образа мысли и стоит на эссенциалистских позициях, уже не могут не учитывать произошедшего изменения. Они видят, что нечто радикально изменилось в самой гносеологической ситуации. Вот почему такой оппонент Эрнста Геллнера, как Энтони Смит, в своих более поздних работах нигде не говорит о тотальном пересмотре того, что сделали Геллнер и его единомышленники, а говорит о коррекции их позиции, о том, что нужно сделать некоторые оговорки, что теоретические построения его оппонентов нуждаются в дополнениях и уточнениях и т. д. Но об отказе от сделанного нет и речи. Так что тезис о «конструируемости» этнических и национальных сообществ постепенно становится в международном обществоведении общим местом» [6].
Конструктивизм утверждался в непрерывном диалоге с примордиализмом. С тем, что этничность есть скрытая сущность («эссенция»), соглашались и сторонники примордиализма. Л.Н. Гумилев, представитель биосоциального направления в примордиализме, признавал: «Условившись понимать под этногенезом не только его пусковой момент – появление этноса на арене истории, но весь процесс развития до превращения этноса в реликт и исчезновения, можно дать следующую дефиницию: любой непосредственно наблюдаемый этнос – та или иная фаза этногенеза, а этногенез – глубинный процесс в биосфере, обнаруживаемый лишь при его взаимодействии с общественной формой движения материи. Значит, внешние проявления этногенеза, доступные изучению, носят социальный облик» (выделено мною. – С.К-М.).
В принципе, уже ненаблюдаемость этой сущности, не позволяющая применить к ее изучению типичные эмпирические методы эксперимента и наблюдения, ставила саму доктрину примордиализма на грань науки – ведь если проявления этничности носят социальный, а не природный характер, то нет необходимости предполагать наличие какой-то стоящей за этими проявлениями биологической или геологической субстанции.
По мере дискуссии обнаруживалось все больше и больше существенных фактов, которые были несовместимы с постулатами об изначальной данности этнических характеристик человека. Например, с самой ранней стадии формирования человеческих общностей разную роль в созидании и воспроизводстве этничности стали играть мужчины и женщины – мужчины демонстрировали маркеры своего этноса и охраняли этническую границу, а женщин стали отдавать замуж в другие кланы и роды, чтобы они служили связующим звеном между мелкими этническими общностями. У них если и была «изначально» запечатленная этничность, она оказывалась ослабленной или отключенной под воздействием социальных и культурных факторов.
К. Янг пишет об этом разделении по признаку пола: «Руководство в организованных религиях – от буддистских монахов до католических священников – принадлежит исключительно мужчинам; то же самое в подавляющем большинстве случаев можно сказать и о деятелях культуры и политических активистах, выступающих создателями этнического сознания. Вейл цитирует захватывающую тсванскую пословицу: «У женщины нет племени». В той мере, в какой инструментальное использование этничности происходило преимущественно в сферах, где доминируют мужчины, этот афоризм содержит в себе более широкое значение» [2, с. 120].
Постулатам примордиализма противоречил и опыт межэтнических браков – явления, очень распространенного во все времена. Здесь в отличие от семьи с родителями, принадлежащими к одному и тому же этносу, ребенок с младенчества оказывается вовлечен в ситуацию межэтнического взаимодействия. Он попадает в ситуацию выбора своей собственной этничности, она ему изначально не задана. Такие дети по мере своего развития все время интенсивно производят структурацию этничности, они конструируют ее для себя из всего совокупного культурного материала. Здесь – лаборатория конструктивизма на уровне отдельной семьи.
Потом такие дети попадают из семьи в другие институты этнической социализации (школа, улица, религиозное окружение и др.). Они повсеместно и постоянно испытывают и отбирают для себя этнически окрашенные ценности, предлагаемые всеми этими институтами и, таким образом, непосредственно участвуют в создании своей идентичности. Кстати, как отмечают некоторые этнологи, именно дети из таких семей («этнические маргиналы»), с детства погруженные в проблему структурирования и конструирования этничности, часто становятся активными организаторами и идеологами этнической мобилизации.
А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев так оценивают результат сравнения познавательных возможностей обоих подходов к представлению этничности: «Функциональный примордиализм неоднократно обманывался – и в предсказаниях того, что модернизация приведет к ослаблению этнических солидарностей, и потом, когда стало более естественным утверждать, что модернизация ведет к их возрождению. Примордиализм эффективно объясняет то, что уже случилось.
Инновационный элемент, способный к радикальной бифуркации социальных процессов, всегда кроется в живых, только еще разворачивающихся, интерпретативных процессах. Изучение самих интерпретативных процессов по-прежнему отличает конструктивистский подход… Конструктивизм не объясняет, но типизирует – демонстрируя веер возможных стратегий, практикуемых социальными акторами, оставляя их с большей мерой свободы, чем примордиалистские объяснения…
Очевидно, что никакая примордиалистская концепция не может рассчитывать на эвристическую мощь, игнорируя необходимость прослеживать, каким же образом «изначальное» обнаруживается в практиках социальных агентов, в их стратегиях поведения» [34].
Основным эмпирическим материалом, который послужил основой для развития конструктивизма, послужила история конкретных случаев этногенеза – возникновения и развития племен, народов и наций с описанием конкретный условий, действующих лиц и применяемых ими методов. Частично эти истории были уже затронуты в гл. 5.
Приведем еще несколько рассуждений этнологов-конструктивистов, содержащих непосредственную полемику с представлениями примордиализма. Прежде всего, многие авторы указывают на значительное число случаев, когда местные сообщества (в разное время и в разных культурах), не ощущая вызовов и угроз извне и не имея необходимости сплотиться для защиты от «чужих», долгое время проживают, практически не имея этнического самосознания. Им достаточно сознавать свою причастность к более широким общностям (социальным, культурным, религиозным). Появление вызова и угроз (например, при вторжении на их территорию враждебных «чужих», как это было при вторжении европейцев в Америку или Африку) запускает процесс быстрого этногенеза.
Дж. Комарофф пишет: «Обычно этничность обязана своим происхождением отношениям неравенства: наиболее вероятно, что этногенез может происходить в виде социальных процессов, в которых группы со своими особыми культурами, образовавшиеся путем диалектического сочетания самоутверждения и определения внешними силами, интегрируются в иерархическую систему общественного разделения труда.
Это означает, что вопрос этнического самоосознания неизменно связан с проблемой баланса власти – материальной, политической и символической одновременно. Эти самоосознания лишь в редких случаях просто навязываются низшим классам сверху или утверждаются в приказном порядке; гораздо чаще их возникновение связано с борьбой, соперничеством, иногда – и с неудачей» [8, с. 42].
Как это бывает в науке в момент смены парадигмы, то есть привычных точек зрения на объект и правил его описания, отказ от исходных, уже обычно не упоминаемых постулатов примордиализма сразу позволил этнологам увидеть всю картину совершенно по-иному. Э. Кисс пишет: «Отказ от видения в нации чего-то мистического способствует пониманию того, насколько проницаема и подвижна природа самосознания. Глобальная телекоммуникационная сеть, мировой рынок, массовые перемещения населения, которыми отмечен послевоенный и постколониальный период, а также рождение новых «наций иммигрантов», таких как Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Израиль – все это способствовало размыванию прежних форм самосознания и созданию новых… Наблюдаемые исторические изменения сделали искусственность природы национального самосознания еще более очевидной» [4, с. 151].
Иными словами, согласно представлениям конструктивизма, этничность является социальной конструкцией, которая не имеет природных («объективных») корней. Этнос – искусственное образование, результат целенаправленной деятельности людей на всех уровнях общества. Те культурные черты, которые используются в качестве этнических символов для сплочения общности и различения ее с «чужими» (этнические маркеры), сознательно отбираются из культуры. Им придается смысл знаков принадлежности к этносу и этнической солидарности, при этом что-то отсеивается и забывается, а что-то принимается общественным сознанием и даже приобретает священный смысл. Ученые и писатели создают историю этноса, его предание и мифы, другие интеллектуалы вырабатывают национальную идеологию и осуществляют идеологическое воздействие («этнизируют массу»).
В упрощенной и огрубленной форме говорят, что этнические доктрины «изобретаются» элитой – писателями, учеными, политиками. Затем эта доктрина внедряется в сознание потенциальных членов этноса при помощи различных средств культурного воздействия. Так членам общности задаются их социальные роли, осуществляется «этническая мобилизация» населения. Нередко в качестве активных «этнических предпринимателей» выступают представители теневых политических или даже преступных групп, преследующих конъюнктурные цели, не отвечающие интересам общности.
В.А. Шнирельман, изучавший роль интеллектуалов в межэтнических отношениях и в «этнизации масс» на Северном Кавказе, пишет: «Психологически важная для нации национальная история, над составлением которой работало немало выдающихся интеллектуалов, сплошь и рядом оказывается «изобретенной традицией». Социальная среда постоянно изменяется, поэтому история время от времени должна переписываться… Именно ученые (историки, археологи, лингвисты, этнологи), или «контролеры коммуникации», снабжают сегодня как этнические группы, так и нацию желательной исторической глубиной… Прошлое, создающее важную основу идентичности (включая территориальные пределы), не является раз и навсегда установленным. Оно подвергается постоянным проверкам, реинтерпретации и переписывается местными интеллектуалами. Такая ревизия прошлого происходит, например, во вновь образовавшихся государствах, стремящихся освободиться от колониального наследия» [49].
В большом обзоре Э. Кисс пишет о создании ряда европейских народов в ХIХ веке: «Аспект искусственности в строительстве наций особенно очевиден в случае стран Восточной и Центральной Европы. Нации этого региона возникли в результате деятельности так называемых «будителей» [термин, конкретно относящийся к Чехии начала XIX века. – Примеч. ред.] – филологов, писателей и других интеллектуалов, чья сознательная деятельность в XIX веке была направлена на формирование национальных языков и самосознания[35]. В некоторых случаях подготовленные этими будителями языковые реформы требовали стандартизации и модернизации языков с уже сложившимися литературными традициями, в других же – требовалось создание письменного языка на основе одного из местных диалектов. Будители придумывали новые слова, составляли словари и грамматики, основывали газеты и журналы. Насколько сильным было брожение по поводу языков в Европе девятнадцатого века, видно из того, что число «стандартных» письменных языков выросло от 16 в 1800 г. до 30 в 1900 г. и до 53 в 1937 г…
Один из наиболее известных чешских будителей Ян Коллар происходил из семьи, говорившей на словацком диалекте, но при этом он отказывался признать самостоятельный словацкий язык (что отстаивал словацкий будитель Людовит Штур) и предлагал идею единого чехословацкого языка и единой нации. История деятельности будителей изобилует и лингвистическими парадоксами. Многие из них не могли вначале даже говорить на языках, за которые они выступали, а весьма значительная часть продолжала писать свои работы на более признанных языках. Делегаты Первого Всеславянского конгресса говорили на немецком языке, а чешский будитель Ян Коллар продолжал писать на немецком в течение всей своей жизни; многие болгарские будители также продолжали писать на греческом. Янеш Блайвайс, издатель влиятельной словенской газеты, рассчитанной на крестьян и ремесленников, согласился стать ее редактором прежде, чем сам научился говорить по-словенски» [4, с. 147–149].
Поскольку этническое самоосознание славянских народов в Центральной Европе в ХIХ веке было частью движения панславизма, Энгельс говорит о деятельности «будителей» неодобрительно, как о прикрытии реакционных политических целей. В известной работе о панславизме он пишет: «Первоначальная форма панславизма была чисто литературная. Родоначальниками его были Добровский, чех, основоположник научной филологии славянских диалектов, и Коллар, словацкий поэт из Венгерского Прикарпатья. У Добровского преобладал энтузиазм ученого и исследователя, у Коллара быстро возобладали политические идеи… Исторические исследования, охватывающие политическое, литературное и лингвистическое развитие славян, сделали в Австрии гигантские успехи. Шафарик, Копитар и Миклошич как лингвисты, Палацкий как историк стали во главе движения» [52, с. 204–205].
В примечании приведены данные об этих «будителях», которые отражают их профессиональный тип. Ян Коллар (1793–1852) – выдающийся чешский поэт и филолог; один из вдохновителей борьбы славянских народов за национальное освобождение. Варфоломей Копитар (1780–1844) – филолог, словенец. Павел Шафарик (1795–1861) – выдающийся словацкий филолог, историк и археолог. Франтишек Миклошич (1813–1891) – видный ученый, основоположник сравнительной грамматики славянских языков, словенец.
Практика создания этнических символов и этнической идеологии показывает, что речь идет не о научно-исследовательской деятельности, а именно о конструировании, о прикладной «опытно-конструкторской разработке», которая завершается «внедрением». Те историки, археологи и лингвисты, которые ведут эту работу, используют свои знания и умения в практических целях, далеко выходящих за рамки науки, как это бывает и во всех других областях науки и техники. В то же время здесь имеет место использование авторитета науки и образования, очевидно, не вполне законное.
В.А. Шнирельман пишет об этой практике: «Важно выяснить не только, как представления о подвигах предков способствуют массовой мобилизации, но и как политический проект на будущее влияет на представления о прошлом. Являются ли символы, пришедшие из прошлого, аутентичными, долговечными и привлекательными, или, напротив, они изобретаются, отбираются и реинтерпретируются для достижения актуальных политических целей? Можно ли говорить об их соперничестве, дающем заинтересованным сторонам возможность выбора? Почему мы нередко встречаем не одну, а одновременно несколько версий «этнического прошлого»? А если это так, то кто и почему делает выбор в каждом конкретном случае?.. Вне зависимости от степени образованности общественность Северного Кавказа придавала большое значение словам местных ученых. В частности, обсуждая истоки осетино-ингушского конфликта, ингушский историк М. Б. Мужухоев писал (1995): «Слово ученого звучит весомо, ему верят, к нему прислушиваются, оно воспитывает и часто формирует общественное мнение. Касаясь сложной проблемы межнациональных отношений, ученый может способствовать их стабилизации и оздоровлению, может и целенаправленно разрушать. Последнее всегда опасно». Вместе с тем на Северном Кавказе упреки в фальсификации истории обращают прежде всего к соседям» [49].
Очень важный материал дает история «трайбализма» в Африке – разделения на сплоченные племена африканского населения, которое до колонизации обладало очень слабо выраженной этничностью. Здесь «будителями» стала как сама колониальная администрация, так и привлеченная ею к управлению местная элита. К. Янг пишет о «сотворении этничности» в ЮАР: «Можно выделить три переменные, участвовавшие в создании и внедрении этнической идеи. Во-первых, как это и происходило при создании подобных идеологий в других регионах (например, в случае с европейским национализмом XIX века), большое значение имело существование группы интеллектуалов, занимавшихся ее формулированием – группы брокеров от культуры. Во-вторых, для управления подчиненными народами широко использовались посредники-африканцы, то есть система, обычно описываемая выражением «непрямое управление», что и определило границы и состав новых идеологий. В-третьих, во времена быстрых общественных перемен простые люди реально нуждались в так называемых «традиционных ценностях», и таким образом открывалась широкая возможность для принятия ими новых идеологий» [2, с. 117].
Исследователи, работающие в рамках конструктивизма, подчеркивают, что создатели техники этнизации населения в каждом конкретном случае опираются на стихийный примордиализм простого человека, на его потребность ощущать себя членом «извечной» общности, обладающей священными символами. Да и сами эти конструкторы-практики в большинстве случаев, вероятно, мыслят в понятиях примордиализма и уверены, что они открывают изначальную истину, снимая с нее слои деформации и коррозии. Даже если эта очищенная ими истина через какое-то время сама оказывается подделкой, это не обесценивает их труда – ведь эта находка успела укрепить конструкцию этнического сознания и теперь ее можно убрать.
Здесь кроется одна из главных сложностей освоения проблематики этничности в широких кругах интеллигенции и даже в среде специалистов. Ведь в этнических взаимоотношениях, особенно в момент глубокого кризиса, обострившего эти отношения, все мы являемся действующими лицами и исполнителями. Человек, рационально принявший идеи конструктивизма как верные и научно обоснованные, должен действовать в среде, где подавляющее большинство мыслит и действует в рамках примордиализма. К окружающим тебя людям надо обращаться на том языке, на котором они говорят и понимают, и когда ты видишь проблему в свете иных, несовместимых понятий, возникает раскол, который может погубить не только дело, но и «действующее лицо».
В.А. Шнирельман, изучавший сложную и деликатную обстановку на Северном Кавказе, замечает: «Пытаясь обеспечить себе массовую поддержку, политики нередко апеллируют именно к культурным ценностям, облекая их в форму этноисторических мифов и этнических символов. Это позволяет решить загадку, почему, несмотря на все попытки конструктивистов отстоять свою точку зрения, в общественном мнении до сих пор господствует примордиализм, доказывающий тем самым свою функциональность. Эрнест Ренан подчеркивал огромную роль древних символов и легенд в формировании идентичности. Следовательно, воображение он ценил много выше, чем искусство историка. Сейчас пришло время более пристально взглянуть на политическую функцию примордиализма, или «идеологически мотивированной эссенциализации» в современном обществе» [49].
Ценностью конструктивизма явилось то, что отказ от представления этничности как изначальной данности побудил исследователей взглянуть на процессы этногенеза во всем их многообразии и заняться, прежде всего, составлением реальной и конкретной «карты» этих процессов на широком пространстве и в продолжительном времени. Это позволило со временем приступить к классификации, к выявлению закономерностей – к прохождению этих необходимых этапов в развитии строгой науки. При этом расширились познавательные возможности того огромного фактического материала, который был накоплен в примордиализме.
А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев пишут: «Можно сказать, что все этносоциологи сходятся в том мнении, что необходимым для любого исследования будет описание устойчивых, регулярно воспроизводящихся или вероятных паттернов, через которые этничность собственно и формируется (конструктивизм) или проявляется (примордиализм). То есть необходимо именно содержательное описание этих паттернов».
Классификация и обнаружение устойчивых комбинаций сразу увеличивают возможности предвидения сценариев развития событий и диагностики тех процессов, которые находятся в инкубационной стадии. Те же авторы пишут, в частности: «Фобии, как и образы врага, также конструируются, но для того, чтобы эти конструкции социально состоялись – то есть были «общественно звучными», – они должны быть встроены в жизненный мир обыденных «реципиентов». Эти контексты позволяют говорить о вероятностном потенциале политического (сверху-вниз) конструирования. Без анализа этих реалий мы рискуем игнорировать то, что, во-первых, существует некоторый веер возможных траекторий, и, во-вторых, траектории различаются степенью своей вероятности» [34].
Другое важное отличие конструктивизма от примордиализма как методов исследования конкретных ситуаций заключается, по мнению ряда авторов, в общей направленности, в тех принципиальных установках, которые «толкают» ход рассуждений к тому или иному исходу (при прочих равных условиях).
А.В. Кудрин пишет: «Одна парадигма – примордиалистская – побуждает к политизации этничности и открывает антрепренерам безграничные возможности для этнополитических спекуляций и мобилизации этничности в интересах этнополитических элит. Вторая парадигма – конструктивистская – дает возможность обосновать целесообразность и необходимость деполитизации этничности и деэтнизации политики» [9].
А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев считают, что представление межэтнических коллизий в рамках двух разных подходов ведет к возникновению двух качественно разных «потенциалов насилия». В одном случае насилие возникает как нечто спонтанное, выражающее коллективную надличностную волю этноса, а в другом – как сознательно применяемый организованными группами политический инструмент, как результат принятого частью элиты и навязанного массам решения.
Они пишут: «Примордиализм исходит из неизбежности насилия как определенной формы взаимодействия «этносов» – объективно существующих общностей, наделенных коллективным сознанием, ментальностью, жизненным циклом и, соответственно, противоборствующими интересами и коллективными стратегиями. Насилие оказывается неустранимым, «объективным» атрибутом коллективного соперничества, подобно тому, как этничность в примордиалистской трактовке оказывается сущностным признаком человека, а не средством категоризации, конструирования или упорядочения культурных различий.
С другой стороны, радикальный конструктивизм обнаруживает насилие чаще всего лишь в качестве элитарных стратегий, привносящих в социальный мир и культурные границы, и соответствующие дискриминационные образчики. Здесь социальный мир и его «обыденные» конструкторы лишаются какой-либо автономии: они – чистые реципиенты тех моделей взаимодействия и мировосприятия, которые «вкладываются» извне усилиями институциональных агентов. В крайней форме утверждается, что социальные науки создают сам язык и соответствующий дискриминационный дискурс, который затем усваивается политиками и властными институциями, а те, в свою очередь, реконструируют социальный мир по соответствующим «шаблонам» и логике» [34].
Примордиалисты возражают на это, но не категорично, на уровне оттенков. П. Ван ден Берге пишет: «Социальные конструкции не болтаются в пустоте. Они закреплены в наличествующих социальных (и биологических) реалиях и остаются привязаны к ним комплексом далеких от тривиальности связей. Социальные конструкции могут лишь тогда быть эффективными детерминантами поведения, когда они имеют какую-то связь с объективной реальностью, которая, хотя бы отчасти, автономна по отношению к этим конструкциям» [53].
В этом уточнении стадия создания «наличествующих социальных (и биологических) реалий», которые в данный момент уже являются «объективной реальностью», просто переносится на предыдущий этап этногенеза. При этом никаких свидетельств того, что эта «объективная реальность» предопределена «биологическими реалиями», не появляется.
Если же вглядеться в конкретные случаи этнических конфликтов с применением насилия, то видна как раз целенаправленная деятельность по «конструированию» этих конфликтов, которая опирается на те «наличествующие социальные реалии», которые были созданы в такой же целенаправленной деятельности на предыдущих этапах. История 80—90-х годов и в Югославии, и в СССР дает для реконструкции причинно-следственных связей богатый материал. В.А. Шнирельман утверждает, на основании своего исследования событий на Кавказе: «Этнические конфликты вызываются отнюдь не различными культурными ценностями рer se. Напротив, идеологические и политические лидеры порой даже заинтересованы в мобилизации разных культурных ценностей для достижения своих собственных целей. Для этого они и отбирают то, что, на их взгляд, лучше соответствует их целям, и нередко превращают личный или локальный конфликт в этнический или религиозный… Исламские ценности не играли никакой роли в современных спорах между христианами-осетинами и их соседями-мусульманами об аланских предках… Этот конфликт, который, с точки зрения концепции Сэмуэля Хантингтона, мог бы быть интерпретирован как борьба между христианской и исламской цивилизациями, фактически был весьма далек от обращения к каким-либо религиозным ценностям» [49].
Методология конструктивизма, отвергая идею об изначальной заданности и большой устойчивости этнического сознания, гораздо более, чем примордиализм, нацелена на изучение и предвидение тех быстрых изменений, которые могут произойти в межэтнических отношениях при дестабилизации социальной и культурной обстановки[36]. Господство представлений примордиализма в советском обществоведении привело к тому, что после 1985 г. партийная номенклатура не прислушивалась даже к тем предупреждениям об угрозах, создаваемых перестройкой, которые делались исходя из здравого смысла и житейского опыта (например, конкретно, об опасности применения «второй модели хозрасчета» и закона о кооперативах в Сумгаите с его сложной системой поддержания равновесия в отношениях между азербайджанской и армянской общинами).
Вот проблема, имеющая общее значение для всех обществ «переходного типа», – введение института многопартийных выборов в тех странах, где общежитие разных этносов и народов было отлажено в условиях однопартийной системы. В таких «однопартийных» политических системах правящая партия образуется по совсем другим правилам, нежели в конкурентном гражданском обществе западного типа, где существует политический «рынок» с партиями, выражающими интересы разных социальных групп и классов. В партиях типа КПСС или Союза коммунистов Югославии были представлены все народы и народности в жестких рамках процедур, предназначенных для поиска компромисса при наличии беспрекословного арбитра, и подавляющих политическую конкуренцию и конфронтацию.
Радикальный перенос в такое общество западного ритуала многопартийных выборов везде приводил к резкой политизации этнического сознания и этнизации политики. Результатом становился межэтнический конфликт, так что на выборы шли не партии, представляющие социальные интересы, а этнические элиты, мобилизующие своих соплеменников на борьбу с другими этническими «партиями».
С. Тамбиа в большой работе (в разделе «Демократизация, этнический конфликт и коллективное насилие») пишет: «В ходе подробного исследования, которое я в настоящее время веду по теме недавних этнических беспорядков в Южной Азии, я все больше утверждался во мнении, что то, как организуются политические выборы, и события, происходящие до, во время и после выборов, можно в известной мере обозначить через понятие рутинизации и ритуализации коллективного насилия» [54, с. 216].
Такие выборы становятся особым видом театрализованного ритуала. Антропологи видят в спектакле выборов перенесенный в современность ритуал древнего театрализованного государства, отражающий космический порядок, участниками которого становятся подданные. С. Тамбиа пишет: «Идея театрализованного государства, перенесенная и адаптированная к условиям современного демократического государства, нашла бы в политических выборах поучительный пример того, как мобилизуются их участники и как их преднамеренно подталкивают к активным действиям, которые в результате нарастающей аффектации выливаются во взрывы насилия, спектакли и танцы смерти до, во время и после выборов. Выборы – это спектакли и соревнования за власть. Выборы обеспечивают политическим действиям толпы помпезность, страх, драму и кульминацию. По существу, выборы служат квинтэссенцией политического театра» [54, с. 227].
Автор описывает сценические приемы спектакля выборов, применяемые в тех странах Южной Азии, где «этнизация» этого спектакля заметнее всего. Он пишет: «Процессии как публичные зрелища проходят в окружении «медленных толп» зрителей. Эксгибиционизм, с одной стороны, и восхищающаяся аудитория зрителей – с другой, являются взаимосвязанными компонентами спектакля. Митинги, завершающиеся публичными речами на открытых пространствах. Центральным элементом массового ораторства является энергичная декламация стереотипных высказываний с готовыми формулировками, сдобренными мифически-историческими ссылками, напыщенным хвастовством, групповой диффамацией, грубыми оскорблениями и измышлениями против оппонентов. Эти речи передаются и усиливаются до рвущего барабанные перепонки звука с помощью средств массовой информации – микрофонов, громкоговорителей, современных теле– и видеоаппаратуры. Этот тип шумной пропаганды эффективно содействовал «демонизации» врага и появлению чувства всемогущества и правоты у участников как представителей этнической группы или расы» [54, 228].
С. Тамбиа изложил репертуар «ритуала» коллективного насилия как перечень «организованных, ожидаемых, запрограммированных и повторяющихся черт и фаз внешне спонтанных, хаотических и необузданных действий толпы как агрессора и преследователя». Государства «переходного типа», такие как недавно освободившиеся от колониальной зависимости или перенесшие катастрофический слом прежней государственности (постсоветские), имеют систему институтов и норм в крайне неравновесном состоянии. По структуре эта система напоминает постмодернистский текст, в котором смешаны архаика и современность с их несовместимыми стилями. В качестве примера один автор приводит для РФ «феноменальную госсимволику (в частности, систему государственных наград, в которой орден Красной Звезды существует вместе с орденом Андрея Первозванного), отсутствие общих воззрений на собственное прошлое. Яркий пример – открытие в Иркутске памятника Колчаку под звуки советского гимна. Вместо государства в России возник комплекс случайных политических институтов, лишенных фундамента и собранных всухую, без раствора».
В таких государствах ряд черт, присущих демократической системе, проявляется не в форме выработанных на Западе условных театрализованных ритуалов, а в жесткой, иногда абсурдной форме. К числу таких черт относится предусмотренное сценарием демократических выборов открытое выражение взаимной враждебности кандидатов и партий. В государствах «переходного типа» сцены этой враждебности играются с применением реального или очень жесткого условного (как это было на Украине) насилия.
С. Тамбиа пишет: «Демократические» политические выборы в недавно получивших независимость странах представляют собой один из основных компонентов саги о коллективном насилии. Более того, поскольку в рассматриваемых нами обществах ставки на выборах и их результаты представляются очень высокими и важными и поскольку выборы позволяют и фактически поощряют преднамеренное выражение и осуществление поляризующей враждебности, постольку они вполне могут затмить все ранее имевшиеся случаи периодических вспышек рутинного насилия» [54, с. 233].
Важно подчеркнуть, что апелляция к этническим ценностям «почвы и крови» в государствах переходного типа вовсе не является извращением принципов демократии. Согласно современным антропологическим исследованиям, это и есть действительная суть западной демократии, скорректированная реальностью этих государств (это иногда называют «парадоксом Уайнера», смысл которого состоит в том, что именно демократические процедуры, а не их искажение, и порождают этническое насилие). Такой и была технология западной демократии, в чистом виде представленная Французской революцией. От нее ушел сам Запад, но под его давлением ее вынуждены применять зависимые от него страны[37].
С. Тамбиа пишет: «Французская революция сделала толпу непреходящей политической силой, поскольку взятие Бастилии стало стереотипным образом политики толпы. С этого момента политические доктрины демократии должны были говорить непосредственно о народе, за или против него, а правительства были вынуждены разрабатывать способы управления воинствующей толпой, символизирующей власть народа, и им, как и интеллигенции, предстояло усвоить эту идею в качестве центральной темы социальных и политических теорий» [54, с. 231].
Из этого следует, что в демократическом государстве, во-первых, постулируется роль народа как центрального субъекта политики и, во-вторых, главной формой, в которой народ представлен на политической арене, становится толпа. Это – очень специфический миф народа, которого не было в традиционных сословных обществах (и тем более не могло быть в советском обществе). Та часть постсоветских обществ, которая еще связана культурной пуповиной с традиционной Россией, не только не владеет технологией толпы, но и чужда ей. Напротив, антисоветская часть общества уже в конце 80-х годов освоила методы политического действия толпы и легко узурпировала статус народа.
С. Тамбиа добавляет, что идеальное описание демократии как разумной системы, в которой рациональный индивид делает свой выбор по принципу «один человек – один голос», есть условность западного общества. В других культурах (конкретно, в Южной Азии) демократия есть способ осуществления политики действия масс. Это сводится к следующему: «Ориентация на толпу и мобилизацию масс открывает дверь для подготовки и распространения лозунгов и идеологий, рассчитанных на коллективы людей и на обращение к коллективным правам групп, определяемых на основе «сущностных принципов» («substance codes») крови и земли. Сегодня «этничность» служит самым мощным возбудителем энергии, воплощая в себе и выражая религиозные, языковые, территориальные и классовые самосознания и интересы; этничность является также тем прикрытием, под сенью которого ищутся решения и сводятся личные, семейные, коммерческие и другие местные счеты.
Сохранению парадокса Уайнера в демократической практике Индии, Пакистана, Шри Ланки и Бангладеш способствует тот факт, что средства массовой информации подают общественную политику толп так, как если бы она была результатом рациональных обсуждений, и описывают публичные ритуалы и спектакли как процесс консультаций с массами для нахождения закона и согласия» [54, с. 231–232].
В целом сдвиг к рациональности постмодерна повсеместно провоцирует этнизацию обществ. В развивающихся странах это выражается в новом всплеске трайбализма, родоплеменного сознания и организации. Не менее сложные проблемы обещает неожиданный возврат, казалось бы, ушедшего в прошлое этнического сознания в странах Запада, которые быстро стали многонациональными. На эту способность постмодерна провоцировать и искусственно интенсифицировать этногенез, указывают антропологи. Дж. Комарофф задается вопросом, не используется ли эта способность как средство утопить борьбу за разрешение социальных противоречий в хаосе межэтнических столкновений.
Он пишет: «О нашем времени часто говорят как о периоде множественности форм субъектности, расплывчатости чувства индивидуальности, как о времени антитоталитарных сил, благодаря которым многое в нашей жизни оказывается непредсказуемым, непоследовательным и полифоничным. Однако неомодернистская политика самоосознания обнаруживает прямо противоположную направленность на такое устройство мира, при котором от Узбекистана до Юкатана, от Анкориджа до Карфагена и от Порт-Морсби до Порт-Элизабет этничность и национальный статус используются как основы для складывания тоталитарных, сплоченных и высоко централизованных субъектов как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Возможно ли считать, что постмодернистское увлечение полиморфизмом является всего лишь извращением, то есть что оно – некий результат этноцентричного евро-американского буржуазного сознания, отражающего собственную политику безразличия по отношению к требованиям и защите прав обездоленных?» [8, с. 38].
Здесь надо сделать важное предупреждение методологического характера. Признание конструктивизма научной концепцией этничности, основанной на более верных, нежели примордиализм, предположениях и постулатах, вовсе не означает, что надо принимать и поддерживать и те политические программы, которые опираются на использование этой концепции. Научное знание нейтрально по отношению к добру и злу, это всего-навсего лишь инструмент. Как было сказано не заре Научной революции, «знание – сила»… и не более того. Те, кто владеет методологией конструктивизма, оказываются сильнее тех, кто исходит из постулатов менее эффективной методологии. Но они могут применить эту силу и во вред интересам конкретной социальной или этнической общности. Знание и его идеологическое использование – вещи совершенно разные. Особенно это относится к тем проблемам, в которых знание и идеология очень сильно переплетены.
А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев пишут: «Российский конструктивизм, интерпретируя этнические процессы, одновременно стремится наращивать с помощью своих интерпретаций вероятностный ресурс тех из этих процессов, которые он полагает благотворными для страны. Или, как выражается в одной из своих статей Дан Смит, теория вовлечена в «творческое символическое действие». Отсюда ясно, что конструктивизм предстает как теория нациестроительства – то есть определенная идеология» [34]. Само это утверждение идеологизировано (возможно, из соображений политкорректности). Сообщество российских интеллигентов, мыслящих этничность в понятиях конструктивизма («российский конструктивизм»), расколото в отношении того, что считать «благотворным для страны», в той же мере, что и другие сообщества.
Например, этнолог В.А. Тишков, занимающий высший административный пост в официальной этнологии РФ, является убежденным конструктивистом, но в практической политике он предлагал меры, на мой взгляд, разрушительные для хрупкого межнационального общежития РФ. Ибо в более широком контексте его идеологическая позиция радикально антисоветская, и инструмент конструктивизма он стремится использовать для скорейшего разрушения унаследованных от Российской империи и СССР структур. Но тем, кто стремится затормозить разрушение и ввести процесс в более «благотворные для страны» рамки, глупо отказываться от того знания и тех инструментов, которыми владеет В.А. Тишков.
Тем не менее обладание силой более верного знания в целом полезно и потому, что предохраняет от неосознанных угроз. Тот факт, что принятый в советское время способ понимания и рассуждений об этничности выводился из примордиализма, разоружил наше общество и сделал его беззащитным против взрыва этничности в 80-90-е годы, является фундаментальным независимо от политической или идеологической позиции. Если бы интеллигенция и власть рассуждала на языке конструктивизма, было бы легче предвидеть последствия многих фатальных решений и разоблачить махинации разрушительных теневых и преступных действий.
К. Янг пишет: «Превалирующие способы рассуждений относительно культурного плюрализма [т. е. этничности. – С.К-М] оказывают влияние на те формы, которые может принимать общинная солидарность. В момент своего окончательного кризиса 1989–1991 гг. Советский Союз оказался заложником той теории государства, которая была дана его основоположниками в их диалектическом стремлении пленить, подавить и приручить этнонационализм. Догмат «национальный по форме, социалистический по содержанию» стал взрывоопасным, как только социализм, рухнув, утратил доверие, оставив после себя только «национальную форму» в виде пятнадцати построенных по национальному принципу республик, от «права» которых на самоопределение централизованная автократия государственного социализма уже не могла более отмахиваться как от чего-то тривиального» [2, с. 122].
Действительно, в условиях хаоса 1917 г. и гражданской войны, разорвавших Российскую империю, советская власть нашла формулу государственности, которая позволила «пленить, подавить и приручить этнонационализм». Эта формула заключалась в том, что народам было предложено собраться в единое государство на основе общежития, «национального по форме, социалистического по содержанию». Но, мысля в понятиях примордиализма, мы просто забыли (и даже не заметили) того, что удалось «пленить, подавить и приручить». И когда Горбачев со всей его ратью соблазнил активную часть общества отказаться от второй части формулы и ликвидировать «социалистическое содержание», никто не поднял вопроса о том, как поведет себя «прирученный» этнонационализм. Вспомним те годы – ведь об этом даже не подумали. Казалось, что изначально данная и почти неизменяемая этничность не изменит своих свойств от такой приятной мелочи, как, например, многопартийные выборы или хозрасчет. Нам так казалось в силу всеобщего невежества, в силу того, что мы исходили из неверных постулатов.
Этот опыт не упрощает наше нынешнее положение, но обязывает взглянуть на него трезво и хладнокровно. В. Малахов констатирует: «Для большинства исследователей нации как государственно-политические сообщества и этносы как культурные сообщества представляют собой социальные – или, если угодно, социально-исторические – конструкты. Они производятся определенными политическими и идеологическими условиями, в том числе усилиями каких-то людей. Они не есть нечто само собой разумеющееся, не есть данность, не есть субстанция, акциденцией которой является национальное государство, не есть сущность, явлением которой выступает национальная культура» [6].
Но ведь он говорит лишь о «большинстве исследователей», о ничтожной по величине группе из интеллигенции. А подавляющее большинство населения, да и интеллигенции, продолжают мыслить в терминах примордиализма. И действуют люди не в соответствии с правильными концепциями сотни ученых, а исходя из своих «неправильных» представлений. И наука должна изучать именно этот «неправильный» реальный объект.
Поэтому практические исследователи вынуждены комбинировать методы и эмпирические данные обоих подходов. В принципе тому же самому должны научиться и политики и, в общем, все граждане, желающие действовать рационально. Это – исключительно сложная методологическая проблема, требующая, в известном смысле, расщепления сознания.
В самой этнологии такая попытка создать «гибридный» подход называется инструментализмом. Сторонники этого подхода рассматривают этничность как социальный инструмент, который создается (или выбирается) как средство для достижения групповых целей.
А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев считают эту попытку плодотворной. Они пишут: «Представляется уместной трактовка инструментализма в качестве одной из возможных форм и примордиализма, и конструктивизма. Этничность для инструментализма формируется, определяется заинтересованными социальными или политическими акторами в конкретном историческом или ситуативном контексте. Этничность есть репертуарная роль, произвольно обыгрываемая социальным агентом. В зависимости от того, как эта роль трактуется, инструментализм может быть как примордиалистским (роль придана, и лишь ее ситуативное использование доступно социальному актору), так и конструктивистским (роль формируется в процессе самой игры)» [34].
Они иллюстрируют свою оценку на примере работы американского этнолога Р.Кайзера, который исследовал национализм в СССР и РФ в территориальном разрезе [67]: «Переходя к тому, что «объективные характеристики [нации] становятся частью субъективного мифо-символического комплекса, имеющего ключевое значение для разворачивания национального самосознания», Р.Кайзер анализирует роль национальных групп интеллигенции, которые «продвигают» идею примордиального характера нации и национальной солидарности. Здесь прикладник уже переходит к цитированию Бенедикта Андерсона и Эрика Хобсбаума – классиков конструктивизма. Прикладное исследование оказывается, по определению, концептуально эклектичным. Но отправным теоретическим положением для Кайзера является все же тезис Э. Смита о том, что конструирование наций только тогда бывает исторически возможным и состоятельным проектом, когда оно фундировано – как пишет Э. Смит – «в легендах и ландшафтах», то есть, ограничено, локализовано географически и этнографически» [34].
Неизбежным считают А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев совмещение обоих подходов при анализе конкретных ситуаций, порождаемых процессами миграции в РФ: «Показательным для различения примордиализма и конструктивизма является то, как определяется взаимодействие тех же «объективных» демографических параметров, с одной стороны, и политических и социальных стратегий, которые разворачиваются на фоне этих реалий, – с другой. Примордиализм толкует такие явления как групповые границы, социальные категории, этнодемографический баланс и т. д. как жесткую реальность, однозначно обусловливающую те или иные стратегии-реакции социальных акторов. Скажем, высокая иммиграция «других» детерминирует рост ксенофобии. В этой, в общем верной, примордиалистской констатации конструктивизм обращает внимание на некоторые важные детали:
– Как определяются границы между «нами» и «другими»?
– Как эти определения структурированы институциональной практикой или идеологиями? (Что такое, скажем, «нерусская преступность»? Как квалифицируется банда с армянином во главе, евреем в качестве казначея и исключительно русскими боевиками?)
– Как тематизируется проблема иммиграции и иммигрантов в общественном сознании средствами массовой информации?» [34].
Общий их вывод таков: «Можно сказать, что период нарастающей дивергенции между примордиализмом и конструктивизмом в трактовке феномена этничности (и сопряженных социально-политических явлений) представляется уходящим в прошлое. На смену сквозному, «однозначному» парадигматическому соперничеству пришла новая волна исследований, в которых признанные примордиалисты делают поправку на функциональный характер тех или иных интерпретативных стратегий, а конструктивисты стремятся сделать эти самые стратегии более «социально и исторически фундированными»…
Тем не менее ключевая оппозиция между этими двумя теоретическими перспективами – в «обновленном виде» – все же отчетливо сохраняется. Но она начинает носить все менее концептуальный, а, скорее, инструментально-прикладной, технический характер. Концептуальный смысл оппозиции сохраняется в процедурах презентации самих парадигм и их продуктов вненаучному социальному актору – политику, обывателю. Примордиализм пригвождает проективные, живые стратегии к «закономерным» и наиболее вероятностным векторам разворачивания реальности, а значит, к более якобы заведомо успешным стратегиям» [34].
Некоторые видные этнологи-конструктивисты с такой «гибридизацией» категорически не согласны. Дж. Комарофф отрицает даже тщательно скрытый примордиализм. Он пишет: «Еще более коварным, чем неподдельный примордиализм, является, вероятно, из-за его кажущейся убедительности, соединение примордиализма с инструментализмом. Эта форма неопримордиализма приобрела большую популярность среди ученых, которые видят, что грубый утилитаризм ведет к неразрешимым проблемам в вопросах культуры и самосознания (почему, например, будучи порождением чисто рациональных интересов, чувство принадлежности часто сопровождается столь иррациональными чувствами, что доходит до жертвенности? Чем можно объяснить существование и сохранение культурных форм за пределами периодов утилитарной потребности в них?), и/или которые, признавая исторически обусловленную природу этничности и национализма, не отказываются при этом от того представления, что по сути своей подобные приверженности являются результатами неустранимого чувства.
Приводимая в пользу этого аргументация сегодня хорошо известна и сводится к тому, что этническое сознание является универсальной потенциальной возможностью… превращающейся в утверждающее себя самосознание, только при определенных условиях; то есть это – реакция со стороны культурно оформившегося сообщества на угрозу своему существованию, своей целостности или своим интересам.
При таком подходе этничность не есть «вещь» в себе (или для себя), но представляет собой некую имманентную способность, принимающую выраженную форму в ответ на внешнее воздействие. Вот как пишет, например, Валлерстайн (1979): «Этническое сознание вечно присутствует в латентной форме повсюду. Но оно реализуется лишь в тех случаях, когда группа чувствует либо опасность, угрожающую ей потерей ранее приобретенных привилегий, либо, наоборот, считает данный момент удобной политической возможностью приобрести долгожданные привилегии».
Если этничность «вечно присутствует в латентной форме повсюду», то тем самым молчаливо предполагается, что ее превращение в активную форму должно опираться на некое ранее данное чувство культуры, на некоторое общее наследие, то есть фактически на некую изначально данную примордиалистскую инфраструктуру, из которой, если ситуация того потребует, могут быть извлечены необходимые знаки и символы, политическая практика и этнические эмоции» [8, с. 40].
Подводя итог сравнительному анализу познавательной силы примордиализма, конструктивизма и инструментализма, Комарофф формулирует те вопросы, на которые ни один из этих подходов пока что не дает надежных ответов. Для нас полезен и сам этот перечень, и констатация того факта, что готовых ответов на них наука пока что не дает. Вот что пишет Комарофф в 1993 г.: «В настоящий момент задачей, требующей к себе внимания, является разработка других, более убедительных теоретических альтернатив, а также поиск ответов на ряд сложных вопросов об этничности и национализме, остающихся доныне нерешенными. Каким именно образом происходит укоренение коллективных привязанностей и чувств в той истории, которую люди считают своей? Почему в одних обстоятельствах апелляции к национализму вызывают лишь апатию, если не антипатию, в то время как в других граждане проявляют готовность жертвовать жизнью и здоровьем, иногда даже во имя стран, где они подвергаются очевидному угнетению? В каких случаях и почему лидеры государств и общественных движений обращаются к национальной государственности и подвергающемуся угрозе суверенитету как к объединяющему и готовящему к войне лозунгу? И почему подданные откликаются, особенно если, как часто бывает, в их собственных жизненных интересах не делать этого? В каких случаях и почему национально-государственная принадлежность (nationality) оказывается важнее других форм самосознания, особенно основанных на социальном классе, этничности, поле, расе? Почему некоторые формы национализма оказываются более враждебно настроенными и фактически воинственными, чем другие? И какова роль политических/социальных элит в их разжигании, а войны и военных лидеров – в их историческом развитии? Существует ли какая-либо разница, или связь, между направленными внутрь чувствами и настроениями, обеспечивающими единство нации, и направленными вовне эмоциями, нагнетающими враждебность по отношению к другим?» [8, с. 65].
Глава 8. Маркс и Энгельс об этничности: жесткий примордиализм
В советское обществоведение, особенно в его учебные курсы, в качестве догмы вошло ключевое положение исторического материализма, согласно которому главными субъектами истории являются классы, а общественные противоречия выражаются в форме классовой борьбы. Это положение введено Марксом и Энгельсом в качестве постулата, а затем показано на историческом материале как якобы непреложный вывод. Уже в «Манифесте Коммунистической партии» (1848 г.) сказано: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».
Следуя этой догме, советское обществоведение приучило нас к тому, что движущей силой истории является классовая борьба. Под давлением этой установки мы перестали понимать и даже замечать те процессы, которые происходят с иными, нежели классы, общностями людей, и прежде всего с народами. Во всех общественных конфликтах и открытых столкновениях советский образованный слой был склонен видеть результат классовых противоречий.
В действительности здесь произошел сбой и отход от реального марксизма. Профессора и учебники истмата и научного коммунизма открыли нам лишь один, «верхний» слой обществоведческих представлений основателей марксизма. Считать, что классики марксизма действительно рассматривали любую политическую борьбу как борьбу классов, неправильно. Это всего лишь идеологическая установка – для «партийной работы», для превращения пролетариата из инертной массы («класса в себе») в сплоченный политический субъект («класс для себя»), выступающий под знаменем марксизма.
Напротив, «работающие» представления, заданные Просвещением и реально принятые в марксизме, в советском общественном сознании освоены не были – они осваивались нами неосознанно. В этих представлениях действуют общности людей, соединенные не классовой солидарностью, а солидарностью этнического типа. Более того, и пролетариат, формально названный классом, в действительности выступает в марксистской модели как избранный народ, выполняющий мессианскую роль спасения человечества.
Когда речь идет о крупных столкновениях, в которых затрагивается интерес Запада как цивилизации, субъектами исторического процесса, и прежде всего борьбы, в представлении марксизма оказываются вовсе не классы, а народы (иногда их называют нациями). Это меняет методологию анализа, а следовательно, и политическую практику. По своему характеру и формам этнические противоречия, в которых люди действуют как народы, сильно отличаются от классовых. Те, кто этого не понимает и мыслит в категориях классовой борьбы, подобен офицеру, который ведет своих солдат по карте совершенно другой местности. Такое «офицерство» мы и имели в лице советской интеллигенции, три послевоенных поколения которой подвергались интенсивной доктринальной обработке марксистским обществоведением.
Категории и понятия классовой борьбы у Маркса и Энгельса являются надстройкой над видением общественного исторического процесса как войны народов. Они сильно связаны с фундаментом, построенным из этнических понятий. Битва народов – «архетипический» образ Энгельса. Одно из своих ранних философских произведений он заканчивает так: «День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!» [Соч., т. 41, с. 226].
Для многих людей, воспитанных на советском истмате, будет неожиданностью узнать, что при таком переходе представления классиков о гуманизме и правах народов почти выворачиваются наизнанку – народы в их концепции делятся на прогрессивные и реакционные. При этом категории свободы и справедливости, как основания для оценки народов в их борьбе, отбрасываются. Народ, представляющий Запад, является по определению прогрессивным, даже если он выступает как угнетатель. Народ-»варвар», который борется против угнетения со стороны прогрессивного народа, является для классиков марксизма врагом и подлежит усмирению вплоть до уничтожения.
Надо ли нам сегодня знать эту главу марксизма, которая при его вульгаризации в СССР была изъята из обращения? Да, знать необходимо, хотя овладение этим знанием очень болезненно для всех, кому дороги идеалы, которые мы воспринимали в формулировках марксизма. Болезненно это по трем причинам.
Во-первых, Маркс и Энгельс являются в коллективной памяти большой доли старших поколений советских людей священными символами. Эти имена связаны с нашей великой и трагической историей, их страстные чеканные формулы замечательно выражали идеалы этих поколений и обладают магической силой. Всякая попытка подвергнуть какую-то часть учения Маркса и Энгельса рациональному анализу воспринимается как оскорбление святыни и отторгается с религиозным чувством.
Кроме того, тут есть и такая опасность. Возбудив неприязнь к марксизму в связи с каким-то одним положением, при нынешнем состоянии умов можно вызвать неоправданное отторжение от марксизма в целом, оторвать людей от источника важного знания. К тому же это отторжение еще более исказит видение нашей современной истории. Хладнокровно выявляя все неосознанно воспринятые от марксизма идейные мины, мы должны верно оценивать его воздействие на исторический процесс в целом. На это указывал С.Н. Булгаков, уже совершенно отойдя от марксизма. Он писал, что после «удушья» 80-х гг. ХIХ века именно марксизм явился в России источником «бодрости и деятельного оптимизма». Переломить общее настроение упадка было тогда важнее, чем дать верные частные рецепты. Содержащийся в марксизме пафос модернизации (пусть и по реально недоступному для России западному пути), помог справиться с состоянием социального пессимизма. По словам Булгакова, марксизм «усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освященный вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению» [55, с. 373].
Ворошить представления Маркса и Энгельса о народах больно и потому, что они замешены на ненависти и жестком расизме по отношению именно к русским и России. Это для нас вообще непривычно, мы долго не могли поверить в расизм немцев, уже сжигающих наши села, а уж слышать такое от людей, чьи портреты несколько десятилетий висели в России во всех кабинетах, вызывает психологический шок. Но надо его спокойно преодолеть, не поддаваясь уязвленному национальному чувству. Конечно, было бы проще изучить эту болезненную тему на примере какого-то другого народа (хотя наверняка и этот другой народ было бы жалко). Но так уж получилось.
Концепция народов изложена Энгельсом в трактовке революционных событий 1848 г. в Австро-Венгрии [56][38]. Во вводной части Энгельс дает исторический очерк становления Австрии. Он подчеркивает, что это был процесс захвата славянских земель и угнетения славян. Вот главные для нас положения этого очерка: «Габсбурги получили те южногерманские земли, которые находились в непосредственной борьбе с разрозненными славянскими племенами или в которых немецкое феодальное дворянство и немецкое бюргерство совместно господствовали над угнетенными славянскими племенами…
Расположенная к югу от Судетских и Карпатских гор, Австрия в эпоху раннего средневековья была страной, населенной исключительно славянами… В эту компактную славянскую массу вклинились с запада немцы, а с востока – мадьяры…
Так возникла немецкая Австрия… Немцы, которые вклинились между славянскими варварами в эрцгерцогстве Австрии и Штирии, соединились с мадьярами, которые таким же образом вклинились между славянскими варварами на Лейте. Подобно тому, как на юге и на севере… немецкое дворянство господствовало над славянскими племенами, германизировало их и таким образом втягивало их в европейское движение, – так и мадьярское дворянство господствовало над славянскими племенами на юге и на севере…».
Как видим, Энгельс совершенно ясно описал характер национальных отношений немцев и венгров со славянами как угнетение и эксплуатацию, хотя и назвал захват славянских земель и «этническую чистку» этих земель уклончивым словом «вклинились». Определенно выражена и разница этнических статусов. Немцы – европейцы, народ, имеющий развитые государственность и социальную структуру (Габсбурги, дворянство), славяне – племена, которые подвергаются германизации («немцы вклинились между славянскими варварами»).
Энгельс задает целую концепцию примордиальной сущности разных народов, используя в качестве диагностического средства революцию. Он пишет: «Среди всех больших и малых наций Австрии только три были носительницами прогресса, активно воздействовали на историю и еще теперь сохранили жизнеспособность; это – немцы, поляки и мадьяры. Поэтому они теперь революционны. Всем остальным большим и малым народностям и народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэтому они теперь контрреволюционны».
Таким образом, из представленной Энгельсом модели следует, что революция есть прерогатива не классов, а народов (наций). Причем не всех наций, а тех, которые «сохранили жизнеспособность» и являются носительницами прогресса. Энгельс пишет: «В то время как французы, немцы, итальянцы, поляки, мадьяры подняли знамя революции, славяне, как один человек, выступили под знаменем контрреволюции. Впереди шли южные славяне, которые давно уже отстаивали свои контрреволюционные сепаратистские поползновения против мадьяр; далее чехи, а за ними русские, вооруженные и готовые появиться в решительный момент на поле сражения» [57, с. 301].
Не немецкие, венгерские или польские рабочие революционны, а немцы, мадьяры и поляки. Не хорватские или чешские буржуазия и дворянство контрреволюционны, а «славяне как один человек». Это – взгляд через призму примордиализма. Революционность социальных групп – явление очевидно ситуативное, да и сами социальные группы есть общности весьма изменчивые. Если же говорят, что один народ революционен, а другой, наоборот, реакционен, то это характеристика сущностная.
Энгельс как раз и утверждает, что большинство народов Центральной и Восточной Европы к носителям прогресса не принадлежит. Они контрреволюционны. И отсюда – важнейший вывод об исторической миссии революции, которая в советском истмате была замаскирована классовой риторикой. Из рассуждений Энгельса следует, что мировая революция призвана не только открыть путь к более прогрессивной общественно-экономической формации. Она должна погубить большие и малые народы и народности, не принадлежащие к числу прогрессивных. Вчитаемся в этот прогноз основателей марксизма: «Всем остальным большим и малым народностям и народам [то есть, за исключением прогрессивных – С. К-М] предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции».
Ясно, что так ставить вопрос можно только в том случае, если контрреволюционность народа рассматривается как примордиально данное свойство.
В виду перспективы «погибнуть в буре мировой революции» эти народы, в соответствии с концепцией Энгельса, просто вынуждены быть контрреволюционными. И хотя такое их отношение к революции, которая является для них смертельной угрозой, следовало бы считать вполне разумным и оправданным и оно должно было бы вызывать у гуманистов сочувствие, Энгельс подобный сентиментализм отвергает.
Он пишет в другой статье («Демократический панславизм»): «На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам» [57, с. 306].
Здесь проявляется жесткий эссенциализм взглядов Энгельса на этничность. Контрреволюционность славян (за исключением поляков) и особенно русских есть сущность неустранимая. Никакие обещания исправиться и стать демократами не должны разжалобить сердце революционных немцев и поляков. Энгельс особо подчеркивает, что речь идет о войне народов. Вот, например, он пишет уже в июне 1849 г.: «Европейская война, народная война, стучится в дверь. Через несколько недель, быть может уже через несколько дней, армии республиканского Запада и порабощенного Востока столкнутся друг с другом на немецкой земле в решающем бою» [58].
Согласно его трактовке, в 1848 г. реакционный Восток, как и во время арабского, монгольского и турецкого нашествий, поднялся против прогрессивного Запада («против всего европейского развития. А там, где речь шла о спасении последнего, какую роль могли играть несколько таких давно распавшихся и обессиленных национальностей, как австрийские славяне..?»).
Некоторые считают, что в этих статьях выразилась русофобия Энгельса. Да, выразилась, основоположники марксизма своей русофобии и не скрывали[39]. Но русофобия для нас сейчас вещь второстепенная по сравнению с фундаментальными положениями, которые здесь просто иллюстрируются конкретными случаями взаимоотношений конкретных народов – славян, венгров, немцев.
Да и не только о славянах говорит Энгельс как о реакционных народах. Он пишет в другом месте: «В Вене хорваты, пандуры, чехи, сережаны и прочий сброд задушили германскую свободу» [59].
Из представлений о неустранимых качествах народов следуют и практические выводы о предпочтительном типе межнациональных отношений между прогрессивными и реакционными нациями. Что значит «решительный терроризм против славянских народов»? Вот как предвидит Энгельс развитие событий в том случае, если «на один момент славянская контрреволюция нахлынет на австрийскую монархию»: «При первом же победоносном восстании французского пролетариата, которое всеми силами старается вызвать Луи-Наполеон, австрийские немцы и мадьяры освободятся и кровавой местью отплатят славянским народам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом» [56, с. 186].
Прогресс, которому служат избранные (революционные) нации, оправдывает средства. Энгельс пишет: «Конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали несколько нежных национальных цветков. Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается, и если бы Александр, Цезарь и Наполеон отличались таким же мягкосердечием, к которому ныне апеллируют панслависты в интересах своих ослабевших клиентов, что стало бы тогда с историей!» [57, с. 298].
Чтобы наглядно объяснить свою позицию по отношению к славянским народам, Энгельс проводит аналогию с явлением, которое ему кажется очевидно справедливым и прогрессивным – захватнической войной США против Мексики с отторжением ее самых богатых территорий. Он даже мысли не допускает, что кто-то может бросить упрек США за эту войну.
Вот это рассуждение: «И бросит ли Бакунин американцам упрек в «завоевательной войне», которая, хотя и наносит сильный удар его теории, опирающейся на «справедливость и человечность», велась тем не менее исключительно в интересах цивилизации? И что за беда, если богатая Калифорния вырвана из рук ленивых мексиканцев, которые ничего не сумели с ней сделать? И что плохого, если энергичные янки быстрой разработкой тамошних золотых россыпей умножат средства обращения, в короткое время сконцентрируют в наиболее подходящих местах тихоокеанского побережья густое население, создадут большие города?.. Конечно, «независимость» некоторого числа калифорнийских и техасских испанцев может при этом пострадать; «справедливость» и другие моральные принципы, может быть, кое-где будут нарушены; но какое значение имеет это по сравнению с такими всемирно-историческими фактами?» [56, с. 292–293].
Право «жизнеспособной» нации на угнетение более слабых народов кажется Энгельсу настолько очевидным, что он даже переходит на иронический тон: «Поистине, положение немцев и мадьяр было бы весьма приятным, если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых «прав»! Между Силезией и Австрией вклинилось бы независимое богемско-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южнославянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средиземному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное земледелие и культуру!» [57, с. 206].
Отбрасывая классовую риторику и представляя историю как «борьбу народов», Энгельс прибегает к натурализации общественных явлений, предвосхищая идеологию социал-дарвинизма. Прежде всего, речь идет о биологизации этнических свойств. Для характеристики народов и разделения их на «высшие» и «низшие» он вводит натуралистическое понятие жизнеспособности. Как богатство в учении о предопределенности является симптомом избранности, так и в концепции Энгельса «жизнеспособность» служит признаком прогрессивности нации и подтверждает ее права на угнетение и экспроприацию «нежизнеспособных».
Стоит заметить, что понятие жизнеспособности как критерий для наделения народов правами Энгельс употреблял до конца жизни, присущая всей этой концепции биологизация этничности вовсе не была его ошибкой молодости. Видимо, истоки ее – в примордиализме представлений об этничности, которым была проникнута немецкая романтическая философия («кровь и почва»). Под этим примордиализмом лежит и подоснова – приверженность Маркса и Энгельса к натурализму, к биологизации общественных отношений.
Каковы же у Энгельса показатели «жизнеспособности»? Прежде всего, для него это способность угнетать другие народы: «Если восемь миллионов славян в продолжение восьми веков вынуждены были терпеть ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр, то одно это достаточно показывает, кто был более жизнеспособным и энергичным – многочисленные славяне или немногочисленные мадьяры!» [57, с. 297]. Здесь критерием служит сам факт угнетения. Жизнеспособен именно угнетатель – значит, он и прогрессивен. Энгельс так сердит на неблагодарных славян, цивилизованных угнетателями-мадьярами, что даже бросает упрек последним: «Единственное, в чем можно упрекнуть мадьяр, – это в излишней уступчивости по отношению к нации, по самой природе своей контрреволюционной» [57, с. 298]. Вот образец примордиализма: «нация, по самой природе своей контрреволюционная».
В своей концепции истории и в антропологии Маркс и Энгельс следовали представлениям эволюционизма. Энгельс к тому же считал, что благоприобретенные признаки наследуются человеком и в последующих поколениях превращаются в устойчивые этнические признаки. Он писал, например: «Формы мышления также отчасти унаследованы путем развития (самоочевидность, например, математических аксиом для европейцев, но, конечно, не для бушменов и австралийских негров)» [60, с. 629]. Судя по всему, термин «унаследованы» здесь понимается буквально, в биологическом смысле. Ведь откуда иначе возьмется «самоочевидность математических аксиом» у неграмотных европейцев? Личные навыки образованных европейцев прошлых поколений превратились, по мнению Энгельса, в этническое качество. У бушменов и австралийских негров этого не происходит – не тот геном.
В своих рассуждениях Энгельс отбрасывает беспристрастность и выступает с позиции политической целесообразности. Перед этим он писал, что немцы и мадьяры угнетали «славянские племена» (чехов, хорватов, сербов и др.), а те покорно терпели – что и оправдывало их угнетение, поскольку свидетельствовало об их низкой «жизнеспособности». В 1848 г. славяне выступили против своих угнетателей – именно за свою свободу, чтобы сбросить «ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр». Энгельс этого и не отрицает: «Южные славяне, уже тысячу лет тому назад взятые на буксир немцами и мадьярами… поднялись в 1848 году на борьбу за восстановление своей национальной независимости» [56, с. 184]. Тут бы и похвалить их за проявление жизнеспособности. Нет, в их стороны сыплются проклятья.
В 1847 г., Энгельс, стоя на митинге рядом с Марксом, говорит знаменитую фразу: «Никакая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации». Формула эта предельно обобщенная – «никакая нация не может…». Казалось бы, через год он должен был бы напомнить эту формулу немецким и мадьярским борцам за свободу и призвать их к национальному освобождению славян. Как мы видели выше, ничего подобного не произошло – он призвал их к кровавому терроризму против славян. Значит, практическое поведение народа – всего лишь не имеющая значения видимость. Она нисколько не меняет той скрытой сущности народа, которую прозрел Энгельс.
Обсуждая с Энгельсом проблемы этничности, Маркс также демонстрирует свою приверженность примордиализму. Более того, он благосклонно относится даже к рассуждениям, в которых этничность смешивается с расовой принадлежностью. Например, 12 сентября 1863 г. Маркс сообщает Энгельсу о своем новом знакомом: «Мое самое интересное знакомство здесь с полковником Лапинским. Без сомнения, он умнейший из всех поляков, встреченных мной, и кроме того – человек действия. Национальная борьба его не интересует, он знает только расовую борьбу. Он равно ненавидит всех азиатов, к которым причисляет русских, турок, греков, армян и т. д.» [61, с. 306].
Умнейший из поляков ненавидит русских и греков как азиатов и считает, что русские и поляки принадлежат к разным расам. Он перечисляет этносы, которые ненавидит, и готов вести с ними расовую борьбу, даже национальная борьба его не интересует.
У таких людей Маркс собирал сведения, которые могут интересовать только сторонника крайнего биологического примордиалиализма. В письме Энгельсу (24 июня 1865 г.) Маркс пишет: «Догма Лапинского, что великороссы не являются славянами, поддерживается данными лингвистики, истории и этнографии, приводимыми господином Духинским (из Киева, профессор в Париже). Он утверждает, что настоящие московиты, т. е. жители Великого Московского княжества, были в основном монголы или финны и т. п., как и на землях к востоку и на юго-востоке… Выводы Духинского сводятся к следующему: московиты узурпировали имя Россия. Они не являются славянами; они вообще не принадлежат к индо-европейской расе; они – des intrus [пришельцы], их надо выгнать обратно за Днепр и т. д. Я хотел бы, чтобы Духинский оказался прав, и, в любом случае, чтобы этот взгляд стал преобладающим среди славян» [62, с. 106–107].
Отвлечемся от тех мотивов, которые побуждали Маркса обнаружить в русских жилах монгольскую кровь, выгнать их обратно за Днепр и т. д. Вникнем в методологический смысл рассуждений. Казалось бы, какая разница во второй половине ХIХ века, с кем смешались и чье имя узурпировали русские в ХIII веке? Ведь все это – преданья старины далекой. Есть русский народ, есть Россия, со времени монгольского нашествия прошло несколько исторических эпох – так давайте в оценке идеологии и политики России исходить из реальности Нового времени. При чем здесь анализ крови? Если ему придается такое значение, что возникает желание сообщить об открытии всем славянам, то только потому, что именно в «крови», в расовой принадлежности таится, по мнению Маркса, неизменяемая со временем сущность московитов, которые коварно примазались к славянам.
В поисках оснований для объяснения реакционных свойств русского народа Маркс с интересом относится к сведениям о происхождении русских, как будто это дает ключ к пониманию их культурных установок в ХIХ веке. Он подхватывает нелепые гипотезы о том, что русские – не славяне. В письме Энгельсу (10 декабря 1864 г.) Маркс спрашивает о его мнении относительно версии одного из деятелей английского рабочего движения Коллета «о Навуходоносоре и ассирийском происхождении русских» [62, с. 32]. Вот какова историческая глубина, до которой докапывается мысль примордиализма! Три тысячи лет.
Натурализация этничности не ограничивается у Маркса только биологизацией, «голосом крови». Он охотно подхватывает и теории о влиянии «почвы». Сообщая Энгельсу о новой книге, Маркс пишет (7 августа 1866 г.): «Очень хорошая книга, которую я пошлю тебе… это П. Тремо «Происхождение и видоизменение человека и других существ». Париж, 1865. При всех замеченных мной недостатках, эта книга представляет собой весьма значительный прогресс по сравнению с Дарвином… Применение к истории и политике лучше и содержательнее, чем у Дарвина. Для некоторых вопросов, как, например, национальность и т. п., здесь впервые дана естественная основа.
Например, он исправляет поляка Духинского, теорию которого о различиях в геологии России и западнославянских земель он в общем подтверждает, отмечая ошибочность его мнения, будто русские – не славяне, а скорее татары и т. д.; считает, что ввиду преобладающего в России типа почвы славяне здесь татаризировались и монголизировались; он же доказывает (он долго жил в Африке), что общий тип негра есть лишь результат дегенерации более высокого типа». Далее Маркс цитирует Тремо: «На одной и той же почве будут повторяться одни и те же характеры, одни и те же способности… Истинной границей между славянскими и литовскими расами, с одной стороны, и московитами – с другой, служит главная геологическая линия, проходящая севернее бассейнов Немана и Днепра… К югу от этой главной линии задатки и типы, свойственные этой области, отличаются и всегда будут отличаться от тех, которые свойственны России» [62, с. 209–210].
Итак, «естественную основу национальности» Маркс надеялся получить у Дарвина, но в приложении «к истории и политике лучше и содержательнее, чем у Дарвина» оказалась концепция П. Тремо, согласно которой характер русских предопределен почвой, которая образовалась к северу от Немана и Днепра. Тут-то и проходит граница между славянскими расами и московитами! Это – примордиализм, слишком дремучий для 1866 г.
Однако и в отношении восточных и южных славян установки основателей марксизма не намного мягче, чем в отношении московитов (неважно даже, монголы ли они, ассирийцы или татаризированные славяне). В представлении Энгельса славяне – это расползшаяся по Европе «империя зла», как коммунизм для Рейгана или А.Н. Яковлева. Энгельс приписывает им совершенно дьявольские замыслы: «Славяне, оттесненные к востоку немцами, покоренные частично немцами, турками и венграми, незаметно вновь объединяя после 1815 г. отдельные свои ветви… впервые заявляют теперь о своем единстве и тем самым объявляют смертельную войну романо-кельтским и германским народам, которые до сих пор господствовали в Европе. Панславизм – это не только движение за национальную независимость; это – движение, которое стремится свести на нет то, что было создано историей за тысячелетие; движение, которое не может достигнуть своей цели, не стерев с карты Европы Турцию, Венгрию и половину Германии, а добившись этого результата, не сможет обеспечить своего будущего иначе, как путем покорения Европы… Он ставит Европу перед альтернативой: либо покорение ее славянами, либо разрушение навсегда центра его наступательной силы – России» [52].
Здесь дана картина якобы тысячелетней, неизбывной и непримиримой вражды между славянами с одной стороны и романо-кельтским и германским народами с другой. Такой взгляд присущ именно жесткому примордиализму. Стоит также заметить, что идеологический миф о панславизме как угрозе для Запада являлся во второй половине ХIХ века в Западной Европе разновидностью русофобии. Ведущий российский историк-славист В.К. Волков писал: «Возникший в Венгрии и сразу же распространившийся в Германии термин «панславизм» был подхвачен всей европейской прессой и публицистикой… Термин «панславизм» служил не столько для обозначения политической программы национального движения славянских народов… сколько для обозначения предполагаемой опасности» [63].
Невозможно привести ни единого факта завоевательных акций России и славянских народов в отношении Западной Европы; таких фактов попросту не было. И идеологический миф об угрозе «панславизма», как подчеркивает В.К. Волков, нередко распространялся «в пропагандистских целях правящими кругами тех стран, которые сами имели агрессивные намерения в отношении России».
Концепция, связывающая прогрессивность или реакционность с этнической принадлежностью, дается в самых разных вариациях, иногда в крайних выражениях. Вот, например, в такой форме: «Потому, что слова «поляк» и «революционер» стали синонимами, полякам обеспечены симпатии всей Европы и восстановление их национальности, в то время как чехам, хорватам и русским обеспечены ненависть всей Европы и кровавая революционная война всего Запада против них» [57, с. 303].
Биологический примордиализм Маркса и Энгельса подкрепляется и историко-эволюционным. Изначально данной народам сущностью становится дух, наличие или отсутствие которого и делит народы на две категории – исторические и неисторические. Тем народам, которые «не имеют истории», в национальном существовании, по мнению Энгельса, будет отказано.
Энгельс пишет: «Право больших национальных образований Европы на политическую независимость, признанное европейской демократией, не могло, конечно, не получить такого же признания в особенности со стороны рабочего класса. Это было на деле не что иное, как признание за другими большими, несомненно жизнеспособными нациями тех же прав на самостоятельное национальное существование, каких рабочие в каждой отдельной стране требовали для самих себя. Но это признание и сочувствие национальным стремлениям относилось только к большим и четко определенным историческим нациям Европы; это были Италия, Польша, Германия, Венгрия… Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты» [64, с. 160].
Ранее Энгельс на примере чехов и словаков объяснял, кто после мировой революции будет лишен права на национальное существование. Он писал: «Народы, которые никогда не имели своей собственной истории, которые с момента достижения ими первой, самой низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную власть или лишь при помощи чужеземного ярма были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, нежизнеспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность. Именно такова была судьба австрийских славян. Чехи, к которым мы причисляем также моравов и словаков… никогда не имели своей истории… И эта «нация», исторически совершенно не существующая, заявляет притязания на независимость?» [57, с. 294].
Критерии, с которыми Энгельс подходит к предопределению судьбы народов, совершенно ясны. Он – на стороне «высшей расы», которая не только имеет право, но и обязана «поглощать умирающие нации», выполняя тем самым свою цивилизаторскую миссию.
Он так пишет об исходе столкновения славян и немцев во время революции 1848 г.: «Так закончились в настоящее время [в 1849 г.] и, весьма вероятно, навсегда попытки славян Германии восстановить самостоятельное национальное существование. Разбросанные обломки многочисленных наций, национальность и политическая жизнеспособность которых давным-давно угасли и которые поэтому в течение более тысячи лет были вынуждены следовать за более сильной, покорившей их нацией… эти умирающие национальности: чехи, каринтийцы, далматинцы и т. д., попытались использовать общее замешательство 1848 г. для восстановления своего политического status quo, существовавшего в 800 г. нашей эры. История истекшего тысячелетия должна была показать им, что такое возвращение вспять невозможно; что если вся территория к востоку от Эльбы и Заале действительно была некогда занята группой родственных славянских народов, то этот факт свидетельствует лишь об исторической тенденции и в то же время о физической и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению и ассимиляции своих старинных восточных соседей; он свидетельствует также о том, что эта тенденция к поглощению со стороны немцев всегда составляла и составляет одно из самых могучих средств, при помощи которых цивилизация Западной Европы распространялась на востоке нашего континента… и что, следовательно, естественная и неизбежная участь этих умирающих наций состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения более сильными соседями» [65, с. 84].
Что же побудило обратиться сегодня к представлениям об этничности, из которых исходили Маркс и Энгельс? В какой мере их труды середины ХIХ века ответственны за то, что поколения партийной элиты СССР середины ХХ века «не знали общества, в котором живем», – оказались несостоятельны в понимании назревающих в СССР процессах в сфере этнических отношений? Если бы методологические инструменты, изготовленные Энгельсом, остались втуне, они нас сейчас не интересовали бы. Но поскольку в представлениях об этничности примордиализм, освященный авторитетом марксизма, господствовал вчера и господствует сегодня, надо их изучать, а роль в этом лично Маркса и Энгельса никакого значения не имеет.
Мы стоим перед фактом, который невозможно отрицать: советское обществоведение, в основу которого была положена марксистская методология, оказалось несостоятельным в предсказании и объяснении нашего кризиса национальных отношений. Речь идет о фундаментальных ошибках, совершенных целой социальной группой, так что объяснять эти ошибки глупостью, продажностью или предательством отдельных членов или клик в среде партийной интеллигенции невозможно. Те методологические очки, через которые она смотрела на мир, фатальным образом искажали реальность.
Критический анализ методологического оснащения доктрины марксизма является для постсоветского общества абсолютно необходимым, а для интеллигенции он представляет профессиональный долг. Этот анализ тем более актуален, что как правящая элита, так и оппозиция в РФ продолжают, хотя частью бессознательно, в своих умозаключениях пользоваться интеллектуальными инструментами марксизма – смена идеологических клише «победившей» частью общества на это никак не влияет.
Как показал опыт, эффективные программы по мобилизации или, наоборот, разрушению обществ реально проводятся путем обращения не к классовым понятиям, а к понятиям этничности (племя, народ, нация). Последняя кампания холодной войны, которая привела к поражению СССР, это показала красноречиво. Она вся была проведена с упором на этнические категории и мотивы. В одних случаях растравлялись, гипертрофировались и актуализировались национальные противоречия в прямом смысле слова. В других случаях применялась манипуляция с демократическими ценностями – демагоги обращались к демосу, то есть, опять-таки к «народу», а не классу. Перестройка представлялась как война двух народов – демоса и совков. С прямым обращениям к квазиэтническим категориям выходили на площадь актеры и режиссеры «оранжевых» революций, а сами эти революции представлялись битвой «прогрессивного» и «реакционного» народов.
Это современное знание, на базе которого оказывается возможным создание эффективных технологий мобилизации или подрыва этничности, систематизировано в парадигме конструктивизма (даже если технологи эксплуатируют примордиалистские стереотипы массового сознания). Российская интеллигенция, по инерции приверженная унаследованному от исторического материализма примордиализму, оказывается в нынешней «битве народов» интеллектуально небоеспособной.
Литература
1. Л.С. Васильев. История Востока. В 2-х т. – М.: Высшая школа, 1994. – 495 с.
2. К. Янг. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
3. К. Нагенгаст. Права человека и защита меньшинств: этничность, гражданство, национализм и государство. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
4. Э. Кисс. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические процессы. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
5. В. Дарре. Историю создавало германское крестьянство. В кн.: Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М., 2003. С. 183.
6. В. Малахов. Преодолимо ли этноцентричное мышление? – В кн. «Расизм в языке социальных наук». СПб: Алетейя, 2002.
7. I. Wallerstein. World-Systems Analysis // Social Theory Today. Cambridge, 1987. Р. 320
8. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
9. А.В. Кудрин Этничность: есть ли предмет спора? – socioline.ru/_shows/secret.рhр?todo=text&txt.
10. В.А. Тишков. Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе. – «Вопросы философии». 1990, № 12.
11. П.А. Сорокин. Национальность, национальный вопрос и социальное равенство. – В кн. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, с. 248.
12. А.Й. Элез. «Этничность»: средства массовой информации и этнология. – В кн. «Этничность, толерантность и СМИ». М.: РАН. 2006.
13. И.Чернышевский. Русский национализм: несостоявшееся пришествие. – Отечественные записки, 2002, № 3.
14. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М.: Наука. 1983.
15. M. Sahlins. Uso y abuso de la biología. Madrid: Siglo XXI Ed., 1990.
16. С.Е. Рыбаков. Этничность и этнос – «Этнографическое обозрение». 2003. № 3.
17. Е.А. Веселкин. Культурная антропология США: теория и действительность. В кн.: Этнологическая наука за рубежом. М.: Наука. 1991.
18. В.В. Коротеева. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: Изд-во РГГУ, 1999.
19. К. Вердери. Куда идут «нация» и «национализм»? – httр://www.рraxis.su/text/16/
20. М. Салинс. Горечь сладости или нативная антропология Запада – -murza.ru/anthroрology/Gorech005.html.
21. М. Малкей. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983.
22. С.Г. Кара-Мурза. Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм. 2003.
23. В.А. Тишков. Интервью 25 января 1994 г. М.: ИСИ РАН. 1994.
24. В. Малахов. Скромное обаяние расизма– В. кн. «Скромное обаяние расизма и другие статьи». М.: Модест Колеров – ДИК. 2001. (httр://intellectuals.ru/malakhov/izbran/9nost.htm).
25. В. Д. Соловей. Русская история: новое прочтение» (М.: АИРО-XXI, 2005.
26. С.Н. Булгаков. Расизм и христианство. – В кн.: Протоиерей Сергий Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. Рaris: YMCA-Рress. 1991. ()
27. Л.Н. Гумилев. Этногенез и биосфера земли. – Л., 1989.
28. Ф. Энгельс. Соч., т. 34, с. 137.
29. К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. 3.
30. С.А. Токарев. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа. 1978.
31. В.Ж. Келле, М. Ковальзон. Исторический материализм. М.: Высшая школа. 1969.
32. С.А. Токарев. Андре Леруа-Гуран и его труды по этнографии и археологии. – В кн.: Этнологические исследования за рубежом. М.: Наука. 1973.
33. М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. – В кн.: М.Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
34. А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоретических парадигм. – «Социологический журнал», 2003, № 3.
35. Т.М. Фадеева. Социальные революции и традиции: точка зрения консерваторов. – СОЦИС. 1991, № 12.
36. И.А. Сикорский. Черты из психологии славян. Киев. 1895. – В кн.: Этнопсихологические сюжеты (из Отечественного наследия). М.: РАН, Институт философии. 1992.
37. Н.П. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма – «Россия ХIХ», 1992, № 1 и 1993, №№ 1, 4.
38. И.А. Сикорский. Характеристика черной, желтой и белой рас в связи с вопросами русско-японской войны. Киев, 1904. – httр://rusograd.hotmail.ru/rrt/sikorsky4.html
39. С.Н.Булгаков. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции). В кн.: С.Н.Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
40. Л.П. Карсавин. Государство и кризис демократии – «Новый мир». 1991, № 1.
41. И. Сталин. Марксизм и национальный вопрос. Соч., т. 2. С. 296.
42. Л. Гумилев. Этносфера: История людей и история природы. М., 1993.
43. Ф.С. Эфендиев, Т.А. Мазаева. Этнонациональные культуры в реалиях современного мира. – httр://рortal.rsu.ru/culture/rostovрub.doc.
44. Р. Абдулатипов. Парадоксы суверенитета. Перспективы человека, нации, государства. М., 1995.
45. Р. Хакимов. Сумерки империи. К вопросу о нации и государстве. Казань, 1993.
46. Э. Алаев. Региональные этнические конфликты. – «Федерализм». 1996, № 1.
47. Ю.В. Крупнов. Кто такие русские? – «Русский Переплет» 10.08.2002 (httр://www.рereрlet.ru/text/kruрnov09aug02.html).
48. Партия развития. Идеология развития страны. – httр://www.рartrazvi.ru/ideologiya/10/ (30.01.2007).
49. В.А. Шнирельман. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в ХХ веке. М. 2005. 696 с.
50. М. Ремизов. Национализм умер, да здравствует национализм! – httр://рelag.ru/geoculture/new_ident/geocultruss/nationalism/
51. К. Маркс. К еврейскому вопросу. Соч., т. 1.
52. Ф. Энгельс. Германия и панславизм. Соч., т. 11.
53. Р. Van den Berghe. Rehabilitating stereotyрes – «Ethnic and Racial Studies». 1997. Vol. 20, № 1.
54. С. Тамбиа. Национальное государство, демократия и этнонационалистический конфликт. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
55. С. Булгаков. От марксизма к идеализму. Сборник статей (1896–1903). СПБ., 1903. – Цит. в: А.А.Соболевская. Уроки о. Сергия Булгакова: поиски путей социально-экономического устройства России. «Преодоление времени». М.: МГУ, 1998. с. 373.
56. Ф. Энгельс. Борьба в Венгрии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 6.
57. Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6.
58. Ф. Энгельс. Революционное восстание в Пфальце и Бадене. Соч., т. 6.
59. Ф. Энгельс. Революционное движение. Соч., т. 6, с. 159.
60. Ф. Энгельс. Из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу». Соч., т. 20.
61. К. Маркс. Соч., т. 30, с. 306.
62. К. Маркс. Соч., т. 31.
63. В.К. Волков. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» – В кн.: «Славяно-германские культурные связи и отношения». – М., 1969.
64. Ф. Энгельс. Какое дело рабочему классу до Польши? Соч., т. 16.
65. Ф. Энгельс. Революция и контрреволюция в Германии. Соч., т. 8.
66. М.М. Соколов. Классовое как этническое: риторика русского радикально-националистического движения. – ПОЛИС. 2005, № 2.
67. R. Kaiser. The geograрhy of nationalism in Russia and the USSR. Рrinceton. 1994.
Раздел 3. «Силы созидания» народов
Сравнивая две главных концепции возникновения этнических общностей (примордиализм и конструктивизм), мы вскользь говорили, под влиянием каких условий и при участии каких социальных сил и общественных институтов складываются эти общности и превращаются в народы и нации. Здесь рассмотрим главные условия и силы подробнее. В описании процесса «созидания» народов конкурирующие концепции расходятся мало, огромный массив фактического материала в них структурирован примерно одинаково. Расхождения по поводу того, какие силы запускают этногенез – удар космического бича и рожденный им пассионарный толчок или решение монарха с его рыцарями – здесь выносятся за рамки модели.
Перед обсуждением главных составляющих этого массива фактов надо сделать пару общих замечаний. Первое состоит в том, что этничность мы воспринимаем как комбинацию большого числа признаков. Ни один из них не является монопольной принадлежностью какой-то одной общности. Поэтому действие какого-то фактора, порождающего тот или иной этнический признак, не выделяет какой-то один этнос из числа всех «иных». Он лишь делит общности на большие классы. Превращая всю совокупность условий и факторов, созидающих этничность, в небольшой перечень факторов, вырванных из их системного контекста, мы говорим о классах, подтверждая мысль примерами индивидуальностей.
При обсуждении одного фактора мы, строго говоря, должны были бы описать его действие во всем многообразии условий. Это невозможно, и авторы обычно прибегают к примерам – полагая, что читатель в уме прикинет несколько аналогичных, но слегка иных ситуаций. Такое усилие надо делать, иначе метод «примеров» применять нельзя – сразу находится пример, отличный от того, который привел автор. Разное восприятие пространства рождает разные этнические черты у славян Киевской Руси и их соседей половцев. Но на деле мы говорим в данном случае не о славянах и половцах, а о двух классах этносов – оседлых и кочевых. Последовательное деление на классы по разным признакам приводит к появлению на нашей «карте» индивидуальных этносов.
Второе замечание состоит в том, что разнообразие ситуаций, в которых действуют силы созидания этничности, столь велико, что выявление жестких закономерностей почти невозможно – всегда находятся примеры, которые в данную закономерность не укладываются. Поэтому любая большая книга по этнологии полна видимых противоречий. Когда автор говорит о действии какого-либо фактора, повлиявшего на образование этноса, ему всегда приходится прибегать к абстракции, заостряя внимание на роли именно этого фактора, иначе рассуждение утонет в оговорках. В другом разделе и в другом контексте тот же автор приводит пример, как будто опровергающий сделанный ранее вывод, и читатель оказывается в затруднении.
Ничего не поделать, этногенез – система, обладающая большим разнообразием связей и очень динамичная. Любая этнологическая концепция указывает лишь на структуру ядра системы, хотя очень подвижная и противоречивая «периферия» в конкретных ситуациях может маскировать это ядро. Иными словами, говоря о действии какого-то одного фактора в созидании этнических связей, приходится прибегать к абстракции, предполагая, что действие (или бездействие) этого фактора происходит при прочих равных условиях. Предположение это заведомо неверное, поскольку и прочие условия всегда не равны. Этот метод мысленного эксперимента сложен – надо в уме держать всю систему и быстро «пробегать» разные комбинации, чтобы представить себе роль именно того фактора, который мы в данный момент обсуждаем.
При изучении таких объектов особое внимание надо обращать на те факты, не согласующиеся с общим выводом, которые имеют жесткий характер и задают ограничение для всей концепции. Надо стараться выделить, как говорят, условие sine qua non – то, без выполнения которого теорию нельзя принять никак. Примером служит факт отсутствия этничности у новорожденного ребенка и возможности приобретения им любых этнических черт в зависимости от воспитывающей его среды. Радикальный генетический примордиализм обходит этот факт молчанием или даже отрицает его, поскольку это – не просто слабое место концепции. Она с этим фактом несовместима в принципе, абсолютно. Если новорожденные этничности не имеют, значит, она не передается через генетический аппарат, а «навязывается» после рождения.
Здесь мы будем говорить именно о ядре проблемы, лишь вскользь упоминая о фактах, когда обсуждаемая сила созидания бездействует.
Глава 9. Этнизирующие «другие»
И примордиалисты, и конструктивисты выделяют в качестве очевидного условия для этнизации людей их контакт с другим (как говорят, этносы – категория сопоставительная). Иными словами, силой (или условием) созидания этноса всегда является иная этническая общность. Для появления самой ситуации, в которой возникает проблема своей этнической идентификации, требуется (наяву или в мыслях) внешний стандарт, особая система координат, чтобы определиться.
В одной недавней дискуссии писатель Андрей Столяров говорит об этом с точки зрения обыденного опыта: «У идентичности, в том числе национальной, есть странное свойство. Она существует лишь по отношению к соответствующему аналогу. Пока она не названа – ее как будто и нет. Но стоит лишь ее предъявить, стоит лишь назвать себя русским, евреем или татарином, как все остальные также вспоминают о своих национальных особенностях. То есть, идентичность по своей природе конфликтна. Проявление этнической идентичности одной стороной провоцирует такое же проявление и с другой» [1]. Видимо, слово «конфликт» здесь понимается в широком смысле, как оппозиция образов (этот подход в исследованиях этничности и называется оппозиционизм)
Дж. Комарофф (представитель конструктивизма) пишет: «Процесс становления любой конкретной формы этнического самоосознания происходит в условиях повседневных контактов между теми, кто этнизирует, и теми, кого этнизируют. Признаки этнизации регистрируются одновременно на экономическом и эстетическом уровнях. Они связаны с одновременным же и вполне земным процессом производства объектов и субъектов, знаков и стилей. Столь же обычно на них отражается принадлежность к мужскому или женскому полу, причем очень часто главными носителями различий выступают женщины, их тело и одежда. Строительным материалом для этих признаков служит множество вечно изменяющихся символов, ценностей и значений, составляющих живую, историческую культуру» [2, с. 43].
Л.Н. Гумилев (который следовал принципам примордиализма) также представляет контакт с иными необходимым условием самоосознания: «Соприкасаясь с другой нормой поведения в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать своим соплеменникам о чудачестве другого народа».
Еврейский поэт А. Межиров так сказал о евреях и русских как двух народах, служащих друг другу «зеркалом» для познания самих себя:
Они всегда, как в зеркале, друг в друге Отражены. И друг от друга прочь Бегут. И возвращаются в испуге, Которого не в силах превозмочь. Единые и в святости, и в свинстве, Не могут друг без друга там и тут И в непреодолимом двуединстве Друг друга прославляют и клянут.Важные для этнического самоосознания «значимые иные» меняются в зависимости от исторических обстоятельств. Так, для немцев в 20-е годы ХХ в. главными «иными» были англичане, которые воспринимались как основные победители в войне. В 30-е годы на первый план вышли евреи, из которых фашистская пропаганда сделала виновников всех национальных бед, а также славяне (прежде всего русские), которых предполагалось превратить во «внешний пролетариат» для немецкого национал-социализма.
Понятно, что выполнять роль этнизирующей силы, то есть той, которая побуждает к выработке тех или иных сторон собственной этнической идентичности, могут не всякие иные. Это должны быть те общности, стереотипы поведения которых прямо влияют на жизнь этнизируемых. Русским, живущим на Дальнем Востоке, приходится вырабатывать и воспроизводить свою этничность, соотнося себя с китайцами и корейцами, но стереотипы этнического поведения китайцев пока что не оказывают влияния на этногенез русских на Северном Кавказе.
Мой дед, семиреченский казак, рассказывая мне о своей жизни, постоянно поминал киргизов, с образом жизни и хозяйственной деятельности которых постоянно соотносили себя казаки их станицы Лепсинской. Когда в 1867 г. было учреждено Семиреченское казачье войско и туда переселили с Алтая часть сибирских (бийских) казаков, эта небольшая общность русских казаков переживала быстрый процесс этногенеза – в новой природной и этнической среде. Прошло всего 30 лет, и семиреченские казаки приобрели новые специфические этнические (культурные) черты, приспособленные к активной и полноценной жизни в этой новой среде.
В целом для русских как большого народа (нации) некоторые этнологи дают такую историческую «карту» важных для их этногенеза других: «Существенным для исследования русской нации как историко-политического и культурного конструкта было бы описание исторических метаморфоз и констант образов немцев в русском сознании. Для того чтобы понять, «что значит быть русским», необходимо вычленить те ключевые исторические сюжеты, символические ситуации, набор ключевых контрагентов, в контексте взаимодействия с которыми русское сознание определяет самое себя. Можно выявить, как различаются «референтные» группы (нации, этнические общности) для различных пластов русской общественной жизни и действующих здесь социальных акторов…
В русской культуре было несколько доминантных контрагентов, несколько «исторически значимых Других», определяя которые, конструируя их узнаваемые образы, формировалась собственная русская идентичность. В этнокультурной картографии значимых для русского восприятия Других – сходящие на нет былые, исторически доминантные контрагенты татар и поляков; сильное присутствие французов, хотя оно исторически неустойчиво и разновесно для разных социальных страт русского общества; сильное «сквозное» присутствие еврейства.
Но, вероятно, основным, определяющим контрагентом для русского восприятия еще с петровской эпохи являются немцы. Определения следуют как реакции вслед за некоторым историческим (культурным или военным) вызовом. Именно европеец в исконном или в американском исполнении – и сегодня составляет главный вызов для русского исторического сознания. Так что и сегодня русскость в качестве «особого национального характера» преимущественно определяется в соотнесении с европейским контрагентом» [3].
Здесь отмечена главная причина того, что «европеец» является стандартом, от которого отталкивается самоидентификация русских – именно он (в том числе в американском исполнении) составляет для них главный вызов. И вызов этот уже с ХVI века стал очевидным практически для всех (а в ХIII веке решение Александра Невского, оказавшегося перед угрозой двух одновременных нашествий – монголов и тевтонов – было очень смелым и далеко не очевидным). Причем вызов Запада проявлялся не только в военных нашествиях или их угрозе, но и в периодических волнах модернизации, проводимой по западным шаблонам с привлечением западных «экспертов».
И. Аксаков так писал о программе модернизации, начатой Петром: «Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались спешно, без критики, на веру выписанные из-за границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык – все было искажено, изуродовано, изувечено… Умственное рабство перед европеизмом и собственная народная безличность провозглашены руководящим началом развития…» [4].
Уже с начала ХVI века Запад стал особой цивилизацией, для существования которой была необходима экспансия. Он «вышел из берегов» и предстал перед почти всеми народами мира – в качестве путешественников, миссионеров и завоевателей. Западные европейцы стали для других народов этнизирующими иными. При этом и они сами сплачивались, этнизировались как европейцы, противопоставляя себя иным. Важным средством для этого стали всякого рода фобии – страхи и ненависть к иным. Прежде всего, к тем, от которых исходил вызов, и к тем, кого Запад подавлял и угнетал – и потому ожидал угрозы, которая до поры до времени таится под маской покорности.
Например, когда Россия возродилась после татарского ига в виде Московского царства, на Западе началась программа выработки интеллектуальных и художественных оснований русофобии. О ней надо помнить без эмоций, хладнокровно – ведь так европейцы защищали свою идентичность, боялись соблазна русскости. Но и игнорировать этот их способ защиты нельзя.
Прежде всего, русских представляли жителями восточной и мифологической страны. В первой половине шестнадцатого века Рабле ставил в один ряд «московитов, индейцев, персов и троглодитов». Все непонятное внушает страх и неприязнь – даже если иной обладает непонятными свойствами, которые вызывают уважение. В апреле 1942 г., еще не веря в неизбежность поражения, Геббельс писал: «Если бы в восточном походе мы имели дело с цивилизованным народом, он бы уже давно потерпел крах. Но русские в этом и других отношениях совершенно не поддаются расчету. Они показывают такую способность переносить страдания, какая у других народов была бы совершенно невозможной» (цит. по [5]).
Ненависть к русской революции, ненависть «крестового похода» Гитлера, ненависть «холодной войны», да и нынешняя «оранжевая» ненависть – это железный занавес, которым западные европейцы (также и в лице американцев) защищают их этническую самость от вирусов русской мировоззренческой матрицы. Это история уже пяти веков. Дж. Грей пишет об этом: «Рефлекторная враждебность Запада по отношению к русскому национализму… имеет долгую историю, в свете которой советский коммунизм воспринимается многими в Восточной и Западной Европе как тирания Московии, выступающая под новым флагом, как выражение деспотической по своей природе культуры русских» [6, с. 71].
Вызов исламского мира, который к тому же европейцы в ХIХ веке решились колонизовать, породил на Западе целое культурное и интеллектуальное течение – ориентализм, – которое представляло арабов (и вообще жителей «Востока») экзотическими, странными существами. Египетский историк и философ Самир Амин замечает: «В XIX веке искомая неполноценность семитов Востока конструируется на базе их гипотетической «аномальной сексуальности» (впоследствии этот тезис был перенесен на негритянские народы). Сегодня с использованием психоанализа те же самые дефекты восточных народов объясняются… их крайней «сексуальной подавленностью»!» [7, с. 92].
Во время колониальных захватов – для очистки земли от туземцев, работорговли и жестокой эксплуатации – требовалось создание идеологии расизма, выводящей туземных иных за рамки принятых в западном гражданском обществе представлений о человеке и его правах. Одновременно свои повязывались круговой порукой этнической солидарности. Идеологи жадно хватались за любую научную теорию, манипулируя которой можно было «рационально» подтвердить расистские представления о «цветных» как не вполне людях. Историк генетики Ч. Розенберг отмечает: «С принятием дарвинизма гипотетические атрибуты нервной системы цивилизованного человека получили верительную грамоту эволюционизма… Считалось, буквально, что примитивные народы были более примитивными, менее сложными в отношении развития головного мозга» [8, с. 291].
Сейчас, когда гражданское общество западных стран оказалось неспособно к поддержанию «цивилизованных» межэтнических отношений с массой дешевой рабочей силы, завезенных из бывших колоний, сплочение своих опять достигается с помощью архаических фобий. Европейцы снова денационализируются и этнизируются у себя дома – и тем этнизируют иммигрантов. Этнонационалисты Ле Пена завоевывают электорат Франции.
В. Малахов пишет: «Повседневный опыт свидетельствует, что мигранты неевропейского происхождения становятся жертвами нападений расистов независимо от того, являются они французскими гражданами или нет (как в известном анекдоте советских времен: «Бьют по морде, а не по паспорту»). Не спасает «цветных» мигрантов от расистского насилия и акультурация: в глазах активистов «Национального фронта» и ему подобных организаций темнокожие по определению не могут быть французами, сколь бы хорошо они ни владели французским языком и сколь бы глубоко они ни усвоили основные ценности французской культуры. Получается, что даже тем мигрантам, кто ради интеграции готов пойти на полную культурную конформность, вход в гражданское сообщество заказан. Тем самым они объективно подталкиваются к этнической консолидации и, соответственно, к сохранению культурной идентичности, отличной от культуры «господствующего этноса» [9].
Более того, особым случаем воздействия «иных», активизирующего этногенез, надо считать глубокий конфликт внутри самого этноса, приводящий к его расщеплению. Возникают субэтносы, которые в дальнейшем могут разойтись как разные народы. Примерами таких конфликтов могут служить большие религиозные расколы, как Реформация в Европе, разделение мусульман на шиитов и суннитов, раскол православных в России в ХVII веке. Этот раскол породил значительный по величине субэтнос русского народа – старообрядцев, с их особым укладом жизни, особым распространением по территории России, своей особой системой коммуникаций и стереотипами поведения. Это не привело к разделению на народы, но в других случаях доходило и до этого (как, например, в случае разделения одного большого народа на сербов, хорватов и боснийских мусульман[40]).
В настоящее время, когда значительная часть русских после развала СССР оказалась отделенной от основной массы своего народа государственными границами, когда этническая структура населения русских городов резко усложняется вследствие вызванной кризисом интенсивной миграции, практически важным становится накопленное в науке знание о способах межэтнического общения и даже способах изучения иных. В основном эти способы осваиваются на опыте, но «наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни»
Говоря о прикладном значении конструктивизма, А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев приводят такое соображение: «Конструктивизм описывает веер социальных стратегий и через них выходит к «реалиям», «контекстам», где пытается показать, какие переменные и каким образом влияют на вероятность и силу этих стратегий. В одном из интересных исследований, посвященных постсоветской ситуации, описываются вероятные траектории развития идентичности русских, оставшихся в качестве диаспоры в новом зарубежье [10]. Норвежский исследователь Пол Колсте вычленяет не только возможные типы эволюции идентичности (как истинный конструктивист, он предпочитает говорить о «формировании идентичностей»), но рассматривает набор факторов, которые делают одни из типов более вероятными, нежели другие. Основной тезис П. Колсте состоит в том, что эти факторы «действуют весьма различно в разных нерусских государствах-преемниках, и нет оснований полагать, что у всех русских, живущих вне пределов Российской Федерации, будет формироваться одна и та же идентичность. Напротив, скорее следует ожидать, что в итоге значительное число этих русских обретет идентичность, отделяющую их от русского ядра» [3].
Глава 10. Вызов и угрозы
Важным фактором этногенеза, сплачивающим людей в народ, является осознанная угроза его существованию или утраты благоприятных условий существования – вызов. Необходимость сопротивления, оппозиции вызову, создает сильные связи солидарности, вплоть до соединения народа в подобие военного ополчения.
Русский народ испытывал угрозы военных нашествий практически все время своего существования, что и предопределило очень многие специфические черты его культуры и национальной организации. Историк С.М. Соловьев насчитал за период с 1055 по 1462 г. 245 нашествий на Русь и внешних столкновений. А на период с 1240 по 1462 г. из этих 245 пришлось 200 – война почти каждый год.
И.Л. Солоневич пишет: «Перед Россией со времен Олега до времен Сталина история непрерывно ставила вопрос «быть или не быть»? «Съедят или не съедят»? И даже не столько в смысле «национального суверенитета», сколько в смысле каждой национальной спины: при Кончаках времен Рюриковичей, при Батыях времен Москвы, при Гитлерах времен коммунизма, социализма и прочих научных систем дело шло об одном и том же: придет сволочь и заберет в рабство. Причем ни одна последующая сволочь не вынесет никаких уроков из живого и грустного опыта всей предшествующей сволочи. Тысячелетний «прогресс человечества» сказался в этом отношении только в вопросах техники: Кончаки налетали на конях, Гитлеры – на самолетах. Морально политические основы всех этих налетов остались по-прежнему на уровне Кончаков и Батыев. Ничего не изменил даже и тот факт, что на идейном вооружении Кончаков и Батыев не было ни Гегеля, ни Маркса» [11, с. 263].
В нашей истории с момента, когда завершалось формирование русского народа, то есть после освобождения от татарского ига, возникло общее ощущение того исторического вызова, которым служила для него экспансия Запада после разделения христианства в ХI веке.
Рыцарские ордена, наступавшие на русские земли под знаменами Крестовых походов, угрожали восточным славянам ассимиляцией и окатоличиванием – поэтому Александр Невский стал одним из главных святых для русского народа. Соответственно, и для народов Западной Европы существование русских (а затем возникновение и укрепление России) стало восприниматься как исторический вызов. Как писал Н.Я. Данилевский, «каковы бы ни были разделяющие Европу интересы, все они соединяются в общем враждебном чувстве к России». С Запада для русских исходила главная опасность военной угрозы. Таким было и состояние советского народа во время Великой Отечественной войны – по историческим меркам совсем недавно.
Война – это крайний случай. Любая необходимость сплочения людей для того, чтобы срочно разрешить общую проблему, может быть представлена как вызов народу. Для этого разрешение проблемы должно быть истолковано как борьба. А значит, должен быть создан образ врага, от которого исходит угроза народу как целому. На нашей памяти была проведена целая серия больших кампаний всенародной борьбы, в которых шаг за шагом достигалось сплочение советского народа. Проект НЭП, в целом представленный как борьба с разрухой после непрерывной семилетней войны, включал в себя ряд больших программ ответа на исторические вызовы. Они затрагивали разные срезы сознания всех социальных слоев. Можно вспомнить программу борьбы с неграмотностью, в которую была вовлечена значительная часть интеллигенции на национальной основе, большие программы борьбы с массовыми заболеваниями и причинами массовой детской смертности, в которую включились медицинские работники, прежде служившие в белой армии, – тоже как в общенациональное дело. Программа ГОЭЛРО вовлекла русскую техническую интеллигенцию. Борьба с пьянством – контингент бывших земских работников.
Все такие программы были организованы как общее дело, символический способ соединения людей, которому в общинной культуре народов России придавался смысл именно коллективного ответа на вызовы и угрозы. Одновременное ведение нескольких подобных программ на большой части территории страны связывало людей в народ. Огромной программой такого типа стала и индустриализация 30-х годов. Она изначально была истолкована как всенародный ответ на исторический вызов России – пройти за десять лет тот путь, который Запад прошел за сто лет, иначе нас сомнут.
Понятно, что сплачивающее народ воздействие могут иметь лишь программы, отвечающие на реальные вызовы и адекватные состоянию мировоззренческой матрицы общества. Несоответствие этих условий не дает возникнуть мобилизующей системе, и этого нельзя компенсировать интенсивностью и даже искусством пропаганды. Эффект может стать даже разлагающим. Так произошло с программой Хрущева (борьба с «культом личности», потом гонка за США «по мясу и молоку»), так же произошло с программой Горбачева («борьба за демократию и возврат в цивилизацию»). Пока что под вопросом и сплачивающий потенциал «национальных проектов» В.В.Путина – нет осознанного образа врага, нет исторического вызова и национального характера проектов.
Другой тип вызовов – это те, которые воспринимаются более узко, не «всенародно», а именно этнически. Они обычно действуют подспудно, «молекулярно». Чаще всего такому усилению этнического сознания и солидарности способствует неравенство социальных условий существования общности. Это проявляется в политизации этничности. Мобилизация этнического сознания побуждает людей к участию в борьбе, пробуждает простые и понятные чувства, не требующие сложной идеологической подготовки. Этнолог Дж. Ротшильд понимает эту мобилизацию как процесс «превращения этничности из психологического, культурного или социального фактора в собственно политическую силу с целью изменения или стабилизации сложившихся в обществе конкретных систем неравенства среди этнических групп» [12, с. 2].
Методы такой мобилизации этничности вырабатывались с глубокой древности, а в период национально-освободительных войн стали предметом интенсивной интеллектуальной и культурной деятельности почти во всех частях света. Соответственно, вырабатывались и методы нейтрализации этого механизма этногенеза, разрушения связей солидарности, порождаемых общей для этноса угрозой. Уже приводились слова Сунь Ятсена о том, что в начале ХХ века китайцы не осознавали той угрозы их национальному существованию, которую представляла собой экспансия Запада в Китае. Точно так же сегодня не осознают аналогичной (хотя во многом и новой) угрозы русские – и все попытки националистов мобилизовать этническое сознание русского народа оказываются безуспешными.
Средства, с помощью которых эти попытки блокируются, а этническая солидарность русских разрушается, оказываются более эффективными и совершенными. Не вдаваясь здесь в подробное обсуждение, можно заметить, что сильным и изощренным средством является провоцирование театральной ксенофобии (с организацией псевдофашистских групп и эксцессов с насилием на этнической почве), которая загоняет русское национальное чувство в тупик и потому блокируется самой русской культурой.
Сплачивающее воздействие вызова определяется не им самим, а его взаимодействием со сложной системой социальных, культурных и организационных факторов в самой общности, этнизируемой вызовом. Все эти факторы вместе представляют собой синергическую систему с сильными кооперативными эффектами, так что предсказать ее ответ на вызов теоретически невозможно – систему надо знать и чувствовать. В некоторых условиях русские быстро мобилизовались как народ, даже выступая под лозунгами интернационализма, а в других обстоятельствах были равнодушны к призывам националистов даже при господстве официальной православной и державной риторики.
М. Агурский в книге «Идеология национал-большевизма» пишет с оттенком удивления: «Особенно резкий подъем красного патриотизма вызвала война с Польшей в 1920 г. и военные действия Японии на Дальнем Востоке в 1920–1922 гг. Война с Польшей и Японией рассматривалась как национально-русская, несмотря на все коммунистические лозунги. Один из организаторов партизанской борьбы на Дальнем Востоке, Петр Парфенов, впоследствии председатель Госплана РСФСР, утверждал, что «военные действия партизан на Дальнем Востоке носили характер «русско-японской» войны! Это не случайная оговорка для Парфенова» [13].
Благодаря кооперативным эффектам, ответ на вызов мобилизованной этничности часто кажется иррациональным и по силе несоизмеримым вызову. Это и придает убедительность объяснениям этих явлений с позиции примордиализма. На деле, однако, анализ конкретных ситуаций указывает, скорее, на правоту методологии конструктивизма. Чтобы угроза или вызов проявили свою сплачивающую силу, всегда требуется точная интенсивная работа небольших групп или личностей, организующих цепную реакцию ответа. Иногда эта реакция выходит из-под контроля или даже принимает направление, не предусмотренное в проекте. Но для ее запуска и выведения в режим самовоспроизводства, тем более с ускорением, требуются слаженные действия.
Этнолог С. Лурье описывает две ситуации, которые могут служить хорошим учебным материалом. Первая из них – возникновение в Ленинграде новой сплоченной этнической общности проживающих там армян, соединенных начавшейся войной в Нагорном Карабахе. Мобилизация была проведена небольшой творческой группой интеллигенции. Это была почти экспериментальная ситуация быстрого этногенеза с последующей «разборкой» возникшей этнической общности, когда вызов был пережит и лишился своей мобилизующей силы.
С. Лурье, которая близко наблюдала этот процесс, пишет: «Их связала не столько этничность как таковая, сколько война, не столько эйфория «этнической мобилизации», сколько депрессия и ощущение безвыходности. Они все в этот период имели личную связь с Арменией и тонко ощущали происходящее там. Их объединяла не национальность как таковая, а наличие пережитого важного культурного опыта, который у них у всех приблизительно совпадал. И они выработали специфическую манеру поведения членов общины, если угодно, собственную символику и собственный код, зачастую другим членам общины не вполне понятный. Для них не была особенно значима национальная культура, тем более в ее этнографическом аспекте, не значим был и язык – говорили по-русски, но целью их было служить не локальным интересам этнической группы, а интересам Армении. В своем роде они были большими националистами, чем «профессиональные армяне», хотя в отличие от «профессиональных армян» никогда не были настроены антирусски, и они опять «стали русскими», когда кризис миновал.
Остаются вопросы: каким образом люди, давно отошедшие от этнической жизни, так быстро выработали новую армянскую символику (кстати, отличавшуюся от той, которая была распространена в Армении), связанную с партизанским движением в Турецкой Армении конца XIX века, на время вытеснив традиционную, связанную с древней армянской историей и пережитым Геноцидом? Как они так молниеносно выбрали наиболее адекватную линию поведения, связанную с сегодняшними общеэтническими интересами? И, наконец, почему, когда их роль была сыграна, не стали дальше «эксплуатировать» свою этничность, не перешли в «профессиональные армяне», а просто перестали интересоваться жизнью общины?» [14].
Этнологи, изучавшие процесс этнической мобилизации под воздействием сильной угрозы, отмечают это важное явление демобилизации, происходящей под влиянием нейтрализующих факторов внутри самой общности – материал конфликта «выгорает». К. Янг цитирует Ральфа Премдаса: «Я полагаю, что достаточно продолжительные этнические конфликты могут породить такой уровень солидарности, который окажется избыточным для ее носителей. После достижения определенного уровня [этой солидарности] начнет проявляться новый набор противоположных эффектов, отрицающих исходную ценность идеи группового единства… Это – «порог коллективного безумия». Как только групповое сознание достигает… определенной критической массы, оно уничтожает самих его носителей» (см. [15, с. 86]).
Другую ситуацию, которую описывает С. Лурье, все мы наблюдали совсем недавно. Речь идет о том, как провокация в западной прессе была воспринята как вызов исламскому миру, на который был дан взвешенный и организованный ответ, так что вся операция послужила укреплению национального чувства.
История вкратце такова. Осенью 2005 г. в датской газете были опубликованы карикатуры, оскорбившие религиозные чувства мусульман. Началось с детской книжки про ислам, иллюстрации для которой пригласили сделать карикатуристов. Карикатуры и напечатали в газете, с именем авторов. Датская мусульманская община подала на редакцию в суд, суд ее иск не удовлетворил. Датские мусульмане послали своих представителей в несколько исламских стран, где и обсудили ответные меры.
Решение о начале компании было принято в январе 2006 г. на саммите глав 57 мусульманских государств в Мекке. Было решено показать всему миру согласованные действия мусульман. Такое произошло впервые: о совместных действиях договорились сунниты, шииты и представители разных мусульманских сект, арабы, персы, турки, малайзийцы и индонезийцы. Во всем мусульманском мире прошли антиевропейские демонстрации. Европейские приверженцы ислама в большинстве своем не вышли на улицы, но и не дистанцировались от антизападных лозунгов и призывов к джихаду.
Митинги, демонстрации, погромы посольств проходили организованно, без лишних эмоций, все по сценарию. Не был убит и даже ранен ни один европеец. Все действия происходили на символическом уровне. «Ответ» был организован так, что представители всех религий, включая иудаизм, осудили публикации карикатур. Благодаря этому президент Ирана смог заявить, что те, кто высмеивают пророка, – это не христиане или иудеи, а люди, отрицающие Бога.
И вот важный вывод британской газеты «Таймс»: «Эти погромы предстают теперь в несколько ином свете – не просто спонтанным выбросом давно копившихся эмоций, но новонайденной технологией, сильным психологическим оружием мусульманского мира в его отношениях с миром немусульманским. Оружием, которое пока вызывает у Запада лишь растерянность и шок» [16].
Из этого описания видно, что эффективное использование провокационного вызова западных идеологических служб исламскому миру для мобилизации национальной идентичности самих мусульман стало возможным благодаря хорошей коммуникации и организационным усилиям политических, религиозных и культурных деятелей многих стран. Был запущен крупномасштабный процесс политизации этничности, направленный на четко обозначенные цели, и этот процесс нигде не вышел из-под контроля и не был перехвачен силами противника.
Эпизод с «карикатурами» показывает, какую роль в мобилизации этничности может сыграть чисто символическая сторона вызова. Подобные эпизоды происходят непрерывно. Например, в ходе операции «Возвращение надежды» в Сомали в 1993 г. американские и европейские военные вели себя слишком вольно и вызвали такой подъем этнического чувства, какого никто не ожидал от задавленного кризисом населения. «Возвращающие надежду» были изгнаны из бедной африканской страны с позором, трупы забитых палками морских пехотинцев США волокли по улицам сомалийских городков при стечении всех жителей. Как впоследствии показало разбирательство (в бельгийском суде), солдаты развлекались тем, что заставляли сомалийцев под дулом автомата есть свинину и иногда, вдобавок к этому, мочиться на тела погибших партизан[41].
Но этот эффект не возникает самопроизвольно, он не является реакцией каких-то «примордиально» заложенных в человеке духовных структур. Чтобы его вызвать и соответствующим образом направить, в общности должны быть люди или организации, способные выработать и осуществить целевую программу, большую или малую, по превращению культурного фактора в мобилизующую силу.
В историю вошло восстание сипаев (солдат-индусов в английской армии) в Индии в 1857–1859 гг. Поводом послужила мелочь, представленная как оскорбление религиозных чувств (причин для борьбы с англичанами было более чем достаточно, но необходима искра). Англичане ввели тогда новые ружейные патроны, смазанные жиром. Индуистам агитаторы сказали, что это жир священной коровы, а мусульманам – что это свиной жир. Патроны нужно было скусывать зубами. Солдаты отказывались это делать, англичане начали сурово расправляться с ними – 80 сипаев были приговорены к каторге. Кончилось это трехлетней резней с крайними жестокостями с обеих сторон. Восстание сипаев стало важной вехой в формировании национального сознания и развитии антиколониальной борьбы в Индии.
Красноречива ситуация противоположного типа. И реальные, и символические вызовы, перед которыми оказался русский народ с конца 80-х годов ХХ века, не привели к мобилизации его этнического самосознания. Оскорбления национальных символов русских доходили в некоторые моменты до крайности, что даже наводило на мысль об использовании этих оскорблений для экспериментального измерения «порога» национальной чувствительности. На эти демонстративные действия не было ответа не только адекватного, но и мало-мальски заметного. Попытки русских националистов апеллировать к национальному самолюбию не находили отклика. Это явление, видимо, интенсивно изучается этнологами и социологами, однако в открытой печати результатов не публикуется. Очевидно, однако, что те культурные средства, которые пытаются применить для мобилизации этнического чувства националисты, неадекватны духовным структурам современного русского общества.
Глава 11. Роль земли (территории, ландшафта)
Этнологи всех направлений подчеркивают роль земли в этногенезе. Одни говорят о «почве» (отсюда название одного из течений в национализме – почвенники), другие о территории, третьи, по-научному, о биогеоценозе. На обыденном языке мы говорим «родная земля», имея в виду не тот населенный пункт, где родились мы лично, а землю, породившую наш народ. Родная земля часто приобретает этнически окрашенный облик: «О, русская земля, ты уже за холмом».
В главной книге Л.Н. Гумилева есть раздел под названием «У народов есть родины!» Обсуждая значение территории на ранней стадии этногенеза, он пишет: «Не только у отдельных людей, но и у этносов есть родина. Родиной этноса является сочетание ландшафтов, где он впервые сложился в новую систему. И с этой точки зрения березовые рощи, ополья, тихие реки Волго-Окского междуречья были такими же элементами складывавшегося в XIII–XIV вв. великорусского этноса, как и угро-славянская и татаро-славянская метисация, принесенная из Византии архитектура храмов, былинный эпос и сказки о волшебных волках и лисицах. И куда бы ни забрасывала судьба русского человека, он знал, что у него есть «свое место» – Родина» [17, с. 180][42].
Много говорят о роли пространства в формировании народа и его культуры философы. Н. Бердяев писал: «Русская литература, как и русская культура вообще, соответствовала огромности России, она могла возникнуть лишь в огромной стране с необъятными горизонтами… Была необъятная русская земля, была огромная, могущественная стихия русского народа» [18].
Рассматривая этнос как биосоциальное явление, часть биосферы, Л.Н. Гумилев придавал ландшафту решающее значение в формировании этничности. Он писал: «Прямое и косвенное воздействие ландшафта на этнос не вызывает сомнений, но на глобальное саморазвитие – общественную форму движения материи оно не оказывает решающего влияния. Зато на этнические процессы ландшафт влияет принудительно. Все народы, селившиеся в Италии: этруски, латины, галлы, греки, сирийцы, лангобарды, арабы, норманны, швабы, французы, – постепенно, за два-три поколения, теряли прежний облик и сливались в массу итальянцев, своеобразный, хотя и мозаичный этнос со специфическими чертами характера, поведения и структурой, эволюционизировавшей в историческом времени» [17, с. 173].
Здесь, впрочем, Л.Н. Гумилев противоречит другому своему примеру – образованию и существованию в одном и том же ландшафте большого числа разных племен, которые не сливались в один народ и сохраняли свою самобытность. Он пишет: «Начиная с IX в. до н. э. и до XVIII в. н. э. в евразийской степи бытовал один способ производства – кочевое скотоводство. Если применить общую закономерность без поправок, то мы должны полагать, что все кочевые общества были устроены единообразно и чужды всякому прогрессу настолько, что их можно охарактеризовать суммарно, а детали отнести за счет племенных различий. Такое мнение действительно считалось в XIX и начале XX в. аксиомой, но накопление фактического материала позволяет его отвергнуть» [17, с. 170].
Связь ландшафта с культурой достаточно очевидна. Природные условия во многом определяют тип хозяйства, а значит, и человеческих отношений и организации общества. Например, в Англии в конце ХVIII века рабочая лошадь получала в год 120–130 пудов овса (примерно 5,7 кг в день), а в России в то же время лошадь получала 1,4–1,65 кг овса в сутки. Крестьянские лошади были мелкими, слабосильными и весной буквально падали от бескормицы. В 1912 г. в 50 губерниях страны был уже 31 % безлошадных хозяйств [19, с. 275]. Понятно, что вести индивидуальное хозяйство на хуторе русским крестьянам было рискованно, они жили в деревнях и берегли общину.
Таким образом, ландшафт сильно влияет на этногенез, но не предопределяет его ход. Обладание «своей землей», территориальная целостность – условие возникновения этноса, но она вовсе не является условием его существования. Многие этнологи вообще отвергают географический детерминизм Л.Н. Гумилева, и доводы их убедительны.
Помимо самой земли (ландшафта и территории) влияние на этногенез оказывает и такая символическая вещь, как граница. Граница территории уже в самых древних государствах приобретала священный смысл – она определяла пространство родной земли и часто становилась этнической границей. Внутри нее живет наш народ. Некоторые этнологи считают, что граница – это превращенный в часть культуры присущий животным инстинкт гнезда, норы (в общем, «периметра безопасности»). Замкнутая ограда, даже символическая, есть условие «морального и физического комфорта» – как для отдельной семьи, так и для народа. Согласно легенде, император Цинь Шихуанди, объединивший китайские царства, первым делом объехал границу нового государства.
П.Б. Уваров пишет: «Главной функцией монарха (и власти как таковой) является прямое, буквальное создание пространства определенности. Монарх, как верховный легитиматор, берет на себя обязанность установления порядка, т. е. состояния определенного соотношения элементов действительности, соответствующих Истине… При этом монарх выступает в качестве верховного легитиматора как социального, так и физического пространства. В деятельности традиционных правителей эти два пространства легитимации неразрывно взаимосвязаны, что, собственно говоря, вполне соответствует «фундаментальному императиву относительного единства управленческих институтов» Т. Парсонса: «Осуществление нормативного порядка среди коллективно организованного населения влечет за собой контроль над территорией» [20, с. 94–95].
Для формирования американской нации из европейских иммигрантов очень важным был образ фронтира – подвижной границы между цивилизацией и дикостью, образ завоеванного пионерами у индейцев пространства. Позже этот образ вошел в культуру для обозначения подвижных границ в зонах взаимодействия между культурами и цивилизациями.
В связи с границами, особенно в зонах межцивилизационного контакта, в некоторых случаях возникали устойчивые фобии – страх перед иными народами, якобы представляющими угрозу целостности «своего» пространства. К числу таких укорененных страхов относится и русофобия Западной Европы, иррациональное представление русских как «варвара на пороге». Она сформировалась как большой идеологический миф четыре с лишним века назад, когда складывалось ощущение восточной границы Запада. А. Филюшкин пишет: «Время появления этого пропагандистского мифа в европейской мысли эпохи Возрождения фиксируется очень четко: середина – вторая половина ХVI в. Это время первой войны России и Европы, получившей в историографии название Ливонской войны (1558–1583)… Как мировые войны в конечном итоге очерчивали границы мира, так и Ливонская война окончательно обозначила для западного человека восточные пределы Европы. Теперь последняя кончалась за рекой Нарвой и Псковским озером» [21].
Если вернуться к начальным стадиям этногенеза, то можно сказать, что пространство и этнос создавали друг друга. Этносы складывались, коллективно думая (рефлектируя) о своем пространстве и пространстве значимых иных. Это уже было не безучастное физическое пространство, а пространство человеческое. Как говорят, происходила доместикация (одомашнивание, приручение) пространства. Французский антрополог А. Леруа-Гуран пишет, что на развитие племен и народов повлияли два разных типа восприятия пространства – динамический и статический.
В первом случае человек осознавал пространство как «маршрут», двигаясь через него. Для охотника и собирателя значение имеет не поверхность, а маршрут – по тропе, вдоль сопки, через перевал. Охотники могут осваивать таким образом огромные пространства. Как говорят эвенки, «старики ездили везде». У охотничьих народов возникает также фокусное (точечное) восприятие пространства. Территория представляется им в виде «точек» – особенно благоприятных для охоты мест (угодий). В связи с определением «права» на их использование возникали межэтнические контакты – переговоры, споры, конфликты.
В другом случае, у земледельческих народов, пространство воспринимается как серия концентрических кругов, затухающих к границам неведомого. В центре находится дом (деревня) человека, дальше пояс полей и выгонов, еще дальше лесные угодья общины. За ними – дальние пространства.
Отношение этнического сознания к пространству – предмет исследования многих этнографов (они изучают, как говорят, «этническое пространство культуры»). Отечественная литература в этой области обширна. В интересном обзоре В.А. Тишков отмечает труды по анализу пространства и времени в традиционной культуре монголов, обширное исследование мировоззрения тюркских народов Южной Сибири, включая проблему пространства и времени, этнического пространства в культуре народов Кавказа [22].
В мифологии и сказках отражены разные типы восприятия пространства, но при разделении хозяйства на кочевое и оседлое начинает превалировать или один, или другой тип, что влияет на мировоззренческую систему и этнические стереотипы. Разным типам восприятия пространства соответствуют разные формы, в которых его представляет себе человек, рождаются разные ритмы пространства и разные связанные с ним ценности (вспомним стихи Блока и его образы пространства России в момент, когда она оказалась перед историческим выбором). А. Леруа-Гуран относит образы пространства к числу главных этнических символов и пишет: «Этнический стиль можно определить как свойственную данному коллективу манеру принимать и отмечать формы, ценности и ритм» [23].
В.А. Тишков пишет: «Потрясающий контраст мною наблюдался в Иерусалиме, где совсем по-разному организовано уличное пространство и его использование в еврейской и арабской частях города» [22].
Европеец Средневековья сочетал в своем мироощущении локальное пространство, от которого почти не удалялся на расстояние более 25 миль (в город на ярмарку, в церковь, в замок феодала), и широкое пространство Христианского мира, в какой-то из столиц которого обитал его король (или даже император). Между Центром и деревней нет маршрутов, нет путешествий, сакрально-пространственная картина мира воссоздается через библейские сюжеты.
Движение русских землепроходцев связывают с «островным богословием» православия, с поиском «Преображения», при котором земное странствие связано с теозисом (обожествлением мира). Так было с движением на Север, как говорят, идея Преображения была для русских «центральным символом-иконой исторического освоения просторов полуночных стран». Еще в большей степени этот мотив был важен в освоении Америки, которая находилась «за морями и океанами» и понималась как «остров Спасения» [25].
Большое изменение в ощущении пространства европейцами началось в эпоху Возрождения и сопровождалось интенсивным этногенезом. Пространство стало терять «святость», стало открываться людям как профанная реальность. В живописи была открыта перспектива, что было важным шагом к смене мировоззрения. Человек стал созерцать мир, ощущая себя внешним наблюдателем. Возникли отношения человека с миром как субъекта к объекту – стал рушиться Космос. Начались Великие географические открытия, и путешествие, преодоление пространства стало частью сознания. Происходила та великая пересборка народов Европы, из которой и выросли нации.
Возникновению современных наций в Европе предшествовало новое изменение чувства пространства. В новое время эта Европа распалась на национальные государства средних размеров. В их столицах появились «свои» национальные короли, которые прочертили национальные границы и вели из-за них длительные споры и войны. Нации стали создавать новое пространство – подвластное, точно измеримое, прямоугольное. Это замечательно видно из сравнения планов Москвы и Нью-Йорка.
Но вернемся назад. При развитии этносы перемещаются по территории, осваивают новые ландшафты и новые способы ведения хозяйства, сами изменяются. Л.Н. Гумилев пишет: «Подавляющее большинство этносов, без учета их численности, обитает или обитало на определенных территориях, входя в биоценоз данного ландшафта и составляя вместе с ним своего рода «замкнутую систему». Другие, развиваясь и размножаясь, распространяются за пределы своего биохора, но это расширение оканчивается тем, что они превращаются в этносы первого типа на вновь освоенной, но стабилизированной области приспособления» [17, с. 307].
Но хотя люди знают, что в историческом времени связь народов с землей была очень подвижной и народы перемещались по земле (иногда даже происходили их массовые «переселения»), в актуальном времени связь этноса с «его» землей стала настолько привычной, что воспринимается как нечто естественное, природное. Народы, оторвавшиеся от родной земли, вызывают интерес и недоверие.
Дж. Комарофф пишет: «Именно благодаря акценту на принцип территориальности такие экстерриториальные группы, как евреи и цыгане (и немцы в бывшем СССР) воспринимаются столь аномальными в современной Европе: они кажутся обладающими всеми характеристиками наций, но не обладают территориальной целостностью. Подобно многим другим, Бауман (1989) усматривает причинную связь между антисемитизмом и этой аномалией: еврейские группы, отмечает он, занимают «лишающий спокойствия статус внутренних иностранцев, перешагивающих ту жизненно важную границу, которая должна… сохраняться в строгой целостности и быть непроницаемой» [2, с. 68].
Судьба «родной земли» затрагивает самые глубокие структуры этнического чувства, и экономические критерии здесь почти не играют роли (этого как будто не понимают российские реформаторы). Всего десять лет назад не удалось ни за какие деньги выкупить землю у индейского племени в Чили для постройки ГЭС. За два года до этого, летом 1993 г., наемными бандитами были полностью расстреляны два племени – одно в Бразилии, другое в Перу – по какой-то сходной причине. Леви-Стросс пишет об отношении к земле «между народами, называемыми «примитивными», что «это та почва, на которой человек может надеяться вступить в контакт с предками, с духами и богами».
Это отношение чрезвычайно устойчиво, хотя корни его у современного человека едва ли сознаются. Леви-Стросс пишет: «Именно в этом смысле надо интерпретировать отвращение к купле-продаже недвижимости, а не как непосредственное следствие экономических причин или коллективной собственности на землю. Когда, например, беднейшие индейские общины в Соединенных Штатах, едва насчитывающие несколько десятков семей, бунтуют против планов экспроприации, которая сопровождается компенсацией в сотни тысяч, а то и миллионы долларов, то это, по заявлениям самих заинтересованных в сделке деятелей, происходит потому, что жалкий клочок земли понимается ими как «мать», от которой нельзя ни избавляться, ни выгодно менять… Это знала в прошлом и наша цивилизация, и это иногда выходит на поверхность в моменты кризисов или сомнений, но в обществах, называемых «примитивными», это представляет собой очень прочно установленную систему верований и практики» [26, с. 301–302].
В течение десяти лет перестройки и реформы социологи, философы и поэты на все лады убеждали советского человека в том, что он жил в «примитивном» обществе. Наконец убедили, и этот человек согласился с разрушением «внешних» конструкций – государства, идеологии, социальной системы. Но затем к этому «примитивному» человеку пристали с требованием, чтобы он добровольно признал, что купля-продажа земли есть благо. Ну где же логика? Ведь в сознании «примитивного» человека отрицание этого «блага» есть элемент его этнической идентичности. Такие вещи по приказу не отменяются. Значит, на деле в вопросе о земле «реформаторы» ведут войну, причем войну не социальную, а этническую. Но это – войны на уничтожение.
Сильнейшее потрясение для этнического чувства «незападных» народов вызывает иностранная оккупация их земли. Объяснить это истинному европейцу непросто. Например, французы из наполеоновской армии искренне не понимали, почему их с такой яростью режут испанские крестьяне, монахи и даже старухи. Ведь они несли им прогресс! В Россию они пришли уже настороже, но и тут, думаю, не смогли понять «загадочную русскую душу». Именно это чувство было точно выражено в главном лозунге Великой Отечественной войны: «Смерть немецким оккупантам!» В нем было указано главное зло – оккупация родной земли и главный в этом контексте признак злодея – этнический. Не буржуй и не фашист оккупирует нашу родную землю, а немец. Буржуй бы завладел землей как средством производства, фашист – как идеологический враг советской власти. А немец оккупировал русскую землю и землю братских русскому народов. А эту землю «не смеет враг топтать».
Такое потрясение испытывают люди с развитым этническим чувством даже при малейших поползновениях на родную землю, при самых слабых признаках. Эти признаки появились во время перестройки, и быстрее всех почуяли их крестьяне. С осени 1991 г. у меня было четыре аспиранта из Испании. Их приятель по общежитию, из Калужской области, пригласил их посетить его колхоз. Рано утром они пошли погулять за околицу деревни, навстречу им попалась старуха. Она их спросила, довольно мрачным голосом: «Вы почему ходите по нашей территории?» Они ответили, что гуляют. Она сказала: «Гуляйте по американской территории, а здесь русская».
Испанцы рассказали мне это с большим удовольствием, потому что в 80-е годы эта проблема возникла и у них дома. После смерти Франко Испания либерализовалась, и много земли там стали скупать немцы. В прибрежных районах их там стало много, повсюду бродили здоровенные краснолицые пенсионеры в шортах, заходили с голыми конопатыми ногами в бары и магазины, в дни своих праздников громко галдели с пивными кружками в руках и даже поднимали немецкий флаг. Но в Испании частная собственность уже была священна, и таких старух, как в калужской глубинке, там не водилось.
Огромное значение образу земли – и как «жизненному пространству», и как «почве» – придавали немецкие фашисты в программе конструирования народа Третьего Рейха. Были созданы целые мифологические системы и даже квазинаучные концепции «кормящего ландшафта» и расовой экологии. Гитлер внушал, по-новому этнизируя население Германии: «Чем для Англии была Индия, тем для нас станет восточное пространство. Ах, если бы я мог довести до сознания немецкого народа, сколь велико значение этого пространства для будущего!» (см. [27]). Один из идеологов фашизма, Дарре, писал о биологической взаимосвязи тотемных животных с расовыми характеристиками народов (в 1933 г. он выпустил книгу «Свинья как критерий у нордических народов и семитов»). Подробнее об этой теме см. [28].
Роль территории в этногенезе наглядно проявилась совсем недавно, в ходе освободительной борьбы колониальных стран, особенно в Латинской Америке и Африке. Когда-то нарезанные произвольно куски территории, границы между которыми определялись на переговорах где-то в европейских столицах, стали восприниматься их населением как «родные страны», захваченные иностранными поработителями, а их границы как нечто данное свыше. Так из заморских провинций Испании возникли страны с придуманными названиями (Аргентина, Колумбия), а в них – настоящие народы. Уже в ХХ веке так же пошел процесс в Африке.
Проблема границ наглядно показывает, что в образованном человеке неминуемо должны сочетаться оба представления о его народе – примордиализм и конструктивизм. Первое из них лежит в сфере религиозного чувства – мой народ, моя родная земля и ее границы обладают святостью, они даны изначально и содержат в себе высший (божественный или физический) смысл. А конструктивизм холодно напоминает, что и народ, и границы родной земли – творение культуры и человеческих отношений. Они непрерывно создаются и изменяются в ходе истории. Их сотворение, сохранение и изменение требуют знаний, ума и воли. Если народ не способен организоваться для защиты своей земли и ее границ, они будут изменены не в его пользу.
В.А. Тишков приводит слова географа А. Бикбова: «Производящий территорию принцип заключен не в физических свойствах самой территории, а в политической борьбе и вписанных в нее военных победах и поражениях. С изменением политического баланса сил изменяются географические границы или, по крайней мере, возникает повод к их пересмотру. Иными словами, пространственные границы – это социальные деления, которые принимают форму физических» (см. [22]).
К. Янг иллюстрирует эту сущность границ на материале антиколониальной борьбы ХIХ – ХХ веков: «Само административное устройство империй послужило той территориальной матрицей, в которой формировались требования самоопределения. В качестве «наций», от имени которых выражалось это право, в силу тактической необходимости должны были выступать те самые административные единицы, которые были созданы самими колонизаторами…
Победоносная борьба против отмиравшего колониального порядка велась под прославленными знаменами национализма. В обыденной речи национализм назывался «африканским» или «азиатским», но на полях сражений он принимал форму территориальности. После победы те же самые территории, которые в ходе борьбы были, вероятно, всего лишь удобными подразделениями [колониального пространства], оказывались перед необходимостью совершения коллективного акта исторического мифотворчества, что требовалось для соответствия статусу нации» [15, с. 94, 97][43].
Более того, даже границы штатов, прочерченные отцами-основателями США буквально по линейке и изначально населенные пестрыми контингентами иммигрантов, постепенно обрели смысл национальных границ, выраженный не слишком резко, но вполне отчетливо. Произошла этнизация населения разных штатов, возник патриотизм, чувство «мы-они», носящее этнический оттенок. Б. Андерсон в своей главной книге «Воображенные общности» пишет, что эта история США открывает этнологам целую область исследований: «Для того, чтобы проследить, как проходил во времени этот процесс, в результате которого административные границы стали восприниматься как отечества, необходимо рассмотреть, как административные организации создают значения» (см. [15, с. 94]). Какое значение приобрели эти границы, которые в СССР были чистой формальностью и которых никто не принимал всерьез, все мы увидели после 1991 г.
Процесс этногенеза давно, казалось бы, «подавленных» и лишенных голоса народов на землях, захваченных европейцами, привел в последние десятилетия к неожиданным проблемам территориального характера. В государствах, основная часть населения которых имеет переселенческое происхождение – в Америке, Австралии, ряде других мест, вдруг заявили свои права «коренные народы». Они получили такую возможность потому, что понятие «коренные народы» вошло в международное право, а также выросла образованная элита, которая обрела этническое сознание.
К. Янг пишет: «Призывы к перестройке, если не к разрушению, Канады, выдвинутые Квебеком, оказались подхваченными общинами эскимосов и алгонкинов Северной Канады. В политическую повестку будущего войдут такие вопросы, как ныне оспариваемое содержание «внутреннего суверенитета» общин американских индейцев в Соединенных Штатах, требования самоопределения для коренных гавайцев, не включенных в договорные отношения, а также права маори в Новой Зеландии и аборигенных общин в Австралии. Там, где иммигрантское население представлено в меньших пропорциях, «права коренного населения» превращаются в требования политического предпочтения в пользу бумипутра (сынов земли) в Малайзии, на Фиджи и в Новой Каледонии» [15, с. 112].
Этнические проблемы в территориальном аспекте актуальны и для России. К числу важных трудов по этой проблеме называют работу политического географа Р. Кайзера «География национализма в России и СССР» (Принстон, 1994). Р. Кайзер обсуждает роль «территориальной составляющей» в формировании протонаций и национализма нерусских этнических групп в России (см. [3]).
Особое обострение чувства территории и границы вызывает нынешняя волна глобализации. Во всем комплексе угроз, которые она несет странам, народам и культурам, этнологи выделяют как особый срез этой системы ощущение угрозы самому существованию этносов. Резкое ослабление защитной силы национальных границ несет для народов опасность утраты контроля не только над землей («почвой»), но и над ее недрами. Идеологи глобализации представляют человечество как конгломерат индивидов, «человеческую пыль». Во втором докладе Римскому клубу (Месарович) это выражается в полном исключении понятия народ и вообще этнических коллективных общностей как субъектов права. Как отмечал социолог из ФРГ Э. Гэртнер, «народы как действующая сила представляют собой для Римского клуба, для Киссинджера и для «Трехсторонней комиссии» только источник опасности, угрожающий их мировой системе».
Глобализация открыто декларируется как переход контроля над естественными и природными ресурсами Земли в руки финансовой элиты мира (доступ к этим ресурсам будет определять «мировой рынок»). Уже программа ООН по экономическому и социальному развитию на 1990-е годы не содержала установок на неотъемлемый суверенитет народов над их естественными и природными богатствами. Эти установки были четко сформулированы в аналогичных программах в 60-е и 70-е годы. Как говорили в конце 80-х годов дипломаты, следовало избежать риска «разбазаривания» сырья по национальным «квартирам». Эта утрата недр «родной земли» имеет не только экономическое, но и символическое значение.
Глобализация вообще меняет привычную связь этноса с «его» территорией. Существенная часть «Турции» сегодня территориально находится в Германии, а часть земли США опять «топчут» (и обрабатывают) мексиканцы.
Национальная граница была тем символическим барьером, в рамках которого личная безопасность определялась четкими понятиями легитимного и преступного насилия. От преступника тебя защищало государство, но оно и само могло покарать тебя. В каждом конкретном обществе обе угрозы были предсказуемы и, таким образом, «укрощены». Глобализация, даже до созревания ее заманчивых плодов, привела к транснационализации насилия. Первые декларации и акции также имели символическое значение. Было заявлено право единственной оставшейся после Горбачева супердержавы (США) «изымать» граждан других государств с их территории для суда над ними на территории США. Так в декабре 1989 г. было совершенно военное нападение на Панаму, чтобы арестовать ее президента Норьегу, подозреваемого в преступлениях (в ходе этой операции погибло, по данным западной прессы, 7 тыс. граждан Панамы).
В том же 1989 г. аятолла Хомейни вынес смертный приговор писателю Салману Рушди и призвал к его исполнению на территории Англии. Принципиальным моментом здесь было именно отрицание юридических границ законодательства Великобритании – именно это потрясло жителей Западной Европы. Их жители стали объектом неизвестного им судопроизводства по неизвестным для них законам иных стран[44].
Именно этим символическим изменением, а не уровнем реальной угрозы для жизни обывателя объясняется тот мистический страх перед международным терроризмом, который овладел европейцами и американцами. «Международный» террорист, который устраняет национальные границы, обрушил один из важных устоев того национального государства, которое западная цивилизация три века выстраивала для защиты своих наций от «варваров»[45].
Глава 12. Государство
Мы привычно соотносим понятия народ, страна и государство. Можно сказать, что народ и страна – две ипостаси одной большой системы, а государство – жесткая несущая конструкция, обеспечивающая их бытие и воспроизводство. По Гегелю, государство «есть непосредственная действительность отдельного и по своим природным свойствам определенного народа» (см. [29]).
Государство играет в этногенезе и «собирании» народов и наций исключительную роль. Это видно уже из того, какое значение имеют для этого процесса границы (даже не только государственные, а и административные, также устанавливаемые государственной властью).
Но для становления этноса важны границы не только территориальные. Этот вопрос обсуждался в связи с проблемой этнических границ. Анализ множества эмпирических данных приводит к выводу, что строго очерченная этническая целостность (народ) возникает лишь на зрелой стадии политического развития и формируется там, где есть специализированное центральное руководство и идеология, защищающая его авторитет и неприкосновенность. Это и есть государство. Там, где оно еще не сложилось, этнические границы размыты [30, с. 20–22].
В собирании народа государственная власть выполняет не только политическую, но и культурную миссию. Чтобы властвовать, она должна завоевать «культурную гегемонию, то есть авторитет среди подданных или граждан. Для этого власть прилагает большие усилия, чтобы сформировалось культурное ядро общности и сосредоточенные в нем ценности «автоматически» поддерживали достаточный уровень «благожелательного согласия» с властью. Это культурное ядро необходимо охранять от разрушительного воздействия внутренних политических противников и разного рода «информационно-психологических войн» внешних врагов. Иными словами, государство обязано охранять и границу информационного пространства своего народа, а это требует интенсивной культурной деятельности.
Только государство может обеспечить достаточно длительную политическую стабильность, необходимую для созревания большой этнической общности. А. Леруа-Гуран писал: «Чтобы конституироваться как чистый народ с полным параллелизмом всех его элементов, требуется длительная политическая стабильность, тем более продолжительная, чем более велик сам народ» [23, с. 197][46].
Государство выступает и той организующей силой, которая мобилизует общность на преодоление угроз. Эта его роль проявляется уже на ранних стадиях этногенеза, причем стимулирующую этногенез функцию могут играть государственные структуры и соседних этносов, создающих угрозы.
Л.С. Васильев пишет, опираясь на историю древних азиатских народов: «Конституирующий протогосударственную структуру импульс становится устойчивым, если угроза общности извне оказывается постоянной, – именно в этом случае возникает племя как структура во главе со своим вождем. Но для того чтобы такого рода процесс кристаллизации общности произошел, чтобы аморфная общность превратилась в племя, требовалось существование рядом с ней сильного соседа, в котором все эти процессы уже прошли» [31].
Одним из важнейших типов связей, собирающих людей в народ, являются связи информационные. В создании единой информационной системы государство играет главную роль. Оно организует информационное пространство этнической общности, создает регулярные потоки информации (например, через централизованный государственный аппарат), «сгустки» информационной активности. Такими средоточиями обмена информацией бывают, например, большие общественные работы – строительство оросительных систем или укреплений вроде Великой Китайской стены (поистине всенародная стройка», мобилизация большого войска или ополчения и пр.[47]
Когда организация информационного пространства становится неадекватной потребностям общества, это выражается в политических конфликтах и часто представляется на неадекватном языке как проблема гражданских прав («свободы слова»). За этими конфликтами может стоять более глубокое противоречие – народ «болеет» из-за деформации соединяющих этническую общность связей. Вот, например, что было сказано в принятом 31 июля 1905 г. приговоре Прямухинского волостного схода Новоторжского уезда Тверской губ.: «Мы лишены права открыто говорить о своих нуждах, мы не можем читать правдивое слово о нуждах народа. Не желая дольше быть безгласными рабами, мы требуем: свободы слова, печати, собраний» [32, т. 2, с. 254].
Для формирования больших современных наций, уже в ХVIII – ХIХ вв., огромное значение имело появление газет, распространение которых могло организовать только государство с его почтовыми и транспортными ведомствами. В то же время дальнейшее развитие СМИ создало для государства трудности в охране границ национального информационного пространства. Дж. Комарофф пишет: «Бенедикт Андерсон придает большое значение тому факту, что средства массовой информации дали важнейший механизм для формирования представлений о национальной общности и тем самым создали «глубинное горизонтальное чувство товарищества». Действительно, Андерсон связывает подъем наций с рождением так называемого «печатного капитализма». Если он прав, то из этого следует, что развитие транснациональных средств массовой информации должно создавать важнейшую угрозу национальному государству» [2, с. 66].
Конструктивная роль государства в этногенезе выражается в организации и содержании систем и институтов, которые непосредственно воспроизводят народ. К ним относятся, например, армия и народное образование (школа). Так, превращение народов и народностей традиционного общества средневековой Европы в современные «буржуазные» нации потребовало создания школы совершенно нового типа, с новой организацией учебного процесса, новым типом программ и учебников.
Французские социологи образования К. Бодло и Р. Эстабль пишут об этой деятельности государства после Великой французской революции: «Республика бесплатно раздавала миллионы книг нескольким поколениям учителей и учеников. Эти книги стали скелетом новой системы обучения… Эти книги были подготовлены с особой тщательностью в отношении идеологии бригадой блестящих, относительно молодых ученых, абсолютных энтузиастов капиталистического реформизма. Штат элитарных авторов подбирался в национальном масштабе, и противодействовать им не могли ни педагоги, ни разрозненные ученые, ни религиозные деятели. Отныне знание в начальную школу могло поступать только через Сорбонну и Эколь Нормаль… Ясность, сжатость и эффективность идеологического воздействия сделали эти книги образцом дидактического жанра» [33].
Государство собирает и сохраняет народ и как человеческую популяцию – осуществляет над ней, как теперь говорят, биовласть. Оно с самого начала вело учет населения, осуществляло ту или иную демографическую политику. До того, как на Западе возникло представление о человеке как индивиде, имеющем тело в своей собственности, тела подданных (и их здоровье) были, в определенном смысле, достоянием государства. Например, убийство было преступлением не против личности, а против монарха – убийца посягнул на жизнь его «любезного сына». Так же и в советское время убийство было государственным преступлением. Очень велика роль государства, даже в рыночном обществе, в организации здравоохранения. Изменения в отношении государства к здоровью граждан имеет огромный мировоззренческий смысл. Например, попытка радикального отказа государства от охраны народного здоровья в РФ в начале 90-х годов воспринималось именно как знак того, что народ рассыпается, что здоровье человека теперь никому не нужно.
Большое значение в характере соединения людей в народ имеет политика государства в отношении семьи и брака. Драматические столкновения на этой почве, которые происходили в процессе становления советского народа в 20-30-е годы, были вызваны принципиальными различиями в доктринах строительства новой нации. Очевидно, например, значение быстрого увеличения в СССР числа межэтнических браков. Ведь смешанные браки – один из главных инструментов формирования новых этносов (наглядным примером является Латинская Америка) и ассимиляции одного этноса другим, сборки больших наций.
В 1925 г. русские мужчины в европейской части РСФСР заключили 99,1 % однонациональных браков, мужчины-белорусы в БССР 90 %, украинцы в УССР 96,9 %, татары и башкиры в РСФСР 97,9 %. А уже в 1959 г. семьи с супругами разной национальности составляли в СССР 10,2 %, а в 1970 г. 14 % (в Латвии, Казахстане и на Украине 18–20 %) [34, с. 201].
У нас перед глазами красноречивый «эксперимент». Изменение политики государств Восточной Европы после 1989 г. выразилось, в частности, в резком изменении режима естественного воспроизводства их народов. Это отражалось в его формальных параметрах – рождаемости, динамике браков и разводов, числе детей, рожденных вне брака (и даже в добровольной стерилизации женщин). Государства бывшего СЭВ и даже СССР, переориентируясь от союза с Россией (СССР) на Запад, стали трансформировать и демографический тип своих народов с «советского» на западный.
Государство «собирает» нацию, регулируя, часто жестким образом, отношения между разными входящими в нее этносами. Это наглядно проявляется, например, в действиях государства США по конструированию «иммиграционной» нации. Эта работа по «сплавлению» иммигрантов с самого начала считалась одной из главных задач государства. Государство при канцлере Бисмарке сконструировало и немецкую нацию – после объединения разных земель, жители которых считали себя самостоятельными народами.
Таким образом, мы можем исходить из того, что государство есть и продукт, и создатель народа. О том, что первично, – государство или народ – издавна идет спор (примерно как о курице и яйце). Примордиалисты, считающие этнос «явлением природы», логично считают его первичным, ибо государство – продукт социального и культурного процесса. Л.Н. Гумилев писал: «Этнос, обретая социальные формы, создает политические институты, которые не являются природными феноменами» [17, с. 236][48].
Маркс высказался гораздо более жестко. Если Л.Н. Гумилев употребил общий термин «этнос», под которым могла подразумеваться и этническая общность в самой начальной стадии развития, то Маркс прямо говорит о народе: «Подобно тому как не религия создает человека, а человек создает религию, – подобно этому не государственный строй создает народ, а народ создает государственный строй» [35, с. 252]. Обе части утверждения Маркса – жесткая абстракция, с которой трудно согласиться. Но если еще как-то можно представить себе условного примитивного человека, который «создает религию», а затем испытывает на себе ее нравственное воздействие и становится вполне человеком разумным, то народа, который бы возник без государства, представить себе нельзя. Уже для создания племенных союзов требуется государственная власть (хотя бы в виде князей и дружин).
Например, единое государство возникло в Англии в ХI в., но этнические различия между англосаксами и франкоязычными нормандцами сгладились только к ХIV веку. Все осознали себя англичанами, и английский язык стал государственным. Бывает, что толчок процессу создания народа дает государство, которое затем гибнет, но созревание народа продолжается уже без своей независимой государственности. Так, хорваты имели независимую государственность с IХ по ХII в., потом до ХVI в. были под властью венгерских королей, а затем Габсбургов и частично турок. Но процесс формирования народа уже не прерывался. Аналогично, чехи как народ начали консолидироваться в своем государстве в Х – ХI вв., но в ХVII в. потеряли независимость, которую вновь обрели лишь в ХХ в. Но даже три века онемечивания не рассыпали народ.
Бывали и случаи, когда государство уже сложившегося народа терпело полный крах и исчезало, а народ оставался – в рассеянии или под сенью другого государства, но не встречалось сведений о том, как без государственных структур сложился народ[49]. Нам близок случай Киевской Руси. На этой территории в течение многих веков проживали различные племена, большинство которых исчезло без следа. Но образование древнерусского государства позволило собрать родственные племена в союз, принять и утвердить государственную религию и положить начало процессу формирования русского народа. В лоне этого государства стали формироваться и некоторые нерусские народы, соединившие свою судьбу с русскими – государство не обязательно должно быть «титульно своим».
В.О. Ключевский пишет в «Курсе русской истории» о Киевской Руси: «Разноплеменное население, занимавшее всю эту территорию, вошло в состав великого княжества Киевского, или Русского государства. Но это Русское государство еще не было государством русского народа, потому что еще не существовало самого этого народа: к половине XI в. были готовы только этнографические элементы, из которых потом долгим и трудным процессом выработается русская народность. Все эти разноплеменные элементы пока были соединены чисто механически; связь нравственная, христианство, распространялось медленно и не успело еще захватить даже всех славянских племен Русской земли: так, вятичи не были христианами еще в начале XII в. Главной механической связью частей населения Русской земли была княжеская администрация с ее посадниками, данями и пошлинами. Во главе этой администрации стоял великий князь киевский» [139].
Понятно, что когда в обществе господствуют примордиалистские представления, обладание древней государственностью становится весомым политическим ресурсом. Из него вытекает, что этнос, создавший это государство, является еще более древним. А значит, он раньше других этносов занял и освоил данную территорию, что это именно его «родная земля», что именно он и является коренным народом на этой земле и имеет на нее особые права. Спор об исторической государственности в некоторые моменты становится предметом острых разногласий.
В.А. Шнирельман пишет, что одним из проявлений обострения межэтнических отношений на Северном Кавказе стали «высокоэмоциональные споры местных интеллектуалов о том, чьи предки раньше поселились на Северном Кавказе, создали там высокую культуру, развили раннюю государственность и были введены в лоно христианской церкви. Одним из главных полей, на которых разгораются нешуточные баталии, является наследие раннесредневековых алан и их государственность. Вовсе не случайно Республика Северная Осетия прибавила к своему названию имя Алании. Однако право на аланскую идентичность у осетин оспаривают, с одной стороны, соседние балкарцы и карачаевцы, а с другой, ингуши и чеченцы, рассматривающие ее как очень важный политический ресурс» [36].
Такое представление о взаимосвязи между народом и государством, было общепринятым в российской интеллигенции. С.Н. Булгаков, опираясь на романтическую немецкую философию, также считал, что государства создаются уже «готовыми» народами, хотя и не поясняет, в каких же социальных условиях созрели эти народы. Он пишет: «Нации не существуют без исторического покрова, или облегающей их скорлупы. Эта скорлупа есть государство. Конечно, есть нации, не имеющие своего государства; нация в этом смысле первичнее государства. Именно она родит государство, как необходимую для себя оболочку. Национальный дух ищет своего воплощения в государстве, согласно красивому выражению Лассаля в речи о Фихте (употребленному в применении к германскому народу).
В высшей степени знаменателен тот факт, что государства создаются не договором космополитических общечеловеков и не классовыми или групповыми интересами, но самоутверждающимися национальностями, ищущими самостоятельного исторического бытия. Государства национальны в своем происхождении и в своем ядре, – вот факт, на котором неизбежно останавливается мысль. Даже те государства, которые в своем окончательном виде состоят из многих племен и народностей, возникли в результате государствообразующей деятельности одного народа, который и является в этом смысле «господствующим» или державным» [37, с. 183].
Утверждение о том, что в отсутствие государства может сложиться державный народ, который своей государствообразующей деятельностью порождает государство, кажется слишком романтическим – трудно представить себе такую ситуацию и найти ей историческое подтверждение. Например, Л.Н. Гумилев говорит, что великорусский этнос стал складываться в ХIII – ХIV веках. Но к этому времени составившие его ядро славянские племенные союзы уже много веков имели развитую государственность. Русские государства были способны вести большие сложные войны на больших территориях (упомянем хотя бы разгром Хазарской империи войсками Святослава или войну Александра Невского против рыцарей-крестоносцев).
В общем, в конструктивизме принята определенная формула: именно государство является системообразующим фактором формирования народа (нации). В этом подходе на первое место ставят именно созидательную роль государства, именно оно строит народ. Более того, государство строит народ в соответствии с теми принципами, которые были заложены в конструкцию этого государства. По одному строили свой народ отцы-основатели США, по другому китайские императоры, по третьему Российская империя и Советское государство.
И речь во всех случаях идет о целенаправленной, сознательной программе – в чем-то правильной, в чем-то ошибочной. О Китае, который много раз за свою историю переживал глубокие кризисы, но всегда находил способы их преодоления, К. Янг пишет: «В Китае государство, история которого насчитывает уже три тысячелетия, создало мощную культурную идеологию: уникальным образом процесс конструирования китайского народа из различных по происхождению групп несет на себе отпечаток «Срединного Царства». Глубоко знаменательный этноним «китайцы (хань)» символизирует этногенез: самая первая из продолжительных по времени объединявших и строивших государство династий продолжает свое существование в этом широко распространенном определении» [15, с. 122].
А относительно механизма собирания народа в советское государство Ленин писал в сентябре 1916 г.: «Мы в своей гражданской войне против буржуазии будем соединять и сливать народы не силой рубля, не силой дубья, не насилием, а добровольным согласием, солидарностью трудящихся против эксплуататоров. Провозглашение равных прав всех наций для буржуазии стало обманом, для нас оно будет правдой, которая облегчит и ускорит привлечение на нашу сторону всех наций. Без демократической организации отношения между нациями на деле, – а следовательно, и без свободы государственного отделения – гражданская война рабочих и трудящихся масс всех наций против буржуазии невозможна» [38].
В ХIХ веке, когда началась большая волна западной экспансии (империализм), перед странами, которые пытались защититься от этой экспансии, встала задача модернизации – обновлении своих институтов с тем, чтобы они могли противостоять западным технологиям. Это касалось и способа организации народов – начался период нациестроительства исходя из опыта западных национальных государств. Примером такого успешного строительства служит модернизация Японии. Этот процесс стал еще интенсивнее после Второй мировой войны, когда рассыпалась мировая колониальная система и возникло много новых государств.
Дж. Комарофф обращает внимание и на противоположно направленный процесс этногенеза, порождаемый слабостью государства, невыполнением его функций. Это процесс этнического самоосознания, ведущий к сепаратизму, к распаду большого народа или нации, к подчеркнутой демонстрации своей инаковости от ядра, от «государствообразующего» народа. Он пишет: «Ничто так не побуждает людей к отстаиванию (или даже к изобретению) своих различий, как осознание ими равнодушного отношения к их трудностям со стороны государства… И совсем не сложно понять, почему, столкнувшись с таким безразличием, меньшинствам столь свойственно подчеркивать и играть на своем культурном своеобразии в поиске средств преодоления собственного бесправного положения» [2, с. 57]. Уже с конца 80-х годов в результате общего кризиса и ослабления государства мы наблюдаем это явление – сначала в СССР, а затем и в РФ.
В.А. Шнирельман подчеркивает, что изменения в государственности и статусе этноса в государстве даже регионального масштаба вызывают почти моментальные сдвиги в этническом сознании: «В XX в. народы Северного Кавказа прошли через несколько кардинальных политических трансформаций – от Горской Республики 1918 г. и затем начала 1920-х гг. через этапы местных автономий в 1920—1930-х гг., депортации во второй половине 1940—1950-х гг., дискриминации в 1960—1980-х гг. вплоть до постсоветских республик в 1990-е гг. Все эти трансформации сопровождались формированием новых идентичностей» [36].
Таким образом, существует прямая связь между народом и государством, между этническим чувством и государственным. Государство собирает и «держит» народ, а «собранный» народ «держит» государство. Лишь в таком состоянии оно оказывается легитимным. Это – совсем не то же, что законность (легальность) государственной власти, т. е. формальное соответствие законам страны. Формально законная власть еще должна приобрести легитимность, обеспечить свою легитимизацию, то есть «превращение власти в авторитет». Как же определяют, в двух словах, суть легитимности ведущие ученые в этой области? Примерно так: это убежденность большинства общества в том, что данная власть действует во благо народу и обеспечивает его спасение, гарантирует сохранение главных его ценностей, которые и связывают отдельных людей в народ.
Ослабление государства и «рассыпание» народа (на враждующие классы, субкультуры, этносы, религиозные группы и т. д.) – процесс взаимоускоряющийся. Он может привести к катастрофе непостижимо быстрой, совершенно неожиданной. М.М. Пришвин пишет о днях Февральской революции 1917 г.: «У развалин сгоревшего Литовского замка лежит оборванный кабель, проволока у конца его расширилась, как паучиные лапы, и мешает идти по тротуару. Со страхом обходят ее прохожие, боятся, как бы не ударило электричество, но ток уже выключен, и силы в проводе нет.
– Вот так и власть царская, – говорит мой спутник, старик купец, – оборвалась проволока к народу, и нет силы в царе» [39].
Глубокий кризис этнических связей большого народа вызывает кризис легитимности государства и в международном измерении. Распад народа (нации), возникновение межэтнических конфликтов и сепаратистских движений сразу ставили под вопрос легитимность государства и его суверенные права. Это показал опыт не только слабых африканских государств, но и европейской Югославии, а также те проблемы, с которыми сталкивалась РФ в Евросоюзе из-за войны в Чечне. Под предлогом наведения порядка в ходе этих кризисов Запад даже пытался получить формальное право на «гуманитарные интервенции» (а де-факто стал совершать такие интервенции, просто отбросив нормы международного права).
Люди, обладающие этническим чувством, всегда боятся ослабления государственности как угрозы своему именно национальному существованию. Этими опасениями были проникнуты наказы и приговоры сельских сходов русских крестьян во время революции 1905–1907 гг. Их требования и предложения направлены не на разрушение, а именно укрепление государства посредством обновления его дефектных блоков и возрождение гражданского чувства у населения. О себе они говорят именно как о народе, ответственном за страну. Вот пара примеров.
Наказ крестьян с. Никольского Орловского уезда и губ. в I Госдуму (июнь 1906 г.) гласит: «Если депутаты не истребуют от правительства исполнения народной воли, то народ сам найдет средства и силы завоевать свое счастье, но тогда вина, что родина временно впадет в пучину бедствий, ляжет не на народ, а на само слепое правительство и на бессильную думу, взявшую на свою совесть и страх действовать от имени народа». А из Ливенского уезда Орловской губ. В Госдуму пришел такой приговор: «Государственная дума в нашем представлении есть святыня и заступница всего угнетенного народа… Требуйте, мужайтесь, иначе и не возвращайтесь к нам» [32, т. 2, с. 271].
Сейчас, после краха советской государственности, постсоветское пространство испытывает сильный нажим извне с целью «пересборки» и образовавшихся на месте СССР государств, и их народов по программе, заданной правящими кругами стран Запада, торопящихся построить «Новый мировой порядок». Красноречивой иллюстрацией этих усилий послужили «оранжевые» революции [40]. При этом формат новой государственности и мировоззренческая матрица для «собирания» нового народа вырабатывались в едином системном контексте. Опыт Украины очень важен для нашей темы.
Глава 13. Мировоззрение
Представления о пространстве и времени, о природе и человеке, об обществе и государстве, о добре и зле – все то, что мы относим к мировоззрению, – служат той духовной основой, на которой люди собираются в народ, различая «своих» и «чужих». Мировоззрение – ядро огромной системы знаний и убеждений человека, в него входят наиболее важные элементы этой системы, укорененные глубоко в сознании. К этому ядру примыкает мироощущение – эмоционально окрашенная сторона мировоззрения.
Представления, входящие в мировоззрение, отвечают на главные вопросы бытия. Эти вопросы человек ставил себе с момента своего становления как вида, как только в нем пробудился разум. Этот важный для нашей темы факт был вытеснен из нашего обыденного сознания идеологиями, проникнутыми прогрессизмом – уверенностью, будто в прошлом человек был интеллектуально и духовно менее развит, чем современный цивилизованный индивид.
Классики марксизма предполагали, что в развитии человека разумного имелся длительный, чуть ли не до Нового времени, период зверского состояния, когда мировоззренческих вопросов человек просто не мог перед собой ставить. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге»: «Нельзя отрицать того факта, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы вырваться из варварского состояния» [41, с. 186]. Это неверно, «человека-зверя» не было уже в первобытных общинах охотников и собирателей.
Маркс тоже считает, что на ранней стадии развития человек имеет «баранье, или племенное» сознание, которое «получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту населения. Вместе с этим развивается и разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда в половом акте…» [42, с. 30].
Антропологи и социологи, напротив, считают, что человек с самого начала вынужден был размышлять именно о природе мира в целом, то есть ставил перед собой вопросы мировоззрения. П.А. Сорокин отмечал, как крайне важную, «человеческую потребность в правильной ориентации во вселенной и правильного понимания самой вселенной» [43, с. 485].
Историк М.А. Барг пишет: «Поразительно, до чего схожи были от одной эпохи к другой вопросы, волновавшие человеческий ум, и до какой степени различались дававшиеся на них ответы… О вопросах, над которыми задумывались племена – создатели петроглифов – наскальных изображений (примерно 5000 лет тому назад) в районе р. Амур, академик А.П. Окладников писал: «Вдумайтесь только, какими вопросами интересовались герои их преданий: как образовалась Вселенная? Как появились люди на Земле, в чем смысл их жизни?» [44, с. 3, 8]. М.А. Барг считал, что структура «исторического сознания» в каждую эпоху состоит из «совокупности ответов» на главные вопросы о природе бытия. Иными словами, любая человеческая общность во все времена имела упорядоченную, структурированную систему мировоззрения.
Один из основателей социологии К. Манхейм тоже подчеркивал это важное положение: «Как бы ни различались между собой люди разных эпох, они задают себе одни и те же вопросы, касающиеся их самих, – им хочется знать, как думать о себе, чтобы действовать. Какое-то представление о мире и о себе, пусть и несформулированное, сопровождает каждое наше движение. Вопрос «Кто мы такие?» – задавался всегда, но всегда опосредованно, в связи с различными проблемами, в силу которых такие вопросы и возникают» [45, с. 95].
Такое представление о способности первобытного человека к выработке целостного мировоззрения подтверждается мнением специалистов в главных гуманитарных областях. В послесловии к книге М. Элиаде «Космос и история» В.А. Чаликова приводит краткие замечания ряда видных ученых. Английский антрополог М. Дуглас: «Примитивы – не Аладины с волшебной лампой… а своего рода интеллектуалы, и ритуалы их символичны».
Антрополог К. Леви-Стросс, изучавший структуру мифов индейских племен в Бразилии, писал: «Задача мифа – создать логическую модель для преодоления противоречий». Заканчивая свой обзор, он с горечью добавил: «Так что же я узнал от философов, которых читал… от самой науки, которой так гордится Запад? Один-два урока, соединив которые, можно стать на уровень дикаря, сидящего в безмолвном созерцании под деревом» [46, с. 263–268].
Все это кардинально расходится с той концепцией человека на стадии зарождения этнических общностей, которая составляет одно из оснований антропологии марксизма. В этой концепции первобытный человек выглядит животным, которым движет примитивная потребность. Если так, то на этой стадии сознание и нравственность не могут играть организующей общность роли.
Чтобы хоть частично нейтрализовать воздействие этого стереотипа, Л.Н. Гумилев напоминает, уже в самом начале своей книги об этногенезе: «Мы постоянно забываем, что люди, жившие несколько тысяч лет назад, обладали таким же сознанием, способностями и стремлением к истине и знанию, как и наши современники» [17, с. 62]. Из этого представления исходят этнологи разных направлений.
Н.Н. Чебоксаров и С.А. Арутюнов, предложившие информационную концепцию этноса, считают этничность неразрывно связанной с мировоззренческим ядром («картиной мира»). Мировоззрение, на ранних стадиях имевшее форму мифов, вырабатывалось сообща в местных сообществах. Явлениям природы давались местные названия, потусторонним сущностям, воплощающим космические силы, давались местные имена. Те, кто говорил на этом языке, и становились «своими».
Н.Н. Чебоксаров и С.А. Арутюнов пишут: «Человек воспринимает мир не как хаотический поток образов, символов и понятий. Вся информация из внешнего мира проходит через картину мира, представляющую собой систему понятий и символов, достаточно жестко зафиксированную в нашем сознании. Эта схема-картина пропускает только ту информацию, которая предусмотрена ею. Ту информацию, о которой у нас нет представления, для которой нет соответствующего термина (названия), мы просто не замечаем. Весь остальной поток информации структурируется картиной мира: отбрасывается незначительное с ее точки зрения, фиксируется внимание на важном. Основу картины мира составляют этнические ценности, поэтому важность информации оценивается с этнических позиций. Таким образом, этничность выступает в роли информационного фильтра, сужая спектр допустимых и желаемых реакций человека на ту или иную жизненную ситуацию» (см. [20, с. 60]).
Второй важный стереотип, который мы восприняли из марксизма (а западные культуры и из либерализма), сводится к тому, что на ранних стадиях развития человека его сознание было пассивным и лишь отражало действительность, служа вспомогательным инструментом в производственной деятельности. Маркс и Энгельс пишут: «Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса… Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [42, с. 25].
В таком состоянии мировоззрение, конечно, представлялось гораздо более слабым фактором соединения людей в общности, чем производство. Роль же производства в возникновении этничности в эпоху собирательства и охоты (а это сотни тысяч лет) обосновать трудно. Но это представление о мировоззрении давно преодолено наукой. Сознание первобытного человека вовсе не пассивно отражало мир и не было «испарениями» материального производства. Оно воображало мир, создавало его образ, картину мира – а затем проецировало эту картину на действительную природу, причем это ни в коей мере не было, как выражался Энгельс, «животным осознанием природы». Оно было в высшей степени творческим.
Тем более творческим было создание картины мира у народов, которые уже находились в стадии цивилизации. Из того, насколько разными были самые фундаментальные мировоззренческие категории у разных народов, видно, что они не были отражением объективной реальности, а сложились на той мировоззренческой матрице, которая возникла на ранних стадиях этногенеза. Так, в 5 веке до н. э. высокого уровня достигли системы знаний о мире у древних греков и у китайцев. Но совершенно разными были у них представления о движении. Физика Аристотеля не только не знала понятия инерции, но и отвергала как абсурдную саму идею движения, которое продолжалось бы без действия силы. В Европе принцип инерции открыл через две тысячи лет Галилей. Немного раньше Аристотеля китайский философ писал: «Прекращение движения происходит под действием противоположно направленной силы. Если нет противоположно направленной силы, то движение никогда не прекратится». Для китайца это было очевидно. Вслед за этим своим утверждением он приписал: «Это так же верно, как то, что корова не является лошадью».
Ж. Пиаже разбирает этот случай в своем исследовании генезиса категорий и понятий – сравнивает исходные мировоззренческие матрицы греков и китайцев. У греков «естественным состоянием» вещей был покой (если их не двигали боги, как они двигали звезды). Любое движение было для греков «насилием» над вещью, поэтому оно могло происходить только под действием силы. Инерция была в такой картине мира явлением немыслимым.
Китайцы, напротив, видели мир в постоянном движении, для них оно было естественным состоянием всех вещей во вселенной. Поэтому движение для китайцев не требовало объяснения, объяснять требовалось изменение движения и особенно покой. Тут-то и приходилось предположить действие силы. Как писал философ Ян Синь (20 г. до н. э.), «все вещи порождены внутренними импульсами; только их ослабление или деградация частично происходят извне». Так в двух больших этнических группах возникли разные идеи движения, а на них надстроились существенно разные картины мироздания – и то, что считалось очевидным у одних, было абсурдным у других. В ХVII веке инерция была открыта в ходе Научной революции, в ХIХ веке стала очевидным и тривиальным явлением (студент, которому явление инерции не казалось очевидным, считался умственно отсталым) [47, с. 232–233]. Это изменение картины мира сопровождали быстрый этногенез европейцев – становление современного Запада[50].
П.Б. Уваров пишет о роли мировоззрения в скреплении этнического сознания, что «человек воплощает в мир, который его окружает, не свою случайную субъективность, а результат экзистенциального выбора, воплощенный в образ истинности… Постулатом «проекционизма» может быть положение о том, что выбор сознания формирует реальность» [20, с. 64]. И это было человеку настолько необходимо, что он тратил на это строительство монументальных символов своего мировоззрения бóльшую часть своих сил, материальных средств и времени.
Уваров приводит такое суждение на этот счет историка А.Я. Гуревича: «Если рассматривать историю человечества в плане материальном, технического прогресса, то, по-видимому, можно предположить, что люди должны были более или менее сознательно стараться улучшать условия своего материального существования, производить больше продуктов питания для того, чтобы обеспечивать себя и свои семьи, поддерживать государственную власть и т. д. Казалось бы, это бесспорно и вместе с тем мы видим, что в традиционных цивилизациях колоссальное количество силы и материальных средств расходовалось часто вовсе неразумно: не на производство и развитие техники, а, напротив, – с точки зрения технического прогресса – иррационально, деструктивно. На что в Египте больше всего тратилось силы и рабочих средств? На повышение урожайности? На постройку плотин? На строительство жилых домов? Нет! На постройку колоссальных усыпальниц для фараонов..!
Не знаю, в какой мере Шартрский собор или Тадж-Махал свидетельствуют о техническом прогрессе, но эти знаменитые сооружения говорят нам о том, что люди распоряжаются материальными средствами далеко не так просто, как это представляется «экономическому материалисту», который полагает, что главная цель развития любого общества – создание так называемого материально-технического базиса» (цит. в [20, с. 65]).
Те, кто видел в Сирии или Ливане культовые сооружения доантичной эпохи – храмы Ваала площадью в несколько тысяч квадратных метров, сложенные из гранитных блоков весом по 50–80 т, позже застроенные храмами Юпитера и Венеры с их огромными колоннадами, согласятся, что эти постройки, удовлетворявшие сугубо духовные потребности людей, немыслимы для современного общества с его колоссальными техническими возможностями и приматом экономической эффективности.
Совокупность духовных ценностей и символов, которые заставляли людей строить такие сооружения, называют по-разному: центральная мировоззренческая матрица, культурное ядро, образ истинности. Периферийные знания и представления человека, окружающие это ядро, Уваров называет «рабочим образом действительности». Он пишет: «Главным отличием образа истинности от рабочего образа действительности является высокий уровень осознанности норм использования его в социальной реальности (отрефлексирован в понятиях «принципы», «кредо», «правила», «нормы» и т. д.). Отличительными чертами образа истинности являются: а) устойчивость; б) низкая пластичность (т. е. сниженная способность к трансформациям и деформациям); в) относительная независимость от самой действительности… Уровень исторического становления, связанный с кристаллизацией образа истинности как историко-социальной значимости, отмечен закреплением его именно в элементарном социальном общении (семья, родственные, соседские, дружеские отношения и т. д.)…
Все это означает, что для выживания и судеб и отдельного человека, и общества в целом главное значение имеет картина мира, а остальное вторично» [20, с. 59].
Из этого следует, что этот образ истинности и служит главной матрицей, на которой происходит «сборка» этноса, народа. Когда Гумилев в приведенной выше выдержке объясняет различие тех типов связей, которые собирали людей в народы древних китайцев, индусов, персов и монголов, он говорит именно о различии их центральных мировоззренческих матриц. Остальные различия, а их множество, являются вторичными по отношению к этому ядру.
Уваров, завершая обзор этой проблемы, пишет: «Экономика, политика, социальные отношения, культура и т. д. являются только отдельными частными, специализированными формами коммуникации, играющими подчиненную роль в достижении ее главной цели – воплощения в действительности того или иного «образа истинности»… Установление социальной коммуникации, овладение ее техникой и приемами неизбежно предшествует каким-либо экономическим, политическим или социальным манипуляциям» [20, с. 66].
При рассуждениях об этносе, народе, нации надо учесть, что в мировоззренческих структурах, на которых базируются эти рассуждения, всегда важное место занимает миф. Уже само выделение общности, разделение на «своих» и «чужих» происходит в логике мифа, которой присущи бинарные оппозиции. На это указывал Леви-Стросс. Миф стал способом упорядочивания реальности в этнических представлениях (и эта его роль сохраняется вплоть до современных национальных идеологий). Тем более важно мифологическое восприятие этнических общностей в переломные моменты, когда различия «должного» и «сущего» стираются. Именно миф становится основой для интерпретации происходящих событий – будь это миф об общей «крови и почве» или миф о «загадочной русской душе».
Таким переломным моментом, в который происходила «пересборка» народов Западной Европы, было становление буржуазного общества. Антрополог М. Салинс говорит о роли мифологии в этом процессе: «Гоббсово видение человека в естественном состоянии является исходным мифом западного капитализма… В сравнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает совершенно необычной структурой, которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, мы – единственное общество на Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные общества верят, что произошли от богов… Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством» [49, с. 131].
Философы пишут о социогенной роли мировоззренческого ядра и всей коллективной деятельности по его строительству, сохранению, передаче последующим поколениям и соблюдению норм общественной жизни, отвечающих сформулированным в этом «образе истинности» заветам. В выполнение этой социогенной роли входит, конечно, не только создание и сохранение этнических связей, а и всех других связей, соединяющих людей в общество. Но в большинстве случаев речь прежде всего идет об этничности как системе наиболее сильных и наименее осознанных (почти «естественных») связей.
Из этого становится очевидным, что и разрушение или повреждение (сознательное или непредвиденное) мировоззренческого ядра народа приводит к ослаблению системы этнических связей и «рассыпанию» народа. Это и называется Смутой.
Глава 14. Религия
Особой, ключевой частью центральной мировоззренческой матрицы, на которой собирается народ, является религия (шире – религиозное мировоззрение). Если на ранних стадиях этногенеза (возникновение племени) мировоззрение складывалось в основном в рамках мифологического сознания, то собирание больших этнических общностей со сложной социальной структурой и государственностью (племен и народов) происходило уже под воздействием религий.
Предметом научного рассмотрения это стало в важном труде французского социолога Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни, тотемическая система в Австралии». Он показал, что самоосознание этнической общности проявляется в создании религиозного символа, олицетворяющего дух этой общности. На самых разных стадиях это были тотемы – представленная в образах растений или животных вечная сила рода, она же бог. Думая о себе, о своей общности и ее выражении в тотеме, изучая ее структуру, первобытные люди упорядочивали и классифицировали явления и вещи природного мира по принципу их родства. В этих классификациях выражались представления людей об их этнической общности. Дюркгейм изучил классификации австралийцев, а позже оказалось, что по тому же принципу, но со своей спецификой, построены классификации индейцев Северной Америки или классификации, отраженные в древнекитайской философии. Моделью для них служила общественная структура, сложившаяся в данной человеческой общности [50, с. 213].
Для России (СССР), где над умами интеллигенции долгое время господствовал марксизм и позднее он же был положен в основу официальной идеологии, было и остается актуальным представление о религии именно в этом обществоведческом учении. Установки Маркса и Энгельса в отношении религии входят в ядро «миросозерцания марксизма». Эти установки таковы, что они исключают саму мысль о конструктивной роли религии в создании и сохранении народов. Поэтому здесь мы должны остановиться и первым делом устранить это препятствие.
Религия – один из главных предметов всего учения Маркса, а обсуждение религии – один из главных его методов, даже инструментов. Структура и функции религии Марксу казались настолько очевидными и понятными, что многие явления и в хозяйственной жизни, и в политике (например, товарный фетишизм и государство) он объяснял, проводя аналогии с религией как формой общественного сознания.
Маркс утверждал как постулат: «Критика религии – предпосылка всякой другой критики» [35, с. 414]. Если учесть, что все составные части марксизма проникнуты именно критическим пафосом, то можно сказать, что «критика религии – предпосылка всего учения Маркса». Но мы из всего свода представлений о религии рассмотрим только те, которые касаются проблемы созидания этничности, соединения людей в этнические общности и народы.
Маркс пишет о религии вообще: «Ее сущность выражает уже не общность, а различие. Религия стала выражением отделения человека от той общности, к которой он принадлежит, от себя самого и других людей, – чем и была первоначально. Она является всего только абстрактным исповеданием особой превратности, частной прихоти, произвола. Так, бесконечное дробление религии в Северной Америке даже внешним образом придает религии форму чисто индивидуального дела. Она низвергнута в сферу всех прочих частных интересов и изгнана из политической общности как таковой» [51, с. 392].
Это представление религии не соответствует знаниям об этногенезе. В общем случае религия никоим образом не становится «абстрактным исповеданием частной прихоти» и «чисто индивидуальным делом», не отделяет человека от общности, а совсем наоборот – соединяет его с нею[51].
Отвергая активную связывающую людей роль религии, Маркс представляет ее как производную от материальных отношений. Он пишет: «Уже с самого начала обнаруживается материалистическая связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом производства и так же стара, как сами люди, – связь, которая принимает все новые формы и, следовательно, представляет собой «историю», вовсе не нуждаясь в существовании какой-либо политической или религиозной нелепости, которая еще сверх того соединяла бы людей» [42, с. 28–29].
Это противоречит опыту всех времен, вплоть до современных исследований в этнологии, причем в отношении роли религии не только как средства господства («вертикальные» связи), но и как силы, связывающей людей в «горизонтальные» общности (этносы). Уваров пишет: «Одновременно с «вертикальной» связанностью религия осуществляет и связанность «горизонтальную», социальную, являясь ведущим фактором внутрисоциумного интегрирования. Эта функция веры не ставилась под сомнение даже на пороге Нового времени. Например, в своей работе «Опыты, или Наставления нравственные и политические» Ф. Бэкон называл ее «главной связующей силой общества» [20, с. 80].
При этом религия вовсе не является производной от «производственных отношений». М. Вебер специально подчеркивает: «Религиозные идеи не могут быть просто дедуцированы из экономики. Они в свою очередь, и это совершенно бесспорно, являются важными пластическими элементами «национального характера», полностью сохраняющими автономность своей внутренней закономерности и свою значимость в качестве движущей силы» [52, с. 266].
Именно в социологии религии возникло важнейшее понятие коллективных представлений (Дюркгейм, М. Мосс). Религиозные представления не выводятся из личного опыта, они вырабатываются только в совместных размышлениях и становятся первой в истории человека формой общественного сознания. Религиозное мышление социоцентрично. Именно поэтому первобытные религиозные представления и играют ключевую роль в этногенезе. Как пишут об этих представлениях этнологи, даже самая примитивная религия является символическим выражением социальной реальности – посредством нее люди осмысливают свое общество как нечто большее, чем они сами.
Более того, будучи коллективным делом локальной общности, возникшие в общем сознании религиозные представления и символы становятся главным средством этнической идентификации при контактах с другими общностями. Религия становится одной из первых мощных сил, соединяющих людей в этнос. Она же порождает специфические для каждого этноса культурные нормы и запреты – табу. Одновременно в рамках религиозных представлений вырабатываются и понятия о нарушении запретов (концепция греховности). Все это и связывает людей в этническую общность. Ведь именно присущие каждой такой общности моральные (шире – культурные) ценности и придают им определенность, выражают ее идентичность, неповторимый стиль.
Маркс и Энгельс считают религиозную составляющую общественного сознания его низшим типом, даже относят его к категории животного «сознания» (само слово сознание здесь не вполне подходит, поскольку выражает атрибут животного). В их совместном труде «Немецкая идеология» сказано: «Сознание… уже с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, вначале есть всего лишь осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды… в то же время оно – осознание природы, которая первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и власти которой они подчиняются, как скот; следовательно, это – чисто животное осознание природы (обожествление природы)» [42, с. 28–29] [52].
Обожествление как специфическая операция человеческого сознания трактуется Марксом и Энгельсом как «чисто животное осознание». Это метафора, поскольку никаких признаков религиозного сознания у животных, насколько известно, обнаружить не удалось. Эта метафора есть оценочная характеристика – не научная, а идеологическая. Так же, как и утверждение, будто первобытный человек подчиняется власти природы, «как скот». Появление проблесков сознания у первобытного человека было разрывом непрерывности, озарением. Обожествление, которое именно не «есть всего лишь осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды», представляет собой скачкообразный переход от животного состояния к человеческому.
Хотя отношение к мироощущению первобытного человека как «скотскому» марксисты считают проявлением «материалистического понимания истории», оно является как раз внеисторическим. Это – биологизация человеческого общества, перенесение на него эволюционистских представлений, развитых Дарвином для животного мира.
Энгельс пишет: «Религия возникла в самые первобытные времена из самых невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об окружающей их внешней природе» [53, с. 313]. Каковы основания, чтобы так считать? Никаких. Даже наоборот, духовный и интеллектуальный подвиг первобытного человека, сразу создавшего в своем воображении сложный религиозный образ мироздания, следовало бы поставить выше подвига Вольтера – как окультуривание растений или приручение лошади следует поставить выше создания атомной бомбы.
Получив возможность «коллективно мыслить» с помощью языка, ритмов, искусства и ритуалов, человек сделал огромное открытие для познания мира, равноценное открытию науки, – он разделил видимый реальный мир и невидимый «потусторонний». Оба они составляли неделимый Космос, оба были необходимы для понимания целого, для превращения хаоса в упорядоченную систему символов, делающих мир домом человека. Причем эта функция религиозного сознания не теряет своего значения от самого зарождения человека до наших дней – об этом говорит М. Вебер в своем труде «Протестантская этика и дух капитализма».
Обожествление природы не преследовало никаких «скотских» производственных целей, это был творческий процесс, отвечающий духовным потребностям. Сложность и интеллектуальное «качество» мысленных построений «примитивных» людей при создании ими божественной картины мира поражали и поражают ученых, ведущих полевые исследования.
Исследователь мифологии О.М. Фрейденберг отметила в своих лекциях в Ленинградском университете (1939/1940 г.): «Нет такой ранней поры, когда человечество питалось бы обрывками или отдельными кусками представлений… Как в области материальной, так и в общественной и духовной первобытный человек с самого начала системен» [46, с. 265].
Эту же мысль подчеркнул В.В. Иванов (1986 г.): «Все, что мы знаем о тщательности классификации животных, растений, минералов, небесных светил у древнего и первобытного человека, согласуется с представлением о том, что идея внесения организованности («космоса») в казалось бы неупорядоченный материал природы («хаос») возникает чрезвычайно рано» [там же, с. 266].
Такие же взгляды выразил А. Леруа-Гуран, автор фундаментальных трудов о роли технической деятельности и символов в возникновении этнических общностей. Он сказал: «Мышление африканца или древнего галла совершенно эквивалентно с моим мышлением». Ценные сведения дали и проведенные в 60—70-е годы полевые исследования в племенах Западной Африки. За многие годы изучения этнологом М. Гриолем племени догонов старейшины и жрецы изложили ему принятые у них религиозные представления о мире. Их публикация произвела большое впечатление, это была настолько сложная и изощренная религиозно-философская система, что возникли даже подозрения в мистификации. Вехой в этнофилософии стала и книга В. Дюпре (1975) о религиозно-мифологических представлениях охотников и собирателей из племен африканских пигмеев [54].
А К. Леви-Стросс подчеркивал смысл тотемизма как способа классификации явлений природы и считал, что средневековая наука (и даже в некоторой степени современная) продолжала использовать принципы тотемической классификации. Он также указывал (в книге 1962 г. «Мышление дикаря») на связь между структурой этнической общности, тотемизмом и классификацией природных явлений: «Тотемизм устанавливает логическую эквивалентность между обществом естественных видов и миром социальных групп»
К. Леви-Стросс считал, что мифологическое мышление древних основано на тех же интеллектуальных операциях, что и наука («Неолитический человек был наследником долгой научной традиции»). Первобытный человек оперирует множеством абстрактных понятий, применяет к явлениям природы сложную классификацию, включающую сотни видов. В «Структурной антропологии» Леви-Стросс показывает, что первобытные религиозные верования представляли собой сильное интеллектуальное орудие освоения мира человеком, сравнимое с позитивной наукой. Он пишет: «Разница здесь не столько в качестве логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу… Прогресс произошел не в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество» [54].
Первобытная религия связывает в этническую общность людей, которые коллективно выработали ее образы и символы, не только общей мировоззренческой матрицей и общими культурными ценностями. Огромное значение как механизм сплочения общности имеет и ритуал – древнейший компонент религии, который связывает космологию с социальной организацией. Связи ритуала с жизнью этноса очень многообразны, этнологи определяют его как «символический способ социальной коммуникации». Его первостепенная функция – укрепление солидарности этнической общности.
Ритуал представляет в символической форме действие космических сил, в котором принимают участие все члены общности. Через него религия выполняет одну из главных своих функций – психологическую защиту общества. Духи предков и боги становятся помощниками и защитниками людей, указывают, что и как надо делать. Во время ритуального общения преодолевается одиночество людей, чувство отчужденности, укрепляется ощущение принадлежности к группе. Через религиозный ритуал компенсируются неудовлетворенные желания людей, разрешается внутренний конфликт между желаниями и запретами. Как говорят, «ритуал обеспечивает общество психологически здоровыми членами». Антропологи считают даже, что именно поэтому в традиционных обществах, следующих издавна установленным ритуалам, не встречается шизофрения. Ее даже называют «этническим психозом западного мира»[53].
При этом ритуал – это та часть культуры, которая обладает ярко выраженными этническими особенностями. Ритуальные танцы и ритмы барабанов африканских племен имеют точную племенную принадлежность, ритуал мятежа у масаев не встречается ни у какого другого племени. В разных общностях по-разному достигается вхождение участников ритуала в транс. Все это – специфическое культурное наследие этноса. По данным антропологов, собранных в «Этнографическом атласе» Мердока, из 488 описанных этнических сообществ 90 % практикуют религиозные ритуалы, при которых возникает состояние транса, не являющееся патологией. У североамериканских индейцев 97 % племен имеют такие ритуалы [55][54].
Таким образом, религиозные ритуалы, будучи продуктом коллективной творческой работы сообщества, в то же время создают это сообщество, придают ему неповторимые этнические черты. Болезненным подтверждением этого тезиса служит наблюдающийся в крупных западных городах, в среде атомизированного «среднего класса» возникновение субкультур, которые в поисках способа преодолеть отчуждение и сплотиться как сообщество, осваивает мистические культы и этнические религиозные ритуалы восточных, африканских и других культур. Возникают секты и коммуны, которые проводят бдения и коллективные медитации (часто с применением наркотиков) – и эти группы приобретают черты этнических обществ, со своими этническими маркерами и границами, стереотипами поведения и групповой солидарностью. Это – реакция на технократическое безрелигиозное бытие, не удовлетворяющее неосознанные духовные запросы человека.
Завершая обсуждение роли религиозных воззрений на ранних стадиях этногенеза, надо сделать одно уточнение. Строго говоря, первобытную религию правильнее было бы называть «системой космологических верований» или «космологией». Религия, как специфическая часть мировоззрения и форма общественного сознания, отличается от мифологических культов древних. Как пишут специалисты по религиеведению (В.А. Чаликова в послесловии к книге М. Элиаде «Космос и история»), в современной западной гуманитарной традиции принято «научное представление о религии как об уникальном мировоззрении и мирочувствии, возникшем в нескольких местах Земли приблизительно в одно и то же время и сменившем предрелигиозные воззрения, обозначаемые обычно понятием «магия»… Авторитетнейшая на Западе формула Макса Вебера указывает не на структурный, а на функциональный признак религии как уникального исторического явления. Этот признак – рационализация человеческих отношений к божественному, то есть приведение этих отношений в систему, освобождение их от всего случайного» [46, с. 253–254].
Хотя религиозное сознание вобрало в себя очень много структур сознания мифологического (то есть дорелигиозного), возникновение религии – не продукт «эволюции» мифологического сознания, а скачок в развитии мировоззрения, разрыв непрерывности[55]. М. Элиаде проводит важное различение языческих культов и религий. У примитивного человека время сакрально, он в нем живет постоянно, все вещи имеют для него символический священный смысл. Религия же – качественно иной тип сознания, в ней осуществляется разделение сакрального и профанного (земного) времени. Это – введение истории в жизнь человека. По словам Элиаде, убегать от профанного времени, от «ужаса истории», христианин может лишь в момент богослужения и молитвы (а современный человек – в театре) [46].
Таким образом, уже более ста лет религия рассматривается в науке как уникальное историческое явление, возникшее как разрыв непрерывности – подобно науке. Религия вовсе не «выросла» из предрелигиозных воззрений, как и наука не выросла из натурфилософии Возрождения. И функцией религии, вопреки представлениям Маркса и Энгельса, является вовсе не утверждение невежественных представлений, а рационализация человеческого отношения к божественному.
При этом «рационализация отношения к божественному» мобилизует и присущие каждому этническому сознанию видение истории и художественное сознание. Возникает духовная структура, занимающая исключительно важное место в центральной мировоззренческой матрице народа. Тютчев писал о православных обрядах: «В этих обрядах, столь глубоко исторических, в этом русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются, и который столь древен, что даже сам Рим, сравнительно с ним, представляется нововведением, – во всем этом для тех, у кого есть чутье к подобным явлениям, открывается величие несравненной поэзии… Ибо к чувству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется предчувствие неизмеримого будущего» (см. [56, с. 277]).
Маркс различает разные типы религиозных воззрений («первобытные» и «мировые» религии) лишь по степени их сложности, соответствующей сложности производственных отношений. В этой абстрактной модели связи, соединяющие людей в этнические общности, вообще не видны, как не видна и роль религии в их создании. Религия предстает просто как инструмент «общественно-производственных организмов», которые или выбирают наиболее подходящее для них орудие из имеющихся в наличии, или быстренько производят его, как неандерталец производил каменный топор.
Маркс пишет о капиталистической формации: «Для общества товаропроизводителей… наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.» [57, с. 89]. Совсем другое дело – докапиталистические формации с их общинностью и внеэкономическим принуждением. Им, по мнению Маркса, соответствуют язычество, кикиморы и лешие.
Вот как видит дело Маркс: «Древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясны, чем буржуазный, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования – низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни, а значит, ограниченность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта действительная ограниченность отражается идеально в древних религиях, обожествляющих природу, и народных верованиях» [57, с. 89–90].
С этим никак нельзя согласиться. Какая пуповина, какая «ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни»! В ходе собирания русского народа за тысячу лет сменилось множество формаций, уже по второму кругу начали сменяться – от социализма к капитализму – и все при христианстве. А в просвещенной Литве ухитрились до ХV века сохранять свои «древние религии и народные верования». Куда убедительнее диалектическая модель взаимодействия производственных отношений, этногенеза и религии, предложенная Максом Вебером.
Маркс писал свои главные труды на материале Запада и для Запада. Поэтому и рассуждения на темы религии проникнуты евроцентризмом. Даже когда речь у него идет о религии вообще, неявно имеется в виду именно христианство. Маркс прилагает к нему «формационный» подход, постулируя существование некоего правильного пути развития. Протестантская Реформация выглядит необходимой «формацией» в развитии религии (подобно тому, как капитализм оказывается необходимой стадией развития производительных сил и производственных отношений). По мнению Энгельса, протестантизм является даже высшей формацией христианства. Он пишет, выделяя курсивом всю эту фразу: «Немецкий протестантизм – единственная современная форма христианства, которая достойна критики» [58, с. 578].
Для нас важно, что христианство во всех его ветвях сыграло важнейшую роль в этногенезе почти всех европейских народов, включая народы России. Можно полагать, что марксизм, став с конца ХIХ в. наиболее авторитетным для российской интеллигенции обществоведческим учением, а затем и основой официальной идеологии СССР, сильно повлиял и на наши представления об этничности, в том числе и на представления о роли религии в ее формировании, угасании, мобилизации и т. д. Это должно было повлиять и на политику в сфере национальных отношений.
Здесь снова надо вернуться к мысли Маркса о том, что религия является продуктом производственных отношений, поэтому активной роли в становлении человека как члена этнической общности играть не может. Он пишет: «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону» [59, с. 117].
Более того, по мнению Маркса религия не оказывает активного влияния и на становление человека как личности, даже вне зависимости от его этнического сознания. В разных вариантах он повторяет тезис: «не религия создает человека, а человек создает религию» [35, с. 252]. Это положение – одно из оснований всей его философии, пафосом которой является критика. Во введении к большому труду «К критике гегелевской философии права» он пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию, религия же не создает человека» [35, с. 414].
В рамках нашей темы это положение принять нельзя. Человек немыслим вне общественного сознания, но ведь религия есть первая и особая форма общественного сознания, которая в течение тысячелетий была господствующей формой. Как же она могла не «создавать человека»? Реальный человек всегда погружен в национальную культуру, развитие которой во многом предопределено религией. Русский человек «создан православием», как араб-мусульманин «создан» исламом[56].
В зависимости от того, как происходило обращение племен в мировую религию или как осуществлялось изменение религиозного ядра народа, предопределялся ход истории на века. Раскол на суннитов и шиитов на раннем этапе становления ислама до сих пор во многом предопределяет состояние арабского мира. Последствия религиозных войн, порожденных Реформацией в Европе, не изжиты до сих пор. Глубоко повлиял на ход истории России и раскол русской Православной церкви в ХVII веке.
Напротив, осторожное и бережное введение христианства как государственной религии в Киевской Руси было важным условием для собирания большого русского народа. Как отмечает Б.А. Рыбаков, при христианизации Руси «существенных, принципиальных отличий нового от старого не было: и в язычестве и в христианстве одинаково признавался единый владыка Вселенной, и там и здесь существовали невидимые силы низших разрядов; и там и здесь производились моления – богослужения и магические обряды с заклинаниями-молитвами: там и здесь каркасом годичного цикла празднеств были солнечные фазы; там и здесь существовало понятие «души» и ее бессмертия, ее существования в загробном мире. Поэтому перемена веры расценивалась внутренне не как смена убеждений, а как перемена формы обрядности и замена имен божеств» [60, с. 774].
Религия во все времена, вплоть до настоящего времени, оказывала огромное прямое и косвенное влияние на искусство. Если рассматривать искусство как особую форму представления и осмысления мира и человека в художественных образах, то становится очевидным, какую оно играет роль в собирании и соединении людей в этнические общности – племена, народы, нации. Песни и былины, иконы и картины, архитектура и театр – все это сплачивает людей одного народа общим эстетическим чувством, общим невыражаемым переживанием красоты.
М. Вебер, когда писал о значении религиозных представлений для формирования специфических форм хозяйства, отмечал и эту сторону дела. Общество, ведущее тот или иной тип хозяйства, создается и национальным искусством, а оно складывается буквально под диктатом религии. Он писал о том, как изменялся характер англо-саксонских народов Западной Европы в Новое время под влиянием протестантизма: «В сочетании с жестким учением об абсолютной трансцендентности Бога и ничтожности всего сотворенного внутренняя изолированность человека служит причиной негативного отношения пуританизма ко всем чувственно-эмоциональным элементам культуры… а тем самым и причиной принципиального отказа его от всей чувственной культуры вообще» [52, с. 143–144].
Позиция Маркса и Энгельса в отношении к религии и церкви («гадине», которую надо раздавить) выросла из представлений Просвещения (конкретнее, вольтеровских представлений). Эту генетическую связь можно принять как факт – вплоть до семантического сходства (метафора религии как опиума была использована до Маркса Вольтером, Руссо, Кантом, Б.Бауэром и Фейербахом). Предметом представлений Вольтера было именно христианство. По его словам, христианство основано на переплетении «самых пошлых обманов, сочиненных подлейшей сволочью».
Энгельс пишет о христианстве: «С религией, которая подчинила себе римскую мировую империю и в течение 1800 лет господствовала над значительнейшей частью цивилизованного человечества, нельзя разделаться, просто объявив ее состряпанной обманщиками бессмыслицей… Ведь здесь надо решить вопрос, как это случилось, что народные массы Римской империи предпочли всем другим религиям эту бессмыслицу, проповедуемую к тому же рабами и угнетенными» [61, с. 307].
Здесь, противореча прежним тезисам о подчиненной роли религии, Энгельс приходит к преувеличению ее роли в формировании общественного сознания даже зрелого буржуазного общества середины ХIХ века. Он считает возможным само это общество считать теологией: «Это лицемерие [современного христианского миропорядка] мы также относим за счет религии, первое слово которой есть ложь – разве религия не начинает с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное? Но так как мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность проистекает из религии, что религиозное лицемерие, теология, является прототипом всякой другой лжи и лицемерия, то мы вправе распространить название теологии на всю неправду и лицемерие нашего времени» [62, с. 591].
Такое же полное отрицание имеет место и когда речь идет об отношении между религией и социальными противоречиями. Маркс пишет: «На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества, пролетариат же – революционен» [63, с. 205]. Обе части утверждения не подтверждаются ни исторически, ни логически. Никакой печати пронырливости на социальных принципах христианства найти нельзя – достаточно прочитать Евангелие и писания отцов Церкви, а также энциклики пап Римских и недавно принятую социальную доктрину Православной церкви.
В чем пронырливость Томаса Мюнцера и всей крестьянской войны в Германии, которая шла под знаменем «истинного христианства»? В чем видна пронырливость русских крестьян, революция которых вызревала под влиянием «народного православия» (по выражению Вебера, «архаического крестьянского коммунизма»)? Разве утверждение «Земля – Божья!» является выражением ханжества? Пронырливости нельзя найти и в «Философии хозяйства» С. Булгакова, как и вообще в его трудах, где он обсуждает социальные принципы христианства. Где признаки пронырливости в теологии освобождения в Латинской Америке?
Мнение о революционности западного пролетариата, противопоставленной предполагаемому ханжеству социальных принципов христианства, ничем не подкреплено. Все революции, окрашенные христианством, всегда имели социальное измерение, а вот классовая борьба западного пролетариата в большинстве случаев сводилась к борьбе за более выгодные условия продажи рабочей силы, что с гораздо большим основанием можно назвать пронырливостью.
Содержательные описания множества ситуаций, в которых наблюдалось воздействие религий на формирование этнического и национального сознания, противоречат философским установкам Маркса и Энгельса по этой проблеме. С.Н. Булгаков (прежде «надежда русского марксизма») писал о прямой связи между религиозным и национальным сознанием: «Национальная идея опирается не только на этнографические и исторические основания, но прежде всего на религиозно-культурные, она основывается на религиозно-культурном мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное национальное чувство… Стремление к национальной автономии, к сохранению национальности, ее защите есть только отрицательное выражение этой идеи, имеющее цену лишь в связи с подразумеваемым положительным ее содержанием. Так именно понимали национальную идею крупнейшие выразители нашего народного самосознания – Достоевский, славянофилы, Вл. Соловьев, связывавшие ее с мировыми задачами русской церкви или русской культуры» [37, с. 171–172].
Становление всех больших исторических народов происходило в активном взаимодействии с религией[57]. Более того, религия была созидателем и человечества как системы народов. Укрупнение народов происходило прежде всего под влиянием мировых религий. Так и возникла грандиозная устойчивая структура человечества, включающая в себя ядро больших народов и «облако» малых народов. В начале 80-х годов ХХ века около половины численности человечества составляли всего 11 народов. На огромное число небольших народов (численностью до 100 тыс. человек) приходится менее 1 % населения Земли. На земле около 1500 языков (из них 730 – в Африке), но 50 % человечества говорят всего на 7 языках (75 % – на 22 языках).
Нынешняя «массовая ретрайбализация», то есть обратный процесс расщепления народов на расходящиеся этнические общности с возрождением признаков племенного сознания, вызван ослаблением всей системы связей, сплачивающих людей в народы, и не в последнюю очередь с ослаблением интегрирующей силы религии.
Религия сыграла и важную роль во взаимоотношениях этничности и государственности. Гумилев отмечал: «Например, византийцем мог быть только православный христианин, и все православные считались подданными константинопольского императора и «своими». Однако это нарушилось, как только крещеные болгары затеяли войну с греками, а принявшая православие Русь и не думала подчиняться Царьграду. Такой же принцип единомыслия был провозглашен халифами, преемниками Мухаммеда, и не выдержал соперничества с живой жизнью: внутри единства ислама опять возникли этносы… Как только уроженец Индостана переходил в мусульманство, он переставал быть индусом, ибо для своих соотечественников он становился отщепенцем и попадал в разряд неприкасаемых» [17, с. 53, 62].
Из этих примеров видно, что роль религии как фактора созидания народа менялась в разные моменты его жизненного цикла. Но во многих случаях сплочение большого этноса, необходимое для ответа на исторический вызов, происходило именно под воздействием религии, которая делала возможным и соответствующие моменту социальные преобразования. Гумилев пишет о таком случае: «Пример конфессионального самоутверждения этноса – сикхи, сектанты индийского происхождения. Установленная в Индии система каст считалась обязательной для всех индусов. Это была особая структура этноса. Быть индусом – значило быть членом касты, пусть даже самой низшей, из разряда неприкасаемых, а все прочие ставились ниже животных, в том числе захваченные в плен англичане…
В XVI в. там [в Пенджабе] появилось учение, провозгласившее сначала непротивление злу, а потом поставившее целью войну с мусульманами. Система каст была аннулирована, чем сикхи (название адептов новой веры) отделили себя от индусов. Они обособились от индийской целостности путем эндогамии, выработали свой стереотип поведения и установили структуру своей общины. По принятому нами принципу, сикхов надо рассматривать как возникший этнос, противопоставивший себя индусам. Так воспринимают себя они сами. Религиозная концепция стала для них символом, а для нас индикатором этнической дивергенции» [17, с. 53–54].
Подобные случаи «пересборки» больших народов мы наблюдаем в разных частях мира. Уже почти в наши дни (в конце 70-х годов ХХ века) в Иране, государственность которого строилась с опорой на персидские исторические корни, кризис привел к революции, которая свергла древнюю персидскую монархию и учредила теократическую республику, внедрившую в массовое сознание идеологический миф об исламских корнях иранского государства. Однако созданная в ходе революции иранская теократия есть результат сложного творческого синтеза религиозно-национальной идентичности.
Легитимация нового государства Ирана, опираясь на Бога, предполагает наличие «посредника» – народа (как носителя мировоззрения). Именно народ должен определять судьбу страны, поэтому власть шаха нелегитимна, она должна быть выборной, а общественный строй корректироваться каждым поколением. Хомейни обозначал понятие народ словом, по смыслу идентичным понятию нация. Более того, Хомейни встраивал понятие народа Ирана в контекст человечества, его «Завещание» есть наставление народу Ирана и угнетенным всего мира. В философском и религиозном смысле народ представлен здесь как носитель мировоззрения, которое и порождает цивилизацию. В исламской республике Иран он – «транслятор» божественной воли, наследник пророков.
В концепции, развитой президентом Хатами, именно народ – активный творец истории, ход которой определяется кризисами цивилизаций. Кризисы рождения и кризисы гибели порождаются сдвигами в мировоззрении [136]. Эта концепция народа (причем отнюдь не ограниченная рамками ислама) обладает большой сплачивающей силой, и в последние 30 лет мы наблюдаем процесс формирования в Иране мощной гражданской нации, центральная мировоззренческая матрица которой имеет большой потенциал развития.
В Европе глубокая религиозная революции (Реформация) привела к изменению всех главных условий, определяющих процесс этногенеза, – мировоззрения и культуры в целом, представлений о человеке, об обществе и государстве, о собственности и хозяйстве. Это привело к глубоким изменениям в том, что мы метафорически называем «национальным характером» тех народов, которые перешли из католичества и протестантскую веру (а также и тех, кто сохранил свою веру в жесткой Контрреформации, например, испанцев).
М. Вебер пишет: «Верой, во имя которой в XVI и XVII вв. в наиболее развитых капиталистических странах – в Нидерландах, Англии, Франции – велась ожесточенная политическая и идеологическая борьба и которой мы именно поэтому в первую очередь уделяем наше внимание, был кальвинизм. Наиболее важным для этого учения догматом считалось обычно (и считается, в общем, по сей день) учение об избранности к спасению… Это учение в своей патетической бесчеловечности должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде всего один результат: ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества отдельного индивида. В решающей для человека эпохи Реформации жизненной проблеме – вечном блаженстве – он был обречен одиноко брести своим путем навстречу от века предначертанной ему судьбе» [52, с. 139, 142].
Новое время, порожденное чередой религиозных, научных и социальных революций, означало глубокое изменение в основаниях «сборки» народов Запада. Как писал немецкий богослов Р. Гвардини, одним из главных изменений было угасание религиозной восприимчивости. Он поясняет: «Под нею мы разумеем не веру в христианское Откровение или решимость вести сообразную ему жизнь, а непосредственный контакт с религиозным содержанием вещей, когда человека подхватывает тайное мировое течение, – способность, существовавшая во все времена и у всех народов. Но это означает, что человек нового времени не просто утрачивает веру в христианское Откровение; у него начинает атрофироваться естественный религиозный орган, и мир предстает ему как профанная действительность» [64].
Гвардини писал это после опыта немецкого фашизма. Он обратил внимание на то, что атрофия религиозного чувства («естественного религиозного органа») приводит к мировоззренческому кризису. В это же время опыт немецкого фашизма изучал другой, православный религиозный мыслитель – С.Н. Булгаков, который изложил свои выводы в трактате «Расизм и христианство». Для нашей темы важен тот отмеченный им факт, что в своем проекте «сборки» совершенно нового, необычного народа фашистов оказалось необходимым «создать суррогат религии, в прямом и сознательном отвержении всего христианского духа и учения». Расизм фашистов, по словам Булгакова, «есть философия истории, но, прежде всего, это есть религиозное мироощущение, которое должно быть понято в отношении к христианству». Чтобы сплотить немцев новыми, ранее им не присущими, этническими связями, недостаточно было ни рациональных доводов, ни идеологии. Требовалась религиозная проповедь, претендующая встать вровень с христианством.
С.Н. Булгаков, анализируя тексты теоретика нацистов Розенберга, пишет о фашизме: «Здесь наличествуют все основные элементы антихристианства: безбожие, вытекающее из натурализма, миф расы и крови с полной посюсторонностью религиозного сознания, демонизм национальной гордости («чести»), отвержение христианской любви с подменой ее, и – первое и последнее – отрицание Библии, как Ветхого (особенно), так и Нового Завета и всего церковного христианства.
Розенберг договаривает последнее слово человекобожия и натурализма в марксизме и гуманизме: не отвлеченное человечество, как сумма атомов, и не класс, как сумма социально-экономически объединенных индивидов, но кровно-биологический комплекс расы является новым богом религии расизма… Расизм в религиозном своем самоопределении представляет собой острейшую форму антихристианства, злее которой вообще не бывало в истории христианского мира (ветхозаветная эпоха знает только прообразы ее и предварения, см., главным образом, в книге пророка Даниила)… Это есть не столько гонение – и даже менее всего прямое гонение, сколько соперничающее антихристианство, «лжецерковь» (получающая кличку «немецкой национальной церкви»). Религия расизма победно заняла место христианского универсализма» [65].
Вот типичные высказывания Розенберга, приводимые Булгаковым: «Не жертвенный агнец иудейских пророчеств, не распятый есть теперь действительный идеал, который светит нам из Евангелий. А если он не может светить, то и Евангелия умерли… Теперь пробуждается новая вера: миф крови, вера вместе с кровью вообще защищает и божественное существо человека. Вера, воплощенная в яснейшее знание, что северная кровь представляет собою то таинство, которое заменило и преодолело древние таинства… Старая вера церквей: какова вера, таков и человек; северно-европейское же сознание: каков человек, такова и вера».
Здесь, кстати, видны философские различия двух тоталитаризмов, которые столкнулись в мировой войне – фашистского и советского. Когда в СССР потребовалось максимально укрепить связи этнической солидарности русского народа, государство не стало создавать суррогата религии, как это сделали в свое время якобинцы, а теперь фашисты, а обратилось за помощью именно к традиционной для русских православной церкви. В 1943 г. Сталин встречался с церковной иерархией, и церкви было дано новое, национальное название – Русская православная церковь (до 1927 г. она называлась Российской). В 1945 г. на средства правительства было организовано пышное проведение собора с участием греческих иерархов. После войны число церковных приходов увеличилось с двух до двадцати двух тысяч. Поэтому развернутая с 1954 г. Н.С. Хрущевым антицерковная пропаганда была одновременно и антинационалистической, имея целью пресечь одну из последних программ сталинизма. Это стало важным моментом в процессе демонтажа советского народа (см. [66]).
Наконец, другая близкая для нас история – становление русского народа (великорусского этноса). Во всей системе факторов, которые определили ход этого процесса, православие сыграло ключевую роль. Это отразилось во всех летописях и текстах ХI-ХV веков. В тесной связи наполнялись смыслом два важнейших для собирания народа понятий – русской земли и христианской веры.
Это показывает изучение текстов «Куликовского цикла». А. Ужанков цитирует «Задонщину» (конец XIV – начало XV в.): «…Царь Мамай пришел на Рускую землю… Князи и бояря и удалые люди, иже оставиша вся домы своя и богачество, жены и дети и скот, честь и славу мира сего получивши, главы своя положиша за землю Рускую и за веру християньскую… И положили есте головы своя за святыя церькви, за землю за Рускую и за веру крестьяньскую».
В этих текстах, как и вообще в этнической мифологии, рождение народа относится к глубокой древности, к Сотворению мира. Русские представлены народом библейским, причастным к ходу истории, определяемому Богом, но в то же время «народом новым» – христианским. Во вступлении «Задонщины» сказано: «Пойдем, брате, тамо в полунощную страну – жребия Афетова, сына Ноева, от него же родися русь православная. Взыдем на горы Киевския и посмотрим славного Непра и посмотрим по всей земли Руской. И оттоля на восточную страну – жребий Симова, сына Ноева, от него же родися хиновя – поганыя татаровя, бусормановя. Те бо на реке на Каяле одолеша родъ Афетов. И оттоля Руская земля седить невесела…»
Как подчеркивает А. Ужанков, автор «Задонщины» использует рефрен «за землю за Рускую и за веру крестьяньскую»: в сознании русского человека XV в. понятие Русская земля было неразрывно связано с христианской (православной) верой [67].
Становление русского государства в ХIV в. и формирование великорусского этноса ускорялось тем, что Московская Русь «вбирала» в себя и приспосабливала к своим нуждам структуры Золотой Орды. Это стало возможным и потому, что значительную часть татарской военной знати составляли христиане. Гумилев пишет: «Они (татары-христиане) бежали на Русь, в Москву, где и собралась военная элита Золотой Орды. Татары-золотоордынцы на московской службе составили костяк русского конного войска» [68].
В дальнейшем все кризисы Русской православной церкви приводили и к кризису этнического сознания с расколами и ослаблением связности народа. Этот процесс ускорился в начале ХХ века, что воспринималось как угроза для сохранения народа даже на уровне массового сознания. Так, сход крестьян дер. Суховерово Кологривского уезда Костромской губ. записал в апреле 1907 г. в наказе во II Государственную думу: «Назначить духовенству определенное жалованье от казны, чтобы прекратились всяческие поборы духовенства, так как подобными поборами развращается народ и падает религия» [32, т. 1, с. 203].
Особые проблемы возникают между идеологией и религией на стадии нациестроительства – превращения народов в политическую (гражданскую) нацию, в которой составляющие ее народы должны «приглушить» свою этничность. Этим объясняют, например, антиклерикализм Великой французской революции, которая производила сборку нации граждан.
И. Чернышевский предлагает такую схему: «Любой народ, активно заботящийся о собственном будущем (т. е. соразмеряющий свои действия с Большим временем), уже можно считать «нацией». В таком случае, что же нового было изобретено в Европе в XVII–XVIII веках, помимо появления самого слова «нация»? Ответ таков: было совершено своего рода переоткрытие национализма – а именно он был впервые в истории реализован в поле политики.
Здесь вступает в силу конструктивизм: для того чтобы соединить две «естественные» вещи (Большое время жизни народа и «малое» время жизни конкретного человека) требуется нечто искусственное – т. е. «националистическая машина», которая систематически транслирует первое во второе. «Национализм» есть особый общественный институт (наподобие «церкви», «правовой системы» и так далее).
Самая известная проекция Большого времени на человеческую жизнь осуществляется не национализмом, а религией. Поэтому очень не случайно, что Великая французская революция была одновременно и националистической, и антиклерикальной: именно последнее обстоятельство сделало возможным формирование «французской нации». За исключением особого случая иудаизма, в котором «национальная» и «религиозная» проекции совпадают, монотеистические религии являются конкурирующими с национализмом системами проекций. Они позволяют индивиду вписать свою жизнь в Большое время помимо «дел народа» – например, через участие в «работе спасения», как индивидуального, так и всеобщего» [69].
Русская революция также была проникнута пафосом национализма в двух его версиях – буржуазно-либерального (гражданского) у кадетов и общинно-державного (имперского) у большевиков, у которых пролетарский интернационализм был идеологической формой мессианизма. И в этой революции мы наблюдали столкновение идеологии и религии как в массовом сознании, так и в отношениях между государством и церковью. Стабилизировались они только после гражданской войны, к 1924 г.
После советского периода, во время которого народ был скреплен квазирелигиозной верой в коммунизм, вся система связей, соединяющих людей в народ, опять переживает кризис, в преодолении или углублении которого религии снова предоставлена важная роль.
В данный момент проблематика этничности присутствует, в том или ином виде (в том числе в виде антинационализма), в идеологических построениях практически всех политических сил в РФ. И практически все они трактуют ту или иную религию в качестве одного из атрибутов этничности (впрочем, некоторые политические активисты привлекают и язычество). Уровень религиозной грамотности у постсоветской интеллигенции очень невысок, и политики обычно смешивают религиозные и клерикальные понятия, смешивая религиозную составляющую мировоззрения с политической ролью церкви.
Когда политики, включая деятелей марксистско-ленинских партий, говорят о проблемах русского народа, то вставить в свои политические представления «немножко православия» стало почти обязательной нормой. Обозреватели отмечают, что Межрелигиозный совет России «де-факто выступает за однозначную связь этнической и религиозной идентичности» [70]. Православными называют себя и большинство русских националистов (хотя среди них есть неоязычники, отвергающие христианство).
Нынешние представления РПЦ о соотнесении религии с этничностью изложены в официальной доктрине «Основы социальной концепции РПЦ», принятой в 2000 г. В ней сказано: «Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по преимуществу моноконфессиональным православным сообществом, она в некотором смысле может восприниматься как единая община веры – православный народ» [71]. Это – общее определение, поскольку и гражданская, и этническая нации в РФ находятся еще в процессе становления. Однако в массовом сознании православие четко выступает как защитник русской этнической идентичности. Это стало важным фактором всего политического процесса в нынешней России.
Глава 15. Язык и имя
Язык есть один из важнейших факторов как формирования этноса, так и его развития. Язык создает образ этнического «мы» в противопоставлении с образом «они». Язык – это одно из главных средств соединения «своих» и отграничения от «чужих». Это в то же время один из главных этнических маркеров. Даже явно чужой, но говорящий на твоем родном языке, сразу становится гораздо ближе. Проблема языка нередко превращается в инструмент национализма и ведет к этнолингвистической напряженности или даже к конфликтам в многонациональных странах.
Язык не только служит средством коммуникации внутри этнической общности, он формирует ее «языковое сознание», задает общий набор понятий, общий арсенал мышления. А.С. Хомяков писал (1857): «Бесконечно воздействие слова на мысль. Это одно из проявлений умственной опеки народа над человеком». Когда сионисты решили возродить государство Израиль и собрать государственную еврейскую нацию, им пришлось даже заново создать современный язык на основе древнего иврита. Это была в значительной мере «лабораторная» работа, и ее автор, отец выдающегося современного лингвиста Ноама Хомского, был включен в число ста знаменитых евреев всех времен.
Антрополог К. Клакхон пишет: «Каждый язык есть также особый способ мировоззрения и интерпретации опыта. В структуре любого языка кроется целый набор неосознаваемых представлений о мире и жизни в нем». Антропологи-лингвисты обнаружили, что общие представления человека о реальности не вполне «заданы» внешними событиями (объективной действительностью). Человек видит и слышит лишь то, к чему его делает чувствительным грамматическая система его языка. Иными словами, сигналы от органов чувств перерабатываются языком в материал для размышлений [72, с. 190].
Говорят даже, что язык определяет коллективное бессознательное этноса. Архетипы «записаны» словами-стимулами, которые порождают ассоциации и «вызывают» целые блоки мироощущения[58]. Сотворение языка и письменности становится частью этнического предания, мифические или реальные создатели причисляются к лику святых как прародители народа.
Русские чтят болгарских монахов Кирилла и Мефодия, создавших алфавит (кириллицу), который способствовал собиранию славян. Создание алфавита – священная тема для многих армян. При обсуждении этой темы на интернет-форуме один участник-армянин взволнованно объяснял русским: «Создателя алфавита церковь признала святым. За полтысячелетия до того, как признали святым создателя вашего алфавита. То, что армяне сделали в сфере культуры в 405 г н. э. и в течение 100 лет после этого, русские не сделали за последние полтысячи лет своей истории, несмотря на то, что у них было несравнимо больше ресурсов… Вот уже более полуторатысячелетия армяне празднуют праздник переводчика. Наша церковь сохранила за свою историю более 15 тысяч древних манускриптов»[59].
Практически все «будители», занимавшиеся в ХIХ веке собиранием народов южных и восточных славян, были филологами и словесниками (см. гл. 4). Напротив, все сепаратисты, ставящие целью отделить свой регион от большой страны и ослабить связи своего населения с большой нацией, всегда начинают с языка – политическими средствами сокращают сферу применения прежнего общего языка на своей территории, прекращают его преподавание в школах, иногда даже доходят до смены алфавита своего этнического языка[60].
Освоение частью этнической общности чужого языка может запустить процесс формирования особой народности. Как пример приводят язык долган, небольшой народности в Красноярском крае (5,1 тыс. человек). Он сложился в ХVI веке в результате распространения якутского языка (тюркской семьи) в среде эвенков, язык которых относится к тунгусо-манчжурским. Так возник новый язык и говорящая на нем народность [138].
Есть небольшие народы, которые сохранились в течение длительного времени в иноэтнической среде благодаря своему языку (практикуя двуязычие). Таковы сорбы (сербы или серболужичане) – маленький (около 100 тыс. человек) славянский народ, живущий в Германии к востоку от Дрездена. Помимо немецкого, они говорят и на своем языке, который относится к западнославянским. Серболужичане упоминаются в исторических источниках с 651 г. В каких-то поколениях знание своего языка перестает быть престижным, уровень владения им среди молодежи снижается – это говорит об угасании чувства этнической принадлежности (такова, по данным языковедов, ситуация для сванского языка – все больше сванов называют своим родным языком грузинский).
Значение языка так велико, что сведения о нем приходится мифологизировать. Э. Кисс пишет: «Важным аспектом национального пробуждения явилось переписывание истории с целью перенесения национального самоосознания в далекую древность. Точно так же как каждый английский школьник убежден, что Вильгельм Завоеватель [король Англии с 1066 г.] говорил по-английски, хотя этого языка тогда не существовало… так и каждый венгерский школьник уверен, что Янош Хуньяди – это великий венгерский герой и такой же венгр, как и они сами; в действительности же он был хорватом, который, как и большинство венгерской знати того времени, говорил на латыни. Поиски славного прошлого вели и к прямым подделкам, как это было в случае чешского эпоса десятого века, созданного архивистом Вацлавом Ганкой на поддельном пергаменте» [73, с. 147–150].
В межнациональных отношениях языковые конфликты являются нередко самой острой и наглядной частью столкновений, вызванных другими, более основательными причинами. Притеснение родного языка, который воспринимается как воплощение культуры народа, накаляет страсти и становится средством мобилизации политизированной этничности.
Классическим примером является роль языка в сплочении ирландцев в их борьбе против колонизации англичанами. Литературный ирландский язык, не отражавший ни один из диалектов, существовал с VIII века. Этот язык соединял элиту множества мелких королевств, но его развитие было нарушено вторжением англичан и покорением Ирландии. Вплоть до ХVII века борьба за родной язык была одной из самых важных сторон политической борьбы ирландцев, но затем английский язык одержал верх[61]. Как показала перепись 1891 г., из тысячи ирландцев только 8 не могли говорить по-английски и 145 были двуязычными. 855 человек совсем не владели ирландским.
Публикация этих данных побудила в 1893 г. учредить Гэльскую лигу, которая поставила цель возродить ирландский язык. Число ее отделений во всех районах Ирландии достигло к 1904 году 593. Эта литературно-филологическая организация и стала центром кристаллизации сил, начавших борьбу за национальное освобождение Ирландии (Гэльская лига была запрещена английским правительством в 1919 г.). Борьба за возрождение ирландского языка оказалась важнейшим инструментом сплочения для борьбы за политическую и социально-экономическую независимость. Когда независимость была завоевана (1949 г.), ирландский язык стал государственным, его знание обязательно для учителей и госслужащих, но сфера его применения сужается – он свою роль сыграл. В середине 80-х годов ХХ в. лишь около 15 % ирландцев владели ирландским и английским языками, остальные пользовались только английским [138].
Роль языка как средства сплочения этноса и межэтнического общения менялась по мере развития техники его использования. До изобретения печатного станка язык был тесно привязан к этничности, так что само слово язык долго было синонимом слова народ. Философы и сейчас называют туземными те языки, которые выросли за века и корнями уходят в толщу культуры данного народа – в отличие от языка, созданного индустриальным обществом и воспринятого идеологией.
Русский словесник и педагог середины ХIХ века Ф.И. Буслаев писал о «туземном» языке (1844): «Все, что развивается в языке органически, само из себя, есть выражение народного ума и быта и потому удобопонятно само по себе; занесенное же и насильственно изобретенное умствующим рассудком содержит в себе, подобно монете, только условное значение. Слова заимствованные, как поддельные цветы, не коренятся в языке, ибо народ не знает ни роду их, ни племени, не сочувствует корню, от которого они происходят; стоят они, как сироты, не будучи окружены производными от себя или же сродными по корню» [74].
С книгопечатанием устный язык личных отношений был потеснен получением информации через книгу. На массовой книге строилась и новая школа западного буржуазного общества. Главной ее задачей стало искоренение «туземного» языка своих народов. Этот туземный язык, которому ребенок обучался в семье, на улице, на базаре, стал планомерно заменяться «правильным» языком, которому теперь обучали платные профессионалы через школу и СМИ – языком газеты, радио и телевидения.
Долгое время на язык смотрели через призму примордиализма, как на дар Божий. Французский философ, изучающий роль языка в обществе, Иван Иллич пишет, что в 1492 г., когда Колумб уже отбыл «открывать» Америку, кастильский ученый дон Элио де Небриха вручил королеве свой труд – первую грамматику испанского языка. Он объяснил, что только «правильный» язык, которому будут обучать дипломированные профессора, сможет соединить колонии в империю, а подданных в один народ – одна лишь шпага солдата с этим не справится. «Правильный» язык (артефакт, artificio) есть инструмент, он должен изучаться по строгим правилам везде и всегда в будущем – и вытеснять «туземные» языки.
Небриха написал королеве много верных и важных вещей, но эти мысли казались необычными. Королева ответила: «Я изумлена бессмысленностью труда Небрихи, которому он посвятил столько лет. Грамматика – это инструмент для изучения языка, но я не вижу, почему надо было бы учить людей языку. В наших королевствах каждый подданный возник естественным образом и, вырастая, прекрасно овладевает своим языком. Не дело короля вторгаться в это царство».
Прошло немного времени, и испанская корона учредила Академию, которая строго следила за обучением и применением кастильского языка, который на три века соединил огромную империю и послужил инструментом для создания множества наций и народов Латинской Америки.
Позже французский философ-консерватор Ж. де Местр писал: «Язык не может быть изобретен, он когда-то был дан народу свыше» (см. [75]). А в это время Лавуазье совершил почти богоборческое дело – создал первый искусственный язык, язык химии. Обычно говорят о том, что он совершил революцию в химии, превратил ее в настоящую науку. Но значение его опыта по созданию языка далеко выходит за рамки только лишь химии. Это была революция в культуре. Лавуазье создал словарь, грамматику, морфологию слов (корень, приставки, суффиксы и окончания), систему знаков – и благодаря этому быстро собрался «народ» химиков. Язык конструируется, это не примордиальная данность.
Каждый крупный общественный сдвиг ускоряет этногенез и усиливает словотворчество. Превращение народов средневековой Европы в нации привело к созданию принципиально нового языка с «онаученным» словарем. Язык в буржуазном обществе стал товаром и распределяется по законам рынка. Иван Иллич пишет: «В наше время слова стали одним из самых крупных товаров на рынке, определяющих валовой национальный продукт. Именно деньги определяют, что будет сказано, кто это скажет и тип людей, которым это будет сказано. У богатых наций язык превратился в подобие губки, которая впитывает невероятные суммы». В отличие от «туземного» языка, язык, превращенный в капитал, стал продуктом производства, со своей технологией и научными разработками.
Теперь слова стали рациональными, они были очищены от множества уходящих в глубь веков смыслов. Они потеряли святость и ценность (приобретя взамен цену). Это «онаучивание» языка было, как выражается Иллич, одной из форм колонизации собственных народов буржуазным обществом. Оно же стало и средством «пересборки» этих народов на новой основе. Создание новых «бескорневых» слов (слов-амеб) стало способом ослабления связующей силы национальных языков и инструментом атомизации общества, необходимой для сборки западных гражданских наций[62].
Это был разрыв во всей истории человечества. Ведь раньше язык, как выразился М. Хайдеггер, для народа «был самой священной из всех ценностей». Подводя после войны итог этим своим мыслям, Хайдеггер писал (в «Письме о гуманизме»): «Язык под господством новоевропейской метафизики субъективности почти неудержимо выпадает из своей стихии. Язык все еще не выдает нам своей сути: того, что он – дом истины Бытия. Язык, наоборот, поддается нашей голой воле и активности и служит орудием нашего господства над сущим» [76, с. 318].
Гумилев, отстаивая свою примордиалистскую концепцию этноса как порождения ландшафта и космических сил (этнического поля), принижает роль целенаправленной деятельности государства и языка в собирании народов. Но многочисленные примеры, которые он приводит, говорят об обратном – эта роль велика. Он так излагает, например, историю создания мощной нации турок:
«Последние образовались на глазах историков путем смешения орды туркмен, пришедших в Малую Азию с Эргогрулом, газиев – добровольных борцов за ислам, в числе которых были курды, сельджуки, татары и черкесы, славянских юношей, забираемых в янычары, греков, итальянцев, арабов, киприотов и т. п., поступавших на флот, ренегатов-французов и немцев, искавших карьеру и фортуну, и огромного количества грузинок, украинок и полек, продаваемых татарами на невольничьих базарах. Тюркским был только язык, потому что он был принят в армии. И эта мешанина в течение XV–XVI вв. слилась в монолитный народ, присвоивший себе название «турк» в память тех степных богатырей, которые 1000 лет назад стяжали себе славу на равнинах Центральной Азии и погибли, не оставив потомства. Опять этноним отражает не истинное положение дел, а традиции и претензии» [17, с. 76].
В этом изложении создателями «монолитного народа» из этнической «мешанины» как раз выступают государство с его армией и язык.
Огромное значение для этнической идентификации имеет имя этноса (этноним). О его истории и древнем смысле спорят идеологи. Откуда взялось имя славяне? Что такое Русь? Где и в каком тысячелетии до нашей эры обитали древние укры, от которых якобы и пошли нынешние украинцы? Все это оказывает на этническое сознание в момент его возбуждения магическое мобилизующее действие. За древнее имя идет борьба, иногда многовековая.
Гумилев рассказывает, какие народы претендовали на обладание этнонимом римляне. «Ромеи [византийцы] считали «римлянами» именно себя, а не население Италии, где феодалами стали лангобарды, горожанами – сирийские семиты, заселявшие в I–III вв. пустевшую Италию, а крестьянами – бывшие колоны из военнопленных всех народов, когда-либо побежденных римлянами Империи. Зато флорентийцы, генуэзцы, венецианцы и другие жители Италии считали «римлянами» себя, а не греков, и на этом основании утверждали приоритет Рима, в котором от античного города оставались только руины… Третья ветвь этнонима «римляне» возникла на Дунае, где после римского завоевания Дакии было место ссылки. Здесь отбывали наказание за восстания против римского господства… все восточные подданные Римской империи. Чтобы понимать друг друга, они объяснялись на общеизвестном латинском языке. Когда римские легионы ушли из Дакии, потомки ссыльнопоселенцев остались и образовали этнос, который в XIX в. принял название «румыны», т. е. «римляне»» [17, с. 75].
Иногда зрелые этносы перенимали, по политическим причинам, чужое имя и много веков с гордостью носили его, при этом не забывая о старом имени и ведя о нем споры. Так, волжские тюрки взяли себе («в знак лояльности к хану Золотой Орды») имя татары, которое в тот момент было в Восточной Европе синонимом слова монгол. Как пишет о дальнейшем Гумилев, «европейские ученые в XVIII в. называли всех кочевников «les Tartars», а в XIX в., когда вошли в моду лингвистические классификации, присвоили название «тюрок» определенной группе языков. Таким образом, в разряд «тюрок» попали многие народы, которые в древности в их состав не входили, например якуты, чуваши и турки-османы» [17, с. 76]. Замечательна судьба этнонима «болгары». Его принесли на Балканы тюрки, которые в VII в. подчинили здешних славян. Эти тюрки полностью растворились в славянском населении, но оно взяло себе самоназвание «болгары».
Независимо от реальной истории происхождения имени этноса, оно служит важным символом и незаменимым этническим маркером. Такую же важную роль играют географические названия – имена местностей, рек и гор родной земли, имена священных животных и богов, имена всех символических для этнического сознания сущностей.
Обвиняя современных либералов в нечувствительности к этой стороне сознания, Дж. Грей пишет: «Масаи, когда они были вытеснены со своей исторической родины в резервацию в Кении, где они сейчас проживают, взяли с собой имена окружающих холмов, рек и равнин и дали их холмам, рекам и равнинам своей новой страны. Именно такие уловки консерватизма позволяют человеку или народу, вынужденным переживать глубокие перемены, спастись от угрозы вымирания… С помощью такой же уловки вышли из положения шаманы с озера Байкал, которым советский коммунистический режим не позволял молиться прежним богам, и тогда они дали своим богам имена парижских коммунаров, предотвратив угасание собственной религии и разрушение самой своей идентичности» [6, с. 208][63].
Важное место занимает этноним и в истории украинского национализма. В геополитическом противостоянии Запада с Россией было использовано политизированное этническое самосознание части населения Украины. О его формировании в начале ХХ века пишет в книге «Происхождение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 1966) историк-эмигрант Н.И. Ульянов [77]. Он рассказывает, что в конце ХIХ века в Галиции, которая была провинцией Австро-Венгрии, народность русинов (или рутенов, как их называли австрийцы) насчитывала около двух миллионов человек, которые жили вперемешку с поляками.
В самой Галиции «ни народ, ни власти слыхом не слыхивали про Украину. Именовать ее так начала кучка интеллигентов в конце ХIХ века». Впервые термин «украинский» был употреблен в письме императора Франца-Иосифа 5 июня 1912 г. В 1915 г. австрийскому правительству был вручен «Меморандум о необходимости исключительного употребления названия украинец».
Но до этого борьба вокруг языка как инструмента политики, внутрироссийской и международной, уже велась полвека. Важную роль в ней сыграла поддержка антирусского движения в Галиции со стороны либеральных российских интеллигентов, начиная с Н.Г. Чернышевского. Как пишет Ульянов, сам факт издания русинских газет на русском языке они считали «реакционным» – они требовали, чтобы эти газеты выходили на малороссийском языке. «Либералы, такие, как Мордовцев в «СПб. ведомостях», Пыпин в «Вестнике Европы», защищали этот язык и все самостийничество больше, чем сами сепаратисты. «Вестник Европы» выглядел украинофильским журналом», – пишет Ульянов [77].
В целом в Новое время процессом создания и употребления языка стало управлять государство, что позволило приглушать этничность населения отдельных местностей и собирать его в большие народы и нации. В середине ХХ века в мире было всего 13 языков, для которых число говорящих превышало 50 млн. человек[64].
Важным нововведением стало утверждение государственного языка. Эта прерогатива государства и сегодня является одним из важных инструментом национальной политики и предметом межэтнических противоречий и конфликтов. Опыт многих народов показывает, однако, что придание языку статуса государственного вовсе не является гарантией его сохранения – гораздо важнее отношение к нему самого населения, определяемое множеством факторов.
Глава 16. Гуманитарное сознание: история
Человек «возникал», сразу соединяясь в этнические общности, никогда не образуя «стадо». Его первые мысли были о мироздании, о пространстве и времени, о потустороннем мире. Все это соединялось в систему космологических представлений, выраженных в структуре и на языке мифа. Важной частью мифологических представлений было предание о происхождении народа. Это предание было историей народа. Во всей системе связей, соединяющих людей в племя, народ или нацию, общая история, передающаяся из поколения в поколение, занимала и занимает очень важное место.
Национальная история, сплачивающая народ общим прошлым, составленная несколькими поколениями выдающихся интеллектуалов, сплошь и рядом оказывается «изобретенной традицией». Способствовать выработке этой традиции, ее передаче из поколения в поколение и защищать ее от диверсий информационно-психологических войн – одна из функций государства. Здесь соединяется много необходимых условий. Достаточно напомнить, что первая попытка создания целостной германской истории была предпринята Г. фон Трейчке только после того, как Германия при Бисмарке обрела свои единые государственные границы.
История требуется и народам, и нациям для обоснования своего права на существование. «Безродным» на земле места нет. Чем древнее корень народа, тем больше у него моральных прав, их недостаток не всегда можно компенсировать даже силой. Поэтому над поисками корней в мире трудится огромная армия археологов, историков, писателей. И даже бедные страны не жалеют денег на устройство роскошных этнографических музеев.
В коллективной памяти народов очень сильны принципы традиционного, обычного права. Из них следует, что «все то, что было, имеет тем самым право на существование». При этом более древнее прошлое имело больше прав, поскольку «дурными обычаями» считались те, что введены недавно. Даже в Западной Европе, где уже с конца ХI века начали вводить римское право, даже в ХIII веке практически нет тяжб о собственности, в судах разбирали тяжбы о «сейзине» – владении, узаконенном временем. М. Блок в «Апологии истории» поясняет: «Предположим, что два тяжущихся спорят о поле или судейской должности. Кем бы ни был нынешний обладатель, победу одержит тот, кто сумеет доказать, что он возделывал эту землю или вершил суд в течение предыдущих лет, или, что еще лучше – докажет, что его отцы делали то же еще до него. Для этого он… будет ссылаться на «человеческую память, насколько она уходит в прошлое»… Стоило дать доказательство длительного пользования, и никто уже не считал нужным доказывать что-либо еще» [78, с. 174–177].
Проблематика этнической истории ставит много вопросов, на которые нет готовых ответов, тут открытое поле для исследований. По выражению В.А. Шнирельмана, этнологи спрашивают: почему многие националисты так высоко ценят именно отдаленное прошлое и этнические корни? Чего они ожидают в самом начале истории, что заставляет их без устали углубляться в ее все более ранние слои? Чем объясняется такое тяготение к «вечному возвращению»? Что за «вдохновляющий архетип» люди ищут в истоках истории? Почему их привлекают одни представления о прошлом и не привлекают другие и при каких условиях? Возможно ли присвоение чужого прошлого? Почему люди вообще апеллируют к прошлому, если связи с ним давно утрачены?
В.А. Шнирельман объясняет это так: «Чем привлекает миф о далеких предках? Почему ему иной раз удается оказывать на людей более сильное воздействие, чем мифам о недавнем прошлом? Недавнее прошлое достаточно хорошо освещено документами, в нем действуют известные люди со всеми их достоинствами и недостатками, и этих людей нелегко идеализировать. Кроме того, общественные взаимоотношения недавнего прошлого отягощены социальными барьерами, и такое общество трудно представить органическим единством. Зато общества отдаленного прошлого, обезличенные разрушительным действием времени, много легче изобразить в виде культурных целостностей и наделить их единой волей, превратив в коллективных былинных богатырей, культурных героев. Наконец, в глазах народа и его соседей многовековая преемственность придает особый престиж культуре и заставляет считаться с ее носителями» [36].
В новое время историю народов полагается творить с опорой на авторитет науки. Но под защитой этого авторитета здесь создается особый тип знания – предание, становящееся частью национальной идеологии. Это ни в коем случае не принижает его места в системе знания и тем более не снижает требований к качеству текстов и образов. А если учесть, что эти тексты и образы всегда находятся под угрозой диверсии в условиях непрерывно ведущейся в мире информационно-психологической войны, то сама их охрана становится общенародным делом.
Ввиду наличия многих угроз и необходимости постоянной адаптации к быстро меняющимся международным условиям, история народа представляет собой сложный предмет интеллектуальной и творческой деятельности. Виднейший западный культуролог и философ Эрнест Ренан заметил, например, что формирование нации требует амнезии – отключения исторической памяти или даже сознательного искажения истории. Так и поступали и умные цари, и мудрые народы. «Кто старое помянет, тому глаз вон», – говорилось при заключении мира с бывшим смертельным врагом.
А для сохранения народа, которого «растворяет» большая нация, его история важна как связующая сила. Ю.В. Бромлей пишет: «Этническая история человечества знает бесконечное число случаев, когда тот или иной этнос (или его часть), восприняв ряд детерминирующих свойств другого этноса, казалось бы, сохраняет свое прежнее сознание этнической принадлежности лишь благодаря одному представлению об особых исторических судьбах» [34, с. 192].
При этом память о трагических моментах истории, о поражениях и утратах иногда играет не менее важную роль в становлении народа, нежели память о «золотом веке» далекого прошлого. Говоря о национальном мировоззрении немцев, Маркс цитирует Гейне:
Французам и русским досталась земля, Владеют морем бритты, Мы же владеем царством снов, И здесь мы пока не разбиты. Здесь у нас гегемония есть, Здесь мы не раздроблены, к счастью; Другие народы на плоской земле Развились большею частью.В древние времена историческое предание складывалось, вызревало, оттачивалось и систематизировалось трудами сказителей, певцов, жрецов. Составленные так эпосы записывались, иногда им присваивалось авторство (возможно, само оно становилось частью мифа), иногда тексты оставались безымянными. Гомера все знают, а кто донес до исторического времени предание о бегстве евреев из Египта (книга Исход Ветхого Завета), неизвестно. Неизвестно даже, кто написал «Слово о полку Игореве».
В некоторых случаях записанные предания оказывались фальсификацией. Но даже разоблачение не лишало их объединительной силы. Сам этот факт важен для понимания той функции, какую играет для жизни народа наличие его истории. Например, и сегодня французские дети растут и воспитываются на подвигах полумифического Верцингеторига, вождя восстания галлов против Рима в 52 г. до н. э. Попытка начать кампанию по разоблачению или дискредитации этого героя древности была бы воспринята во Франции как антинациональная диверсия – совершенно независимо от достоверности аргументов.
В период глубоких политических и социальных перемен всегда происходит перестройка и представлений о прошлом. В многонациональном обществе это сразу сказывается на этнической или национальной политике. В.А. Шнирельман отмечает даже диагностическое значение повышенного интереса к истории своего народа. Этот интерес говорит о наличии глубоких «действующих» противоречий, а быстрое изменение интенсивности дебатов на исторические темы – о грядущем кризисе. Он пишет: «В ходе детальных интервью выяснилось, что черные американцы и американские индейцы в гораздо большей степени, чем белые американцы, связывают свои семейные истории с историей расы или племени. Например, среди черных американцев оказалось в семь раз больше, чем среди белых, тех, кто придавал основополагающее значение фактам своей этнорасовой истории. А среди индейцев-сиу таковых оказалось даже в десять раз больше… Заметные сдвиги в этническом самосознании и самоидентификации свидетельствуют о происходящих или о близящихся социальных и политических изменениях» [36].
В моменты кризиса, особенно в зоне сложных межэтнических отношений, возникает политическая необходимость в срочном «создании» или в переделке истории. Как показывают исследования таких ситуаций, при оценке этой гуманитарной продукции является несущественным вопрос, насколько адекватно она описывает прошлое. Важно не «соответствие воспоминаний прошлой реальности, а то, почему участники событий именно так, а не иначе конструируют в данный момент свои воспоминания». Важно, чтобы люди считали эти истории истинными.
История народа, «сконструированная» жрецами и сказителями и передаваемая из поколения в поколение, необходима людям как связующая сила, обеспечивающая воспроизводство народа в Большом времени. Всякое покушение на эту общую ценность воспринимается чрезвычайно болезненно. Дж. Грей пишет: «Человеческие существа, какими мы их видим… принадлежат к определенным культурам. Именно из этих культур они черпают свою идентичность, определенность, которая не есть определенность человеческого рода вообще, а нечто, обусловленное конкретным, не выбираемым ими наследием истории и языка… Сам смысл жизни человека постигается посредством знания, носителем которого выступает местное сообщество, поэтому величайшей бедой, что только может выпасть на долю общности, было бы обесценивание традиционных верований – мифов, ритуалов, легенд и всего прочего, наделяющего смыслом жизни ее членов, – в ходе слишком стремительных или огульных культурных преобразований» [6, с. 207–208].
Обычно такие «стремительные культурные преобразования» производятся именно с целью сломать или испортить механизм, связывающий людей в народ, чтобы ослабить этот народ ради каких-то политических целей. В этих случаях навязанная обществу история служит инструментом демонтажа народа. Но это – отдельная тема, в данном разделе речь идет о силах созидания народов.
Укрепление, обновление и «ремонт» собственной истории должен непрерывно и ответственно вестись каждым народом, как и «защита» своей истории должна быть частью работы всей системы национальной безопасности. В этом отношении поучителен пример Западной Европы. Здесь выработка «предания» и его внедрение в массовое сознание никогда не пускались на самотек, и любая перестройка системы исторических мифов была под внимательным контролем элиты. Изъятие, по каким-то причинам, какой-то части предания, сразу приводило к мобилизации крупных интеллектуальных и художественных сил, которые быстро заполняли прореху новым, мастерски сфабрикованным блоком.
Так, становление современного Запада происходило в ХVI – ХVII веках в условиях религиозной революции (Реформации), при высоком накале христианского фундаментализма: католическую церковь, якобы погрязшую в роскоши и пороках, обвиняли в забвении истоков, в предательстве чистоты и аскетизма ранних христиан. Ранний современный капитализм стоял на духовной основе кальвинизма, предприниматели были аскетами, их стяжательство было формой служения Богу. Запад, в отличие от Востока, был представлен в его истории христианским – даже Россия считалась «испорченной». Сейчас мы слышим в идеологии Запада примерно те же мотивы (только теперь говорят об иудео-христианской культуре Запада).
Но в промежутке между ХVII и ХХ веками был особый период – Просвещение, два века политических революций, когда лозунгом было «раздавить гадину!», то есть христианскую церковь. Универсализм Просвещения выражался, в частности, в идее полной ликвидации этнических различий в общем шествии человечества по столбовой дороге цивилизации. Политическое масонство, ставшее интеллектуальным штабом по выработке этой доктрины, по необходимости было радикально антихристианским. Как же было в тот период «отремонтировано» историческое предание о происхождении Запада?
Самир Амин пишет: «Европейская буржуазия в течение долгого времени с недоверием и даже презрением относилась к христианству и поэтому раздувала «греческий миф»… Согласно этому мифу, Греция была матерью рациональной философии, в то время как «Восток» никогда не смог преодолеть метафизики… Эта конструкция совершенно мистифицирована. Мартин Бернал показал это, описав историю того, как, по его выражению, «фабриковалась Древняя Греция». Он напоминает, что греки прекрасно осознавали свою принадлежность к культурному ареалу древнего Востока. Они не только высоко ценили то, чему обучились у египтян и финикийцев, но и не считали себя «анти-Востоком», каковым представляет евроцентризм греческий мир. Напротив, греки считали своими предками египтян, быть может, мифическими, но это не важно. Бернал показывает, что «эллиномания» XIX века была инспирирована расизмом романтического движения, архитекторами которого часто были те, кто инспирировал и «ориентализм» [7, с. 95].
Иными словами, история Запада как христианской цивилизации была переписана так, что истоки Запада оказались перенесенными в более древние времена, в античную Грецию, а христианские корни были на время удалены в тень. Кстати, «сфабрикованная Древняя Греция» была перенесена и в российское образование, а в комбинации с вольтеровским антихристианством укоренилась и в марксизме.
Осознание себя как «держателя» ценностей античной цивилизации и имперского духа Рима сплачивает и народ США – страны-авангарда, «более Европы, чем сама Европа». Здесь мессианский имперский дух Запада выражен сильнее, чем где бы то ни было (за исключением краткого периода немецкого фашизма). В известной речи сенатора А. Бевериджа (1900) так говорится о народе США: «Бог сотворил нас господами и устроителями мира, водворяющими порядок в царстве хаоса. Он осенил нас духом прогресса, сокрушающим силы реакции по всей земле. Он сделал нас сведущими в управлении, чтобы мы могли править дикими и дряхлыми народами. Кроме нас, нет иной мощи, способной удержать мир от возвращения в тьму варварства. Из всех рас Он сделал Американский народ Своим избранным народом, поручив нам руководить обновлением мира. Такова божественная миссия Америки» [79].
Сложившись как цивилизация мессианская, с сильными внутренними побуждениями к экспансии, что проявилось уже в походах Карла Великого и Крестовых походах, Запад придавал большое значение созданию и укреплению этнической границы и постоянной работе над образами иных. Здесь было развито старое понятие о цивилизации и варварах, которые ее окружают и ей угрожают. Это противостояние стало важной частью той истории, в которой с детства воспитываются граждане этой цивилизации. Образ угрожающего народу Европы варвара обладал на Западе такой мобилизующей способностью, что в моменты внутренних конфликтов европейцы даже своих соседей представляли варварами (французы англичан, англичане немцев и т. п.).
В отношении русских образ «варвара на пороге» использовался постоянно в течение пяти веков[65]. Европеец был убежден, что его народу приходилось издавна жить бок о бок с варваром непредсказуемым, ход мыслей которого недоступен для логического анализа. В предисловии к книге Л. Вульфа «Изобретая Восточную Европу» А. Нойман пишет о том, как менялась эта трактовка России в разные исторические периоды: «Неопределенным был ее христианский статус в XVI и XVII веках, неопределенной была ее способность усвоить то, чему она научилась у Европы, в XVIII веке, неопределенными были ее военные намерения в XIX и военно-политические в XX веке, теперь неопределенным снова выглядит ее потенциал как ученика – всюду эта неизменная неопределенность» [80].
Уверенность в том, что Россия всегда стремилась покорить Европу и увековечить свое «монгольское господство над современным обществом», стала важной частью общего исторического сознания Запада. Страх и ненависть по отношению к России культивировались в западном сознании даже в среде просвещенной революционной интеллигенции. Даже Маркс, который постоянно подчеркивал научный характер своего учения, сформулировал на этот счет целую концепцию.
Свою работу «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» (1856–1857) Маркс завершает так: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира… Так же как она поступила с Золотой Ордой, Россия теперь ведет дело с Западом. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризоваться. Чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизоваться… оставаясь Рабом, то есть придав русским тот внешний налет цивилизации, который подготовил бы их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних» [81].
Коллективная историческая память, соединяющая этническую общность, хранит в себе всякие «отпечатки прошлого» – и о травмирующих, и о вдохновляющих моментах и событиях. Какие из них выводить на передний план, а какие уводить в тень или даже предавать забвению, зависит от целей и тактики тех групп, которые в данный момент конструируют, мобилизуют или демонтируют этническое сознание. Это – предмет политической борьбы.
Если политическая элита берет курс на ослабление этничности и усиление общегражданской солидарности, то в школе, СМИ, художественном творчестве разными способами приглушается роль исторических личностей, которые олицетворяли расколы и особенно межнациональные конфликты. Если же требуется этническая мобилизация, то массовое сознание всеми способами привлекается именно к этим именам-символам. В.А. Шнирельман приводит такое сравнение: «Вспоминая об исторической личности, оказавшей на них наибольшее влияние, американцы сплошь и рядом говорят о каком-либо родственнике, тогда как северокавказцы неизменно называют имя Шамиля» [36].
Если национальному сознанию придается конфронтационный характер, то важным образом Предания становится «герой национального возрождения», наделяемый чертами «спасителя» и «искупителя». Таким стал, например, образ Тараса Шевченко в украинской националистической истории (попытки сделать такими же героями Мазепу и Грушевского, кажется, особого успеха не имели).
Столь же целенаправленно отбираются в истории события, на которых концентрируется внимание общества в процессе конструирования этнического сознания. Сейчас зоной интенсивного воздействия на этническое сознание стал Северный Кавказ. По словам историка Л. Гатаговой, «на Кавказе расцвела и молчаливо поощрялась местными властями практика создания «оригинальных» версий прошлого своего народа – с непременным возвеличиванием его роли за счет соседних этносов».
В этом политическом использовании истории силен и антироссийский мотив (как развитие навязанного во время перестройки антисоветского мотива). В.А. Шнирельман пишет: «Для делегитимизации советской власти и «российского владычества» одни народы (балкарцы, карачаевцы, ингуши, чеченцы) делали акцент на депортации 1943–1944 гг., а другие обращались к еще более глубоким пластам памяти и вспоминали о движении Шамиля (чеченцы, дагестанцы) или о массовом выселении в Турцию после Кавказской войны (адыги). Правда, как настаивают некоторые кабардинские авторы, для адыгов акцент на геноциде XIX в. служил аргументом не в пользу независимости, а для уравновешивания эффекта актуализации балкарской памяти о депортации» [36]. То есть между народами возникла конкуренция за политический капитал, который в условиях кризиса представляет собой историческая память о бедствиях.
Важнейшую роль в применении истории для этнической мобилизации играет гуманитарная интеллигенция – ученые, учителя, работники СМИ. Как отмечают северокавказские этнологи, «историческая память как компонент личной и групповой идентичности в современных условиях не столько складывается на основании межпоколенной трансляции или традиций, сколько внедряется в сознание в виде квазинаучных интерпретаций, отражающих идеологию и политические интересы соответствующих групп» (см. [36]).
Пик этого кризиса на Северном Кавказе, как и всего российского кризиса, пришелся, видимо, на вторую половину 90-х годов ХХ века. Те годы стали большим испытанием для всех сторон общественного бытия многих народов, но запаса прочности хватило, чтобы не дать радикальному этнонационализму выйти в режим расширенного воспроизводства.
На всероссийской конференции во Владикавказе в июне 1995 г. кабардинский ученый говорил: «К сожалению, сейчас на страницах журналов, газет под флагом возрождения национального самосознания провозглашаются идеи откровенно националистического толка, тенденциозно искажающие исторические факты, предъявляющие огульные обвинения целым народам, и тем самым создаются предпосылки к искусственному нагнетанию напряженности в сфере межнациональных отношений. Эти статьи с картами, которые были опубликованы на страницах республиканских газет Северного Кавказа, противоречат географической, этнической и исторической логике. Такие публикации являются рассадниками исторической лжи и не способствуют стабилизации межнациональных отношений… Во многих публикациях между учеными усиленно идет соревнование по удревнению истории, возвеличиванию заслуги своего народа в создании духовно-нравственных ценностей» [82].
Историк Л. Гатагова высказывает в 1999 г. ту же мысль еще более определенно, она считает, что на Северном Кавказе «многие современные этноконфликты зародились на страницах исторических работ, преимущественно по древности и средневековью». Надо думать, сейчас идет осмысление уроков тех критических лет. Для успеха необходимо, чтобы хоть какая-то часть национальной интеллигенции вводила в реактор этнического сознания охлаждающие стержни здравого смысла и напоминала людям фундаментальный критерий: «Ищи, кому выгодно». Этнолог П. Брасс подчеркивает, что «именно соперничество между элитами приводит в определенных условиях к этническому конфликту, возникающему из-за политических и экономических разногласий, а вовсе не из-за различия культурных ценностей вовлеченных в него этнических групп» (см. [36]).
Хорошим учебным материалом служит большая современная программа по сотворению новой украинской нации, отколовшейся от России и даже враждебной ей. Эта программа в разных формах ведется уже более ста лет, и новый ее виток был начат во время перестройки. «Оранжевая» революция стала и промежуточным результатом, и этапом в выполнении этой программы. Здесь мы отметим тот факт, что для формирования новой этнической солидарности «конструкторы» выбрали типичный прием этнонационализма – соединение людей памятью о преступлениях «колонизаторов». В качестве главного преступления «москалей» взят голод во время коллективизации зимой 1932/33 г. Стремясь скрепить «новый» народ на основе национальной вражды, антироссийские политики на Украине пишут «новую» историю.
Здесь мы не вдаемся в оценку подлинности, правдивости и даже целесообразности этой и других подобных историй, мы лишь говорим о роли этой части гуманитарного знания в скреплении людей общим этническим сознанием. При этом последующая демистификация этнического мифа или даже грубая фальсификация истории очень часто не оказывают никакого эффекта. Если матрица сборки народа или нации успела сложиться, людей уже не интересуют те инструменты, которые были использованы при ее строительстве – эти истории можно даже убрать, как убирают строительные леса от законченного здания.
Глава 17. Гуманитарное сознание: география
В создании народов и наций история выполняет свою роль рука об руку с географией – представлением о том, как соотносится наша земля с землями других народов и наций. В определенном смысле сами понятия народ и нация привязаны к географическому понятию страны. Французы – это те, кто живут во Франции. Вот ее границы, здесь Франция, а там, за рекой, Германия, там немцы[66].
Для этнического сплочения людей важен и образ «малой родины», части страны – местности. Сибиряки, поморы, псковские («скобари») – это земляки, части русского народа, имеющие определенную региональную идентичность. Она может то угасать, то быть мобилизованной. П. Сорокин писал: «Из всех связей, которые соединяют людей между собой, связи по местности являются самыми сильными. Одно и то же местожительство порождает в людях общность стремлений и интересов» (см. [133]).
В своей национальной идентификации люди придают большое значение и образу пространства, большего, чем страна – такому условному географическому понятию, как континент. Мы – европейцы, а там, за рекой – азиаты. За определение географических признаков ведется ожесточенная идеологическая борьба. Объединяющее народ географическое видение мира – это «сплав поэзии и мифа». Австрийский канцлер Меттерних говорил: «Азия начинается за Ландштрассе», то есть австрийцы-немцы живут в прифронтовой полосе Европы. Отправляясь из Вены в Прагу, Моцарт считал, что едет на Восток, к славянам (хотя Прага находится западнее Вены).
Другое измерение пространства связано с формированием мировоззрения этнической общности и отражает космогонические представления. Это как бы взгляд на ее территорию «с неба». Этот взгляд – обязательная часть мифологических представлений, в которых земное (социальное) пространство отражает строение космоса. Устройство города красноречиво говорит о мировоззрении племени, народа и даже нации. Например, христианский город представляет микрокосм с центром, в котором находится храм, соединяющий его с небом. А. Леруа-Гуран помещает в своей книге план Москвы как города, отражающего облик всего мира.
Представления древних греков о пространстве выражены в строгом географическом строении полиса. Обыденное пространство здесь однородно, не имеет иерархии. Политическое пространство (Агора) отделено от сакрального (Акрополь) и противостоит ему. Центр соединяет все три пространства, все они преодолимы. Как говорят, античная мифология «ложится» на географическое пространство полиса, и его жители все время чувствуют свою причастность ко всем трем измерениям [24].
Самоосознание и сплочение народа через общее представление о том, как видится его земля «с небес», присущи не только мифологическому сознанию, но и космическому чувству человека мировых религий (и вообще человека, обладающего «естественным религиозным органом»). Это представление стремились высказать поэты, наверное, всех народов. У русских середины ХIХ в. его выразил Тютчев в трех строфах:
Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный Исходил, благославляя.Для этнического самосознания важно представление о заселенности родной земли, о ее связности через сеть городов. В начале ХХ века среднее расстояние между городскими центрами в центральных районах Европейской части России составляло 60–85 км, на Урале – 150 км, а в Сибири 500 км. К настоящему моменту эти расстояния сократились в два раза – страна заселилась более равномерно. Но насколько иначе ощущает пространство житель Западной Европы, где уже пять веков назад сложилась сеть городов, отстоящих друг от друга на 10–20 км. Эта разница предопределила различия и в системе хозяйства – расстояние до рынка сбыта есть один из главных факторов многих производств (как и самой возможности «рыночной» экономики).
По словам В.А. Тишкова, «центры появляются и существуют в среде человеческих сообществ как своего рода метафизические необходимости: они являются узлами связей, местами защиты и управления, они формируют каркас обитаемой территории, придают ей определенную конфигурацию». Характер сети городов по-разному формирует и разное восприятие столицы, символического центра страны. Тишков отмечает, что в России распространено указание на положение места от Москвы, но трудно себе представить, чтобы то или иное место в США или Англии обозначалось как «расположен в 1500 километрах от Нью-Йорка или в 500 километрах от Лондона» [22].
Географические образы служили инструментом этногенеза всегда – и в древние времена, и в наше время. Так, для сплочения «народа Третьего рейха» в фашистской Германии большое значение имела идея жизненного пространства – территории, которую надо отвоевать для немцев у восточных народов. Генеральный план «Ост» сначала предполагал «выселить» в течение 30 лет 31 млн. человек с территории Польши и западных областей Советского Союза и поселить немцев-колонистов. Но директивой от 27 апреля 1942 г. было предписано планировать «переселение» 46–51 млн. человек. На Нюрнбергском процессе выяснилось, что под термином «переселение» подразумевалось истребление [83]. Здесь география смыкается с мировоззрением, историей и проектом будущего.
Огромное воздействие на национальное сознание человека оказывают географические карты. Это – зрительный образ родной земли в контексте мирового пространства. Роль обоих этих образов (родной и чужой земли) в этническом самосознании обсуждалась выше. Карты служат не только для того, чтобы достоверно изображать географическое пространство. Они передают сложную информацию на языке образов, формирующих в этнической общности свою картину мира и представления о значимых иных. Географические образы, опирающиеся на карту, создают общие представления о реальности, в которой существует племя или народ, скрепляют его этими общими представлениями. Каждая культура вырабатывает свои карты и свои пространственные образы, иногда уникальные. Это ее неотъемлемая часть. Расшифровке этих образов посвящены большие усилия антропологов.
Создание карт, формирующих национальное чувство, уже в древности стало важным делом правящей элиты (или оппозиционных сил)[67]. Изобретение карты, соединяющей в себе два главных языка – знаковый (цифра, буква) и иконический (визуальный образ, картина), – важная веха в развитии культуры. Можно даже сказать, что географическая карта – это особый язык, один из языков, на которых говорит народ. Этот смысл карты был понят давно. Николай Кузанский сказал: «Язык относится к реальности, как карта к местности».
В начале Нового времени были выработаны способы проекции пространства на карты и некоторые из них стали доминировать – возник общий картографический язык. Но на эти карты наслаивается много смыслов, которые выражаются в разных знаковых системах. Например, во время колониальных захватов образы будущих колоний на британских картах представляли эти территории как «пустые пространства». Англичане, глядя на эти карты, чувствовали себя народом-открывателем, имеющим право завладеть этими землями и заполнить эти пятна на карте образами своей цивилизации.
Карта – инструмент творчества, так же, как картина талантливого художника, которую зритель «додумывает», дополняет своим знанием и чувством, становясь соавтором художника. Она имеет не вполне еще объясненное свойство – «вступает в диалог» с человеком. Карта мобилизует пласты неявного знания глядящего в нее человека и обладает почти мистической эффективностью. Она мобилизует подсознание, гнездящиеся в нем иррациональные установки и предрассудки – надо только умело подтолкнуть человека на нужный путь работы мысли и чувства. Как мутное и потрескавшееся волшебное зеркало, карта открывает все новые и новые черты образа по мере того, как в нее вглядывается человек.
При этом возможности создать в воображении человека именно тот образ, который нужен идеологам, огромны. Ведь карта – не отражение видимой реальности, как, например, кадр аэрофотосъемки. Это визуальное выражение представления о реальности, переработанного соответственно той или иной теории, той или иной идеологии. В то же время карта воспринимается как продукт уважаемой старой науки и воздействует на сознание человека всем авторитетом научного знания. Для человека, пропущенного через систему современного европейского образования, этот авторитет столь же непререкаем, как авторитет священных текстов для религиозного фанатика.
Уже с начала ХХ века (точнее, с зарождением геополитики) карты стали интенсивно использоваться для манипуляции национальным сознанием. Первыми предприняли крупномасштабное использование географических карт для сплочения своего «нового народа» немецкие фашисты. Они не скупились на средства, так что карты, которые оправдывали геополитические планы нацистов, стали шедеврами картографического издательского дела. Эти карты заполнили учебники, журналы, книги.
В 80—90-е годы ХХ века фабрикация географических карт (особенно в историческом разрезе) стала излюбленным средством для разжигания национального психоза при подготовке этнических конфликтов. Наглядная, красивая, «научно» сделанная карта былого расселения народа, утраченных исконных земель и т. д. воздействует на подогретые национальные чувства безотказно. При этом человек, глядящий на карту, совершенно беззащитен против того текста, которым сопровождают карту идеологи. Карта его завораживает, хотя он, как правило, даже не пытается в ней разобраться.
Еще важнее, чем изображенные на бумаге или пергаменте карты, для национального самосознания т. н. «ментальные карты» – бытующие в обыденном сознании представления о расположении стран и границ. Проблемами «воображаемой географии» географы занялись совместно с психологами в 70-е годы ХХ века. Понятие «ментальная карта» определяют как созданное воображением человека строение части окружающего пространства. Это субъективное внутреннее представление человека о территории и морях, о расположении на земле народов и стран, культур и цивилизаций – представление часто искаженное, но эффективно действующее.
Так, вплоть до ХХ века в самосознании русских важную роль играл географический образ Византии (и центр ее – Царьград, Константинополь). В нем образно выражалось цивилизационное чувство русских, их принадлежность к православной цивилизации. И чувство это было сильно и устойчиво. Сейчас оно уже мало кому понятно, а 150 лет назад Тютчев, трезвый дипломат и не славянофил, верил, что Царьград опять станет столицей православия и одним из центров «Великой Греко-Российской Восточной Державы». О Царьграде говорили во время русско-турецкой войны 1877 г., о Константинополе – во время Первой мировой войны[68].
Но еще до крещения Руси славянские племена, начавшие складываться в русский народ, ощущали свою землю как географический образ – «путь из варяг в греки»[69]. Этот образ, сыгравший важную роль в выработке самосознания «проторусских» племен, Д.С.Лихачев предложил называть Скандовизантия (в 1995 г. был введен и второй важный для становления Руси образ – Славотюркика) [24]. В этих образах выражается самоосознание русских, как народа, соединяющего миры, а страны русских, как страны-моста.
В разных исторических ситуациях это чувство выражается в разных художественных и геополитических образах, которые становятся частью той матрицы, на которой в каждый период «собирался» народ. В конце ХIХ века Менделеев, предвидя великие противостояния ХХ века, говорил, что русские живут «между молотом Запада и наковальней Востока». В 20—30-е годы ХХ века русские ученые в эмиграции, размышляя о судьбах России уже в облике СССР, создали целостный и хорошо проработанный историко-географический образ Евразии – особого континента, в котором закономерно уместились русские и связанные с ними общей судьбой народы. Этот образ обладал мощным духовным и творческим потенциалом и сыграл важную роль в сборке советского народа. Новые возможности включения этого образа в мировоззренческую матрицу постсоветских народов для их консолидации в преодолении кризиса, интенсивно изучаются и в РФ, и в азиатских республиках. Он же лежит в основе ряда больших проектов, внешне очищенных от мировоззрения – транспортных и экономических.
Большую роль в судьбе русских и России в целом сыграл за последние два века географический образ России-как-Европы, созданный «западниками». Он заключает в себе сильную идеологическую и политическую концепцию, которая не раз была (и сегодня является) предметом острых общественных конфликтов. Для обозначения подобных конфликтов предложено понятие образно-географической драмы. Такие драмы иногда превращаются в события истории, привлекающие внимание массовых слоев общества и оказывающие сильное воздействие на самосознание народа. В этот момент происходят резкие, порой неожиданные изменения и в самих географических образах, и в системе связей, соединяющих людей в народ. Сами эти драмы, постановкой которых бывают заняты талантливые «режиссеры», оказываются инструментами целенаправленного этногенеза.
Географические образы (как и другие элементы мировоззренческой матрицы) не даются племенам, народам и нациям изначально. Они конструируются и внедряются в сознание в жесткой борьбе с конкурирующими образами. Для любого народа важно не только сообща чувствовать образ своей земли, но и знать то, что происходит в системе таких образов тех народов, которые могут повлиять на судьбу этой самой «своей земли». В настоящий момент во многих частях мира происходит интенсивная перестройка географических образов и связанная с нею «пересборка» многих народов. Если этого не знать, то и влиять на этот процесс невозможно. Что происходит в географическом сознании американцев и европейцев? Каковы сейчас географические образы Афганистана, Ирана и Ирака – и в сознании их народов, и в сознании западной элиты? Как видят пространство турки? Что такое доктрина Великого Турана и как в ней представляется место российского Поволжья и Урала? Какие образы сталкиваются сегодня в возбужденном сознании украинцев? Какие подспудные дебаты о географическом образе прибайкальской Сибири, Алтая и Монголии идут в среде бурят? Все это – невидимая часть айсберга географии, которая является и частью фундамента национального сознания.
Проблему «ментальных» карт географического расположения цивилизаций изложил в очень актуальной для новейшей истории России плоскости английский историк Л. Вульф в интересной книге «Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения» [80].
В книге изложена драматическая история того, как в больших народах Восточной Европы в течение почти трех веков складывалось ложное национальное самосознание, которое влияло и на судьбу этих народов, и на ход европейской и мировой истории (в том числе сыграло важную роль в поражении СССР в холодной войне). Суть в том, что элита Польши, Чехии, Венгрии и других стран Восточной Европы считала свои страны частью Запада и добивалась признания этой зоны Центральной Европой.
Эта идея питала русофобию влиятельной части политиков этих стран, поскольку Россия и в прошлом, и в советское время считала, что все эти страны образуют вместе с нею Восточную Европу. Страдания «оторванных от Запада» поляков и чехов в части общества с возбужденным национальным сознанием стали нестерпимыми, когда после Второй мировой войны возник «советский блок», в который были включены страны Восточной Европы.
Чешский писатель Милан Кундера, один из самых радикальных проповедников русофобии, писал, что страны Центральной Европы, будучи частью Запада, оказались в результате его предательства в Ялте отданы на растерзание советскому режиму, который является естественным продолжением российской цивилизации, чуждой Европе. На эту тему он написал много трактатов, часть которых с удовольствием перепечатывалась в Москве во времена перестройки. Ключевая статья даже называлась «Похищенный Запад».
Л. Вульф объясняет: «Кундера, как и многие его братья-восточноевропейцы, стал жертвой геополитической истины, придуманной на Западе, а именно концепции разделения Европы на Восток и Запад». В представлениях Запада Россия, Польша, Венгрия, Чехия принадлежали к одному «цивилизационному ареалу» Восточной Европы, так что Сталин в Ялте вовсе не «крал» их у Запада, а Черчилль с Рузвельтом не предавали Центральную Европу уже потому, что таковой просто не было.
В книге изложен смысл той линии, по которой прошел «железный занавес» – об этом мы в советское время, к несчастью, не знали и не думали. Черчилль в своей речи в Фултоне в 1946 г. сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился через весь Континент». Эта линия на карте Европы совпала с делением континента, глубоко укорененным в западной мысли на протяжении двух столетий. Вот драма истории – поляки и чехи были уверены, что их похитили, они рвались в свой родной дом, а в доме их за своих никогда не считали. Такие выверты этнического сознания дорого обходятся народам. В политических целях, для развала СССР эту национальную иллюзию поддерживали идеологи холодной войны. Она была важной частью доктрины «бархатных революций» конца 80-х годов. Народы Восточной Европы «приняты» в Запад (как, возможно, вскоре будут приняты и турки), но на таких условиях, что их этническая идентичность должна будет размываться – они принимаются как человеческий материал.
Эта травма, видимо, будет компенсирована с помощью экономических инструментов и идеологического воздействия. Но 90-е годы переживались тяжело. Н. Коровицына пишет, основываясь на выводах социологов этих стран: «Проблема самосохранения народов в условиях, соответствующих начальной стадии развития капитализма, приобрела особую остроту… В большинстве посткоммунистических стран (несмотря на проникновение туда западных стандартов потребления и культурных образцов, несмотря на включение их в мировую информационную сеть и влияние процессов глобализации) базисные ценности населения переживали динамику противоположного странам Запада рода. Вектор культурной эволюции капиталистических и бывших социалистических стран теперь действительно кардинально различался. Решающее значение в формировании этого вектора… играла утеря восточноевропейцами ощущения экзистенциальной безопасности» [84, с. 166–167].
Как сказано в предисловии к книге Л. Вульфа, метафора «железного занавеса» смогла так легко подчинить себе западное сознание потому, что была основана на долгой интеллектуальной традиции. Проведенная Черчиллем линия «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» была нанесена на карту и осмыслена еще два столетия назад, но тот период интеллектуальной истории был почти забыт или намеренно затушевывался.
Этот раскол возник не в силу естественных причин, а был продуктом культуры. Запад в эпоху Просвещения изобрел Восточную Европу как свою вспомогательную половину. «Цивилизованная» Европа «обнаружила» на том же самом континенте, в сумеречном краю варварства, своего полудвойника, полупротивоположность. В ХVIII веке понятие «скифы» еще включало в себя все восточноевропейские народы, пока Гердер не позаимствовал у варваров древности имя «славяне», благодаря чему Восточная Европа обрела образ славянского края.
Эта живучая концепция точно наложилась на риторику «холодной войны». Автор считает, что она переживет и распад советского блока, «оставаясь и в нашей культуре, и на тех картах, которые мы носим в своем сознании».
Но хотя с ХVIII века на Западе сложилось это определенное представление о Восточной Европе как своей вспомогательной, периферийной зоне, еще важнее был для него исторический и географический образ того мира, что лежит за этой буферной зоной – России. Этот мир постоянно присутствовал в сознании европейца и этнизировал его как важный и таящий в себе вызов иной. Соответственно, столь же сильное этнизирующее воздействие оказывал образ Запада на русских.
О. Шпенглер писал: «Я до сих пор умалчивал о России; намеренно, так как здесь есть различие не двух народов, но двух миров. Русские вообще не представляют собой народа, как немецкий или английский. В них заложены возможности многих народов будущего, как в германцах времен Каролингов. Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся все длиннее и длиннее. Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир. Нас обманывает впечатление от некоторых, принявших западную окраску, жителей русских городов. Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времен задолго до Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас. Он сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту между «матушкой Россией» и «Европой» [85, с. 147–148].
Глава 18. Человеческие отношения
Л.Н. Гумилев писал, что этничность проявляется в поведении человека (стереотипах, то есть устойчивых формах поведения). Чтобы избежать оттенка эссенциализма, то есть представления об этничности как скрытой сущности, которая лишь проявляется в той или иной форме, скажем лучше, что поведение – это и есть один из важных срезов этничности как большой системы. Поведение складывается из всех элементов этничности – мировоззрения и типа сознания, хозяйственных отношений и чувства пространства.
Существование этнических различий в поведении людей при отношениях друг с другом очевидно. Говорят, что англичанин окружен почти видимой границей, защищающей его личное пространство, вторгаться в которое постороннему недопустимо. Подойти и в знак симпатии тронуть его за плечо было бы бестактностью. Испанцы, народ «евразийский», более открыты, но и их поражают манеры русских. В 1991 г. в Москву приехали в аспирантуру четверо испанцев. Первое, что их удивило и о чем они с волнением мне рассказывали, это то, что к ним на улице посторонние люди запросто подходили попросить «огонька» – прикурить. Они щелкали зажигалкой (не догадывались, что можно дать прикурить от своей сигареты). А прохожий, чтобы огонек не задуло, складывал свои ладони и ставил их им на руки!
Здесь обсудим одну из сил, которая, особым образом зародившись в возникающей этнической общности, затем сама служит средством ее сплочения, создает ее своеобразные маркеры и отграничивает от иных. Эту силу можно назвать человеческие отношения.
Они познаются в сравнении – на уровне личности, семьи, социальных групп и народов. Их этническое измерение трудно охватить взглядом, если, проведя жизнь «среди своих», не сравнивать стереотипы своего народа и иных. Многое дают и «записки путешественников» («мы о них» и «они о нас»), многое – специальные книги антропологов. Ценнейший источник – наблюдения военных, накопившиеся во время больших войн. Например, для нас очень полезны изданные в последние годы книги, в которых собраны записки немецких солдат и офицеров о поведении русских, а также наблюдения немецких военнопленных. Это – концентрированное описание именно этнических особенностей нашего человеческого общежития, которые бросались в глаза немцам. Замечательный антрополог К. Лоренц, пробывший три года в советском плену, подметил много важных для нашего самосознания вещей (он писал, например, о разных типах отношения к пленным – у русских, французов и американцев).
Многое дают и наблюдения русских эмигрантов, ведь их чувства обострены, они наконец-то начинают понимать те свойства человеческих отношений на родине, которых раньше не замечали или которыми даже тяготились.
Русский историк и философ Г.П. Федотов, который эмигрировал в 1925 г., писал: «На чужбине мы начинаем любить и раздражавшее прежде, казавшееся безвольным и бессмысленным, начало народной стихии. Среди формальной строгости европейского быта не хватало нам привычной простоты и доброты, удивительной мягкости и легкости человеческих отношений, которая возможна только в России. Здесь чужие в минутной встрече могут почувствовать себя близкими, здесь нет чужих, где каждый друг другу «дядя», «брат» или «отец». Родовые начала славянского быта глубоко срослись с христианской культурой сердца в земле, которую «всю исходил Христос», и в этой светлой человечности отношений, которую мы можем противопоставить рыцарской «куртуазности» Запада, наши величайшие люди сродни последнему мужику «темной» деревни» [86].
Вот первая сторона человеческих отношений, в которой наблюдаются различия между народами – степень сближения. На одном конце спектра – человек как идеальный атом, индивид, на другом – человек как член большой семьи, где все друг другу «дяди», «братья» и т. д. Понятно, что массы людей со столь разными установками должны связываться в народы посредством разных механизмов. Например, русских сильно связывает друг с другом ощущение родства, за которым стоит идея православного религиозного братства и тысячелетний опыт крестьянской общины. Англичане, прошедшие через огонь Реформации и раскрестьянивания, связываются уважением прав другого.
Оба эти механизма дееспособны, с обоими надо уметь обращаться. Когда во время перестройки вдруг начали со всех трибун проклинать якобы «рабскую» душу русских и требовать от них стать «свободными индивидами» и соединиться в «правовое общество», это в действительности было требованием отказаться от важной стороны этнической идентичности русских. Под идеологическим давлением часть русских, особенно молодежи, пыталась изжить традиционный тип человеческих отношений, но утрата собственных этнических черт вовсе не приводила сама по себе к приобретению правового сознания англичан. Единственным результатом становилось разрыхление связей русского народа (в даже появление прослойки людей, порвавших с нормами русского общежития – изгоев и отщепенцев).
Мы сравниваем современные народы, их тип поведения сформировался в Новое время. На Западе «интимизация» культуры, ее обращение к индивиду произошло в ХVII – ХVIII веках. Это отразилось в европейских языках (например, впервые появилось немыслимое ранее словосочетание «мое тело» – естественная частная собственность индивида). И.С. Кон приводит такие примеры: «Староанглийский язык насчитывал всего тринадцать слов с приставкой self (сам), причем половина из них обозначала объективные отношения. Количество таких слов (самолюбие, самоуважение, самопознание и так далее) резко возрастает начиная со второй половины XVI в., после Реформации… В XVII в. появляется слово «характер», относящееся к человеческой индивидуальности… В том же направлении эволюционировали и другие языки. Так, во французском языке в XVII в. впервые появляется современное слово «интимность» (intimite)… В XVIII в. появляется существительное individualite (индивидуальность)» (цит. по [20, с. 125]).
Переломным моментом стала Реформация – разрыв с идеей коллективного спасения души (а значит, и с идеей религиозного братства). Возникла совершенно новая этика человеческих отношений – протестантская этика. Французский философ Жозеф де Местр («предтеча Чаадаева») писал о демонтаже «старого» народа во время Великой Французской революции. Для него Реформация – первый акт бунта против сообщества, власти и религии, смена отношения к своим близким. Философия Просвещения, по его словам, «заменила народные догматы индивидуальным разумом… Философия уничтожила силу, соединявшую людей». Другой консерватор, Ламеннэ, добавил, что Франция тогда превратилась «в собрание 30 млн. индивидуумов».
Немецкий философ В. Шубарт так писал о значении Реформации: «Она знаменует собой рождение нового мироощущения, которое я называю «точечным» чувством. Новый человек впервые переживает не Все, и не Бога, а себя, временную личность, не целое, а часть, бренный осколок… Для него надежно существует только свое собственное Я. Он – метафизический пессимист, озабоченный лишь тем, чтобы справиться с окружающей его эмпирической действительностью» [87].
Согласно мироощущению русских, людей связывают в народ любовь к ближнему, добрые дела, которые мы оказываем другим и можем надеяться, что кто-то сделает доброе дело и для нас. Это – очень сильная связь. Достоевский писал: «Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть…» [88]. Здесь дана восторженная оценка русскому типу человеческих отношений. Мы к ней присоединяемся – но про себя. Наше дело – не спорить о вкусах, а убедиться в том, что тот или иной тип отношений выражает этничность, он – особый срез всей совокупности этнических свойств народа.
В кальвинизме, который дал религиозное оправдание рыночной экономике, люди изначально разделены на избранных и отверженных. Одни спасутся от геенны, другие нет (а кто конкретно, неизвестно). Их соединяет не любовь и сострадание, а ненависть и стыд. Вебер поясняет, что дарованная избранным милость требовала от них «не снисходительности к грешнику и готовности помочь ближнему…. а ненависти и презрения к нему как к врагу Господню» [52, с. 157].
Кажется, как могут такие страсти связать людей? Но мы видим, что и немцы, и голландцы, и англичане собраны в крепко сбитые народы. Однако для этого им не требуются такие средства, как любовь к ближнему или добрые дела. М. Вебер специально обращает внимание: «Это выражено в цитированном у Плитта ответе на вопрос: «Нужны ли добрые дела для спасения?» Ответ гласит: «Не нужны и даже вредны; если же спасение даровано, то нужны лишь постольку, поскольку тот, кто их не совершает, не может еще считать себя спасенным». И здесь, следовательно, не реальная необходимость, а лишь способ установить факт» [52, с. 237].
Зато очень сильной связью здесь оказывается расчетливость в отношениях между людьми, у русских в этой роли даже порицаемая. Вебер продолжает: «Пуританизм «преобразовал эту «расчетливость» [ «calculating sрirit»], в самом деле являющуюся важным компонентом капитализма, из средства ведения хозяйства в принцип всего жизненного поведения» [52, с. 250]. Так принципы рыночной экономики разрывают связи любви и солидарности, раньше связывающие народ, но соединяют их связями расчета и выгоды. Это тоже сильные связи, но даже самые радикальные философы рынка видят, что и их надо укреплять солидарностью.
Ф. фон Хайек, идейный основатель современного неолиберализма, писал: «Всенародная солидарность со всеобъемлющим этическим кодексом или с единой системой ценностей, скрыто присутствующей в любом экономическом плане, – вещь неведомая в свободном обществе. Ее придется создавать с нуля» [89]. Выходит, на Западе, по мнению философов неолиберализма, «довели всенародную солидарность до нуля» – а теперь ее придется «создавать с нуля». Это очень трудно. У нас, в России, эта «всенародная солидарность со всеобъемлющим этическим кодексом» была и еще есть – но ее реформаторы стараются довести до нуля. Стараются «рассыпать» народ, а потом производить его пересборку, как во время Реформации.
Русского человека связывает с его согражданами (с «миром») долг совести. Как писал в ХVIII веке Татищев, «истинное благополучие – спокойность души и совести» (знакомое явление кающегося дворянина – особенность чисто русская). Иными нормами отношений связывает людей протестантская этика. Вебер приводит пословицу американских пуритан: «Из скота добывают сало, из людей – деньги». [Это] своеобразный идеал «философии скупости». Идеал ее – кредитоспособный добропорядочный человек, долг которого рассматривать приумножение своего капитала как самоцель. Суть дела заключается в том, что здесь проповедуются не просто правила житейского поведения, а излагается своеобразная «этика», отступление от которой рассматривается не только как глупость, но и как своего рода нарушение долга» [52, с. 73].
Поскольку эта этика является нормативной в общественном сознании, человек, честно выполняющий свой долг приумножения капитала, становится уважаемым. И такое уважение служит связями, соединяющими людей в народ. Символы, которые соединяют людей, различны даже у народов, принадлежащих к одной цивилизации. О. Шпенглер сравнивает англичан и немцев: «Для истинного англичанина слушаться приказаний человека неимущего так же невозможно, как для истинного пруссака преклоняться перед одним лишь богатством. И даже сознательный в классовом отношении рабочий из прежней партии Бебеля подчинялся партийному вождю с той же верностью инстинкту, с какой английский рабочий почитает миллионера как более счастливое и явно отмеченное Богом существо. Такие глубоко коренящиеся в душе различия пролетарская классовая борьба совершенно не может затронуть» [85, с. 73.].
Сильнейшим объединяющим символом для западных народов стала общая верность идее прогресса. Эта идея оправдала и разрыв традиционных общинных отношений, включая «любовь к отеческим гробам», и вытеснение чувства сострадания. Страстный идеолог прогресса Ницше поставил вопрос о замене этики «любви к ближнему» этикой «любви к дальнему». Исследователь Ницше русский философ С.Л. Франк пишет: «Любовь к дальнему, стремление воплотить это «дальнее» в жизнь имеет своим непременным условием разрыв с ближним. Этика любви к дальнему ввиду того, что всякое «дальнее» для своего осуществления, для своего «приближения» к реальной жизни требует времени и может произойти только в будущем, есть этика прогресса… Всякое же стремление к прогрессу основано на отрицании настоящего положения вещей и на полноте нравственной отчужденности от него. «Чужды и презренны мне люди настоящего, к которым еще так недавно влекло меня мое сердце; изгнан я из страны отцов и матерей моих»… Радикализм Ницше – его ненависть к существующему и его неутомимая жажда «разрушать могилы, сдвигать с места пограничные столбы и сбрасывать в крутые обрывы разбитые скрижали» – делает его близким и понятным для всякого, кто хоть когда-либо и в каком-либо отношении испытывал такие же желания» [90, c. 18].
Когда во время перестройки ее идеологи начали говорить буквально на языке Ницше, «разрушать могилы, сдвигать с места пограничные столбы и сбрасывать в крутые обрывы разбитые скрижали», речь шла об атаке на тип человеческих связей, сплачивающих советский народ, но в данном случае они полностью совпадали и со связями, сплачивающими этнических русских. Например, важный ницшеанский манифест известного ученого, депутата Н. Амосова (1988) был несовместим с теми представлениями о человеке, на которых был собран русский народ. Амосов требовал проведения, в целях «научного» управления обществом, «крупномасштабного психосоциологического изучения граждан, принадлежащих к разным социальным группам» с целью распределения их на два типа: «сильных» и «слабых». Он писал: «Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит источником недовольства слабых… Лидерство, жадность, немного сопереживания и любопытства при значительной воспитуемости – вот естество человека» [91].
На уровне рационального знания эти национальные особенности человеческих отношений от нас скрывал исторический материализм. Маркс, создавая материалистическую модель истории, отталкивался от реальности протестантской буржуазной Англии и видел в этой реальности универсальную суть. В то же время он фактически признает, что народное сознание не может принять этой модели людей как расчетливых индивидов, ибо реальность народного бытия основана на бесчисленном множестве связей, образованных добрыми делами, милостью, благодарностью и совестью, в том числе связями между поколениями, между отцами и детьми. Он пишет: «Какое-нибудь существо является в своих глазах самостоятельным лишь тогда, когда оно стоит на своих собственных ногах, а на своих собственных ногах оно стоит лишь тогда, когда оно обязано своим существованием самому себе. Человек, живущий милостью другого, считает себя зависимым существом. Но я живу целиком милостью другого, если я обязан ему не только поддержанием моей жизни, но сверх того еще и тем, что он мою жизнь создал, что он – источник моей жизни; а моя жизнь непременно имеет такую причину вне себя, если она не есть мое собственное творение… Народному сознанию непонятно чрез-себя-бытие природы и человека, потому что это чрез-себя-бытие противоречит всем осязательным фактам практической жизни» [59, с. 125].
Таким образом, Маркс считает идеальным состоянием «чрез-себя-бытие», когда вся жизнь человека есть «его собственное творение», когда он никому не обязан участием в создании его жизни. Это – идеальное представление об индивиде, человеке-атоме, существе вненациональном. Народному сознанию такое видение человека чуждо, потому что «народ» и есть продукт всеобщего соучастия в создании жизни каждого.
«Чрез-себя-бытие» независимого индивида чуждо общности. Даже когда такие индивиды собираются в гражданское общество (ассоциации по расчету, для защиты своих интересов), то это ассоциации меньшинств. Вебер цитирует авторитетного автора пуританского богословия: «Слава Богу – мы не принадлежим к большинству» [52, с. 228.]. Наоборот, человек традиционного общества стремится быть «со всеми»: «Без меня народ неполный» (А. Платонов).
М.М. Пришвин записал в дневнике 30 октября 1919 г.: «Был митинг, и некоторые наши рабочие прониклись мыслью, что нельзя быть посередине. Я сказал одному, что это легче – быть с теми или другими. «А как же, – сказал он, – быть ни с теми, ни с другими, как?» – «С самим собою». – «Так это вне общественности!» – ответил таким тоном, что о существовании вне общественности он не хочет ничего и слышать» [92].
Позиция этого рабочего нам понятна и привычна, как нечто естественное. На самом деле это – продукт своеобразной культуры, в данном случае русской. Она непонятна и противна человеку, проникнутому индивидуалистической культурой (например, английской). Вот, Энгельс пишет в 1893 г. о русской армии: «Русский солдат, несомненно, очень храбр… Весь его жизненный опыт приучил его крепко держаться своих товарищей. В деревне – еще полукоммунистическая община, в городе – кооперированный труд артели, повсюду – krugovaja рoruka – то есть взаимная ответственность товарищей друг за друга; словом, сам общественный уклад наглядно показывает, с одной стороны, что в сплоченности все спасенье, а с другой стороны, что обособленный, предоставленный своей собственной инициативе индивидуум обречен на полную беспомощность… Теперь каждый солдат должен уметь самостоятельно сделать то, что требует момент, не теряя при этом связи со всем подразделением. Это такая связь, которая становится возможной не благодаря примитивному стадному инстинкту русского солдата, а лишь в результате умственного развития каждого человека в отдельности; предпосылки для этого мы встречаем только на ступени более высокого «индивидуалистического» развития, как это имеет место у капиталистических наций Запада» [93, с. 403].
Описанный Энгельсом тип товарищеских отношений стягивал людей в самобытный русский народ, «созидал» его, воспроизводил его в каждом новом поколении. А в другой культуре народ может быть прочно собран из расчетливых индивидов, чья культура изжила «примитивный стадный инстинкт», дружбу и «взаимную ответственность товарищей друг за друга». Вебер приводит выдержки из канонических текстов кальвинистов. Бейли (1724) советует каждое утро, выходя из дому, представлять себе, что тебя ждет дикая чаща, полная опасностей. Шпангенберг настойчиво напоминает о словах пророка Иеремии (17, 5): «Проклят человек, который надеется на человека» (1779). Вебер пишет: «Для того чтобы полностью понять всю своеобразность человеконенавистничества этого мировоззрения, следует обратиться к толкованию Хорнбека о завете любви к врагам: «Мы тем сильнее отомстим, если, не свершив отмщения, предадим ближнего в руки мстителя-Бога… Чем сильнее будет месть обиженного, тем слабее будет месть Божья» (1666)» [52, с. 214].
Люди с высоким уровнем «индивидуалистического» развития стягиваются в нации другими типами отношений, например, благодаря их рациональной деятельности по организации социальной помощи и благотворительности – даже если это делается не из любви, а из расчета и права. За полвека до этого по другому расчету и по другим законам отправляли бедняков в работные дома, благотворительность запрещалась. А в старой России «Домострой» учил: «И нищих, и малоимущих, и бедных, и страдающих приглашай в дом свой и как можешь накорми, напои, согрей, милостыню дай». Модернизация лишь придала этому порядку слабый европейский оттенок: Александр I в указе 1809 г. повелел бродяг отправлять к месту жительства «безо всякого стеснения и огорчения» – самим бродягам. В северных деревнях дома даже имели специальные приспособления в виде желоба. Нищий стучал клюкой в стену, подставлял мешок, и по желобу ему сбрасывали еду. Устройство находилось на тыльной стороне дома, вдали от окон – «чтобы бедный не стыдился, а богатый не гордился» (см. [94, с. 267].
Вебер пишет о рациональности протестантских народов: «Человечность» в отношении к «ближнему» как бы отмирает. И это находит свое выражение в ряде самых разнообразных явлений. Так, для того чтобы ощутить атмосферу этого вероучения, приведем в качестве иллюстрации прославленного – в известном отношении не без оснований – реформатского милосердия (charitas) следующий пример: торжественное шествие в церковь приютских детей Амстердама в их шутовском наряде, состоявшем из двух цветов – черного и красного или красного и зеленого (наряд этот сохранялся еще в XX в.), – в прошлом воспринималось, вероятно, как весьма назидательное зрелище, и в самом деле оно служило во славу Божью именно в той мере, в какой оно должно было оскорблять «человеческое» чувство, основанное на личном отношении к отдельному индивиду» [52, с. 217].
Взамен человечности в отношениях начинает доминировать право (точнее сказать, право, основанное на законе). Право гражданского общества основано на концепции естественного человека, представленного как эгоистичного свободного индивида, от природы склонного к экспроприации и подавлению более слабых. Гегель утверждал: «Естественное право есть… наличное бытие силы и придание решающего значения насилию». Это представление отражает специфическое мировоззрение, которое формирует соответствующую культуру.
Во время перестройки одним из важных обвинений русскому народу как раз и было то, что он, якобы, собран на неправовых отношениях. А.Н. Яковлев сказал в своем выступлении на заседании Президиума РАН 16 ноября 1999 г.: «На мой взгляд, коренная причина того, что происходит в России, заключается в том, что она тысячу лет живет под властью людей, а не законов. Вот отсюда все идет, и в этом все коренится. Станем подчиняться закону, избавимся от мифологизации наших руководителей, власти и т. д., все пойдет, по-моему, более или менее нормально» [95]. Эту же мысль он не раз повторял в интервью.
Этот взгляд не просто евроцентричен, он и антиисторичен[70]. Резкое расширение масштабов внедрения юридических норм (законов) в ткань человеческих отношений произошло на Западе в Новое время именно потому, что Реформация и атомизирующее воздействие рыночного хозяйства разорвали множество связей, которые действовали в предыдущий период. Законы – очень дорогостоящая и не всегда эффективная замена связей совести и любви. В русском народе до настоящего времени такой крупномасштабной замены просто не требовалось.
Вплоть до нынешней рыночной реформы в России господствовала установка на упрощение законодательства, его сближение с господствующими в обыденном сознании представлениями и традиционной моралью – так, чтобы Закон был понятен человеку и в общем делал бы излишним большое профессиональное сообщество адвокатов. В повестях Гоголя упоминается зерцало – трехгранная призма, которая ставилась на видном месте в присутственных местах. На ней были тексты главных законов, для постоянного напоминания их публике. Поначалу на зерцалах выставлялись указы Петра I. Это устройство было не просто символом правосудия, оно давало ощущение близости, доступности законов. Это ощущение действительно присутствовало в восприятии человеческих отношений и в советское время – очень часто люди, столкнувшись с правовой проблемой, тут же покупали в магазине тоненькую книжку с соответствующим кодексом и вполне в нем разбирались. Более продвинутые покупали книжку потолще – комментарии к кодексу.
И. Солоневич писал: «Французский моралист Вовенарг, современник Вольтера, сказал: «Тот, кто боится людей, любит законы». Русское мировоззрение отличается от всех прочих большим доверием к людям и меньшей любовью к законам. Доверие к людям сплетается из того русского оптимизма, о котором писал профессор Шубарт, по моей формулировке, – из православного мироощущения… Отсюда идет доверие к человеку, как к той частице бесконечной любви и бесконечного добра, которая вложена Творцом в каждую человеческую душу» [11, с. 480].
Одни считают достоинством, другие признаком отсталости уживчивость русских, их отвращение к сутяжничеству, к обращению в суд для разбирательства своих конфликтов. Это свойство не прирожденное, оно настойчиво формировалось – и государством, и церковью, и общиной. Этой стороне русского общежития много внимания уделили наши писатели. Гоголь писал, что любой суд должен быть «двойным» – по-человечески надо оправдать правого и осудить виноватого, а по-Божески осудить и правого, и виноватого. За то, что не сумели примириться. Гоголь ссылается и на Пушкина: «Весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» [96, с. 123].
Важным учреждением был в России Совестной суд, который просуществовал почти сто лет (1775–1862 гг.). «Подобного ему не знаю в других государствах», – писал Гоголь. В этом суде разбирали дело «не по закону, а по совести», что безусловно было важным элементом всей системы правовых отношений. Гоголь пишет: «По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познанья душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновенье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, – есть уже его предмет» [96, с. 136].
Историки отмечают, что высокая степень юридической оформленности человеческих отношений является специфическим качеством культуры народов Западной Европы. Культ закона возник в Древнем Риме на языческой основе, с ориентацией на «естественные» права человека, не ограниченные христианской моралью. «Юридическими» стали прежде всего отношения римлян с их богами – в отличие от «очеловеченных» греческих богов римские воспринимались как абстрактные сущности, партнеры по договору. Как пишут, римское право было «средством богообщения» и носило сакральный характер. Оно и формировало правосознание римлян в течение шести веков.
Римское право оказало сильное влияние и на католическую церковь, которая придала отношениям человека с Богом юридическую трактовку. Так, согласно учению об индульгенциях, человек мог спасти свою душу, совершив определенное количество добрых дел. Речь шла о сделке, и человек, выполнив свою часть контракта, был вправе требовать «товар». Если добрых дел не хватало, он мог покрыть недочет, «прикупив» благодати из сокровищницы святых – в буквальном смысле слова [97]. С ХII века нормы римского права стали широко внедряться в сознание западного общества через университеты и множество курсов.
Статус юридически оформленных законов вообще был низок в традиционных незападных обществах. В.В. Малявин так характеризует отношение к закону в традиционном китайском обществе: «Примечательно, что предание приписывало изобретение законов не мудрым царям древности и даже не китайцам, а южным варварам, которые по причине своей дикости были вынуждены поддерживать порядок в своих землях при помощи законов (наказаний). Истинно же возвышенные мужи, по представлениям китайцев, в законах не нуждаются, ибо они «знают ритуал» [20, с. 124].
Немецкий писатель и философ Г. Гессе в своем исследовании смысла образов Достоевского (1925) дал такое определение «аморализму» русской души: это «совесть, способность человека держать ответ перед богом». Он объясняет свою мысль так: «Эта совесть не имеет ничего общего с моралью, с законом, она может быть с ними в самом страшном, смертельном разладе, и все же она бесконечно сильна, она сильнее косности, сильнее корыстолюбия, сильнее тщеславия» (см. [98]).
Как считает Уваров, возникновение «правового» общества вряд ли можно считать культурным достижением. Скорее, это вынужденное состояние общества, утратившего именно нравственные регуляторы внутреннего взаимодействия. Философ права Ю.В. Тихонравов пишет об этом следующее: «Право есть итог прогресса цивилизации и деградации культуры, оно есть предельная уступка духа реальности… Дух через последовательность кризисов движется по цепочке «религия – мораль – обычай – право», теряя при этом свою ясность и силу… Когда же ни одно из этих оснований не может эффективно воздействовать на поведение людей, из них выделяется система норм, поддерживаемых реальной властью. Это и есть право» (см. [20, с. 124]).
И Маркс, и его антисоветские последователи во время перестройки, считали «религию, мораль и обычай» архаическими связями, следствием «незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими людьми». От нас требовали порвать эту пуповину, заменить ее отношениями выгоды и законом. Такое натуралистическое представление о человеке традиционного общества ложно. Ничего естественнородового в связях религии, морали и обычая нет.
Уже в самых первых своих общностях человек, возникнув из природы, стал жестко разделять сферы Природы и Общества и накладывать запреты на пересечение границы между ними. Примером служит табу на инцест. За этим разделением естественного и культурного и за нормами их «соединения» следили «небесные силы». Племена и народы сплачивались общим представлением об этих нормах и о «небесных силах».
В своем антирелигиозном максимализме основатели марксизма теряют из виду целые срезы человеческих отношений, связывающих людей в этнические общности. Энгельс пишет: «Религия по существу своему есть выхолащивание из человека и природы всего их содержания, перенесение этого содержания на фантом потустороннего бога, который затем из милости возвращает людям и природе частицу щедрот своих» [62, с. 590].
Утверждение нелогично (сам же Энгельс в нем описывает вовсе не выхолащивание содержания, а его качественное изменение, сакрализацию и переход к высокому уровню абстракции), но главное – вывод. Выходит, совместная духовная деятельность (выработка коллективных религиозных представлений), которая и формирует этническую общность, в концепции Энгельса не порождает нравственность, а наоборот, выхолащивает ее, возвращает человека к животному состоянию.
Энгельс писал Каутскому (2 марта 1883 г.): «Где существует общность – будь то общность земли или жен, или чего бы то ни было, – там она непременно является первобытной, перенесенной из животного мира. Все дальнейшее развитие заключается в постепенном отмирании этой первобытной общности; никогда и нигде мы не находим такого случая, чтобы из первоначального частного владения развивалась в качестве вторичного явления общность» [99]. Поясняет он такое влияние общности тем, что соглашается с утверждением Каутского, будто «внутри племени господствовала полная половая свобода». Так, исходя из ложного идеологического постулата, Энгельс и Каутский теряют из виду важный факт антропологии: коллективные религиозные представления дали начало нравственности, формирующей общность, и первым делом культуры было введение табу на инцест – устранение «полной половой свободы» в племени. Благодаря этому и возникло само племя, а затем стало перерастать в народ.
Общая секуляризация и ослабление религиозности, а за нею и нравственности, требовали постоянного обновления и «ремонта» скрепляющего механизма. Как известно, народы Запада пошли по пути усиления правовых норм (законов). Законотворчество считалось вынужденным средством обуздания (приручения, одомашнивания) социального мира, вышедшего из-под власти религии и утратившего ясное различение природы и общества. Законы и государственная власть обеспечивали порядок там, где иначе возник бы хаос.
Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, в которых выявляются поломки или слабости механизмов, разделяющих природу и общество и скрепляющих людей в общности, в том числе этнические. Например, во многих странах церковь отступила и стала освящать своим авторитетом однополые браки. Законы, как выяснилось, таким бракам не препятствовали. Возникла прореха в связях, соединяющих людей в национальные общности. Например, в Испании этот факт вызвал ощутимый культурный кризис, который обсуждался в терминах национальной идентичности, как угроза воспроизводства народа.
А вот в июне 2001 г. новый случай, во Франции. Женщина 62 лет рожает ребенка. Отец – ее родной брат, зачатие произведено в пробирке с яйцеклеткой от другой женщины. Имплантация оплодотворенной яйцеклетки произведена в частной клинике в Лос-Анджелесе, законы Калифорнии этому не препятствовали. Законы Франции тоже не обнаружили инцеста, т. к. имелся посредник в лице другой женщины. Юридические проблемы наследства также разрешены – факт рождения налицо [100].
Всем очевидно, что в этом случае грубо нарушены традиции и обычаи, которые соединяют французов в нацию с общим мировоззрением и представлениями о человеке и о природе. Значит, надо ремонтировать механизм, заменять устаревшие, неработающие блоки, приводить в соответствие мораль и законы и т. д. Просто ожидать, что вдруг заработают старые архетипы, а небесные силы покарают нарушителей табу, бесполезно. Надо по возможности раньше распознавать признаки назревающих кризисов и творчески искать альтернативные способы ответа ни их вызовы.
Но и юридическое оформление человеческих отношений происходит в соответствии с нормами национальной культуры, даже если предмет права, понятия и термины у разных народов внешне схожи. В России европейское образование элиты не раз приводило к утрате понимания тех представлений о праве, которые были укоренены в массовой культуре народа.
Профессор Манчестерского университета Теодор Шанин вспоминает: «В свое время я работал над общинным правом России. В 1860-е годы общинное право стало законом, применявшимся в волостных судах. Судили в них по традиции, поскольку общинное право – традиционное право. И когда пошли апелляции в Сенат, то оказалось, что в нем не знали, что делать с этими апелляциями, ибо не вполне представляли, каковы законы общинного права. На места были посланы сотни молодых правоведов, чтобы собрать эти традиционные нормы и затем кодифицировать их. Была собрана масса материалов, и вот вспоминается один интересный документ. Это протокол, который вел один из таких молодых правоведов в волостном суде, слушавшем дело о земельной тяжбе между двумя сторонами. Посоветовавшись, суд объявил: этот прав, этот не прав; этому – две трети спорного участка земли, этому – одну треть. Правовед, конечно, вскинулся: что это такое – если этот прав, то он должен получить всю землю, а другой вообще не имеет права на нее. На что волостные судьи ответили: «Земля – это только земля, а им придется жить в одном селе всю жизнь». Возможно, эта русская крестьянская мудрость волостных судей важна и для современной России» [101].
Непонимание этой «русской крестьянской мудрости» лежало и лежит в основе важных конфликтов. В начале ХХ века дворяне и политики исходили из западных представлений о частной собственности. Требования крестьян о национализации земли выглядели в их глазах преступными посягательствами на чужую собственность. Консервативный экономист-аграрник А. Салтыков писал в 1906 г.: «Само понятие права состоит в непримиримом противоречии с мыслью о принудительном отчуждении. Это отчуждение есть прямое и решительное отрицание права собственности, того права, на котором стоит вся современная жизнь и вся мировая культура».
На деле две части русского народа уже существовали в разных системах права и не понимали друг друга, считая право другой стороны «бесправием». Такое «двоеправие» было признаком кризиса, который снова стал актуальным в России. Как говорят юристы, на Западе издавна сложилась двойственная структура «право – бесправие», в ее рамках мыслил культурный слой России и начала ХХ века, и сейчас, в начале ХХI века. Но рядом с этим в русской культуре жила и живет более сложная система: «официальное право – обычное право – бесправие». Обычное право для «западника» кажется или бесправием, или полной нелепицей.
Видимо, сотни молодых правоведов, которые, по словам Т. Шанина, разъехались по России изучать общинное право, все же не смогли донести до правящих классов традиционные понятия о праве. Это пытались сделать народники, говоря о сохранении в среде крестьянства основ старого обычного права – трудового. Оно было давно изжито на Западе и не отражалось в его правовых системах. Право на землю в сознании русских крестьян было тесно связано с правом на труд. Оба эти права имели под собой религиозные корни и опирались на православную антропологию – понимание сущности человека и его прав.
Очень важным этнизирующим типом отношения к людям является расизм. В основе его лежит представление о том, что человеческий род не един, а делится на подвиды – высшие и низшие. Основания для такого деления могут быть различны, но они укрепляют друг друга. Самоосознание евреев как богоизбранного народа может преломляться и в чисто земных (например, хозяйственных отношениях). Оно совмещается с представлением кальвинистов о делении людей на избранных и отверженных (вплоть до ощущения себя богоизбранным народом в сектах «британского Израиля»). В США этот расизм был использован как средство сплочения европейских иммигрантов как нового мессианского народа.
А. Тойнби пишет: «Это было большим несчастьем для человечества, ибо протестантский темперамент, установки и поведение относительно других рас, как и во многих других жизненных вопросах, в основном вдохновляются Ветхим заветом; а в вопросе о расе изречения древнего сирийского пророка весьма прозрачны и крайне дики» [102, с. 96]. Это несчастье было усугублено тем, что расизм совместился с идеологией евроцентризма, т. е. убежденности в том, что Запад – единственная «правильная» цивилизация[71].
Самир Амин пишет: «Современная господствующая культура выражает претензии на то, что основой ее является гуманистический универсализм. Но евроцентризм несет в самом себе разрушение народов и цивилизаций, сопротивляющихся экспансии западной модели. В этом смысле нацизм, будучи далеко не частной аберрацией, всегда присутствует в латентной форме. Ибо он – лишь крайнее выражение евроцентристских тезисов. Если и существует тупик, то это тот, в который загоняет современное человечество евроцентризм» [7, с. 109].
Расизм определяет не только отношение к тем «иным», которые рассматриваются как низшая раса. Он – важная часть мировоззрения и потому неминуемо влияет и на характер человеческих отношений и внутри самого «высшего» этноса. Например, социальный расизм, который выражался в отношении к бедным, а затем к пролетариям («расе рабочих»), прямо вытекал из расизма этнического.
Социальным расизмом проникнуты и основополагающие труды либерализма. Маркс приводит рассуждение Адама Смита: «Умственные способности и развитие большой части людей необходимо складываются в соответствии с их обычными занятиями, Человек, вся жизнь которого проходит в выполнении немногих простых операций… не имеет случая и необходимости изощрять свои умственные способности или упражнять свою сообразительность… становится таким тупым и невежественным, каким только может стать человеческое существо… Его ловкость и умение в его специальной профессии представляются, таким образом, приобретенными за счет его умственных, социальных и военных качеств. Но в каждом развитом цивилизованном обществе в такое именно состояние должны неизбежно впадать трудящиеся бедняки, т. е. основная масса народа» [57, с. 374–375].
Такое представление о трудящихся в течение целого исторического периода было частью национального мировоззрения англичан, которое сплачивало нацию. Оно не соответствовало реальности, а было продуктом идеологии (ложного сознания). Даже напротив, по наблюдениям видного антрополога Боаса, привилегированные слои населения (элита) чаще всего являются силой, враждебной общественному прогрессу, ибо руководствуются групповыми, классовыми интересами. Напротив, непривилегированная масса трудящихся более открыта для общественных идеалов. Поэтому, писал он, когда речь идет о делах общегражданских, следует больше прислушиваться к голосу народных масс, чем к мнению «интеллектуалов» (см. [50, с. 257]).
Расизм западных народов укреплялся длительными интенсивными контактами с «иными», в том числе прямо обращенными в рабство. В хозяйственной системе Запада рабство долгое время было одним из важнейших элементов. Мы как-то не представляли себе масштабы рабства и его влияние на человеческие отношения в целом. Между тем вот данные за 1803 г.: В 1790 г. в английской Вест-Индии на 1 свободного приходилось 10 рабов, во французской – 14, в голландской – 23. Маркс пишет в «Капитале»: «Ливерпуль вырос на торговле рабами. Последняя является его методом первоначального накопления… В 1730 г. Ливерпуль использовал для торговли рабами 15 кораблей, в 1751 г. – 53 корабля, в 1760 г. – 74, в 1770 г. – 96 и в 1792 г. – 132 корабля. Хлопчатобумажная промышленность, введя в Англии рабство детей, в то же время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных Штатов, раньше более или менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство sans рhrase [без оговорок] в Новом свете» [57, с. 769].
Преодоление социального расизма, свойственного рабовладельческому античному обществу, связано с распространением христианства. Но уже на излете Средних веков в Западной Европе стало возрождаться осознание себя как наследника Рима и восстанавливаться в правах рабство. Возродили работорговлю варяги, посредниками у них были фризы, через Турцию в Средиземноморье поступали на европейские невольничьи рынки угнанные крымскими татарами славяне. Ф. Бродель писал о Средиземноморье конца ХVI в.: «Особенность средиземноморских обществ: несмотря на их продвинутость, они остаются рабовладельческими как на востоке, так и на западе… Рабовладение было одной из реалий средиземноморского общества с его беспощадностью к бедным… В первой половине ХVI века в Сицилии или Неаполе раба можно было купить в среднем за тридцать дукатов; после 1550 года цена удваивается»[72] [104, с. 136, 571–572]. В Лиссабоне в 1633 г. при общей численности населения около 100 тыс. человек только черных рабов насчитывалось более 15 тысяч [105, с. 457].
Влияние расизма и рабовладельчества на формирование европейских народов Нового времени – большая и больная тема. Изживание расизма идет с большим трудом и регулярными рецидивами. Дело в том, что расизм – не следствие невежества какой-то маргинальной социальной группы, а элемент центральной мировоззренческой матрицы Запада. Ведь даже Иммануил Кант писал, что «у африканских негров по природе отсутствуют чувства, за исключением самых незначительных» и что фундаментальное различие между людьми белой и черной расы, «похоже, гораздо больше касается их ментальных способностей, чем цвета кожи».
Латентный бессознательный расизм активизируется при любом обострении отношений с незападными народами. Он ярко проявился в кампании по «сатанизации» сербов, в нынешней русофобии и в отношении к арабам. И дело не в политической конфронтации, а в иррациональной реакции на образ «враждебного иного». Как известно, США совершили агрессию против Ирака под предлогом уничтожения оружия массового поражения, которым, как утверждалось, стал обладать Ирак. Несмотря на все старания оккупационных частей США, такого оружия там найдено не было, что и было официально заявлено. Тем не менее в конце 2003 г. большинство американцев поддерживали агрессию, а треть была абсолютно уверена, что оружие массового поражения в Ираке имеется. В массовое сознание американского общества вера в прирожденные злодейские качества некоторых народов внедряется очень легко. Этот расизм – часть магического, «племенного» сознания современных западных наций. Факты и логика против него бессильны.
Этот неоязыческий расизм и явно наступающий ренессанс рабства – важная этнологическая проблема современного Запада, для нас очень актуальная. Ее вывели из интеллектуального пространства, настойчиво уравнивая с рабством другие формы внеэкономического принуждения – прежде всего, крепостное право в России. Мол, речь идет о необходимом этапе на пути прогресса, суть одна, а формы различаются нюансами. Эта мысль настойчиво проводится Марксом в его теории трудовой стоимости.
Таким образом нас отвлекли от изучения политэкономической сути этих двух способов подневольного труда, что очень ослабило наши возможности этнического самоосознания. Но хотя бы сейчас полезно было бы вникнуть в важную и интересную работу А.В. Чаянова «К вопросу о теории некапиталистических систем хозяйства» (1924) [106][73]. Он показывает, что капиталистическое хозяйство в политэкономическом смысле генетически родственно рабовладельческому хозяйству Древнего Рима. Напротив, крепостное русское хозяйство имеет совершенно иную природу. Оброчное хозяйство организовано в обычной для трудового крестьянского хозяйства форме, хотя и отдает владельцу определенную часть произведенной стоимости как крепостную ренту. Чаянов подчеркивает: «Хозяйство крепостного оброчного крестьянина ни в чем не отличается по своей внутренней частнохозяйственной структуре от обычной и уже известной формы семейного трудового хозяйства» [106, с. 131]. Барщина отличалась от оброка тем, что крепостную ренту крестьянин платил своим трудом на поле помещика в течение определенного времени, но при этом организатором помещичьего хозяйства не являлся и за результаты хозяйствования ответственности не нес.
Мы не можем углубляться здесь в сравнительный анализ влияния капиталистического рабства или крепостного права на характер человеческих отношений в США и России, но надо признать, что различия очень велики. В обоих случаях это влияние долгосрочное, для его преодоления требовались и требуются большие усилия и в социальной, и в культурной сферах. Одно лишь заметим: наследием этого периода у англо-саксонских народов стала мягкая форма расизма – социал-дарвинизм. Напротив, русская культура социал-дарвинизм отвергла (как и его учение-предшественник, мальтузианство). В.В. Розанов заметил: «Ницше почтили потому, что он был немец, и притом – страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил бы в духе: «Падающего еще толкни», – его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать» [137, с. 49].
Н. Бердяев писал в 1946 г., незадолго до смерти, о народнике Н. Михайловском: «Он обнаружил очень большую проницательность, когда обличал реакционный характер натурализма в социологии и восставал против применения дарвиновской идеи борьбы за существование к жизни общества. Немецкий расизм есть натурализм в социологии. Михайловский защищал русскую идею, обличая ложь этого натурализма… Есть два понимания общества: или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк. Если общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и братство… Это есть различие между русской и немецкой идеей, между Достоевским и Гегелем, между Л. Толстым и Ницше» [18]. Таким образом, различные идеологические представления о человеке и обществе имеют ярко выраженную национальную окраску и, в свою очередь, формируют соответствующий тип отношений.
В фундаментальной «Истории технологии» сказано: «Интеллектуальный климат конца ХIХ в., интенсивно окрашенный социал-дарвинизмом, способствовал европейской экспансии. Социал-дарвинизм основывался на приложении, по аналогии, биологических открытий Чарльза Дарвина к интерпретации общества. Таким образом, общество превратилось в широкую арену, где «более способная» нация или личность «выживала» в неизбежной борьбе за существование. Согласно социал-дарвинизму, эта конкуренция, военная или экономическая, уничтожала слабых и обеспечивала длительное существование лучше приспособленной нации, расы, личности или коммерческой фирмы» [107, с. 783].
Основные представления марксизма о человеческом обществе, которые вырабатывались на материале Англии, были проникнуты социал-дарвинизмом. Маркс пишет Энгельсу о «Происхождении видов» Дарвина: «Это – гоббсова bellum omnium contra omnes, и это напоминает Гегеля в «Феноменологии», где гражданское общество предстает как «духовное животное царство», тогда как у Дарвина животное царство выступает как гражданское общество» [108, с. 204]. В другом письме, Ф. Лассалю, Маркс пишет о сходстве, по его мнению, классовой борьбы с борьбой за существование в животном мире: «Очень значительна работа Дарвина, она годится мне как естественнонаучная основа понимания исторической борьбы классов» [108, с. 475]. Главной задачей «вульгаризации марксизма» в советское время как раз и было если не изъятие, то хотя бы маскировка этой стороны учения, которое пришлось взять за основу официальной идеологии.
Попытка идеологов нынешних рыночных реформ в России внедрить в общественное сознание главные идеи социал-дарвинизма наносит сильный удар по той мировоззренческой матрице, на которой воспроизводятся народы России.
Наконец, важной сферой человеческих отношений в культуре любого народа являются отношения к близким людям, членам семьи. Говорят, семья – ячейка общества. Но в еще большей степени семья – ячейка народа. Народ в нашем сознании и есть большая семья, «воображаемое родство». Его идеальный образ и построен по типу семьи – с царем-батюшкой или «отцами нации». От соплеменников все мы ожидаем особых, родственных отношений[74].
Отношения в семье, как и другие отношения между людьми, также выстраиваются в соответствии с господствующими представлениями о человеке, о добре и зле, о собственности и хозяйстве, о долге и совести. В этой сфере различия этнических культур очень велики, поэтому волны модернизации, а тем более имитации типа семейных отношений, сложившихся у народов Запада, прямо затрагивают самые интимные и сокровенные стороны жизни практически каждого человека и народа в целом. Как неприятно слышать сегодня в России по телевидению или радио настойчивые советы заключать перед свадьбой брачный контракт, оговаривая заранее условия раздела имущества в случае развода.
Для нас важны различия между типом этих отношений, выработанных в России, и тех, которые господствуют у англо-саксонских народов, составляющих сейчас «авангард» западной цивилизации. В плане культуры трансформацию семейных отношений на этапе становления современного западного капитализма рассматривал М. Вебер, а в плане исторического материализма – Маркс. Они представили модельные, идеальные установки, которые, конечно, в чистом виде на практике не реализуются, но для нас и важен прежде всего вектор этих установок.
В соответствии с главной догмой исторического материализма, семья в марксизме прежде всего представлена как сгусток производственных отношений. Энгельс пишет в предисловии к «Происхождению частной собственности, семьи и государства»: «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны – производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны, труда, с другой – семьи» [109, с. 25–26].
Маркс и Энгельс видят в отношениях мужчины и женщины в семье зародыш разделения труда – первым его проявлением они считают половой акт. Разделение труда, по их мнению, ведет к появлению частной собственности. Первым предметом собственности и стали в семье женщина и дети, они – рабы мужчины. Основатели марксизма пишут в «Немецкой идеологии»: «Вместе с разделением труда… покоящимся на естественно возникшем разделении труда в семье и на распадении общества на отдельные, противостоящие друг другу семьи, – вместе с этим разделением труда дано в то же время и распределение, являющееся притом – как количественно, так и качественно – неравным распределением труда и его продуктов; следовательно, дана и собственность, зародыш и первоначальная форма которой имеются уже в семье, где жена и дети – рабы мужчины. Рабство в семье – правда, еще очень примитивное и скрытое – есть первая собственность, которая, впрочем, уже и в этой форме вполне соответствует определению современных экономистов, согласно которому собственность есть распоряжение чужой рабочей силой. Впрочем, разделение труда и частная собственность, это – тождественные выражения» [42, с. 31].
Представления о том, что родители – скрытые рабовладельцы, у Маркса является не метафорой, а рабочим термином. Он считает, что капитализм сбросил покровы с этих отношений, очистил их сущность, фарисейски скрытую ранее религией и моралью. Он пишет в «Капитале»: «Машины революционизируют также до основания формальное выражение капиталистического отношения, договор между рабочим и капиталистом. На базисе товарообмена предполагалось прежде всего, что капиталист и рабочий противостоят друг другу как свободные личности, как независимые товаровладельцы: один – как владелец денег и средств производства, другой – как владелец рабочей силы. Но теперь капитал покупает несовершеннолетних или малолетних. Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу, которой он располагал как формально свободная личность. Теперь он продает жену и детей. Он становится работорговцем… Зарождение [крупной промышленности] ознаменовано колоссальным иродовым похищением детей. Фабрики рекрутируют своих рабочих, как и королевский флот своих матросов, посредством насилия» [57, с. 407, 767].
В сноске Маркс ссылается на то, что «самые недавние отчеты Комиссии по обследованию условий детского труда отмечают поистине возмутительные и вполне достойные работорговцев черты рабочих-родителей в том, что касается торгашества детьми». Трудно нам в это поверить как в общее, социальное явление, но именно так виделось в Англии это несчастье бедноты. Мы все читали в школе рассказ Чехова про Ваньку Жукова, который писал «на деревню дедушке», но мысль назвать этого дедушку работорговцем всем показалась бы дикой.
Маркс видит в этом детском труде, несмотря на все невзгоды ребенка, признак общественного прогресса и путь к высшей форме семьи. Он пишет: «Как ни ужасно и ни отвратительно разложение старой семьи при капиталистической системе, тем не менее крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно организованном процессе производства вне сферы домашнего очага женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами… Очевидно, что составление комбинированного рабочего персонала из лиц обоего пола и различного возраста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталистической форме, когда рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, зачумленным источником гибели и рабства, при соответствующих условиях должно превратиться, наоборот, в источник гуманного развития» [57, с. 500–501].
Думаю, большинству русских трудно понять, при каких «соответствующих условиях» станет полезно работать на фабрике «детям обоего пола»? Труд (а не «трудовое воспитание»), тем более на фабрике, вреден для детского организма и детской психики. Это известно всем, у кого детям приходилось действительно трудиться. Разве можно желать детям такого «гуманного развития»!
Например, русские крестьяне в начале ХХ в. стали глубоко переживать тот факт, что их детям приходилось в раннем возрасте выполнять тяжелую полевую работу. В заявлении крестьян д. Виткулово Горбатовского уезда Нижегородской губ. в Комитет по землеустроительным делам (8 января 1906 г.) сказано: «Наши дети в самом нежном возрасте 9-10 лет уже обречены на непосильный труд вместе с нами. У них нет времени быть детьми. Вечная каторжная работа из-за насущного хлеба отнимает у них возможность посещать школу даже в продолжение трех зим, а полученные в школе знания о боге и его мире забываются благодаря той же нужде» [32, т. 2, с. 221].
В своем представлении трудящегося человека в кругу семьи Маркс делает упор или на экономической функции (разделение труда, рабство), или на животной. В чистом виде, которого достигли семейные отношения при капитализме, это выглядит у него так: «Человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций – при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т. д., – а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что присуще животному.
Правда, еда, питье, половой акт и т. д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер» [59, с. 91]. Конечно, это абстрактная модель семейных отношений. Но хоть какую-то связь с реальностью эта модель должна же была иметь! Подобного представления нельзя найти у русских философов, историков, даже писателей.
Соединение животной и экономической сущности приводит Маркса к метафоре проституции. Она приобретает у него фундаментальное значение. Сама семья в буржуазном обществе предстает у него как разновидность проституции (в отличие от прежнего рабства), но зато и сама проституция превращается в разновидность всеобъемлющего рынка труда. Он пишет: «Проституция является лишь некоторым особым выражением всеобщего проституирования рабочего, а так как это проституирование представляет собой такое отношение, в которое попадает не только проституируемый, но и проституирующий, причем гнусность последнего еще гораздо больше, то и капиталист и т. д. подпадает под эту категорию» [59, с. 114].
Таким образом, в марксизме семейные отношения лишены их народообразующего смысла. Они – часть всего механизма отчуждения человека и приобретут свое гуманное значение лишь с победой пролетариата, который освободится от прежних цепей, связывающих его с женой и детьми. В «Коммунистическом Манифесте» сказано: «Его [пролетария] отношение к жене и детям не имеет более ничего общего с буржуазными семейными отношениями… Законы, мораль, религия – все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы» [110, с. 435].
Это видение настолько не вяжется с русской культурой, что из «вульгарного советского марксизма» тема семейных отношений была практически изъята. Сейчас этой темы нам полезно коснуться, т. к. ее трактовка в марксизме является хотя и кривым, но зеркалом сознания существенной части западного общества. Французские социологи пишут о неповиновении учеников и частых на Западе приступах насилия в школах, дебошах с разгромом школьного имущества. Их вывод состоит в том, что это – стихийная классовая борьба детей, которые видят в школе инструмент их подавления именно как эксплуатируемого класса. А более поздние модели антропологов, которые представляют классовые отношения как отношения колонизаторов к подчиненной враждебной нации, позволяют увидеть в стихийном протесте школьников неорганизованный бунт против национального угнетения [33].
М. Вебер, в отличие от Маркса, видит проблему через призму культуры и ставит акцент на том пессимистическом индивидуализме, которым окрашена протестантская этика и в сфере семейных отношений. Он пишет: «Общение кальвиниста с его Богом происходило в атмосфере полного духовного одиночества. Каждый, кто хочет ощутить специфическое воздействие этой своеобразной атмосферы, может обратиться к книге Беньяна «Рilgrim’s рrogress» («Путешествие пилигрима»), получившей едва ли не самое широкое распространение из всех произведений пуританской литературы. В ней описывается, как некий «христианин», осознав, что он находится в «городе, осужденном на гибель», услышал голос, призывающий его немедля совершить паломничество в град небесный. Жена и дети цеплялись за него, но он мчался, зажав уши, не разбирая дороги и восклицая: «Life, eternal life!» («Жизнь! Вечная жизнь!»). И только после того, как паломник почувствовал себя в безопасности, у него возникла мысль, что неплохо бы соединиться со своей семьей» [52, с. 145].
Совершенно другой тип семейных отношений мы видим у японцев. Одной из главных тем в творчестве писателя Акутагавы было мироощущение японских христиан в краткий период конца ХV – начала ХVI века. Это был важный опыт контакта культур. В рассказе «О-Гин» (1922) он излагает такую легенду. У крестьянской девушки о-Гин умерли родители-буддисты. Она обратилась в христианство и стала приемной дочерью у четы тайных христиан в другой деревне. Когда они собирались тайно праздновать Рождество, их схватила стража. После месяца пыток их повели на казнь. Готовясь к сожжению, они блаженствовали, уверенные, что вот-вот окажутся в раю. В последний раз им предложили отречься от христианства. Вдруг о-Гин сказала: «Я отрекаюсь от Святого учения». Вдали она увидела сосны кладбища, где были похоронены ее отец и мать – и решила последовать за ними в ад.
Она стала умолять приемных родителей: «Отец! Пойдем в ад! И мать, и меня, и того отца, и ту мать – всех нас унесет дьявол». И старики тоже отреклись – чтобы вместе пойти в ад. Акутагава завершает: «Из столь многих в нашей стране преданий о мучениях ревнителей веры этот рассказ дошел до нас как пример самого постыдного падения… И, как говорит предание, дьявол от чрезмерной радости всю ночь, обратившись огромной книгой, летал над местом казни. Впрочем, был ли это успех, достойный столь безрассудного ликования, автор сильно сомневается».
Как далеки от таких отношений взгляды европейских кальвинистов того же времени, видно из замечания Вебера: «Достаточно обратиться к знаменитому письму герцогини Ренаты д’Эсте, матери Леоноры, к Кальвину, где она среди прочего пишет, что «возненавидела» бы отца или мужа, если бы удостоверилась в том, что они принадлежат к числу отверженных… одновременно это письмо служит иллюстрацией того, что выше говорилось о внутреннем освобождении индивида от «естественных» уз благодаря учению об избранности» [52, с. 228].
Необычным для русского мироощущения является и присущее кальвинизму представление о греховности супружеских отношений и даже деторождения. При этом, наоборот, оправданной оказывается как раз проституция. М. Вебер пишет: «Половое влечение, сопутствующее деторождению, греховно и в браке… Некоторые пиетистские течения видят высшую форму брака в сохранении девственности супругов… Пуританский и гигиенический рационализм идут различными путями, однако в этом пункте они мгновенно понимают друг друга. Так, один рьяный сторонник «гигиенической проституции» мотивировал моральную допустимость внебрачных связей (в качестве гигиенически полезных) – речь шла о домах терпимости и их регламентации – ссылкой на Фауста и Маргариту как на поэтическое воплощение его идеи. Восприятие Маргариты в качестве проститутки и отождествление бури человеческих страстей с необходимыми для здоровья половыми сношениями вполне соответствуют духу пуританизма» [52, с. 252–253].
Более того, греховными при таком мироощущения предстают и сами дети, зачатые «во грехе». Эта изначальная греховность ребенка изживается суровым воспитанием, постепенной победой над дьяволом. Некоторые педагоги этим объясняют сохранение в английских школах, почти поныне, телесных наказаний. Это – совершенно иной взгляд на ребенка, нежели в культуре, выросшей из православия. Более того, у нас любой ребенок изначально невинен, независимо от грехов родителей («сын за отца не ответчик»), а кальвинисты доходили до отлучения от церкви новорожденных. Вебер пишет: «Строгие пуритане – английские и шотландские индепенденты – смогли возвести в принцип требование не допускать к крещению детей заведомо отвергнутых Богом людей (например, детей пьяниц)» [52, с. 213].
Здесь – один из корней мальтузианства, стремление воспрепятствовать «размножению бедных», которые подспудно воспринимаются как отверженные. Известно, что мальтузианства совершенно не было в русской культуре (оно внедряется только сегодня, впрочем, уже не в русской, а искусственной «рыночной» культуре, порожденной нынешним кризисом). Социальные механизмы, препятствующие распространению мальтузианских взглядов, были выработаны крестьянской общиной (например, наделение землей «по едокам»). А.В. Чаянов пишет: «Немало демографических исследований европейских ученых отмечало факт зависимости рождаемости и смертности от материальных условий существования и ясно выраженный пониженный прирост в малообеспеченных слоях населения. С другой стороны, известно также, что во Франции практическое мальтузианство наиболее развито в зажиточных крестьянских кругах» [106, с. 225].
Можно сказать, что в русском народе, по сравнению с западными и особенно англо-саксонскими, в связях, скрепляющих нашу этническую общность, относительно большую роль играют родственные или «псевдородственные» связи, в том числе связи между взрослыми и детьми. И даже в ходе индустриализации в советский период, несмотря на переход от патриархальной крестьянской к городской семье, этот тип отношений сохранялся. Это отчетливо выявилось в большом многолетнем проекте по международному сравнению школьного образования в разных странах (60—70-е годы ХХ в.).
Руководил проектом известный американский психолог и педагог Ури Бронфенбреннер. Чуть ли не первое отличие советской школы от западной он видит именно в типе отношений между взрослыми и детьми. У. Бронфенбреннер пишет в своей книге, переведенной на многие языки: «Хорошее отношение к педагогу не меняется у детей на протяжении всех лет обучения в школе. К учителю обычно обращаются не только как к руководителю, но и как к другу. Нередко мы видели преподавателя, окруженного весело болтающими учениками и в театре, и на концерте, и в цирке, и даже просто на прогулке – внеклассная работа в Советском Союзе постепенно превратилась в явление социальное. За редким исключением отношение школьников к учителю определяется двумя словами: любовь и уважение» [111][75].
Бронфенбреннер в своей книге периодически подчеркивает особое свойство советской школы – соединять школьников разных возрастов и взрослых в подобие семьи. Уже в первой главе книги он пишет: «Особенность, свойственная советскому воспитанию, – готовность посторонних лиц принимать на себя роль матери. Эта черта характерна не только для родственников семьи, но и для людей совершенно посторонних. На улице прохожие запросто заводят знакомство с детьми, и дети (и, как ни странно, сопровождающие их взрослые) тут же принимаются называть этих посторонних людей «дядями» и «тетями».
Роль воспитателей охотно берут на себя не только старшие. Подростки обоих полов проявляют к маленьким детям живейший интерес и обращаются с ними до такой степени умело и ласково, что жителям Запада приходится только удивляться. Вот что однажды произошло с нами на московской улице. Наш младший сын – ему тогда было четыре года – бойко шагал впереди нас, а навстречу двигалась компания подростков. Один из них, заметив Стиви, раскрыл объятия и, воскликнув: «Ай да малыш!» – поднял его на руки, прижал к себе, звучно расцеловал и передал другим; те совершили над ребенком точно такой же «обряд», а потом закружились в веселом детском танце, осыпая Стиви нежными словами и глядя на него с любовью. Подобное поведение американского подростка вызвало бы у его родителей беспокойство, и они наверняка бы обратились за советом к психиатру» [там же].
В своей книге Бронфенбреннер приводит выдержку из доклада группы американских психологов на Международном психологическом конгрессе 1963 г. (в США издан 4-томный труд этих психологов, проводивших международные сравнения школьных систем). Вот что сказано в докладе о советских детях: «Более всего автора данного отчета поразило «примерное поведение» советских детей… Их отношения с родителями, учителями и воспитателями носят характер почтительной и нежной дружбы… Случаи агрессивности, нарушения правил и антиобщественного поведения – явление крайне редкое».
Нам, еще проникнутым духом советской школы, взаимная ненависть учителей и школьников, взрослых и детей кажется дикой – но это и определяется типом семейных отношений как части всей системы связей этнической общности. Тип, сложившийся в русской культуре, есть наше общее национальное достояние, которое сегодня подвергается опасности.
Ниже мы будем говорить о том кризисе, который переживает сегодня система человеческих отношений в русском народе. На фоне острого кризиса, конечно, не так видны медленные, но, возможно, гораздо более глубокие изменения, которые происходят в аналогичной системе народов Запада. По сути дела, постмодерн и понимается как время «пересборки» народов, замены их центральной мировоззренческой матрицы. Сама эта задача возникла в ответ на длительную эрозию человеческих отношений, которые связывали свободных индивидов в нации, однако движение в направлении постмодерна, в свою очередь, ускорило и углубило созревание этого кризиса.
Один западный философ говорит, что наше время является эпохой «слабых связей», а другой утверждает, что «быстро исчезающие формы сотрудничества более полезны для людей, чем долгосрочные связи». Это означает кризис доверия к главным институтам современного буржуазного индустриального общества, включая его базовый институт – предприятие. Ложные банкротства, воровство управляющих, обман акционеров входят в норму. Как пишет английский философ З. Бауман, «высокая квалификация в деле «артистического исчезновения», стратегия выталкивания и уклонения, готовность и способность исчезнуть в случае необходимости – все это, являющееся основой новой политики разъединения и необязательности, становится в наши дни свидетельством управленческой мудрости и успеха» [112].
Это, по его мнению, превращается в новый тип отношений между людьми, от наступления которого невозможно укрыться никому. Он продолжает: «Самые страшные бедствия приходят нынче неожиданно, выбирая жертвы по странной логике либо вовсе без нее, удары сыплются словно по чьему-то неведомому капризу, так что невозможно узнать, кто обречен, а кто спасается. Неопределенность наших дней является могущественной индивидуализирующей силой. Она разделяет, вместо того, чтобы объединять, и поскольку невозможно сказать, кто может выйти вперед в этой ситуации, идея «общности интересов» оказывается все более туманной, а в конце концов – даже непостижимой. Сегодняшние страхи, беспокойства и печали устроены так, что страдать приходится в одиночку. Они не добавляются к другим, не аккумулируются в «общее дело», не имеют «естественного адреса». Это лишает позицию солидарности ее прежнего статуса рациональной тактики» [112].
Крах доверия ведет к угасанию тяги к коллективным действиям и гражданской активности, а это – процесс «рассыпания» нации.
Глава 19. Хозяйство
Одним из важнейших «срезов» жизнеустройства этносов является хозяйство. В нем сочетаются все элементы культуры – представления о природе и человеке в ней, о собственности и богатстве, о справедливости распределения благ, об организации совместной деятельности, технологические знания и умения. Вариантов комбинации всех этих элементов большое множество, поэтому хозяйство каждой этнической общности обладает неповторимым своеобразием. Этнос – творец своей самобытной системы хозяйства. Но хозяйство, воплощая в себе все стороны культуры данного этноса и каждодневно вовлекая в себя всех его членов, становится важной частью той матрицы, на которой этот этнос собирается и воспроизводится. То есть, в свою очередь, хозяйство – творец своего этноса.
Поскольку между этносами идет непрерывный взаимный обмен элементами культуры, то наиболее острые различия сглаживаются. В результате исторически складываются разные типы хозяйства. Их изучением занимаются экономисты, а сохраняющиеся особенности и различия – предмет этнографов. Сложилась и особая научная область – этноэкономика. Одним из первых этнологических исследований ранних форм хозяйственных отношений была работа М. Мосса (1925) о дарении – как формы обмена, но не между индивидами, а между общностями.
Формационный подход, положенный в основу исторического материализма, исключал из рассмотрения этническую специфику хозяйственных укладов, он оперировал с небольшим числом «чистых» моделей. Что касается незападных стран, то эти модели были настолько далеки от реальности, что Маркс даже сделал попытку выделить особую, туманно определенную формацию, которую назвал «азиатским способом производства». Эта попытка оказалась малопродуктивной и, по сути, была предана забвению. Здесь же нас интересуют не абстрактные «общечеловеческие» экономические формации, а именно специфическое для каждого народа взаимодействие хозяйства с этничностью.
Когда человек ведет хозяйственную деятельность, на него воздействуют практически все силы созидания народа, о которых говорится в этом разделе, – от языка и религии до системы мер и весов. О. Шпенглер утверждал даже: «Всякая экономическая жизнь есть выражение душевной жизни». Но в душевной жизни и коренятся особенности разных народов, а материальный мир («вещи») есть лишь воплощение этих культурных особенностей.
Поэтому хозяйство, в котором преломляются эти силы, само является мощным механизмом этнизации – выработки этнического самосознания и скрепления людей этническими связями. Даже волны экономической глобализации – и колониальной экспансии Запада, и стандартизирующего наступления капиталистического производства и рынка, и нынешних информационных технологий – не могут преодолеть взаимовлияния хозяйства и национальной культуры.
Например, все незападные страны начиная с ХVIII века испытывают процесс модернизации – освоения созданных на Западе технологий и хозяйственных институтов. Внешне нередко кажется даже, что при этом возникает западный тип хозяйства, в котором не воспроизводятся национальные черты – они вытесняются в сферу внешних «этнографических проявлений». Но это ошибочное впечатление. Суть многих сторон хозяйства возникает как синтез, как продукт этнического творчества. В книге «Капитализм и конфуцианство» (1987), посвященной преобразованию западных экономических институтов в соответствии с культурными основаниями Японии, ее автор Мичио Моришима показывает, что в японском хозяйстве «капиталистический рынок труда – лишь современная форма выражения «рынка верности» (см. [7, с. 67])[76].
Археология, изучающая самые древние из сохранившихся свидетельств жизни ранних человеческих общностей, показывает, что роль хозяйства как механизма этнизации людей проявилась с самого начала, с возникновения человека. Найденные в группе технические приемы и способы организации хозяйства воспроизводились в следующих поколениях и отличали эту группу от других. Этой стороне истории материальной культуры посвящен большой труд А. Леруа-Гурана «Эволюция и техника» (1945).
Он составил около 40 тыс. описаний разных технологических процессов у народов всех частей света. Уже простейшие приемы показывают удивительное сродство с этнической культурой. Одно только механическое воздействие на материал (перкуссия) применяется во множестве форм, так что изучение этой конкретной технологии Леруа-Гуран считает «новой отраслью этнологии, которая даст новые элементы изучения человека».
Например, изобретение молотка (и молотка с долотом) сыграло огромную роль в развитии человечества, но некоторые даже современные народы не применяли молотка, предпочитая обработку материала нажимом[77]. Большое многообразие этнических особенностей обнаруживается в хозяйственном применении огня, в обработке земли и скотоводстве, в способе перемещения тяжестей и грузов, в изготовлении оружия. Совокупность технических приемов и материальных средств представляет собой систему, устойчивую (и изменяющуюся) часть культуры этнической группы (племени, народа и даже нации)[78]. По словам Леруа-Гурана, «этническая группа существует благодаря присутствию в ее материальных пределах непрерывной внутренней среды».
Эту целостную внутреннюю среду, соединяющую материальный и духовный миры, этническая группа оберегает, отказываясь даже от выгод «эффективности». Образованные европейцы склонны видеть в этом инерцию и признак отсталости, между тем как речь идет о стремлении избежать разрушения культурной этнической матрицы под действием слишком быстрых и слишком крупномасштабных изменений в хозяйстве.
Традиции ведения хозяйства очень устойчивы почти у всех народов, их стремятся сохранить даже ценой больших дополнительных затрат. Русские переселенцы ХVII – начала ХХ в. на юге Украины строили рубленые дома из бревен, которые с чрезвычайными усилиями и затратами привозили за сотни километров. Неимущие семьи предпочитали по нескольку лет жить в землянках, копя деньги на «дом», но не строили саманные мазанки, как местное население. Русские переселенцы ХVII – ХIХ вв. в Сибири прилагали огромные усилия по приспособления традиционных для Европейской России приемов хлебопашества к новым условиям. А в Забайкалье чересполосно проживают три народа – русские, буряты и эвенки. И до сих пор на селе они сохраняют свою специализацию: русские земледелие, буряты животноводство, эвенки оленеводство (в сочетании с охотой и рыболовством).
Понятно, что устойчивость традиций и пережитков таит в себе важное противоречие. Многие пережитки не просто снижают эффективность хозяйства, но и приводят к тяжелым последствиям для этноса. В России, например, была очень высока детская смертность – в 1901 г. доля младенцев, умерших в возрасте до 1 года, составляла 40,5 %. Врачи выяснили, что причина кроется в особенностях вскармливания грудных детей в православных крестьянских семьях – прикармливанием детей с первых недель жеваным хлебом через соску. В семьях мусульман, даже живших в худших условиях, младенческая смертность была в 2,5 раза ниже, т. к. здесь обязательным считалось грудное вскармливание [113][79].
Сохранение пережитков необходимо потому, что каждая вещь и каждая хозяйственная операция имеют не только функциональный, но и символический смысл. Это наглядно выражается в изготовлении оружия. Например, согласно выводам Леруа-Гурана, в функциональном отношении клинок японской сабли есть идеальная форма, но другие народы Азии «заглушали» функциональное совершенство этой формы разными привесками и кривыми, ухудшая уравновешенность изделия. Он пишет: «По большей части совершенные формы – это скромные формы, но этническое воображение пренебрегает ими из-за их банальности».
Пожалуй, еще более удивительно, что национальные представления о красоте воплощаются и в изделиях, достигших максимума функциональной эффективности (или имеющих примерно одинаковый ее уровень с иностранными изделиями). Думаю, большинству читателей кажутся очень красивыми автомат Калашникова, советская каска или танк Т-34. Особенно острым это чувство становится, когда видишь рядом группы военных двух армий – одних с Калашниковыми, других с американской винтовкой М-16. Но об этом в 1964 г. писал и Леруа-Гуран: «Поразительно видеть, до какой степени американские и русские ракеты и спутники, несмотря на очень узкие функциональные требования, носят на себе отпечаток создавших их культур» [23, с. 211][80].
Говоря об устойчивости хозяйственных и технических традиций, необходимых для сохранения народа, не будем, конечно, упускать из виду и изменчивость укладов и в ходе творческого развития, и при изменении внешних условий. Хозяйство как «сила созидания» народа особенно важно на стадии формирования этнической общности. Потом общность может разделиться, и части ее освоят разные типы хозяйства, сохранив иные, сформированные ранее общие этнические черты. Но в каждой части принадлежность к одному хозяйственно-культурному типу будет скреплять этнос.
В целом, хозяйство не просто переплетено со всеми сторонами жизни народа, оно, можно сказать, является «срезом» этой жизни, ее особой ипостасью. Поэтому оценивать эффективность того или иного способа хозяйствования по какому-то одному произвольно заданному критерию (например, производительности труда или ВВП на душу населения) можно лишь в каких-то узких аналитических либо идеологических целях. В таких сравнениях эффективности разных национальных типов хозяйства обычно господствует евроцентристский подход – утверждается, что наиболее эффективной является «рыночная экономика», сложившаяся за ХVII – ХХ вв. в Западной Европе («современный капитализм»).
К. Леви-Стросс писал о неправомерности таких оценок: «Два-три века тому назад западная цивилизация посвятила себя тому, чтобы снабдить человека все более мощными механическими орудиями. Если принять это за критерий, то индикатором уровня развития человеческого общества станут затраты энергии на душу населения. Западная цивилизация в ее американском воплощении будет во главе… Если за критерий взять способность преодолеть экстремальные географические условия, то, без сомнения, пальму первенства получат эскимосы и бедуины. Лучше любой другой цивилизации Индия сумела разработать философско-религиозную систему, а Китай – стиль жизни, способные компенсировать психологические последствия демографического стресса. Уже три столетия назад Ислам сформулировал теорию солидарности для всех форм человеческой жизни – технической, экономической, социальной и духовной – какой Запад не мог найти до недавнего времени и элементы которой появились лишь в некоторых аспектах марксистской мысли и в современной этнологии. Запад, хозяин машин, обнаруживает очень элементарные познания об использовании и возможностях той высшей машины, которой является человеческое тело. Напротив, в этой области и связанной с ней области отношений между телесным и моральным Восток и Дальний Восток обогнали Запад на несколько тысячелетий – там созданы такие обширные теоретические и практические системы, как йога Индии, китайские методы дыхания или гимнастика внутренних органов у древних маори… Что касается организации семьи и гармонизации взаимоотношений семьи и социальной группы, то австралийцы, отставшие в экономическом плане, настолько обогнали остальное человечество, что для понимания сознательно и продуманно выработанной ими системы правил приходится прибегать к методам современной математики» [26, с. 321–322].
Но для нас здесь важнее отметить, что становление современного капитализма сыграло исключительно важную роль в этногенезе народов Западной Европы – оно дало толчок к формированию современных наций. А эти нации в Новое и новейшее время являются для русских «значимыми иными». Именно их образ жизни нам словом и делом навязывают реформаторы.
Реформаторы замалчивают и другой важный факт: «значимыми иными» для нас стали в ходе реформы и народы стран Африки, Азии и Америки, которые попали в колониальную или неоколониальную зависимость от Запада. Навязанный им особый тип «дополняющей экономики» (периферийного капитализма) в большой мере повлиял и на ход этнических процессов – в частности, вызвав архаизацию и «трайбализацию» одних народов и разделение других, в том числе с этническими конфликтами и войнами. Об архаизации этнических экономик под воздействием западного капитализма см. [115]. Но все же взоры и надежды значительной части русских обращены к западным нациям, о них надо и сказать.
Э. Кисс пишет: «В период до образования современных наций самосознание европейцев формировалось благодаря идеям «Христианского мира», в соответствии с разными (зачастую территориально разделенными) династическими королевствами и империями, а для огромного большинства населения – в соответствии с локальным самоосознанием, оформившимся вокруг семьи, деревни, торгового города и диалекта.
Потребовалось воздействие многих случайных исторических факторов, включая централизующую силу современной государственной бюрократии, технический прогресс в виде, например, изобретения печатного станка, разрушение связующей силы католицизма, вызванное Реформацией, а также то, что Бенедикт Андерсон образно назвал «революционным объединяющим эффектом капитализма», чтобы вызвать к жизни те стандартизованные национальные языки и культуры, которые выступают сегодня в качестве характерных черт наций определенного региона и являются основой для национализма. Нации представляют собой результат исторических изменений, политической борьбы и осознанного творчества» [73, с. 147].
Действительно, капитализм обладает исключительно сильным «сплавляющим» этносы эффектом (по этой причине Западная Европа стала «кладбищем народов» – они были ассимилированы большими нациями). Этот процесс в ходе формирования западных наций шел практически до нашего времени. Так, в ХХ веке завершилась этническая история народности фриулов, проживавших на севере Италии, а длилась эта история с IV века. Они растворились в итальянской нации, которая начала складываться только в конце ХVIII – начале ХIХ века.
Но и само становление капитализма как присущего Западу способа хозяйства не было медленным «естественным» процессом. Это был результат череды огромных революций, в ходе которых возникло уникальное сочетание обстоятельств, позволившее распространить на Западную Европу экономический уклад, сложившийся ранее у некоторых народов Северо-Запада (голландцев и англичан, а до этого фризов). Предыстория капитализма как очень специфического этнического хозяйственного уклада, который был затем взят за модель вдохновителями великих буржуазных революций и внедрен политическими средствами, очень интересна, а для нас прямо актуальна. Краткое изложение этой предыстории и библиография даны в книге Л.А. Асланова «Культура и власть» (2001) [116].
Фризы – этническая общность, родственная саксам – жили на побережье Северного моря в районе устья Рейна (занятая ими территория называлась Фрисландией). Условия их обитания были необычными: они расселились на маршах – незатопляемых морскими приливами полосах земли шириной около 50 км. Жили они на хуторах или фермах, расположенных на холмах (терпах). Плодородная почва (отложения ила и торф) и мягкий влажный климат позволяли вести интенсивное сельское хозяйство, а труднодоступная местность обеспечила фризам независимость и длительное сохранение общинной демократии. Законы фризов в основных чертах были схожи с Салической правдой франков, т. е. уже в VI–VII вв. общинная собственность на землю превратилась в частную
Это был народ фермеров, которые в то же время вынуждены были быть торговцами и мореходами. Для римлян они стали торговыми посредниками с германскими племенами, а в период упадка Рима одним из главных товаров в этой торговле стали рабы, которых фризы скупали в бассейне Балтийского моря у варягов (сведения о фризах можно найти и в работе Энгельса «К истории древних германцев» [117]). Вместе с англами и саксами фризы участвовали в заселении Англии.
Для нас фризы интересны тем, что как народ они сложились в большой степени под влиянием очень специфического хозяйственного уклада, который позже был воспроизведен, уже в индустриальной форме, как современный капитализм. И уклад этот входил в ядро их этнической культуры.
Л.А. Асланов пишет о фризах: «Каждый крестьянин был скотоводом, судовладельцем (это был единственный вид транспорта в условиях маршей), судостроителем и купцом. Разнообразие видов деятельности… активно формирует сознание, которое закрепляется в культуре людей. Кроме того, эти виды деятельности затрагивали всех поголовно, т. е. это была народная культура. Таким образом, терпеновая, крайне индивидуалистическая культура стала тем корнем, из которого выросла североморская культура, воспринявшая от терпеновой крайний индивидуализм» [116, с. 87].
О. Шпенглер также подчеркивает культурные этнические корни английского капитализма: «Английская хозяйственная жизнь фактически тождественна с торговлей, с торговлей постольку, поскольку она представляет культивированную форму разбоя. Согласно этому инстинкту все превращается в добычу, в товар, на котором богатеют… Властное слово «свободная торговля» относится к хозяйственной системе викингов. Прусским и, следовательно, социалистическим лозунгом могло бы быть государственное регулирование товарообмена. Этим торговля во всем народном хозяйстве получает служебную роль вместо господствующей. Становится понятен Адам Смит с его ненавистью к государству и к «коварным животным, которые именуются государственными людьми». В самом деле на истинного торговца они действуют, как полицейский на взломщика или военное судно на корабль корсаров» [85, с. 78–80].
Этническая специфика того капитализма, который сложился в англо-саксонской культуре, признается и сегодня. Английский историк и социолог З. Бауман пишет: «Новый индустриальный порядок, так же как и концептуальные построения, предполагавшие возможность возникновения в будущем индустриального общества, были рождены в Англии; именно Англия, в отличие от своих европейских соседей, разоряла свое крестьянство, а вместе с ним разрушала и «естественную» связь между землей, человеческими усилиями и богатством. Людей, обрабатывающих землю, сначала необходимо упразднить, чтобы затем их можно было рассматривать как носителей готовой к использованию «рабочей силы», а саму эту силу – по праву считать потенциальным источником богатства» [112].
Когда эти культурные предпосылки соединились с новой центральной мировоззренческой матрицей, заданной протестантской Реформацией, капитализм стал мощным фактором этногенеза, быстро сплачивающим «буржуазные нации» Запада. Вебер приводит высказывание известного протестантского проповедника Джона Уэсли: «Мы обязаны призывать всех христиан к тому, чтобы они наживали столько, сколько можно, и сберегали все, что можно, то есть стремились к богатству» [52, с. 200–201].
Внешне чисто экономическая мотивация (страсть к наживе) превратилась в обязательную приоритетную ценность. Очевидно, что эта ценность обладает этнической спецификой, она присуща далеко не всем народам. Даже Маркс признает, что прежде страсть к наживе была частью очень специфических культур: «Богатство выступает как самоцель лишь у немногих торговых народов – монополистов посреднической торговли, живших в порах древнего мира, как евреи в средневековом обществе» [118, с. 475].
При этом страсть к наживе вовсе не является необходимым условием эффективного хозяйства – общества, где хозяйственные ресурсы соединяются не только через куплю-продажу, могут быть экономически вполне эффективными. Более того, порой их хозяйство рушится именно вследствие внедрения «духа наживы». В 60-е годы описан такой случай: была в Южной Америке процветающая индейская община. Люди охотно и весело сообща работали, строили дороги, школу, жилища членам общины. К ним приехали протестантские миссионеры и восхитились тем, что увидели. Только, говорят, одно у вас неправильно: нельзя работать бесплатно, каждый труд должен быть оплачен. И убедили! Теперь касик (староста) получил от общины «бюджет» и, созывая людей на общие работы, стал платить им деньгами. И люди перестали участвовать в таких работах! Почему же? Всем казалось, что касик им недоплачивает. Социологи, наблюдавшие за этим случаем, были поражены тем, как быстро все пришло в запустение и как быстро спились жители этих деревенек.
Мотив наживы, присущий капиталистическому рынку, отсутствует при иных типах распределения материальных ценностей – прямом обмене ради поддержания социальных связей по принципу взаимности, уравнительном перераспределении, дарении. Виднейший антрополог Б. Малиновский писал в 20-е годы, что абсурдно полагать, будто в хозяйстве примитивного племени человек побуждается к труду чисто экономическими мотивами и осознаваемой личной выгодой. Главное для него – выполнение социальных обязательств по отношению к родственникам и общине, стремление к престижу (см. [119]). Дальнейшие исследования показали, что эти приемы хозяйственной деятельности, отсутствующие в рыночной экономике западных стран, служили важным механизмом создания этнических связей в «примитивных» племенах и народах.
Говоря о значении внеэкономических, нерыночных способов распределения у незападных народов, А.С. Панарин пишет: «Бурдье показывает, как и почему целесообразный обмен у них принимает форму дара. Наблюдающим со стороны кажется нелепо расточительной и уводящей «от существа дела» вся система условностей, ритуалов, всего «искусства сокрытия», которыми сопровождаются обменные практики в традиционных обществах. Экономикоцентристскому сознанию кажутся нелепыми эти колоссальные траты времени, предназначаемые для того, чтобы увести сознание участников от «правды обмена». Истинно полезным временем эти наблюдатели считают время, посвященное вещам как потребительским объектам; время, посвященное производству человеческих отношений, вызывает у них недоумение: то ли потому, что эти отношения считаются автоматическим приложением вещных отношений, то ли потому, что в качестве «вневещных», социоцентричных, а не экономикоцентричных они представляются просто ненужными.
Людям традиционного общества, которым в трудных ситуациях – а такие сопровождали их постоянно, – нельзя было рассчитывать на технику – они рассчитывали лишь на живую человеческую солидарность, требующую бескорыстных жертвенных усилий, – приходилось уделять особое внимание «производству социальности» – формированию солидаристских чувств и морали долга. Здесь-то и открывается смысл «бессмысленных ритуалов». Наделяются смыслом все «уловки традиционалистского сознания: «Ответный дар, чтобы не стать оскорбительным, должен быть отсроченным и иным… таким образом, обмен дарами отличается от модели «ты – мне, я – тебе» [120, с. 201].
Историк становления рыночной экономики Запада Карл Поланьи уже в главном своем труде «Великая трансформация» (1944) противопоставил экономику капитализма хозяйству примитивных народов (как писали после его смерти, создал «политическую экономию контраста»). Затем он перешел к изучению экономики древних и архаических обществ.
Поланьи различал два типа хозяйственной деятельности, то есть производства и распределения продуктов и услуг. Их отличие сформулировал уже Аристотель. Один тип – натуральное хозяйство или экономия, что означает «ведение дома», материальное обеспечение экоса (дома) или полиса (города). Это – производство и обмен в целях удовлетворения потребностей. Такое понимание хозяйства Поланьи обозначил как субстантивизм, представление хозяйства как движения вещества, субстанции. Другой тип хозяйства Аристотель назвал хрематистика (сегодня говорят рыночная экономика). Это – хозяйственная деятельность, целью которой является прибыль, накопление богатства в форме денег. Это понимание Поланьи назвал формализмом.
Этот подход заложил основы экономической антропологии, которая стала развиваться в 60-е годы, и главные ее направления определяются как субстантивизм и формализм (см. [119]). Работы экономических антропологов показали, что этническое своеобразие присуще всем национальным хозяйствам, даже у тех народов, которые освоили многие принципы рыночной экономики. Придание страсти к наживе вненационального, универсального характера, как это делали в 90-е годы российские реформаторы, есть чисто идеологический прием.
Научное понимание оснований этничности и характера хозяйства каждого народа требовало отказа от евроцентристского взгляда. Конкретные этноэкономические работы стали появляться в конце ХIХ в. Так, большое исследование общинного хозяйства, начиная от первобытного строя, у разных племен и народов (в Америке, Индии, Северной Африке и др.) провел русский либеральный социолог, историк и этнограф, в последующем видный масон М.М. Ковалевский («Общинное землевладение. Причины, ход и последствия его разложения», М., 1879). Маркс внимательно изучил этот труд и сделал его конспект. Будучи членом Государственного совета, Ковалевский выступал против насильственного разрушения крестьянской общины, опираясь на опыт тяжелых последствий таких реформ в других странах.
Насущной стала потребность в изучении своеобразных хозяйственных укладов незападных народов после русской революции 1917 г., при государственном и хозяйственном строительстве СССР и в странах, начавших борьбу за освобождение от колониальной зависимости. Чаянов в 1924 г. писал: «Ныне, когда наш мир постепенно перестает быть миром лишь европейским и когда Азия и Африка с их своеобычными экономическими формациями вступают в круг нашей жизни и культуры, мы вынуждены ориентировать наши теоретические интересы на проблемы некапиталистических экономических систем» [106, с. 143].
Стала появляться литература – и научная, и популярная. К этой теме обратилась и публицистика. Подход Поланьи – сравнительное описание западной рыночной экономики и разных вариантов этнического «примитивного» хозяйства, стал подкрепляться эмпирическим материалом. Вот один из красноречивых случаев. В начале ХХ века европейцы позарились на Патагонию – обширную область на юге Южной Америки. Индейцы создали там особую аграрную цивилизацию, она казалась эффективной, и эксплуатация этой земли в капиталистическом плантационном хозяйстве обещала быть выгодной. Индейцев уничтожили (в начале 90-х годов в Испании вышло два тома потрясающих документов об этой кампании этноцида, собранных католическими миссионерами), но здесь речь не об этом. Европейские предприниматели действительно освоили очищенные от примитивного хозяйств земли (в огромном пространстве – 100 млн. га), построили железную дорогу. Но рентабельным капиталистическое хозяйство западного типа на этих холодных землях так и не смогло стать. Все заброшено, железная дорога заросла травой.
Русский читатель мало знает о колонизации европейцами стран с традиционной этнической культурой. Нас это как-то мало интересовало, и лишь сегодня стало вдруг очень актуальным. И я с интересом прочел случайно попавшую мне в руки книгу, детские впечатления английской писательницы, дочери колониста в Родезии (Зимбабве). В ней подробно описаны два типа сельского хозяйства – африканской общины и плантации фермера-колониста. Девочка подружилась с престарелым вождем племени и стала часто ходить в африканскую деревню. И ее мучила мысль: почему у африканцев земля производит невероятное изобилие плодов, так что они свисали на трех уровнях? Почему люди в деревне веселы и проводят досуг в долгих беседах, попивая из тыковки пальмовое вино – а у белых колонистов земля вообще ничего не родит, они бедны, злы, по уши в долгах и норовят отнять коз у африканцев (а потом и вообще всю их землю)?
И хотя девочка ответа не сформулировала, он складывался из всех ее обыденных впечатлений. Земля отвечала африканцам на заботу, потому что это была их земля, «одомашненная» ими, часть их племенной культуры. Это можно перевести на язык агрономии, знания почвы, климата, растений и насекомых. А фермер-колонист вторгся со своим этническим (конкретно, английским) представлением о хозяйстве в ландшафт, созданный людьми совсем иной культуры, которую он считал примитивной и понимать не хотел. И эта хозяйственная действительность сплачивала белых колонистов в особый новый этнос – так же, как хозяйство африканской общины сплачивало ее членов в их племя.
Загнанные в тропический лес индейцы Амазонии и сегодня питаются с такого клочка земли, что ученые считают, пересчитывают и не могут поверить. Я сам был с бразильскими учеными, которые изучают индейский способ ведения хозяйства у таких «фермеров», к которым надо добираться по протокам Амазонки. Их хозяйство действительно поражает. С одного гектара леса, не вырубая деревьев, живет большая семья. Бабушка занята «животноводством» – рядом с домом у нее сплетенный из прутьев загончик для черепах, которым хватает обильного подножного корма. Люди сажают свои культуры прямо в лесу, отыскивая по едва заметным признакам пятачки самой подходящей почвы размером в несколько квадратных метров. В их языке множество тонких определений видов почвы, каждая благоприятна для какой-то одной культуры. А для колонистов, получивших в частную собственность землю аборигенов и распахавших ее на простыни-плантации, она долгое время была лишь объектом эксплуатации.
Для нас в России сегодня особенно актуально разобраться в том, как действует на всю систему этнических связей в нашем народе массированное внедрение в наше хозяйство институтов и обычаев западной рыночной экономики. В долгосрочном плане это воздействие гораздо важнее, нежели его прямой эффект на собственно хозяйственные результаты (ВВП, национальное богатство, распределение доходов и пр.). Ведь возможен вариант, что хозяйство на бывшей нашей территории станет эффективным, но русского народа не будет (как это произошло, например, с индейцами США).
Поэтому для нас важна история воздействия нового типа хозяйства, возникшего на Западе в бурный период ХVI – ХVIII вв. («современный капитализм»), на этногенез, на изменения в этническом типе населяющих Западную Европу народов. Это очень обширная тема, и здесь мы лишь покажем на частных примерах, как глубоко и обширно это воздействие.
Выше говорилось о том, что люди собираются в народ общим мировоззрением – шаблоном для этой сборки служит «центральная мировоззренческая матрица». Новый тип хозяйства заменил главные элементы этой матрицы, которая была у народов средневековой Европы. Хайдеггер определяет этот переход так: «Человеческая масса чеканит себя по типу, определенному ее мировоззрением. Простым и строгим чеканом, по которому строится и выверяется новый тип, становится ясная задача абсолютного господства над землей» [121, с. 311].
Протестантская Реформация и Научная революция произвели, благодаря их кооперативному эффекту, десакрализацию и дегуманизацию мира в мышлении человека Запада. Образ Космоса, в котором человек был связан невидимыми струнами с каждой частицей, разрушился. В мире, лишенном святости, стало возможным заменить многообразие, неповторимость качеств их количественной мерой, сделать несоизмеримые вещи соизмеримыми, заменить ценности их количественным суррогатом – ценой. Известен афоризм: Запад – это цивилизация, «которая знает цену всего и не знает ценности ничего» (еще сказано: «не может иметь святости то, что может иметь цену»). Прежде человек благословлял «в поле каждую былинку и в небе каждую звезду», теперь он их оценивал. Это два различных мировоззрения.
В новом типе экономической рациональности совершилось то, что немыслимо в традиционном хозяйстве – разделение слова и вещи. Знак отделился от вещи, как тень от хозяина, стал жить собственной жизнью. Возник знак, способный представлять все вещи – деньги. Он стал всеобщим эквивалентом. Но при замене ценности ценой лишились святости не только отношения человека с миром – то же самое произошло и в отношениях человека с человеком. Эти отношения лишились святости и стали разновидностью отношений человека с вещами.
Макс Вебер пишет: «Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяйства» [52, с. 315].
Это означало кардинальную пересборку этнических общностей – народы, соединенные «этикой религиозного братства» и взаимными обязательствами сословных общин (условно говоря, пахарей, воинов и жрецов), демонтировались, а из свободных индивидов (граждан) собирались нации. В этом превращении элементарной частицы этноса (из человека общинного в свободного индивида) и состоит сущность либерализма.
Индивид (атом) в мировоззренческом плане есть сущность механистическая, в хозяйственной сфере он – аналог «материальной точки» в механике. Известно, что политэкономическая модель Адама Смита является слепком с ньютоновской механиcтической картины мироздания. Этот механицизм пронизывает всю политэкономию. Кейнс отметил, что неоклассический вариант Маршалла помещает экономические явления внутрь «коперниканской системы, в которой все элементы экономического универсума находятся в равновесии благодаря взаимодействию и противовесам».
Очевидно, что в этой модели хозяйства движение реальных вещей полностью заменено движением меновых стоимостей, выражаемых деньгами. Всякие попытки «воссоединить слово с вещью» – ввести в экономическую теорию объективные, физические свойства вещей и духовную сущность людей, учесть несводимость их ценности к цене («несоизмеримость») сразу же вызывают резкую критику. Формализм противостоит субстантивизму принципиально.
Лауреат Нобелевской премии Ф. Содди, автор лекций «Картезианская экономика», прочитанных в 1921 г. в Лондонской экономической школе, показал в них, что монетаристская экономика неизбежно должна время от времени «уничтожать деньги» в форме финансовых кризисов, нанося тем самым тяжелые удары и по реальному (натуральному) хозяйству. В 1933 г., вспоминая о подчеркнутых Марксом словах У. Петти о том, что труд – отец богатства, а земля – его мать, Содди предположил, что «скорее всего, именно ученики пророка забыли указание на роль матери, пока им не освежило память упорство русских крестьян» [122, c. 165, 166]. Не странно ли, Содди посчитал упорство русских крестьян – особенность русского национального хозяйства – фундаментальным явлением, которое высветило конфликт между знаком и вещью, между монетой и природой, а мы, «ученики пророка», его слов не заметили и вряд ли поняли, что он имел в виду.
Вот факт несоизмеримости, который прямо показывает различие тех мировоззренческих матриц, на которых собираются народы при разных типах хозяйства: крестьяне арендовали землю по цене, намного превышающей доход от предмета аренды. Чаянов пишет: «Многочисленные исследования русских аренд и цен на землю установили теоретически выясненный нами случай в огромном количестве районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин перенаселенных губерний платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого предприятия» [106, с. 407]. Расхождения между доходом от хозяйства и арендной платой у крестьян были очень велики. Чаянов приводит данные для 1904 г. по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии арендная плата за десятину озимого клина составляла 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины озимого при экономичном посеве была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском уезде средняя арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины 2,7 руб.
Не будем здесь вдаваться в фундаментальные различия монетаристской экономики и реального хозяйства «ради жизни». Заметим только, что в крестьянском хозяйстве видна несводимость ценности земли к ее цене, и это – важная составляющая мировоззрения. Поэтому вопрос о земле в России всегда скрывал под собой вопрос о самом существовании русского народа с его существующим культурным генотипом.
Критикуя «справа» концепцию столыпинской реформы, консерватор («черносотенец») М.О. Меньшиков писал: «Договорами, покупкою, меною и пр., и пр. у народа постепенно будет отобрана земля – корень человеческого рода, постепенно затянута петлей свобода, самое дыхание народное. И тогда, при всевозможных хартиях вольностей и красноречивых конституциях народ станет неудержимо беднеть, превращаться в пролетариат, в живой мусор, удел которого – гниение» [123, с. 427].
Изъятие общинных земель и превращение их в предмет свободной купли-продажи – важный принцип демонтажа колонизируемых народов, устранения одного из важных типов этнической консолидации. Либеральный русский историк М.М. Ковалевский пишет, ссылаясь на французские документы: «Установление частной земельной собственности – необходимое условие всякого прогресса в экономической и социальной сфере. Дальнейшее сохранение общинной собственности «как формы, поддерживающей в умах коммунистические тенденции» (Дебаты Национального собрания, 1873), опасно как для колонии, так и для метрополии; раздел родового владения поощряется, даже предписывается, во-первых, как средство к ослаблению всегда готовых к восстанию порабощенных племен, во-вторых, как единственный путь к дальнейшему переходу земельной собственности из рук туземцев в руки колонистов. Эта политика неизменно проводится французами при всех свергающих друг друга режимах, начиная с 1830 г. до настоящего времени. Средства иногда меняются, цель всегда одна и та же: уничтожение туземной общинной собственности и превращение ее в предмет свободной купли-продажи и тем самым облегчение конечного перехода ее в руки французских колонистов. На заседании 30 июня 1873 г. при обсуждении нового законопроекта депутат Эмбер сказал: «Представленный на ваше обсуждение проект является лишь завершением здания, фундамент которого заложен целым рядом распоряжений, декретов и законов, которые все сообща и каждый в отдельности преследуют одну и ту же цель – установление у арабов частной земельной собственности»…
Большинство французских скупщиков земли вовсе не намерено было заниматься земледелием; они спекулировали лишь на перепродаже земли; покупка по смехотворным ценам, перепродажа по относительно высокой цене – казались выгодным помещением их капиталов» (цит. по [124]).
В других формах, но с той же целью предполагалось изъятие земли славянских народов СССР гитлеровскими стратегами. Как говорил А. Розенберг, высшая цель войны против Советского Союза заключалась в том, чтобы «оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы». Одно из средств достижения этой цели сам Гитлер излагал так: «Коренных жителей вытесним в болота Припяти, чтобы самим поселиться на плодородных равнинах… Мы совершенно не обязаны испытывать какие-либо угрызения совести… Едим же мы канадскую пшеницу, не думая об индейцах…Стоит лишь одна задача: осуществить германизацию путем ввоза немцев, а с коренным населением обойтись как с индейцами… Нам придется прочесывать территорию, квадратный километр за квадратным километром, и постоянно вешать [людей]. Это будет настоящая индейская война…» (цит. по [125, с. 178–182]).
Межсословный раскол русского народа между крестьянством и помещиками был связан с землей. С середины 90-х годов XIX века «миры» крестьян и помещиков стали быстро расходиться к двум разным полюсам жизнеустройства: крестьянство становилось все более «общинным», а помещики – все более капиталистами. Крестьяне строили «хозяйство ради жизни», а помещики – «хозяйство ради прибыли». Крестьяне считали, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, и требовали уравнительного передела земли с помещиками по «трудовой норме». Помещики же были проникнуты идеей частной собственности на землю. Возникла взаимная ненависть, которую усугубила столыпинская реформа. Историки приводят показательные сравнения России и Пруссии: немецкие крестьяне, в отличие от русских, не испытывали к своему помещику-юнкеру острой неприязни, его страсть к наживе была оправдана общей для них протестантской этикой и общим почтением к частной собственности. Но характер земельной собственности и землепользования – лишь пример того, как элемент хозяйственной системы действует на связи, соединяющие людей в народ. А таких элементов множество, и они несут мировоззренческую нагрузку.
На Западе понятие человека-атома дало и новое представление о частной собственности как естественном праве. Основатель «идеологии» Дестют Де Траси писал: «Природа наделила человека неизбежной и неотчуждаемой собственностью, собственностью на свою индивидуальность… «Я» – исключительный собственник тела, им одушевляемого, органов, приводимых им в движение, всех их способностей, всех сил и действий, производимых ими..; и никакое другое лицо не может пользоваться этими же самыми орудиями» (цит. в [42, с. 216]).
Именно исходное ощущение неделимости индивида, его превращения в особый, автономный мир породило глубинное чувство собственности, приложенное сначала к собственному телу. Произошло отчуждение тела от личности и его превращение в собственность. До этого понятие «Я» включало в себя и дух, и тело как неразрывное целое. Теперь стали говорить «мое тело» – это словосочетание появилось в языке недавно, лишь с возникновением рыночной экономики. В мироощущении русских, которые не пережили такого переворота, этой проблемы как будто и не стояло – а на Западе это один из постоянно обсуждаемых вопросов[81].
В хозяйстве превращение тела в собственность дало возможность свободного контракта на рынке труда (превращения рабочей силы в товар). Поскольку индивид – собственник своего тела (а раньше его тело принадлежало частично семье, общине, народу), постольку теперь он может уступать его по контракту другому как рабочую силу. Так возник человек экономический, homo economicus, который создал рыночную экономику[82].
К. Поланьи, описывая процесс становления капитализма в Западной Европе, отмечал, что речь шла о «всенародной стройке», что главные идеи нового порядка были приняты народом. Он писал: «Слепая вера в стихийный процесс овладела сознанием масс, а самые «просвещенные» с фанатизмом религиозных сектантов занялись неограниченным и нерегулируемым реформированием общества. Влияние этих процессов на жизнь народов было столь ужасным, что не поддается никакому описанию. В сущности, человеческое общество могло погибнуть, если бы предупредительные контрмеры не ослабили действия этого саморазрушающегося механизма» (цит. в [126, с. 314].
Говоря об отношении к собственности в русской культуре, Бердяев отмечает важную особенность: «Русские суждения о собственности и воровстве определяются не отношением к собственности как социальному институту, а отношением к человеку… С этим связана и русская борьба против буржуазности, русское неприятие буржуазного мира… Для России характерно и очень отличает ее от Запада, что у нас не было и не будет значительной и влиятельной буржуазной идеологии» [18]. В средневековой Руси до позднего времени «кража для того, чтобы накормить гостя, не считалась преступлением».
Совсем по-иному, нежели на Западе, менялся социальный статус в зависимости от собственности. В России богатые ремесленники и купцы часто оставались в крепостной зависимости от своих помещиков еще и в ХIХ веке. А в Англии уже раннефеодальной эпохи автоматически присваивалось дворянское звание купцу, «три раза переплывшему море за свой счет». В ХIII и ХIV вв. королевские приказы обязывали всех лиц с годовым земельным доходом в 20 (а в один год даже в 15) фунтов принимать рыцарское звание [94, с. 260].
Тяга к накоплению собственности была в России предосудительной, в этом Макс Вебер видел главное препятствие развитию капитализма. Достоевский писал в «Дневниках писателя» (1876–1877): «Я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, чем поклоняться немецкому способу накопления богатств. Здесь везде у них в каждом дому свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Все работают как волы и копят деньги, как жиды. Лет через 50 или 70 внук первого фатера передаст сыну значительный капитал, тот своему, тот своему, и поколений через 5–6 выходит сам барон Ротшильд. Право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом» (см. [94, с. 260]).
Система хозяйственных связей, соединяющих в этнос людей, проникнутых «духом капитализма», настолько отличается от систем других народов, что на обыденном уровне западный «экономический человек» часто бывает уверен, что вне капитализма вообще хозяйства нет. Есть какая-то странная суета, но хозяйством ее назвать никак нельзя. Это можно слышать сегодня в отношении и Советского Союза, и нынешней РФ. Но это же приходилось слышать и в конце ХIХ в.
А.Н. Энгельгардт в «Письмах из деревни» рассказывает: «Один немец – настоящий немец из Мекленбурга – управитель соседнего имения, говорил мне как-то: «У вас в России совсем хозяйничать нельзя, потому что у вас нет порядка, у вас каждый мужик сам хозяйничает – как же тут хозяйничать барину. Хозяйничать в России будет возможно только тогда, когда крестьяне выкупят земли и поделят их, потому что тогда богатые скупят земли, а бедные будут безземельными батраками. Тогда у вас будет порядок и можно будет хозяйничать, а до тех пор нет» [127, с. 341].
Смена типа народного хозяйства ведет к изменениям во всех составляющих культурного ядра этноса, что и означает его перестройку, пересборку системы связей. Вот наглядная сторона национальной культуры – музыка и театр. Возникновение современного капитализма в странах, переживших протестантскую Реформацию, сразу привело к глубоким, иногда неожиданным сдвигам в этой сфере. На это обращает внимание М. Вебер: «Известен упадок, который претерпела в Англии не только драма, но и лирика, и народная песня в послеелизаветинскую эпоху. Что касается изобразительного искусства, то здесь пуританам, пожалуй, мало что пришлось искоренять. Примечателен, однако, переход от довольно высокого уровня музыкальной культуры (роль Англии в истории музыки отнюдь не была лишена значения) к тому абсолютному ничтожеству, которое обнаруживается у англосаксонских народов в этой области впоследствии и сохраняется вплоть до настоящего времени. Если отвлечься от негритянских церквей и тех профессиональных певцов, которых церкви теперь приглашают в качестве attractions – приманки (Trinity church в Бостоне в 1904 г. выплачивала им 8 тыс. долл. в год), – то и в американских религиозных общинах большей частью можно услышать лишь совершенно невыносимый для немецкого слуха визг. (Частично это относится и к Голландии.)» [52, с. 261–262].
Далее он пишет о театре: «Напомним, что пуританский муниципалитет Стратфорда-на-Эйвоне закрыл там театр еще при жизни Шекспира, во время его пребывания в этом городе в последние годы жизни. (Свою ненависть и презрение к пуританам Шекспир высказывал при каждом удобном случае.) Еще в 1777 г. власти Бирмингема не разрешили открыть театр в этом городе, мотивируя свое решение тем, что театр способствует «лени» и, следовательно, наносит ущерб торговле» [52, с. 263].
Разумеется, подобные изменения наблюдаются в моменты кризиса, вызванного перестройкой культурного ядра. Затем, когда культура адаптируется к новой структуре человеческих отношений, положение восстанавливается на новом уровне – в Англии появляется и новая лирика, и театр, и «Битлз». Однако из этнологии мы знаем, что этнические особенности сохраняются и после того, как исчезли причины, их породившие.
Если пробежать перечень тех главных «институциональных матриц», на которых базируется жизнеустройство народа, то мы увидим, что возникновение западного капитализма сразу повлекло за собой изменения всех систем, обеспечивающих структуру и характер этнической общности. Вот, современный капитализм принес с собой два общественных института – частную собственность и рынок рабочей силы. Казалось бы, речь идет об изменении хозяйственных отношений, а народ остается прежним. На деле возникновение этих двух институтов означает изменение почти всех механизмов, формирующих и «воспроизводящих» народ – тех чеканов, по выражению Хайдеггера, которыми были отштампованы англо-саксонские народы Нового времени.
Вот самые наглядные и очевидные изменения, которые произошли в ХVI – ХVIII веках: разрыв общинных связей (и прежде всего связей «религиозного братства») и принятие нового представления о человеке (свободный индивид в состоянии непрерывной конкуренции); устранение сословного общества с его устойчивым и установленным доступом каждой социальной группы к части национального богатства и собственности, разделение народа как «семьи» сословий на две расы – расу богатых и расу бедных, собственников и пролетариев, избранных и отверженных; превращение патерналистского государства (все подданные – любимые дети монарха) в «ночного сторожа», регулирующего войну всех против всех; превращение школы университетского типа, воспроизводящей в новом поколении культурное ядро народа, в «школу двух коридоров» (один для избранных, другой для отверженных), воспроизводящую классы («расы»).
Английский историк и философ Т. Карлейль писал (1843): «Поистине, с нашим евангелием маммоны мы пришли к странным выводам! Мы говорим об обществе и все же проводим повсюду полнейшее разделение и обособление. Наша жизнь состоит не во взаимной поддержке, а, напротив, во взаимной вражде, выраженной в известных законах войны, именуемой «разумной конкуренцией» и т. п. Мы совершенно забыли, что чистоган не составляет единственной связи между человеком и человеком. «Мои голодающие рабочие?» – говорит богатый фабрикант. – «Разве я не нанял их на рынке, как это и полагается? Разве я не уплатил им до последней копейки договорной платы? Что же мне с ними еще делать?» Да, культ маммоны воистину печальная вера» (цит. по [62, с. 580]).
Те беды, которые пережила Россия в Новое время и переживает сейчас, на заре постмодерна, во многом были вызваны тем, что господствующее меньшинство в его программах модернизации России постоянно пыталось применить западный чекан, чтобы отштамповать им существенно иной этнический материал (прежде всего, русских). Это наносило народу России тяжелые травмы, зачастую сводило на нет результаты реформ и порождало сопротивление, не раз принимавшее разрушительный характер. И в этом стремлении российская правящая элита проявляла упорство, которого не наблюдается у авторов проектов модернизации в цивилизациях Востока (Японии, Китае, Индии).
Поразительно, что даже сегодня, имея опыт тяжелого ХХ века, имея доступ к результатам весьма развитой антропологии и этнологии (и даже имея в этой области сообщество отечественных ученых), российская власть, правящий слой и в целом все общество проявляют крайнее невежество в отношении России как этнической системы. Невежество и равнодушие к этой стороне дела.
Во многом это – следствие евроцентризма, навеянного европейским образованием, в котором формировалась наша интеллигенция начиная с конца ХVIII века, а также следствие того универсализма, которым проникнуты главные идеологические учения Просвещения, либерализм и марксизм. Формационный подход, принятый в историческом материализме, утвердил догму, согласно которой «промышленно более развитые страны показывают менее развитым их будущее». За образец общего для всех будущего Маркс взял при этом Англию – этническую культуру, необычную даже для всего Запада. И либералы, и марксисты были уверены, что индустриализация стирает этнические различия, устраняет этнизирующее воздействие хозяйственных укладов.
Этот взгляд отвергали антропологи, а теперь даже и видный либеральный философ К. Леви-Стросс так квалифицирует эту позицию: «Все эти спекулятивные рассуждения сводятся фактически к одному рецепту, который лучше всего можно назвать фальшивым эволюционизмом. В чем он заключается? Речь идет, совершенно четко, о стремлении устранить разнообразие культур – не переставая приносить заверения в глубоком уважении к этому разнообразию. Ведь если различные состояния, в которых находятся человеческие общества, удаленные как в пространстве так и во времени, рассматриваются как этапы единого типа развития, исходящего из одной точки и должного соединиться в одной конечной модели, то совершенно ясно, что разнообразие – не более чем видимость. Человечество становится однородным и идентичным самому себе, и признается лишь, что эта его однородность и самоидентичность могут быть реализованы постепенно. А значит, разнообразие культур отражает лишь ситуацию момента и маскирует более глубокую реальность или задерживает ее проявление» [26, с. 310–311].
Английский либеральный философ Дж. Грей пишет: «Рыночные институты вполне законно и неизбежно отличаются друг от друга в соответствии с различиями между национальными культурами тех народов, которые их практикуют. Единой или идеально-типической модели рыночных институтов не существует, а вместо этого есть разнообразие исторических форм, каждая из которых коренится в плодотворной почве культуры, присущей определенной общности. В наши дни такой культурой является культура народа, или нации, или семьи подобных народов. Рыночные институты, не отражающие национальную культуру или не соответствующие ей, не мoгут быть ни легитимными, ни стабильными: они либо видоизменятся, либо будут отвергнутыми теми народами, которым они навязаны» [6, с. 114].
На деле индустриальное развитие вовсе не приводит к культурной конвергенции и стиранию различий. Этнологическое изучение, в течение последних 30 лет, промышленного развития ряда стран Юго-Восточной Азии позволило американскому антропологу В. Брандту прийти к выводу, что «культурные различия остаются решающими на основных уровнях человеческого взаимодействия, придавая якобы универсальным последствиям модернизации вид, согласующийся с местной культурной конфигурацией» [30, с. 36]. Культурные различия народов – вот решающее условие развития, а вовсе не имитация чужих методов.
К удивлению этнографов, даже нивелирующее действие американского образа жизни не стирает этнической окраски хозяйственных предпочтений разных групп иммигрантов. У разных этнических групп в США наблюдается некоторая профессиональная специализация. Например, среди иммигрантов-немцев относительно велика доля фермеров, среди выходцев из Англии много горняков, среди итальянцев – строителей, поляков особенно много в автомобильной промышленности, а среди греков много кондитеров.
От исторического материализма восприняла уже советская интеллигенция склонность к обобщениям хозяйственных понятий и категорий, которые устраняли именно их особенное национальное содержание. Если человек получает зарплату, значит, он – наемный работник, продает свою рабочую силу на рынке труда. Плановая советская система этот рынок деформирует, надо ее устранить. А то, что зарплата может иметь характер жалованья, выдаваемого не как рыночная цена, а как довольствие служащему человеку, как содержание его и его семьи, доходило с трудом.
Такими обобщениями, которые настолько обедняли модель, что искажали и самое общее, полны труды Маркса и Энгельса, на которых и воспитывалась советская интеллигенция. Много у них говорилось и о русской общине – одном из важнейших институтов, отличавших русский тип хозяйства. Маркс пишет (1868): «В этой общине все абсолютно, до мельчайших деталей, тождественно с древнегерманской общиной. В добавление к этому у русских… во-первых, не демократический, а патриархальный характер управления общиной и, во-вторых, круговая порука при уплате государству налогов и т. д… Но вся эта дрянь идет к своему концу» [128].
Но в момент написания этого письма было известно принципиальное отличие русской общины от древнегерманской. У русских земля была общинной собственностью, так что крестьянин не мог ни продать, на заложить свой надел (после голода 1891 г. общины по большей части вернулись к переделу земли по едокам), а древнегерманская марка была общиной с долевым разделом земли, так что крестьянин имел свой надел в частной собственности и мог его продать или сдать в аренду.
Ниоткуда не следовало в 1868 г., что русская община, «вся эта дрянь», идет к своему концу. Возможность русской общины встроиться в индустриальную цивилизацию еще до народников предвидели славянофилы. А.С. Хомяков видел в общине именно цивилизационное явление – «уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории» – и считал, что община крестьянская может и должна развиться в общину промышленную. О значении общины как учреждения для России он писал: «Отними его, не останется ничего; из его развития может развиться целый гражданский мир». Еще более определенно высказывался Д.И. Менделеев, размышляя о выборе для России такого пути индустриализации, при котором она не попала бы в зависимость от Запада: «В общинном и артельном началах, свойственных нашему народу, я вижу зародыши возможности правильного решения в будущем многих из тех задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное предпочтение» (см. [12, с. 169, 343–344]).
Так оно и произошло – русские крестьяне, вытесненные в город в ходе коллективизации, восстановили общину на стройке и на заводе в виде «трудового коллектива». Именно этот уникальный уклад со многими крестьянскими атрибутами (включая штурмовщину) во многом определил «русское чудо» – необъяснимо эффективную форсированную индустриализацию СССР.
Невежество и равнодушие в отношении особенностей отечественного народного хозяйства проявилось у нашей интеллигенции и в отношении той системы народного хозяйства, которая сложилась в советский период. Это система самобытного этнического хозяйства, которая была создана советским народом. Другой такой же системы не возникло нигде, хотя отдельные ее элементы использовались и на Западе, и на Востоке.
Обществоведение описало советское хозяйство на языке политэкономии марксизма. Этот язык был неадекватен объекту, ибо политэкономия марксизма была создана на материале специфического (этнического) хозяйства Англии, то есть даже не на материале более широкой системы рыночной экономики Запада. Даже в отношении Германии модель Маркса годилась с большими натяжками, в отношении же советской России ее описание и предсказания были совершенно ложными.
О. Шпенглер писал: «Вся английская машинная промышленность была создана в интересах торговли. Она явилась средством поставлять дешевый товар… Вся борьба в английской промышленности между предпринимателями и рабочими в 1850 году происходила из-за товара, называемого трудом, который одни хотели дешево приобрести, а другие дорого продать. Все то, о чем с гневным изумлением говорит как о продуктах «капиталистического общества» Маркс, на деле относится лишь к английскому, а не к общечеловеческому хозяйственному инстинкту…
Он [Маркс] знал сущность труда только в английском понимании, как средство стать богатым, как средство, лишенное нравственной глубины, ибо только успех, только деньги, только ставшая видимой милость Бога приобретала нравственное значение… Такая этика владеет экономическими представлениями Маркса. Его мышление совершенно манчестерское… Труд для него – товар, а не «обязанность»: таково ядро его политической экономии… Марксизм – это капитализм рабочего класса. Вспомним Дарвина, который духовно так же близок Марксу, как Мальтус и Кобден. Торговля постоянно мыслилась как борьба за существование. В промышленности предприниматель торгует товаром «деньги», рабочий физического труда – товаром «труд»» [85, с. 78, 118–120].
Приняв как догму главные постулаты политэкономии, советское обществоведение сделалось нечувствительным к особенностям национального русского хозяйства (и тем более хозяйства других народов СССР). И хотя в советской этнографии применялось понятие «хозяйственно-культурного типа», оно имело скорее региональный, нежели этнический смысл[83]. Оно было обращено в древность и не применялось к анализу народного хозяйства современного СССР (это видно по использованию этого понятия в книге Ю.В. Бромлея [34]. То, что писали историки, казалось имеющим мало отношения к советской экономической реальности, так что в общем образованные люди мало знали и о казенной российской промышленности, и об артели и крестьянской общине, и о кооперативном движении, и тем более о пятилетних планах развития, которые готовило Министерство путей сообщения. Книга Л.В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» (М.: Росспэн, 1998), содержащая совершенно необходимые для понимания хозяйственной истории России сведения, стала для подавляющего большинства читателей откровением.
В целом мы подошли к перестройке, не зная и не понимая сущности советской хозяйственной системы, ее особенностей, слабых мест и достижений. Серьезно изучать ее раньше стали в США, чем в СССР. Американский антрополог Дж. Дальтон пишет, что до 1930 г. в США изучали экономику русских лишь с целью обосновать тезис о том, что замена рыночной системы на плановую неминуемо приведет к катастрофе. Но затем, по словам Дальтона, ее стали изучать всерьез, обучаясь методам государственного регулирования [119]. А у нас понемногу начинают изучать ее только сейчас.
Очевидно, что особенностью русского хозяйства с его «круговой порукой» был приоритет «общего дела», и прежде всего обеспечения обороны. Эта сторона хозяйства, вместе с общинными механизмами, непрерывно формировала и воспроизводила великорусский этнос. В новейшее время можно даже сказать, что «ВПК сформировал современный русский народ».
И.Л. Солоневич пишет: «Московская Русь платила поистине чудовищную цену в борьбе за свое индивидуальное «я» – платила эту цену постоянно и непрерывно… Можно предположить, что при московских геополитических условиях Америка просто перестала бы существовать как государственно-индивидуальное «я». Оборона этого «я» и с востока, и с запада, и с юга, оборона и нации, и государства, и религии, и «личности», и «общества», и «тела», и «души» – все шло вместе… Вопрос заключался в том, что быть одинаково хорошо организованным во всех направлениях есть вещь физически невозможная. Говоря грубо схематически, стоял такой выбор: или строить шоссе под Москвой, или прокладывать Великий Сибирский путь. Тратить «пятую» или даже «третью деньгу» на «внутреннее благоустройство» или вкладывать ее в оборону национального «я» [11, с. 478–479].
Но к концу ХХ в. этот очевидный этнизирующий фактор как-то сумели вытравить из сознания новых поколений. Люди утратили понимание даже этой стороны советского хозяйства. Насколько оно было необычным и как трудно было разобраться в нем западным специалистам, говорит такой факт. Видный российский эксперт по проблеме военных расходов В.В. Шлыков пишет, на основании заявлений руководства ЦРУ США: «Только на решение сравнительно узкой задачи – определение реальной величины советских военных расходов и их доли в валовом национальном продукте (ВНП) – США, по оценке американских экспертов, затратили с середины 50-х годов до 1991 года от 5 до 10 млрд. долларов (в ценах 1990 года), в среднем от 200 до 500 млн. долларов в год… Один из руководителей влиятельного Американского предпринимательского института Николас Эберштадт заявил на слушаниях в Сенате США 16 июля 1990 года, что «попытка правительства США оценить советскую экономику является, возможно, самым крупным исследовательским проектом из всех, которые когда-либо осуществлялись в социальной области»» [130].
Подумайте только – для правительства США попытка оценить советскую экономику обошлась в миллиарды долларов и стала «возможно, самым крупным исследовательским проектом из всех, которые когда-либо осуществлялись в социальной области» – а нас особенности собственного хозяйства не интересовали. Наша интеллигенция только считала хорошим тоном над ним издеваться.
Сейчас мы за это расплачиваемся полной мерой – народное хозяйство России реформаторы ломают так, чтобы прежде всего уничтожить его специфическую компоненту – именно ту, которая воспроизводит этнические черты советского народа и его ядра, русского народа.
Глава 20. Сохранение народа
В предыдущих главах мы говорили о созидании народов. С ним связано, но и является самостоятельной задачей сохранение народа. Одним из губительных следствий господства примордиализма стала неявная убежденность, что народ, когда-то возникнув (по воле Бога или под влиянием космических сил, пассионарного толчка и др.), не может пропасть. Для его исчезновения требуются по меньшей мере подобные по силе проявления божественных или природных воздействий – такого масштаба, что мысли и дела самих людей повлиять на это не могут.
Это представление принципиально ложно. Философ Ортега-и-Гассет сказал о кризисе Испании, что причина его в странном явлении – испанцы как-то забыли, что жизнь сама по себе требует непрерывных усилий по ее осмыслению и сохранению. Это – особый труд, требующий ума, памяти, навыков и упорства. Как только этот труд перестают выполнять, жизнь деградирует, иссякает и утрачивается. Он говорил о личности, но еще важнее эта мысль в отношении народа. Народ жив, пока все его части – власти, воины, поэты и обыватели – непрерывно трудятся ради его сохранения. Одни охраняют границы, другие возделывают землю, не давая ей одичать, третьи не дают разрастись опухоли преступности. Все вместе берегут и ремонтируют центральную мировоззренческую матрицу, хозяйство, тип человеческих отношений. Кто-то должен строго следить за «универсумом символов» – осторожно обновлять его, заменяя изношенные части, охранять от плесени и вирусов.
Эту работу иногда представляют как непрерывное строительство, как постоянное созидание этнических и национальных связей между людьми. Например, Эрнест Ренан сказал в 1882 г., что «нация – это каждодневный плебисцит». В том смысле, что все граждане каждодневно принимают совместное решение по главным вопросам жизни нации. И уклониться от голосования нельзя, связи граждан в нацию от этого слабеют.
Такой взгляд надо дополнить указанием на то, что созидание и сохранение – задачи все же во многом разные. Здесь таится опасность ошибки. Возникает иллюзия, что каждодневное применение тех самых инструментов, при помощи которых был собран народ, гарантирует и его сохранение. На деле это не так, в чем мы могли не раз убедиться. И окружающий мир, и сам народ непрерывно изменяются. Значит, должны меняться и инструменты, и навыки. Это процесс творческий и чреватый множеством конфликтов. И попытка его «заморозить» (консерватизм), и попытка его радикально «освободить» («убрать все завалы на его пути», как выражался Горбачев) могут привести к катастрофическому ослаблению или разрыву связей.
Дж. Комарофф формулирует важный общий вывод: «Условия, порождающие социальное самосознание, не обязательно совпадают с теми, что поддерживают его существование»[84] [2, с. 43]. Можно сказать жестче: условия, в которых был порожден народ, обязательно не совпадают с теми, которые необходимы для его сохранения. Народ, как и любая большая система, может или развиваться – или деградировать. Сохраняться в застое он не может.
В этом смысле схожа судьба складывающейся нации Российской империи и вполне уже сложившегося советского народа. Обе эти суперэтнические общности обладали большой энергией развития и переживали период быстрого этногенеза. Но социальные и культурные условия это развитие тормозили – и начался распад связей, который был использован заинтересованными политическими силами (антиимперскими в прошлом и антисоветскими в наше время) для активного демонтажа народа. Видимым ферментом и активным агентом демонтажа в обоих случаях была интеллигенция. Она «растлевала» народ, ставила под сомнение устои старого порядка, чем заслужила ненависть консерваторов.
В.В. Розанов сказал в 1913 г.: «Пока не передавят интеллигенцию – России нельзя жить» [131]. Розанова можно понять, но его консерватизм непродуктивен. Народ растлевался потому, что старые «институциональные матрицы» уже не отвечали потребностям развития – ни сословное землевладение в сельском хозяйстве, ни периферийный капитализм в промышленности, ни «православие, самодержавие, народность» в идеологии[85]. В начале ХХ века кризис был взорван «снизу», и в России оказалось достаточно организованных сил, чтобы произвести пересборку народа и подгонку отвечающих его чаяниям условий. При назревании очередного кризиса в конце ХХ века инициатива была перехвачена альянсом «верхов» (номенклатуры), «низов» (преступного мира) и внешних сил (геополитических противников СССР). А ферментом и агентом снова выступила интеллигенция. Сохранение народа не обеспечивается.
Роль консервативного начала в кризисе связей этнической общности видна, конечно, гораздо меньше, чем роль активных агентов изменений. Но для понимания сути кризиса надо видеть их взаимосвязь. Консерватизм подавляет способность общности адаптироваться к неизбежным внешним воздействиям, отвечать на вызовы. Так блокируется одна из сил созидания, прекращается «каждодневный плебисцит». Чаще всего вызовом становится нечто, исходящее от иной этнической общности (племени, народа, нации). Вторжение может происходить в самой разной форме – групп иммигрантов (или колонизаторов), чужих вещей и товаров, идей и художественных стилей.
Антрополог и культуролог А. Леруа-Гуран представил этот процесс в общем виде, годящемся и для племени, и для западного влияния сегодня. Для него этнические группы – это «сгустки» культуры, обладающие самобытностью. Концентрация культуры и происходит потому, что группа вынуждена сплачиваться под воздействием внешнего воздействия иных: «Именно чтобы избежать этого разлагающего воздействия, каждая группа делает непрерывные усилия сохранить свое внутреннее сцепление, и в этом-то усилении она и приобретает черты более или менее личные». Если равновесие нарушается и группа не может ассимилировать посторонние элементы, она «теряет свою индивидуальность и умирает», то есть утрачивает свою этническую обособленность [23, с. 195]. Сохранение этнической общности достигается лишь при определенном соотношении устойчивости и подвижности.
Непосредственная опасность гибели возникает вследствие избыточной подвижности, которая нередко возникает после периода застоя. Леруа-Гуран важное место отводит механизмам, которые он называет инерцией и пережитками. Это необходимые средства для сохранения народа. Он пишет: «Инерция по-настоящему бывает видна лишь тогда, когда [этническая] группа отказывается ассимилировать новую технику, когда среда, даже и способная к ассимиляции, не создает для этого благоприятных ассоциаций. В этом можно было бы видеть самый смысл личности группы: народ является самим собою лишь благодаря своим пережиткам»[86].
Едва ли не важнее для нас другая мысль Леруа-Гурана: именно пережитки («традиция») являются и условием подвижности народа. Это тот фонд, который позволяет следующему поколению народа сэкономить силы и средства для освоения главных новшеств и ответить на вызов: «Роль традиций состоит в том, чтобы передавать следующему поколению весь технический массив целиком, избавляя его (поколение) от бесполезных опытов, и эта роль с избытком выполнена, когда сын овладевает всеми средствами отца. Они придают его деятельности ту личность, которая подобает группе, но он не сочтет себя изменником, если станет улучшать полученное наследство».
Значение традиции как непременного условия сохранения этноса доказывали антропологи самых разных школ и направлений. Можно сказать, что они, рассматривая проблему под разными углами зрения, вывели «общий закон» этнологии. Один из основоположников социальной антропологии Б. Малиновский писал о роли традиций: «Традиция с биологической точки зрения есть форма коллективной адаптации общины к ее среде. Уничтожьте традицию, и вы лишите социальный организм его защитного покрова и обречете его на медленный, неизбежный процесс умирания» [50, с. 246]. Отсюда, кстати, выводится общее правило уничтожения народов: хочешь стереть с лица земли народ – найди способ системного подрыва его традиций.
Массированное вторжение новшеств, разрушающих традицию (рутину), создает угрозу для существования этноса. Леруа-Гуран делает совершенно определенный вывод: «Жизнеспособность этноса основывается на рутине, а завязавшийся диалог создает равновесие между рутиной и прогрессом: рутина символизирует капитал, необходимый для жизнеспособности группы, а прогресс – вторжение индивидуальных инноваций для улучшения жизнеспособности» [23, с. 207].
Инерция культуры, сохранение традиции, которое часто кажется нерациональным или даже абсурдным, есть выработанный историческим опытом, обычно неосознанный способ сохранить жизнеспособность этноса. В.А. Тишков пишет о его проявлении, которое подметили все, кто строил в 90-е дом или дачу в деревне: До начала 1990-х гг. почти все новые кирпичные дома в подмосковной деревне Гжель и в других деревнях строились по копии бревенчатой русской избы. Только в последнее десятилетие произошел прорыв в представлениях о жилом пространстве, и начали строиться дома другого, более разнообразного и просторного типа» [22].
Сохранение традиций и недопущение тотальных перестроек – залог сохранения народа. Сергей Есенин сказал:
Человек в этом мире не бревенчатый дом, Не всегда перестроишь наново.Тем более это можно сказать о народе. Перемена устоявшихся порядков – всегда трудный процесс, но когда господствующие политические силы начинают ломать всю систему жизнеустройства, это создает обстановку «гибели богов» и наносит народу столь тяжелую травму, что его сохранение ставится под вопрос.
Особенно опасна подвижность и радикальное нарушение рутины в межэтнических отношениях. Израильский социолог Я. Эзраи пишет: «Любопытный пример политического табу в области демографической статистики представляет Ливан, политическая система которого основана на деликатном равновесии между христианским и мусульманским населением. Здесь в течение десятилетий откладывалось проведение переписи населения, поскольку обнародование с научной достоверностью образа социальной реальности, несовместимого с фикцией равновесия между религиозными сектами, могло бы иметь разрушительне последствия для политической системы» [132, c. 211].
Любой кризис жизнеустройства народа затрагивает какой-то механизм созидания и воспроизводства связующих сил. Кризисы, как и болезни у человека – неизбежная и необходимая часть жизни народов. Но иногда кризис принимает такую конфигурацию, что обновление механизмов созидания подавляется, а ослабление и разрыв связей продолжается. Хорошо видимыми симптомами такого незаметного вначале распада большого народа служит обострение этнического чувства малых общностей – при ослаблении защитной силы большого народа люди мобилизуют этничность близкого окружения.
При этом происходит «разукрупнение» народов, они как бы возвращаются на уровень племенных союзов. Одновременно усиливается примордиализм этнического самоосознания, начинаются интенсивные поиски древних корней, споры о происхождении, попытки возрождения язычества. Элементы национального сознания народа вытесняются сознанием племенным. Леруа-Гуран сказал: «Народ – это в большей степени становление, чем прошлое». Тут очень важная мысль. Народ смотрит в будущее и непрерывно себя строит. Племя как продукт распада народа «смотрит в прошлое».
Такое воздействие кризиса в России наблюдается в этнических процессах во многих народах. Так, с 1970 по 1990 г. шел процесс сближения двух родственных этнических общностей мокша и эрзя в единый мордовский народ. В 1991 г. 61 % опрошенных посчитали их единым народом. Затем между ними стала нарастать психологическая дистанцированность, по выражению исследователей, «гораздо больше, чем «положено» иметь родственным в этническом отношении общностям» – в 2003 г. мокшан и эрзян посчитали единым народом лишь 52 % опрошенных. А среди студентов 61 % сейчас считают их двумя разными народами [133].
Важным является и расхождение, по ряду вопросов, между русскими и проживающими рядом с ними представителями других народов – хотя раньше таких расхождений и не предполагалось. Это вызвано обострением этнического сознания нерусских народов – при том, что такого обострения в среде русских не наблюдается. Например, в республике Коми у русских доминирует гражданское сознание, а у коми возникла этническая идентичность (хотя 37,7 % семей в республике межнациональные). В результате произошло расщепление региональной общности, у двух основных групп населения нарастает различие в структуре их идентичности. Это приводит и к ослаблению в целом связности населения в народ России. Как и в Мордовии, в ходе реформы началось расхождение между разными этническими группами коми. Например, северная группа этноса коми, ижемцы, которые занимались оленеводством, за советское время интегрировались в этнос, у них уже доминировало общее со всеми коми этническое самосознание. В 90-е годы произошла рекультивация локального самосознания коми-ижемцев и возникло стремление отдалиться от материнского этноса (в переписи 2002 г. более половины жителей Ижемского района записали себя как коми-ижемец) [134].
Жизнеустройство любого народа самобытно, оно опирается на институциональные матрицы, которые складываются исторически в зависимости от природной среды, внешних условий, культуры народа и доступности ресурсов[87]. Например, сеть железных дорог складывалась в России совсем иначе, чем в США. В России эта сеть напоминает «скелет рыбы», и отдельные «кости» не конкурировали друг с другом, а были включены в единую систему, в управлении которой очень большую роль играло государство. Совершенно по-иному, чем на Западе, сложилось уже в Советском Союзе, теплоснабжение городов, так что урбанизация, которая была осуществлена в стране в 60—70-е годы, уже задала нам еще одну матрицу, к которой люди не просто привыкли, но и не могут от нее «оторваться».
Переплетаясь друг с другом, эти матрицы (хозяйство и школа, здравоохранение и армия, искусство и СМИ) «держат» страну и культуру и более или менее жестко задают то пространство, в котором страна существует и развивается – на них воспроизводится народ. Они обладают большой инерцией, так что замена их на другие, даже действительно более совершенные, всегда требует больших затрат и непредвиденных потерь.
Попытки перенести к нам большую техническую и социокультурную систему, которая хорошо зарекомендовала себя в других условиях у других народов, очень часто заканчиваются крахом или сопряжены с тяжелыми потрясениями. Попытка в начале ХХ века насильственно разрушить крестьянскую общину в России и превратить крестьян в «свободных фермеров» и сельскохозяйственных рабочих послужила катализатором революции 1917 г. Она за семь лет так расшатала систему этнических связей в русском народе, что в Гражданской войне русские убивали друг друга как враждебных чужих.
Подобная попытка превратить колхозных крестьян в фермеров привела к глубокому кризису сельского хозяйства. Да и первая волна коллективизации в СССР, когда в качестве матрицы была взята технико-социальная система киббуцев, также привела к тяжелейшему кризису, а при смене модели кооператива процесс пошел успешно.
После 1991 г. в России была провозглашена программа изменения всех институциональных матриц. Реформы в России стали огромной программой имитации Запада. Это – важный симптом упадка этнического самосознания. К имитации, которой заменяется собственная традиция и творчество, скатываются культуры, оказавшиеся неспособными ответить на вызов времени. Имитация часто принимает карикатурные формы. Так вожди гавайских племен при контактах с европейцами обзавелись швейными машинками, в которых видели символ могущества – и эти машинки красовались перед входом в их шалаши, приходя в негодность после первого дождя.
Имитируют подходы и структуры передовых чужеземцев: имитация всегда сопряжена с низкопоклонством. Казалось бы, всегда можно найти объект для имитации и в собственном прошлом, наполнить творческим содержанием свою традицию. Нет, имитатор, подавляющий разум и творчество соотечественников, вынужден быть антинациональным (и наоборот – утрата национального чувства толкает к мышлению имитатора).
Когда во время перестройки имитация Запада стала принципиальным выбором, она превратилась в одно из главных средств демонтажа народа через систематическое отрицание традиций. Л. Пияшева писала в 1990 г.: «Когда я размышляю о путях возрождения своей страны, мне ничего не приходит в голову, как перенести опыт немецкого «экономического чуда» на нашу территорию… Моя надежда теплится на том, что выпущенный на свободу «дух предпринимательства» возродит в стране и волю к жизни, и протестантскую этику». Здесь вера в имитацию сопряжена, как это часто бывает, с невежеством – возродить в православной России протестантскую этику!
В 90-е годы реформаторы ввели в наших городах английскую должность мэра, французскую должность префекта и немецкую должность статс-секретаря. Время от времени говорят и об имитационном проекте создания в РФ «двухпартийной» политической системы, как это и принято в «цивилизованных» странах.
Пробегите мысленно все стороны жизнеустройства – везде реформаторы пытались и пытаются переделать те системы, которые сложились в России и СССР, по западным образцам. Сложилась, например, в России своеобразная школа. Она складывалась в длительных поисках и притирке к культурным традициям народа, с внимательным изучением зарубежного опыта. Результаты ее были не просто хорошими, а именно блестящими, что было подтверждено множеством исследователей и Запада, и Востока. Нет, эту школу было решено кардинально изменить, перестроив по специфическому шаблону западной школы.
Сложился в России, примерно за 300 лет, своеобразный тип армии, отличный от западных армий с их традицией наемничества (само слово «солдат» происходит от латинского «soldado», что значит «нанятый за определенную плату»). Никаких военных преимуществ контрактная армия не имеет, отечественные войны всегда выигрывает армия по призыву, которая выполняет свой священный долг. Такая армия стране и народу нужна и сейчас – но ее сразу стали ломать и перестраивать по типу западной наемной армии (даже ввели нашивки с угрожающими символами – хищным орлом, оскаленным тигром – то, что всегда претило русской военной культуре).
Сложилась в России, с середины ХIХ века, государственная пенсионная система, отличная и от немецкой, и от французской. Потом, в СССР, она была распространена на всех граждан, включая колхозников. Система эта устоялась, была всем понятной и нормально выполняла свои явные и скрытые функции – нет, ее сразу стали переделывать по англосаксонской схеме, чтобы каждый сам себе, индивидуально, копил на старость, поручая частным фирмам «растить» его накопления.
Наша система высшего образования складывалась почти 300 лет. Это – один из самых сложных и дорогих продуктов русской культуры, это и матрица, на которой наша культура воспроизводится. Уклад нашей высшей школы, организация учебного процесса и учебные программы – это инструменты создания особого типа специалистов с высшим образованием, интеллигенции. Заменить все эти выработанные отечественной культурой инструменты на те, что предусмотрены Болонской конвенцией, – значит исковеркать механизм воспроизводства культуры России.
Сохранение народа или обеспечение безопасности всех систем, связывающих людей в народ, есть процесс непрерывный и динамичный. Это не сохранение чего-то данного и статичного, это постоянное воспроизводство всех этих систем в меняющихся условиях. Драма советского народа в конце ХХ века произошла во многом потому, что государство и общество считали достаточным укреплять привычные, уже существующие структуры обеспечения безопасности, неадекватно оценивая возникающие угрозы нового типа.
Например, очевидно важным является для любого народа обеспечение безопасности его информационного пространства. Это – один из главных параметров безопасности, который обязано гарантировать государство, от него зависит сохранность культурного ядра народа, его центральной мировоззренческой матрицы, его этнического самосознания. Все эти системы постоянно обновляются и ремонтируются в общении всех членов народа или нации, в ходе «каждодневного плебисцита». При ослаблении защит в эти запасы и потоки информации сразу же внедряют разрушительные вирусы.
Выше говорилось, что одна из главных функций государства – содержание «устойчивых, защищенных правом и надежно охраняемых границ». Традиционно в явном виде под этим понимались сначала границы территории, затем границы водного пространства, потом добавилось и пространство воздушное. Но изначально государство охраняло и пространство информационное (например, борясь со смутьянами, еретиками, миссионерами чужих религий). Методы такой охраны надо обновлять, перестраивать, изобретать. Глушить «Голос Америки» во время холодной войны – плохой метод, но если не успели создать хороший, то лучше уж глушить, неся потери. Поражение терпят, когда глушат, а новых, адекватных угрозе методов защиты не создают.
Сейчас новые угрозы информационной безопасности создают технологии, которые обрушивают целые участки «надежно охраняемых границ». Известный пример – Интернет. Он создавался военными ведомствами США как глобальная сеть обмена информацией, управления информационными потоками и дистанционного управления сложными боевыми системами. Первой его очередью была система AРRANET, предназначенная для связи между военными базами и разведывательными центрами США даже в случае «глобального сбоя» информационных систем при ядерной войне. Но затем результат программы оказался более фундаментальным – сложилась новая сеть каналов передачи информации, которая привязывает к себе значительную часть народов, особенно образованной молодежи, по-своему структурирует эту часть и позволяет «закачивать» в ее головы и души огромные объемы идей, образов и мыслительных программ, в том числе целенаправленно разрушающих системы национального самосознания. Это – важное средство демонтажа нашего народа, и времени на создание адекватных средств защиты нам отведено немного.
Независимо от истинных намерений реформаторов России в конце ХХ века, они создали условия, в которых сохранение народа не обеспечивается. Опасность исчезнуть с лица земли уже не является алармистской метафорой.
Однако изучение всех тех ударов, которые наносились в последние 20 лет по всей системе связей народа, заставляет предположить, что в перестройке и реформе сознательно ставилась задача демонтировать советский народ как суверена великой державы и хозяина великого богатства. В ходе ее выполнения эта задача неизбежно переросла в программу уничтожения всех вообще этнических и межэтнических связей народов СССР и главного скрепляющего их ядра – русского народа. Обойтись без этого реформаторам было невозможно. Но об этом – в следующих главах.
Литература
1. А. Столяров. –
2. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
3. А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоретических парадигм. – «Социологический журнал». 2003, № 3.
4. К.С. и И.С. Аксаковы. Литературная критика. М., 1981. С. 265.
5. Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. М., 1985. С. 99.
6. Дж. Грей. Поминки по Просвещению, М.: Праксис, 2003.
7. S. Amin. El eurocentrismo: Crítica de una ideología. México: Siglo XXI Eds. 1989.
8. Ch.E. Rosenberg. Science and American social thought. – Estudios sobre sociología de la ciencia. Madrid: Alianza. 1980.
9. В. Малахов. Зачем России мультикультурализм? – В кн.: «Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ». М. 2002.
10. Р. Kolstoe. The new Russian diasрora – an identity of its own? Рossible identity trajectories for Russians in the former Soviet reрublics – «Ethnic and Racial studies». 1996. Vol. 19, № 3.
11. И.Л. Солоневич. Народная монархия. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
12. J.Rothschild. Ethnoрolitiсs: A conceрtual framework. N.Y., 1981.
13. М.Агурский. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм. 2003.
14. С. Лурье. Размышления над притчей о слоне. Теоретические подходы к исследованию национализма. – httр://svlourie.narod.ru/
15. К. Янг. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
16. С. Лурье. Карикатурная война. – httр://sрecnaz.ru/article/?860.
17. Л.Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во ЛГУ. 1989.
18. Н. Бердяев. Русская идея. – «Вопросы философии». 1990, № 1.
19. П.И. Лященко. История народного хозяйства СССР. М.: Госполитиздат. Т. 2. 1956, с. 275.
20. П.Б. Уваров. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции. М.: АИРО-ХХ. 2005.
21. А. Филюшкин. Когда Россия стала считаться угрозой Западу? Ливонская война глазами европейцев. – «Россия-ХХI». 2004, № 3.
22. В.А. Тишков. Культурный смысл пространства. – «Отечественные записки» 2002, № 6.
23. С.А. Токарев. Андре Леруа-Гуран и его труды по этнографии и археологии. – В кн.: Этнологические исследования за рубежом. М.: Наука. 1973.
24. Д.Н.Замятин. Геополитика образов и структурирование метапространства. – ПОЛИС. 2003, № 1.
25. А.Г. Задохин. Образ Америки в русском национальном сознании и российско-американские отношения. – «Рефлексивные процессы и управление. 2002, № 2.
26. C. Levi-Strauss. Antroрología estructural: Mito, sociedad, humanidades. México: Siglo XXI Eds. 1990.
27. В.И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. М. 1973, т. 1, с. 63.
28. О.Г. Панаэтов. Война идей: «земля» и «жизненное пространство». Краснодар (в печати).
29. Ю. Бокарев. «Открытое общество» и его друзья. – «Россия – ХХI». 1996, № 5–6.
30. С.Н. Артановский. Проблема этноцентризма, этнического своеобразия культур и межэтнических отношений в современной зарубежной этнографии и социологии. – В кн. Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука. М.: Наука, 1979.
31. Л.С. Васильев. История Востока. В 2-х т. – М.: Высш. шк., 1994.
32. Л.Т.Сенчакова. Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905–1907. Т. 1, 2. М.: Ин-т российской истории РАН. 1994.
33. Ch. Baudelot, Establet R. La escuela caрitalista. México: Siglo XXI Eds. 1991.
34. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М., 1983.
35. К. Маркс. К критике гегелевской философии права. Соч., т. 1.
36. В.А. Шнирельман. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в ХХ веке. М.: Новое Литературное Обозрение. 2005. 696 с.
37. С.Н.Булгаков. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции). В кн.: С.Н.Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
38. В. И. Ленин. Ответ П.Киевскому (Ю.Пятакову). Соч., т. 30.
39. М.М. Пришвин. Дневники. 1914–1917. М.: Московский рабочий. 1991.
40. С.Г. Кара-Мурза, А.А. Александров, М.А. Мурашкин, С.А. Телегин. Революции на экспорт. М.: Алгоритм. 2006.
41. Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Соч., т. 20.
42. К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. 3.
43. П.А. Сорокин. Кризис нашего времени//Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Издательство политической литературы. 1992.
44. М.А. Барг. Эпохи и идеи: Становление историзма. М.: Мысль. 1987.
45. К. Манхейм. Избранное: Социология культуры. СПб.: Университетская книга. 2000.
46. М. Элиаде. Космос и история. М.: Прогресс, 1987.
47. J. Рiaget, R. García. Рsicogénesis e Historia de la Ciencia. Madrid: Siglo XXI Eds. 1988.
48. А.Ф. Лосев. Диалектика мифа. – В кн.: А.Ф.Лосев. Из ранних произведений. М.: «Правда». 1990.
49. M. Sahlins. Uso y abuso de la biología. Madrid: Siglo XXI Ed., 1990.
50. С.А. Токарев. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа. 1978.
51. К. Маркс. К еврейскому вопросу. Соч., т. 1.
52. М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. – В кн.: М.Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
53. Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Соч., т. 21.
54. В.Р.Кабо. Проблемы первобытной религии в современной западноевропейской этнологии. – В кн. Этнологическая наука за рубежом. М.: Наука. 1991.
55. А.А.Белик. Психологическая антропология. – В кн. Этнологическая наука за рубежом. М.: Наука. 1991.
56. В.В. Кожинов. Федор Тютчев. – М.: Алгоритм, 2000.
57. К. Маркс. Капитал. Т. 1. Соч., т. 25.
58. Ф. Энгельс. Из второй рукописи «Заметок о Германии». Соч., т. 18.
59. К. Маркс. Экономико-философские рукописи 1844 г. Соч., т. 42.
60. Б.А. Рыбаков. Язычество древней Руси. М.: Наука. 1988.
61. Ф. Энгельс. Бруно Бауэр и первоначальное христианство. Соч., т. 19.
62. Ф. Энгельс. Положение Англии. Соч., т. 1.
63. К. Маркс. Коммунизм газеты «Rheinischer Beobachter». Соч., т. 4.
64. Р. Гвардини. Конец нового времени. – «Вопросы философии». 1990, № 4.
65. С.Н. Булгаков. Расизм и христианство – В кн.: Протоиерей Сергий Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. Рaris: YMCA-Рress. 1991. ().
66. В. Полосин. Фундаментальная политология. – Россия – ХХI. 1995, № 7–8.
67. А. Ужанков. Концепты «Русь» и «Русская земля» в мировоззрении древнерусских книжников ХI-ХV в. – «Россия ХХI». 2005, № 5.
68. Л.Н. Гумилев. От Руси до России. Очерки этнической истории. Спб.: Экопрос. 1992, с. 135.
69. И. Чернышевский. Русский национализм: несостоявшееся пришествие. – «Отечественные записки». 2002, № 3.
70. А. Верховский. Власть и религия в современной России – «Свободная мысль – XXI». 2004, № 4.
71. Основы социальной концепции Русской православной Церкви. Информационный бюллетень. 2001. № 1.
72. К. Клакхон. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб.: «Евразия». 1999.
73. Э. Кисс. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические процессы. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
74. Ф.И. Буслаев. О преподавании отечественного языка. Л. 1941. – Цит.: Л.А.Гореликов, Т.А.Лисицына. Русский путь. Опыт этнолингвистической философии. Часть 2. Русский мир в русском слове. Вел. Новгород. 1999, с. 90.
75. Т.М. Фадеева. Социальные революции и традиции: точка зрения консерваторов. – СОЦИС. 1991, № 12.
76. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. – В кн. Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс. 1988.
77. Н.И. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма (главы из монографии). – «Россия ХIХ». 1992, № 1 и 1993, №№ 1, 4.
78. М. Блок. Апология истории. М.: Наука. 1986.
79. С.И. Каспэ. Суррогат империи: о природе и происхождении федеративной политической формы. – ПОЛИС. 2005, № 4.
80. Л. Вульф. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
81. К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века. – «Вопросы истории». 1989. № 4.
82. Ф.С. Эфендиев, Т.А. Мазаева. Этнонациональные культуры в реалиях современного мира. – httр://рortal.rsu.ru/culture/rostovрub.doc.
83. А.А. Шевяков. Гитлеровский геноцид на территориях СССР. – СОЦИС. 1991, № 12.
84. Н. Коровицына. С Россией и без нее: восточноевропейский путь развития. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
85. О. Шпенглер. Пруссачество и социализм. М.: Праксис. 2002.
86. Г.П. Федотов. Лицо России. – «Вопросы философии». 1990, № 8.
87. В. Шубарт. Европа и душа Востока – «Общественные науки и современность». 1992, № 6.
88. Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. – .
89. Ф. фон Хайек. Дорога к рабству. – «Вопросы философии». 1990, № 12.
90. С.Л. Франк. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему». – В кн. С.Л. Франк. Соч. М.: «Правда». 1990.
91. Н. Амосов. Реальности, идеалы и модели. – «Литературная газета». 1988, 6 окт.
92. М.М. Пришвин. Дневники. 1918–1919. М.: Московский рабочий. 1994.
93. Ф. Энгельс. Может ли Европа разоружиться. Соч., т. 22.
94. А.П. Прохоров. Русская модель управления. М.: ЗАО «Журнал Эксперт». 2002.
95. «Вестник Российской Академии наук». 2000, № 6.
96. Н.В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Собр. Соч., т. 6. М.: Русская книга. 1994.
97. В.В. Холодков. Особенности современной экономики России в свете православных традиций. – В кн. «Преодоление времени». М.: Изд-во МГУ. 1998.
98. Л. Поляков. Нет пророка в своем отечестве? – «Общественные науки и современность». 1990, № 3.
99. Ф. Энгельс. Соч., т. 35, с. 376.
100. М. Бертильссон. Второе рождение природы: последствия для категории социальное. – СОЦИС. 2002, № 9.
101. Интервью с Теодором Шаниным. – «Вопросы философии». 1990, № 8, c. 116.
102. А.Дж. Тойнби. Постижение истории. М.: Прогресс. 1991.
103. С.Г. Кара-Мурза. Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2002.
104. Ф. Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 2. М.: Языки славянской культуры. 2003.
105. Ф. Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 1. М.: Языки славянской культуры. 2002.
106. А.В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика. 1989.
107. M. Kranzberg y C.W.Рursell, Jr. (eds.). Historia de la Tecnología. La técnica en Occidente de la Рrehistoria a 1900. Vol. 2. Barcelona: Gustavo Gili. 1981.
108. К. Маркс. Соч., т. 30.
109. Ф. Энгельс. Происхождение частной собственности, семьи и государства. Соч., т. 21.
110. К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Соч., т. 4.
111. У. Бронфенбреннер. Два мира детства. Дети в США и СССР. М.: Прогресс, 1976.
112. З. Бауман. Возвышение и упадок труда. – СОЦИС. 2004, № 5.
113. Е.А. Кваша. Младенческая смертность в России в ХХ веке. – СОЦИС. 2003, № 6.
114. Этнологическая наука за рубежом. М.: Наука, 1991.
115. В.В. Крылов. Теория формаций. М.: «Восточная литература», 1997.
116. Л.А. Асланов. Культура и власть. М.: Изд-во МГУ, 2001.
117. Ф. Энгельс. К истории древних германцев. – Соч., т. 19.
118. К. Маркс. Критика политической экономии. Соч., т. 46, ч. I.
119. Н.А. Бутинов. Американская экономическая антропология. – В кн. «Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука». М.: Наука, 1979.
120. А. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006.
121. М. Хайдеггер. Европейский нигилизм. – В кн.: Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс. 1988.
122. J. Martínez Alier, Schluрmann K. La ecología y la economía. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 1992.
123. М. Меньшиков. Кончина века. – Вопросы экономики. 2000, № 12.
124. К. Маркс. Конспект книги М.Ковалевского «Общинное землевладение». Соч., т. 45, с. 219–220.
125. М. Саркисянц. Английские корни немецкого фашизма: От британской к австро-баварской «расе господ». СПб.: Академический проект. 2003.
126. В.Т. Рязанов. Экономическое развитие России. XIX–XX вв. СПб.: Наука. 1998.
127. А.Н. Энгельгардт. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. СПб.: Наука, 1999.
128. К. Маркс. Соч., т. 32, с. 158.
129. А.С. Мыльников. Сравнительное изучение цивилизаций. – В кн. Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука. М.: Наука, 1979.
130. В.В. Шлыков. Что погубило Советский Союз? Американская разведка о советских военных расходах». Военный вестник МФИТ. 2001, № 8.
131. В.В. Розанов. Мимолетное. – Собр. соч. 1994, с. 292.
132. Y. Ezrahi. Los recursos рoliticos de la ciencia. – «Estudios sobre sociologia de la ciencia». Madrid: Alianza. 1980.
133. О.А. Богатова. Этнические границы в Мордовии: парадокс многоуровневой идентичности. – СОЦИС. 2004, № 6.
134. Ю.П. Шабаев. Территориальное сообщество и этнические воззрения населения коми. – СОЦИС. 2004, № 11.
135. С.Г. Кирдина. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 2001.
136. Н.Д. Кулюшин. Мир политического и надполитического в представлениях иранских лидеров. На основе анализа текстов имама Хомейни и президента Хатами. – «ПОЛИС». 2002, № 5.
137. В.В. Розанов. Уединенное. М.: Политиздат. 1990.
138. В.Н. Ярцева. О судьбах языков в современном мире. – Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1993, т. 52, № 2.
139. В.О. Ключевский. Курс русской истории. Лекция 10. – httр://.
Раздел 4. Нации и национализмы
Глава 21. Нации и нациестроительство
В Новое и новейшее время для жизни и самосознания народов (особенно больших стран) важное значение приобрело понятие нация. В представлениях, свойственных формационному подходу, нация есть высшая стадия развития этнических общностей, отвечающая условиям индустриального общества[88].
В последние четыре века нация и принадлежность к ней (национальность) были важным признаком социальной классификации. Сам исходный смысл слова «нация» (то есть «быть урожденным») придает этому признаку качество естественного, которое оказывает магическое воздействие на сознание и потому очень ценится в идеологии.
Вторая сторона возникновения наций – формирование национального государства. Этот новый тип государственности стал главной формой политической организации народов Запада, самой устойчивой и очень многосторонней по своим функциям. Национальное государство уже в ходе создания своих наций показало исключительную эффективность в деле сплочения населения страны в этническую общность. Можно сказать, что национальное государство выработало качественно новую матрицу сборки народа, введя новое измерение для идентичности и самоосознания людей – гражданственность.
К. Янг пишет: «В возникновении национального государства не было ничего естественного или предопределенного исторической судьбой. Это сравнительно новое явление в европейской истории – национальные государства стали складываться в момент Французской революции, и в их формировании большую роль сыграли интеллектуальные течения эпохи Просвещения. По мере того, как складывалось современное гражданское общество, само понятие нации (национальности) стало сливаться с понятием гражданства и принадлежности к государству… Нации, подобно государствам, обусловлены обстоятельствами, а не всеобщей необходимостью, однако при этом считается, что они предназначены друг для друга и что одно без другого неполно и является трагедией» [1, с. 92, 93].
Понятие нации стало ключевым как в отношениях населения со своим государством, так и в международных отношениях между государствами. Это понятие лежит в основе и международного права Нового времени, и политической практики (национальный суверенитет, право наций на самоопределение, Организация объединенных наций – осью является понятие нации).
Понятие нации очень многозначно. При его употреблении и в политике, и в обыденном разговоре всегда надо иметь в виду, какой смысл придается этому слову, в какой контекст оно встраивается. Содержание его меняется «во времени и пространстве». Это слово очень нагружено идеологически, оно «пробуждает чувства и склонности, которые формировались по отношению к нации на протяжении десятилетий так называемого национального строительства». Поэтому демагоги всех мастей, «захватив» аудиторию, затем начинают в своих целях изменять смысл понятия, иногда очень ловко, почти неуловимо. Когда заходит разговор о нациях, полезно привести в готовность все личные средства защиты против манипуляции сознанием.
Два главных, принципиальных смысла нации таковы: нация как гражданство, как коллективный суверенитет, основанный на общем политическом участии; нация как этничность, сообщество тех, кого связывают общие язык, история или культурная идентичность.
Систематизированные представления о нации стали складываться три века назад В начале ХVIII в. Д. Вико выдвинул концепцию развития наций, которая предвосхищала евроцентризм Просвещения. В книге «Основания новой науки об общей природе наций» он утверждал, что существуют объективные законы развития, обязательные для всех народов. Эти идеи были развиты затем в программе Просвещения Вольтером, Кондорсе, Гердером. Считалось, что незападные «отсталые» народы являются живыми представителями схожего этапа, который когда-то пережили народы Западной Европы. Иные концепции, исходящие из идеи многообразия путей развития культур и цивилизаций, развивали Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, А. Тойнби и П. Сорокин.
Ранние представления о нации были, как мы сказали бы сегодня, проникнуты примордиализмом. К. Вердери пишет в популярном тексте: «Еще в трудах немецкого философа и теолога Иоганна Готфрида фон Гердера нации – как и индивиды – воспринимались в качестве действующих лиц истории, обладающих собственным характером или душой, миссией, волей, духом; у них есть исток/место рождения – в национальных мифах это, как правило, колыбели – и родословная (обычно по отцовской линии), а также жизненные циклы, включающие рождение, периоды расцвета и увядания и боязнь смерти; в качестве своего материального референта они имеют территории, ограниченные, подобно человеческому телу. Нациям, по аналогии с индивидами, приписывают некую идентичность, часто основываемую на так называемом национальном характере. Таким образом, национальная идентичность существует на двух уровнях: на уровне индивидуального чувства национальной принадлежности и на уровне идентичности коллективного целого по отношению к подобным ему другим» [2].
Гердер видел в нациях природное явление, чей рост объясняется действием естественных законов, а государства объявлял искусственными образованиями. «Природа воспитывает людей семьями, – писал он, – и самое естественное государство – такое, в котором живет один народ, с одним присущим ему национальным характером… Ничто так не противно самим целям правления, как неестественный рост государства, хаотическое смешение разных человеческих пород и племен под одним скипетром». Таким образом, Гердер заложил основы не только культурного, но и политического национализма, предвосхитив тезис «одна нация – одно государство» (см. [3]).
Сегодня представление о нациях менее романтическое. Вот краткая формулировка в стиле конструктивизма: «Пользующиеся терминами «нация» и «национализм» обнаруживают склонность считать их значения само собой разумеющимися, исконными, освященными практикой и неоспоримыми. Сложившееся положение говорит очень многое об их легитимизирующей силе и ведущей роли в современном мире. Однако практически все из наиболее проницательных специалистов-теоретиков в данной области сходятся во мнении, что эти термины принадлежат к тому слою современных понятий, которые служат делу идеологического оправдания и политической легитимизации определенных представлений о территориальном, политическом и культурном единстве.
Будучи необходимыми для процессов внутренней интеграции новых европейских государств, подобного рода понятия были порождены эпохой Возрождения, временами колониальной экспансии, религиозных войн и либерального буржуазного капитализма. Другими словами, именно потребность современного государства в интегрированности населения положила начало идеологии национализма, которая в свою очередь создала нацию. Как отмечал Эрик Хобсбаум, не нация создала государство, а государство породило нацию» (см. [4, с. 177])[89].
А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев так пишут о нациях: «В примордиалистской трактовке они есть политически самоопределившиеся – иногда биосоциальные – организмы, или же (менее радикальный вариант) полагаются просто объективно существующими, исторически определенными общностями, закономерно развивающимися из этнических оснований. В любом случае, нация есть некая объективная сущность, онтологическая единица, обладающая своим жизненным циклом и объективными характеристиками. Национализм есть «чувствование/сознание нацией самой себя, и политические последствия такого сознания – идеологии и общественные движения» [6].
Гражданское и этническое, конструктивистское и примордиалистское представления о нациях вырабатывались параллельно, в двух, можно сказать, ведущих диалог парадигмах. О.Ю. Малинова пишет: «Одни [философы], в частности Милль и Ренан, представляли нацию результатом свободного выбора людей, выражающих волю жить вместе и под «своим» правлением… Другие, например Мадзини, В. Соловьев, Масарик, видели в ней воплощение воли Провидения, предначертавшего каждой части человечества собственную миссию; естественную форму сообщества, обеспечивающую прогресс единого человечества… И хотя интерпретации нации, предложенные Миллем и Ренаном, допускали развитие в духе конструктивизма, эссенциалистское представление о нациях и национализме как о «том, что с нами случается», а не о «том, в создании чего мы принимаем участие», в ХIХ в. безусловно превалировало» [3].
В западной культуре принадлежность к какой-то нации стало считаться чем-то естественным и необходимым. Видный исследователь проблемы нации и национализма Э. Геллнер пишет: «Человек без нации бросает вызов общепринятым нормам и потому вызывает отвращение. У человека должна быть национальность, как у него должны быть нос и два уха; в любом из этих случаев их отсутствие не исключено, и иногда такое встречается, но это всегда результат несчастного случая и само по себе уже несчастье. Все это кажется самоочевидным, хотя, увы, это не так. Но то, что это поневоле внедрилось в сознание как самоочевидная истина, представляет собой важнейший аспект или даже суть проблемы национализма. Национальная принадлежность – не врожденное человеческое свойство, но теперь оно воспринимается именно таковым…
Что же в таком случае представляет из себя эта случайная, но в наш век, по-видимому, универсальная и нормативная идея нации. Обсуждение двух очень приблизительных, временных определений поможет добраться до сути этого расплывчатого понятия.
1. Два человека принадлежат к одной нации, если, и только если, их объединяет одна культура, которая, в свою очередь, понимается как система идей, условных обозначений, связей, способов поведения и общения.
2. Два человека принадлежат к одной нации, если, и только если, они признают принадлежность друг друга к этой нации. Иными словами, нации создает человек; нации – это продукт человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей (скажем, жителей определенной территории, носителей определенного языка) становится нацией, если и когда члены этой группы твердо признают определенные общие права и обязанности по отношению друг к другу в силу объединяющего их членства. Именно взаимное признание такого товарищества и превращает их в нацию, а не другие общие качества, какими бы они ни были, которые отделяют эту группу от всех стоящих вне ее» [5].
Б. Андерсон, который развивает конструктивистскую концепцию нации, предложил радикальное определение: «нация – это воображаемая политическая общность, причем воображаемая как необходимо ограниченная и суверенная». Имеется в виду, что любая общность, не основанная на непосредственных межличностных контактах, есть общность воображаемая. Но человек вообще живет в воображаемом мире, его воображение создает реальность. Поэтому нация есть реальная общность. Ведь, несмотря на неравенство и противоречия внутри нее, принадлежность к нации порождает реальное «горизонтальное товарищество» [7].
Вариантом гражданской концепции нации является территориальная концепция. Здесь нация – это «население, имеющее общее имя, владеющее исторической территорией, общими мифами и исторической памятью, обладающее общей экономикой, культурой и представляющее общие права и обязанности для своих членов». Напротив, этническое представление нации «стремится заменить обычаями и диалектами юридические коды и институты, которые образуют цемент территориальной нации».
Понятно, что сделать память, мифы, культуру общими для всего населения территории, то есть создать гражданскую нацию, можно лишь в том случае если будут ослаблены различия разных групп, составляющих это население. И прежде всего, ослаблена этничность этих групп. Еще Ж.Ж. Руссо подчеркивал, что индивиды, образующие нацию, должны иметь сходные обычаи и манеры, общие социальные идеалы.
Таким образом, строительство нации не может быть «бесконфликтным» – «иных» надо преобразовывать в «своих». Как пишет А. Кустарев, форма национального государства «победила потому, что в какой-то момент стала обладателем инструментов уничтожения, подавления и усечения других форм коллективностей. Историки связывают возникновение национал-государств с появлением современных армий и развитием промышленного капитализма» [8].
Например, в Шотландии англичане подавляли восстания якобитов, сторонников короля Якова Стюарта, шотландца. После разгрома последнего восстания в 1746 г. английские войска в течение нескольких месяцев без суда убивали любого шотландца-горца, которого им удавалось поймать. Всерьез обсуждалось предложение перебить всех женщин детородного возраста из якобитских семей, а командующий английскими войсками в Шотландии требовал для себя официальных полномочий казнить подозрительных и конфисковать их собственность [9, с. 137]. Погасить стремление шотландцев к независимости удалось лишь в XIX в. благодаря экономическим возможностям Англии. Националисты в Шотландии перестали получать поддержку, и шотландский язык был отменен на референдуме самих шотландцев, а их клетчатые юбки и волынки не мешали лояльности общегражданской нации.
К. Вердери тоже напоминает об этой стороне дела: «Проект создания нации предусматривает, что несогласные элементы сначала должны быть сделаны различимыми, а затем подвергнуться ассимиляции или устранению. Кое-что из этого может произойти и в прямом физическом смысле, посредством насилия… Но эти вещи редко сопутствуют иным, символическим видам насилия, благодаря которым различие сначала делается выпуклым, а затем стирается. Представления о чистоте и испорченности, о крови как носителе культуры или, наоборот, скверны являются фундаментальными для проектов национального строительства. Они заслуживают больше внимания, чем ученые оказывали им до сих пор» [2].
Классическими моделями собирания нации являются французская и немецкая. В. Коротеева в своем очерке «Существуют ли общепризнанные истины о национализме?» пишет: «Уже более двухсот лет известны «французское» и «немецкое» представления о нации. Первое исходит из идеи нации как свободного сообщества людей, основанного на политическом выборе. Оно берет начало со времен Великой французской революции, когда старому режиму противостояло третье сословие, называвшее себя нацией. Второе восходит к Иоганну Г. Гердеру и немецким романтикам XIX века. По их представлению, нация выражает «народный дух», опирается на культуру и общее происхождение» [10].
Во Франции пришлось «сплавлять» не только множество небольших народов, но и два больших этнических блока – северофранцузский и южнофранцузский (провансальцев). Последние сопротивлялись более трехсот лет, после чего, по выражению Энгельса, «железный кулак Конвента впервые сделал жителей Южной Франции французами». А Наполеон заменил все исторические этнические названия департаментов на формальные географические – по названиям протекающих по их территории рек.
Тем не менее, вопреки нашим обыденным представлениям, Франция в культурном и языковом отношении была очень неоднородной в течение всего XIX в. А.И. Миллер пишет, что, как свидетельствует доклад французского Министерства просвещения 1863 г., по крайней мере четверть населения континентальной Франции не знала в то время французского языка. Он не был родным языком для примерно половины из 4 млн. французских школьников (министерство, дабы продемонстрировать свои успехи, явно занижало число нефранкоговорящих). Практически весь юг и значительная часть северо-востока и северо-запада страны говорили на диалектах или наречиях, настолько отличавшихся от французского, что парижским путешественникам не у кого было узнать дорогу. Крестьяне Бретани или Прованса отнюдь не были патриотами Франции, и вопрос о том, станут ли они французами, оставался открытым в течение большей части XIX в. [9, с. 135].
Германские народы собирались в современную нацию немцев уже объединенным государством при Бисмарке, под эгидой милитаризованной Пруссии. А до этого, в конце ХVIII в., еще вполне могло случиться, что в Европе возникли бы три родственных политических нации – австрийская, прусская и баварская.
Но утверждения о неизбежности подавления этничности малых народов вполне отражают историю формирования именно западных наций. Другой, более сложный тип, к которому относится и Россия, предполагает построение общей территории и общего культурного ядра при сохранении этничности разных групп населения. Когда германский канцлер Бисмарк заявил, что единство наций достигается только «железом и кровью», Тютчев написал известные строки:
«Единство, – возвестил оракул наших дней, — Быть может спаяно железом лишь и кровью…» Но мы попробуем спаять его любовью, — А там увидим, что прочней…Ленин, говоря о типе государственности России после победы пролетарской революции, имел в виду примерно то же самое, что и Тютчев (только вместо «любви» у него была солидарность трудящихся). Как сказано выше, он писал в 1916 г.: «Мы в своей гражданской войне против буржуазии будем соединять и сливать народы не силой рубля, не силой дубья, не насилием, а добровольным согласием, солидарностью трудящихся» [11, с. 73–74].
На 3-м Съезде Советов (январь 1918 г.) Ленин сказал: «Мы действовали без дипломатов, без старых способов, применяемых империалистами, но величайший результат налицо – победа революции и соединения с нами победивших в одну могучую революционную федерацию. Мы властвуем, не разделяя, по жестокому закону древнего Рима, а соединяя всех трудящихся неразрывными цепями живых интересов, классового сознания. И наш союз, наше новое государство прочнее, чем насильническая власть, объединенная ложью и железом в нужные для империалистов искусственные государственные образования… Совершенно добровольно, без лжи и железа, будет расти эта федерация, и она несокрушима» [12, с. 287–288].
Советский Союз, собранный на иных основаниях, нежели западные нации, действительно был очень прочен в течение целого исторического периода, но начиная с 60-х годов ХХ в. его механизм соединения множества этносов в многонациональный народ начал давать сбои и требовал модернизации, которая не была проведена. Возник кризис, о котором речь пойдет ниже.
Однако кризис возник и в нациях Запада, которые уже казались «моноэтническими». В конце ХХ в. этничность «очнулась» и взбунтовалась. И дело не только в том, что практически все нации Запада уже стали многоэтническими в результате крупномасштабного завоза дешевой рабочей силы – проснулось этническое сознание уже, казалось бы, давно ассимилированных народностей. Рухнула универсалистская утопия Просвещения, согласно которой в современном гражданском обществе индустриальной цивилизации этничность должна была исчезнуть. Эта утопия и заложила фундаментальный конфликт между нацией и этносами (конфликт, которого на длительный исторический период избежали и Российская империя, и Советский Союз).
И. Чернышевский пишет: «Исследователи национализма стараются разделять «национальную» и «этническую» проблематику. Под «этническое» подверстывается мутный конгломерат расовых, географических, культурных и иных факторов, с тщательным разделением всего этого от собственно «национальной» проблематики. До недавнего времени существовало даже своего рода разделение труда: этнические явления изучались социологами и антропологами (с 60-х), а нации – историками и политологами. Можно сказать так, что «этнос» рассматривался (а в общем-то, и сейчас рассматривается) как внеисторический субстрат, связанный с идеей существования «неисторических» («первобытных») народов – то есть как некая материальная противоположность «нации» [13].
Что культурное единообразие больших европейских наций является фикцией, историки знали давно, но идеологи национализма старались этого не замечать. В.А. Тишков пишет: «Что такое Франция?» – спросил названием своей специальной работы Ф. Бродель и ответил, что историко-культурное разнообразие было и сохраняется в этой стране (я бы добавил, что в последние десятилетия культурное разнообразие всех развитых стран увеличивается), а органическое единство Франции, часто воспеваемое как в самой стране, так и российскими завистниками, это не более чем совместный труд правителей и историков и это не более чем общепризнанная (сконструированная и навязанная) метафора» [14].
Пояснение этого тезиса возможно на многих примерах, особенно на примере восприятия внешнего мира, который кажется заселенным монолитными «нациями» (в Китае – китайцы, в Испании – испанцы, в Пакистане – пакистанцы и т. д.). Свое, близкое (родная Башкирия или Дагестан и даже Россия) известны лучше на предмет своих частностей и сложностей, а вот другие общества воспринимаются как гомогенные» [15].
Становление наций в Европе происходило под воздействием идей Просвещения, центральными из которых было представление о человеке как свободном индивиде (либерализм) и о гражданском обществе как системе ассоциаций свободных индивидов. В этих рамках и искались пути примирения между целым (нацией) и сохранившимися, хотя и ослабленными, этническими общностями (меньшинствами). О.Ю. Малинова пишет: «Предполагалось, что с обеспечением политической самостоятельности тех наций, за которыми признавалось право на самоопределение, «национальный вопрос» для них будет решен. Предоставление всем гражданам – вне зависимости от их национальной принадлежности – одинаковых прав было для либералов непреложным принципом. Однако проблема прав меньшинств толковалась ими как проблема прав индивидов и решалась на основе равенства перед законом и терпимости к «другим» [3].
Понятно, что такой подход никак не мог разрешить конфликта, потому что для этнического сознания главной ценностью является именно права общности, а не права индивидов. Напротив, этот подход, предлагающий этническому меньшинству атомизироваться и выступать на индивидуальной основе, неизбежно воспринимается как злонамеренный. Исходя из этого в некоторых странах (Канада, затем США) была сделана попытка найти компромисс через принятие доктрины мультикультурализма. Опыт ее применения в последние 15–20 лет показал, что мультикультурализм не только не разрешил противоречий между нацией и меньшинствами, но, скорее, усугубил их, создав новые порочные круги.
Вернемся к начальному периоду формирования наций и тем урокам, которые смогли извлечь из этого опыта политики незападных стран. Новое время, с прелюдией в виде Возрождения, стало эпохой становления Запада как новой, индустриальной цивилизации. В разных частях Западной Европы возникли схожие в главном условия для «пересборки» их народов в нации.
Э. Кисс пишет: «Потребовалось воздействие многих случайных исторических факторов, включая централизующую силу современной государственной бюрократии, технический прогресс в виде, например, изобретения печатного станка, разрушение связующей силы католицизма, вызванное Реформацией, а также то, что Бенедикт Андерсон образно назвал «революционным объединяющим эффектом капитализма», чтобы вызвать к жизни те стандартизованные национальные языки и культуры, которые выступают сегодня в качестве характерных черт наций определенного региона и являются основой для национализма. Нации представляют собой результат исторических изменений, политической борьбы и осознанного творчества» [16, с. 147].
Однако представления о характере создаваемых наций в разных культурах были различны. Считается, как сказано выше, что существуют две основные модели нации: французская «гражданская», представляющая нацию как «сообщество граждан» с одинаковыми правами, и немецкая «этнокультурная», связанная с романтизмом и понимающая «народ» как «органическое единство духа», опирающаяся на общность языка и культуры. Краткий обзор обеих моделей на основании работы П. Серно дает С. Лурье [17].
Серно пишет: «Французская нация представляет собой политический проект. Немецкая нация, наоборот, появилась сначала в трудах интеллектуалов-романтиков как вечный дар, основанный на общности языка и культуры. Для этих последних язык был сущностью нации, тогда как для французских революционеров он был средством достижения национального единства. Таким образом мы можем в общих чертах противопоставить два определения слова «нация», существовавшие в XIX веке. Во Франции под влиянием якобинской идеологии суверенный народ провозглашает существование единой и неделимой нации. Это государство, то есть политическая сущность, которая порождает нацию.
По немецкой романтической концепции нация, напротив, предшествует государству. «Volk» (это следовало бы перевести как этническая группа) представляет собой природное единство, основанное на общности языка и культуры. В соответствии с немецкой концепцией сначала был язык и культура, тогда как во французской концепции язык – лишь средство политической унификации. Немецкая идея «культуры» связана с традиционными культурными обычаями, прежде всего деревенскими, тогда как французская идея «цивилизации» скорее связана с городскими «буржуазными» ценностями, которые должны распространяться на всю национальную территорию в ущерб сельской культуре (местным диалектам, традиционному образу жизни и т. п.). Немецкая романтическая идея нации – это органическая система, в которой язык как носитель национальной культуры неразрывно связан с народом» ([18], цит. в [17]).
В этом описании двух моделей узнаются два современных подхода к этничности, о которых говорилось выше, – конструктивизм (у французской модели) и примордиализм (у немецкой). Существенно, однако, что при обсуждении конкретной практики нациестроительства во Франции и Германии историки склоняются к тому, что во времена Бисмарка риторика «крови и почвы» была лишь идеологическим прикрытием той самой конструктивистской технологии, которая уже была испытана во Франции. Прагматический «проектировщик» нации апеллирует к примордиализму обыденного сознания масс, но реализует свой проект следуя рецептам конструктивизма[90].
Как пишут, во второй половине ХХ века в западной науке утверждается сформулированное Х. Коном понимание «национализма как первичного, формирующего фактора, а нации – как его производной, продукта национального сознания, национальной воли и национального духа». Из этого следует вывод о том, что «национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает их там, где их не существует», что «нация возникает с того момента, когда группа влиятельных людей решает, что именно так должно быть». Кон пишет, что «немцы заменили правовую и рациональную концепцию гражданства на неопределенную и расплывчатую идею народа («Volk»), которая дает несравненно больше возможностей для развития воображения и экзальтации страстей».
Историк Эрик Хобсбаум в книге «Нации и национализм с 1780 г.» смягчает эту формулу, считая, что национализм – это «народное чувство и движение, но это и деятельность государств и правящих элит. Нация появляется в современную эпоху, но предшествуют ей протонация и свойственный ей протонационализм» [19].
Справедливым признается и замечание представителя примордиализма Энтони Смита, что «невозможно создать нацию из ничего». Иными словами, для ее создания должно иметься центральное ядро протонации в виде этнической общности, созревшей до уровня народа. Благоприятную почву для усвоения народом националистической идеологии готовит этничность, а потом уже начинают действовать конструктивистские технологии нациестроительства.
Нации как новый тип сообществ, в которых этничность сопряжена с гражданством (или даже преобразована в гражданство) – порождение Западной Европы в эпоху Нового времени. Характеристики этого типа сообществ позволили резко повысить эффективность государства. Поэтому и в незападных странах освоение технологии нациестроительства стало одной из важнейших составляющих модернизации.
К. Янг пишет: «Национальное строительство как одна из норм государственной деятельности находит поддержку своему существованию в более широкой области исторического опыта, чем просто опыт промышленно развитых стран Европы. Вслед за первой волной антиколониальных выступлений XVIII и XIX веков в Западном полушарии возникла поначалу слабая государственная система, которая позже стабилизировалась благодаря интернационализации национальной идеи» [1, с. 94].
Выше говорилось о замечательном опыте Японии, которая сумела целенаправленно создать сплоченную нацию с сильной национальной идеологией, не раскрываясь Западу, и вышла на международную арену как современное национальное государство.
Индийская нация сложилась в политической борьбе с английским колониальным владычеством. Для ее создания потребовалось теоретическое обоснование, которое было выработано, по словам К. Янга, группой индийских интеллигентов-националистов «благодаря истолкованию истории в духе нового прочтения прошлого с точки зрения современных представлений». Авторитетный текст, дающий такое истолкование, был написан в 1946 г. первым премьер-министром Индии Дж. Неру и назывался «Открытие Индии».
Особый интерес для нас представляет деятельность по созиданию новых, современных народов в странах, которые не входили в число промышленно развитых, но сумели избежать их завоевания западными колонизаторами. Немалое значение для этого имело как раз то, что элита этих стран успешно освоила доктрину нации и использовала национализм как оружие защиты против западного империализма. Такая работа была проведена с начала ХХ века в Таиланде и Эфиопии. К. Янг пишет: «Гораздо более слабые, но древние королевства Сиам и Абиссиния возродились в виде национальных государств Таиланд и Эфиопия; дипломатическое искусство и просто удача в сочетании с использованием в оборонительных целях чужой доктрины государственности позволили им избежать колониального ярма» [1, с. 95].
Но самое главные для нашей темы события происходили в Китае. Здесь небольшая группа интеллигентов-республиканцев выработала и стала осуществлять проект создания современной нации (хотя они применяли привычное китайцам слово «народ»). Старый народ, слабо скрепленный империей, был полностью «рассыпан» под ударами европейских держав, и в рассыпанном («как куча песка») виде китайцы оказались не только политически недееспособны, но даже нежизнеспособны.
К. Янг пишет об этом проекте: «Поколение Сунь Ятсена наделило Срединное Царство совершенно новым самосознанием китайского национализма, реинтерпретировав представления ханьского Китая о себе и о варварах – «других» – так, что, даже не обеспечив строительства устойчивого политического сообщества в ближайшей перспективе, это позволило избежать судьбы, уготованной Китаю алчными колонизаторами. По мнению последних, находившийся в конце XIX века в упадке Китай уже можно было «разрезать, как арбуз»…
В Китае государство, история которого насчитывает уже три тысячелетия, создало мощную культурную идеологию: уникальным образом процесс конструирования китайского народа из различных по происхождению групп несет на себе отпечаток «Срединного Царства». Глубоко знаменательный этноним «китайцы (хань)» символизирует этногенез: самая первая из продолжительных по времени, объединявших и строивших государство династий продолжает свое существование в этом широко распространенном определении. Республиканские наследники империи омолодили и переосмыслили этот этноним «китайцы (хань)» как национальность в полном угроз мире национальных государств, что заменило его предыдущее значение цивилизованности, противопоставлявшейся варварству «других» из-за Великой Стены» [1, с. 95, 122–123].
Это замечательно объяснил в своем исключительно важном сегодня для России труде «Три народных принципа» первый президент Китая Сунь Ятсен. В середине ХIХ века, когда в Китай начали проникать европейцы, это была самая крупная по масштабам экономика мира. Запад опутал ее банками и займами и стал «высасывать». В начале ХХ века интеллигенция, используя «устоявшееся понятие», стала убеждать народ, что Китай становится колонией Запада. И лидер освободительного движения Сунь Ятсен вынужден был приложить очень большие усилия, чтобы доказать интеллигенции, а потом и широким массам, что это – страшное заблуждение. Что привычное понятие «колония» принципиально искажает реальность и заводит борьбу в тупик. Отношения Запада с Китаем представляли собой совершенно новый тип паразитизма, который вел к полной, в буквальном смысле слова, гибели всей китайской экономики. Китай находился «между жизнью и смертью» (он «подобен жертве, трепещущей под ножом палача») и, по оценкам Сунь Ятсена, мог быть уничтожен с гибелью всего народа (400 млн.).
Три народных принципа, которые стали программой «пересборки» китайского народа – национализм, народовластие и народное благоденствие. Понятие национализма Сунь Ятсен успел изложить в 1924 г. в шести лекциях, которые сам отредактировал перед смертью. Надо заметить, что европейские слова «национализм» и «принцип» являются неадекватным переводом тех китайских слов, которые использовал Сунь Ятсен. Точно книга его называется «Три народизма». Первый «народизм», обозначенный в переводе как национализм, можно передать как соединение китайцев в народ, подобный государственной семье[91]. Здесь я упомяну лишь несколько мыслей, которые актуальны для нашей темы.
Сунь Ятсен считал национализм сложным явлением – из тех, что «легче сделать, чем осознать» (в противовес категории явлений, которые в Китае квалифицировались как «легче осознать, чем сделать»). Причиной плачевного положения Китая в начале ХХ века Сунь Ятсен назвал именно утрату китайцами национализма за несколько веков до этого. Тогда государственное чувство настолько ослабло, что власть захватили маньчжуры – народ численностью около ста тысяч. Два века «государственники» пытались сохранить «сокровище национализма», передав его низшим, неграмотным слоям народа и создав для этого огромное число тайных обществ.
Некоторые восстания националистических тайных обществ были успешными, но в целом «вернуть сокровище народу» не удалось, его не принял культурный слой Китая (интеллигенция). Утратив национализм, Китай стал «кучей песка» – люди были крепко сплочены в семьи и кланы, но не было их соединения в «государственную семью». Как говорил Сунь Ятсен, «сила соединения китайцев только дошла еще до сплочения по признаку рода и остановилась. Нет еще силы, способной сплотить китайцев в единую государственную нацию».
Почему же был утрачен национализм? Сунь Ятсен видит истоки болезни во «вселенности» китайского мышления, в космополитизме элиты. В течение тысячелетий Китай вбирал в себя народы и государства Азии – в основном без войны, «светлым путем князя», обеспечивая мир и порядок. Китай, Срединное государство, стал так велик, что у китайцев возникло космополитическое чувство и утратилось чувство опасности. Раз Китай центр мира, то «все чужеземцы, и с запада, и с востока, могут быть его императорами».
Проводя сравнение с Россией, Сунь Ятсен видел залог ее спасения и развития как раз в том, что, несмотря на свою «вселенность», русские сохранили национализм благодаря опасным, но несмертельным угрозам. Последней из них к концу жизни Сунь Ятсена была интервенция Запада во время Гражданской войны. Посмотрел бы он на нас сегодня!
Для Сунь Ятсена национализм есть «принцип единой государственной семьи (нации)». Это – не совсем то, что национализм гражданского общества, образующего государство-нацию. Здесь – идея народа как семьи, идея «сыновней почтительности», и такая нация образуется, когда общество развивается «по пути справедливости (светлым путем)», в то время как государство есть общество, прошедшее по пути тирании. Цель национализма, по мнению Сунь Ятсена – создать единую семью на соединении этих путей.
Возможность этого Сунь Ятсен видел в создании организации, которая займется объединением клановых корпораций и родов, на которые был «рассыпан» старый китайский народ. Опыт такого объединения, совершенного легендарным императором Яо (2356–2208 гг. до н. э.), изложен в классической книге Конфуция по истории Китая. Яо «соединил 100 кланов, все племена, и весь народ переродился – зло перешло в добро».
У Сунь Ятсена национализм не только не противоречит интернационализму, но и служит ему необходимым условием: «национализм – это то сокровище, которое предопределяет существование человечества» (или: «национализм это инструмент, который дает возможность существовать человечеству»). Если бы национализм угас повсеместно, то западные державы, по мнению Сунь Ятсена, полностью вытеснили бы и «переварили» все другие народы, как индейцев. И именно если Китай преодолеет космополитизм и вновь обретет сокровище национализма, он «станет фундаментом интернационализма в Азии» – так же, как русские стали им в Европе.
Многие наблюдения Сунь Ятсена поразительно напоминают то, что мы видим сегодня в России. Первым условием возрождения национализма он называет объяснение всему народу истинного положения Китая. Препятствием здесь была интеллигенция, которая описывала это положение в европейских понятиях – привычных, но негодных. Сунь Ятсен много места уделяет доказательству, что положение Китая гораздо хуже, чем положение колонии. Не будучи колонией, Китай стал объектом эксплуатации всех западных держав. Колония – как бы собственность метрополии и никогда не «высасывается» ею до конца. Китай же, по расчетам Сунь Ятсена, при том уровне изъятия средств, что установился к 1924 году, мог быть полностью обессилен всего за десять лет.
Объясняя реальное положение Китая, он указал на необычное явление. В прошлом китайцы возмущались налогами, установленными своим правительством, но совершенно равнодушно отнеслись к несравненно более крупным изъятиям, совершаемым с помощью экономических рычагов иностранцами. Они отнеслись к ним не просто равнодушно – они не замечали этих изъятий и не верили сообщениям о них. Более того, они были крайне благодарны иностранным державам за ничтожную гуманитарную помощь, которую те иногда оказывали по случаю стихийных бедствий. Тут Сунь Ятсен подметил симптом, показывающий, что Россия сегодня заболела сходной болезнью.
Освоение методов собирания наций и их приспособление к местным историческим и культурным условиям стали приоритетной задачей новых государств, освободившихся от колониальной зависимости. К. Янг пишет об этом периоде: «Неукротимое стремление к статусу нации было характерно в равной мере и для государств, число которых быстро возрастало с распадом колониальных империй после II мировой войны. В освободившихся от колониальной зависимости странах возникла единодушная уверенность в том, что обретенная государственность должна быть дополнена построением национальности. Р. Эмерсон пишет (1960): «Поскольку государство в современный период является наиважнейшей формой организации людей и воплощает в себе наибольшую концентрацию власти, постольку с совершеннейшей неизбежностью должна была начаться и продолжаться великая и революционная борьба за совмещение государства и нации. Нация фактически стала тем, что придает легитимность государству. Если в основу государства заложен любой другой принцип, а не национальный, как это имеет место в каждой имперской системе, то его основы в век национализма немедленно ставятся под сомнение» (см. [1, с. 93]).
Процесс строительства нации из народов, соединившихся вокруг русского народа, набирал темп в Российской империи со второй половины ХIХ в., в сочетании с модернизацией хозяйства, экономики и в целом культуры. Этот процесс продолжился в советское время. Он будет обсужден в специальных главах.
Глава 22. Национализм как идеология
Представления о нации неразрывно связаны с понятием национализма. Это – две стороны одного и того же явления. В практическом плане понимание взаимосвязи между нацией и национализмом важно в связи с межнациональными конфликтами внутри государства и между национальными государствами. Как видится сегодня сущность национализма? В последнее время на русский язык переведены ставшие классикой западные труды по этой теме [7, 19–21]. Появились и учебники для вузов (см., например, [22]).
Краткий обзор определений национализма дан в статье В.В. Коротеевой «Существуют ли общепризнанные истины о национализме?» Она пишет: «С некоторыми оговорками большинство специалистов сходится в том, что основную доктрину национализма можно изложить так: существует такая общность, как нация, с присущими ей особыми качествами; интересы и ценности этой нации обладают приоритетом перед другими интересами и ценностями; нация должна быть как можно более независимой; для этого нужен, по крайней мере, некоторый политический суверенитет» [10].
Это – описание исходного основания национализма. Таким основанием является само существование нации. Национализм как специфическая «идеология нации», то есть особый срез идеологий общества, образующего нацию, есть понятие с множественными смыслами. К. Вердери замечает, что для начала надо делать различие между национализмом и принадлежностью к нации: национализм относится к осознанным чувствам, для которых нация является объектом активной привязанности, а принадлежность к нации есть часть повседневной практики, которая порождает глубокое и часто невыраженное ощущение, что ты «дома»[92].
Очевидно, что национализм как идеология – сравнительно недавнее явление, он возник именно в связи со становлением нации. Предполагают, что, как и вообще идеология, национализм возник во Франции конца ХVIII в. Б. Андерсон считает, что условием для распространения национализма стало появление печати, в результате чего возникла возможность синхронизации мыслей и чувств большого числа людей. Это создало условия для появления общности людей, которые, не зная друг друга, тем не менее воспринимали происходящие события сходным образом.
Как и всякая идеология, национализм с самого начала выполнял политические задачи, возникавшие в процессе строительства нации и обретения ее суверенитета. Прежде всего, это были задачи подрыва легитимности «старого» монархического порядка и легитимации нового, буржуазного общественного строя. Эти задачи были актуальны, и национализм был весьма мало обращен в прошлое – он был практическим и рациональным. Иногда национализм считают идеологией индустриального общества, равноположенной либерализму и социализму. Если так, то надо учитывать тот факт, что реальные идеологические системы обычно имеют более сложную, гибридную структуру, так что националистическим может быть и социализм, и либерализм, как есть и их космополитические разновидности.
И. Чернышевский обращает внимание и на мировоззренческую сторону национализма, непосредственно не связанную с политической практикой: «Национализм – не столько «учение», сколько особое устройство взгляда: «национальная идея» – не картинка, а окно, сквозь которое смотрят на мир, выискивая там интересное для «национального интереса»: хороший националист видит свой интерес везде. Поэтому интенсивные поиски «национальной идеи» – очень плохой признак. Если на эту тему много говорят и пишут, это означает одно из двух: либо этой идеи нет и неизвестно, где ее взять, либо она есть, но через предлагаемое окошко «ничего не видно», или ее почему-то стыдятся, как стыдятся рассматривания «неприличностей». Но вообще-то идеальная форма бытования национальной идеи – секрет полишинеля: то, о чем все причастные прекрасно знают (ибо видят) и молчат» [13].
Как и все понятия, связанные с проблематикой этничности, слово национализм имеет множество смыслов, так что воспринимать его надо с осторожностью, всегда учитывая контекст высказывания. Это понятие нередко толкуют расширительно, как следование национальному духу или даже как синоним патриотизма. Но патриотизм не сводится к национализму, он даже перекрывается с ним лишь в малой степени.
Патриотизм – необходимая часть любой государственной идеологии, но сам по себе несущей опорой не служит – он должен быть сцеплен с идеями, устремленными в будущее и «гарантирующими» реализацию патриотических ценностей. Как государственная идеология, патриотизм утверждает «вертикальную» солидарность – приверженность личности к стране. В нем нет акцента на многие ценности «низшего уровня», скрепляющие этническую общность, даже столь широкую, как нация. Напротив, национализм активизирует чувство «горизонтального товарищества», ощущения национального братства («всех французов» или «всех немцев»).
Поэтому нередкие попытки противопоставить предосудительный национализм уважаемому патриотизму не могут иметь успеха – речь идет о явлениях, лежащих в разных плоскостях. Например, С.Н. Булгаков так пытался развести национализм и патриотизм в России в начале ХХ в.: «Национальное чувство нужно всегда держать в узде, подвергать аскетическому регулированию и никогда не отдаваться ему безраздельно. Идея избрания слишком легко вырождается в сознание особой привилегированности, между тем как она должна родить обостренное чувство ответственности и усугублять требовательность к себе… Одним словом, национальный аскетизм должен полагать границу национальному мессианизму, иначе превращающемуся в карикатурный, отталкивающий национализм.
Однако, идя далее и в этом направлении, мы наталкиваемся на своеобразную трудность. Дело в том, что национальность не только необходимо смирять в себе, но в то же время ее надо и защищать, ибо в этом мире все развивается в противоборстве. И насколько предосудителен национализм, настолько же обязателен патриотизм» [23, с. 183].
Почему же с момента становления наций и зарождения национализма в Западной Европе русская культура испытывала неприязнь к этой идеологии? Достоевский противопоставлял ему «всечеловечность», с ним соглашались философы, особенно православные. Это противопоставление стало частью русской культуры, частью коллективного бессознательного. О. Неменский пишет сегодня: «Русские были «интернационалистами по духу» и в советское время, и в имперское. У нас так и не сложилась серьезная националистическая традиция мысли, тогда как «русская всеотзывчивость» стала и подлинным стержнем нашей культуры, и главнейшей идеологемой самоосознания. Показателем нетрадиционности национализма для русских является тот факт, что его постулаты практически не воспринимаются большей частью нашего общества, причем как на «простонародном» уровне, так и в среде интеллигенции. И дело тут совсем не только в воспитании в духе советской интернационалистической пропаганды, а в том, что сама эта пропаганда оказалась очень созвучна русской культуре, русскому восприятию себя и мира» [24].
Но национализм настолько необходим для существования нации, что утверждение о его предосудительности и попытка заменить патриотизмом не имеют смысла. Можно осуждать лишь какие-то выверты национализма, как и любой другой формы сознания. В чем тут дело?
Первая причина в том, что наша интеллигенция восприняла у немецкой философии романтическое представление о нациях, согласно которому они даны нам «свыше». Вл. Соловьев видел в нации воплощение воли Провидения, предначертавшего каждой части человечества свою миссию (он писал: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»). Если так, то национализм есть вмешательство в дела Провидения и лишь искажает смысл предначертания. Да и нечего беспокоиться о связности народа – не в силах грешных людей разрушить то, что скреплено высшей волей. Это же представление советская интеллигенция восприняла от Маркса, который почерпнул его у той же немецкой философии.
Вторая причина в том, что практика национализма на Западе вызвала у русских отвращение. Как было сказано выше, создать нацию можно лишь ослабляя различия частей этого населения, ослабляя их этничность – «иных» надо преобразовывать в «своих». И англичане, и Наполеон, и Бисмарк собирали нацию «железом и кровью». Россия же собирала и строила территорию и общее культурное ядро нации при сохранении этничности разных народов. Отвергая западные технологии нациестроительства, русское общество не принимало самого понятия национализм как идеологии, связанной с этими технологиями. Говорили «народность».
Эта установка исключительно устойчива. Современный автор пишет: «Представить себе «нацию» в России трудно даже умозрительно, разве только если употреблять этот термин как простую и непонятно зачем нужную замену русского слова «народ». Русский национализм, несомненно, оказывается в противоречии с русским традиционализмом» [25].
Идеологические факторы, изменяющие понятийный аппарат, на деле существенно влияли на всю структуру познавательных средств, затрудняли верное представление важных сторон реальности. Насколько сильно ощущение необходимости националистической компоненты в сознании людей, говорит тот факт, что разоблачения националистических мифов обычно не наносят им большого вреда.
Э. Кисс пишет: «Некоторые формы национализма могут пройти через процесс демистификации и сохранить при этом свою легитимность и силу. Люди способны ощущать себя французами, поляками или словенцами и идентифицировать себя с этими культурами даже в тех случаях, когда они осознают всю искусственность и относительную историческую недавность их сотворения. При всей своей искусственности движения национального «пробуждения» стали реальностью и сделали возможными те достижения, которыми националисты могут заслуженно гордиться, как могут они, например, гордиться великими произведениями литературы. Национализм может наделять людей чувством собственного достоинства и принадлежности к обществу, что отвечает вечным потребностям человека» [16, с. 151].
Но когда речь идет об идеологии, термин «национализм» обычно употребляется в его стандартном европейском смысле – как возведенный в ранг государственной политики эгоизм титульной нации. В такой контекст утверждение, будто русский национализм не содержит шовинизма и отражает вселенскую отзывчивость нашего национального духа, просто не вписывается и почти теряет смысл.
Очень часто национализм вырывается из системы конкретных идеологических связей и представляется как самостоятельная сущность. Так, в 60-е годы ХХ в. историк А. Тойнби писал, что капитализм и социализм отступают перед напором национализма. Он видел в этом регресс цивилизации и был проникнут тяжелыми предчувствиями. Смысл его прогноза ясен, но его надо принимать как абстракцию, ибо национализм не «освобождается» от связки с другими идеологиями и мировоззренческими системами, а лишь трансформирует их (как и они его). Например, имперский национализм современных США сцеплен с доктриной глобального капитализма с его идеологическим фундаментализмом и одновременно космополитической идеей «золотого миллиарда».
Говоря о развитии национализма в России, мы должны представить себе переходный процесс превращения русского народа и связанных с ним других народов России в нацию. Почему это становится исторической необходимостью, почему нельзя избежать «кавдинских ущелий» национализма? Ведь, судя по всему, избежать «кавдинских ущелий» классического капитализма оказалось возможно (поражение советского социализма не меняет этого вывода).
И. Чернышевский дает такое объяснение этой необходимости. Он предлагает рассматривать народ как «совокупность людей, конкурирующую с другими народами (другими совокупностями людей) в Большом времени – т. е. как субъект конфликта, протекающего в Большом времени» [13]. Иными словами, если племя живет настоящим и прошлым, не проецируя свое бытие в отдаленное будущее, то народ соединяется на основе проекта будущего. Он живет в историческом времени, устремленном далеко вперед. Но позволяет ли этот проект быстро мобилизовать ресурсы, достаточные для преодоления актуальной угрозы? И. Чернышевский считает, что не всегда. Нация и является той формой организации общности, которая создает такую возможность[93].
Он пишет: «Бывают ситуации, когда действий в Большом времени оказывается недостаточно. Например, те же кочевники могут причинять слишком значительный вред: народ просто не успевает восстановиться, восполнить нанесенный ущерб. В таком случае у него есть альтернатива: постепенно сдавать позиции в Большом времени или начать отстаивать себя в «малом времени» – например, создавая оборонительную систему, окружая себя рвами и частоколами, организуя боевые дружины и т. д. Все эти мероприятия – громоздкие и затратные – возможны, однако, только в том случае, когда жители начинают осознавать себя именно в качестве нации. Такое осознание не дается сразу: требуется определенный уровень понимания ситуации, достижимый далеко не всегда и не во всех случаях. Но если уж он достигнут, народ начинает совершать поступки, нужные не только и не столько конкретным людям, сколько народу в целом. Обычно подобная мобилизация наблюдается в критических ситуациях – например, во время войны. Однако есть способы сделать ее постоянным фоном существования народа, озаботить народ задачами глобальной конкуренции» [13].
В такой концепции начало становления наций отодвигается вглубь истории – уже в средневековье интенсивность межэтнических столкновений стала такой, что для ответа на быстро возникающие вызовы народностям и народам надо было сплачиваться в большие общности, протонации. Э. Ренан говорил, что французские короли уже в Средние века сознательно занимались нациестроительством, но то же самое можно сказать и о Московской Руси.
К середине ХVI в. Россия уже воспринималась на Западе как большое национальное государство, представляющее угрозу государствам Европы. Тогда возникла целая программа западного национализма в отношении России, которую и следует назвать термином русофобия. С тех пор она развивалась и дополнялась, но главная доктрина осталась той же самой: «русские – это варвар на пороге». Эта развитая и сложная идеологическая конструкция могла сложиться лишь в рамках зрелого национального сознания в отношении зрелого противника. В Средние века такого концептуального оформления столкновения между народами не получали.
А. Филюшкин пишет: «К изображению русской «восточной угрозы» были привлечены все известные авторам эпохи Возрождения топосы. От библейских, эсхатологических, антихристовых до турецкой агрессии, мирового противостояния христианства и басурманства (под которым понимался не только ислам, но и все варварское, то есть некатолическое и непротестантское). Образ России в сочинениях эпохи Возрождения как бы явился квинтэссенцией всех негативных дискурсов, накопленных за столетия» [26].
Развитие национализма как мировоззренческой и идеологической конструкции изначально было расщеплено на два течения, которые, переплетаясь, и конфликтовали между собой, и поддерживали друг друга. Если считать человеческие общности системами, то эти два течения в национализме можно различить по отношению данной общности к ее среде (более крупной системе) и к ее элементам – более мелким общностям. В этом смысле национализм одновременно был идеологией разделения и идеологией объединения.
В истории Европы это проявилось таким образом. В Средние века идеалом государственности, организующей общежитие народов Европы, считалась империя. Шли непрерывные войны между династиями, претендующими на главную роль в объединении Европы в империю – продолжательницу дела Римской империи. Поддерживалась роль двух важных объединяющих инструментов – единого культурного языка, которым служила латынь, и единой, жестко централизованной Римской католической церкви.
Церковь вела активную политическую деятельность по построению «вселенского» христианского государства с подчиненным ей императором, которого она «помазует» на царство. Папа римский имел исключительное право быть наставником светских властей, и споры относительно этого права решались даже военной силой. С особенной силой римская церковь преследовала уходящие корнями в античную культуру стремления к языческому «симбиозу» общества и власти, которые и были провозвестниками грядущего национализма.
Церковь боролась за наднациональный характер европейской государственности. Император Священной Римской империи германской нации, Imрerator terrenus, короновался четырьмя коронами – франков и римлян, итальянской, бургундской и в Риме вселенской (Urbis et Orbis). Против попыток «языческого» разделения на народы совершались крестовые походы внутри самой католической Европы. Культурная и духовная деятельность направлялась церковью не на этноцентрические национальные ценности и проблемы, а на вселенские, универсалистские. Преследовала церковь и национальные обычаи и традиции. Как писал во время Возрождения видный деятель Ватикана, «пользуясь духовной властью только как орудием власти светской, папы казались скорее свирепыми государями, чем первосвященниками» [27].
Становление наций и выразилось прежде всего в конфликте с церковью, поскольку светские власти стали подчинять себе национальные церкви. Ослабление клира и упадок монастырей стали важным условием усиления национального государства. Идеология национализма, разделяющего империю, с самого начала была антиклерикальной и мобилизовала в поддержку нового типа государства антиклерикализм широких масс. В этом конфликте главную поддержку национализму оказала Реформация. Была отвергнута латынь как язык «межнационального религиозного общения», богослужение стало переходить на национальные языки, Лютер выступил за эмансипацию светской власти от церкви: «Раз светская власть установлена Господом карать злых и охранять благих, то пусть она свободно исполняет свое назначение во всем христианстве, невзирая на лица… все равно, обратится ли она против папы, епископов, попов, монахов, монахинь или еще кого-либо… Все же доводы церковного права лишь дерзкие римские измышления»[94] [27].
Наибольшей интенсивности борьба националистов против церкви достигла в момент Великой французской революции, когда интеллигенция, воспитанная Просвещением и опираясь на антицерковные чувства масс, выработала целостную светскую идеологию и проект создания народа. Божественное право было заменено «естественным», монарх как помазанник божий – Национальным конвентом. Принятие национализма за основу идеологии, которая легитимировала новый общественный строй и глубокую трансформацию всех общественных институтов, действительно означало пересборку народа. Де Токвиль писал: «Революция, уничтожив политические учреждения, принимается за разрушение гражданского порядка, вслед за законами переделывает нравы, обычаи, даже язык» (цит. в [27]).
Таким образом, в отношении наднациональных европейских структур нарождавшийся национализм был разделяющим. Он одержал победу и над имперской светской властью, и над единой централизованной церковью, и над классическими культурными традициями. Однако внутри образовавшихся национальных государств эта идеология была объединяющей – по отношению к региональным этническим общностям.
На устранение этнических различий и «фабрикацию» единообразных граждан, одинаково понимающих нормы и права нового общественного порядка с его антропологией свободного индивида, были направлены все средства господства национального государства, включая школу и СМИ. Различия изживались так интенсивно, что Европу иногда называют «кладбищем народов».
Наступление этого объединительного национализма, разрушающего этничность малых народов, вызывало сопротивление, в том числе сепаратизм – борьбу за отделение от большого национального государства. Так возникал «национализм периферии» – как протест против государственной формы «большой» нации. Однако, становясь идеологией сопротивления национальному государству, этот национализм периферии, как правило, имитировал формы и язык государственного национализма, ставил целью обретение малым народом статуса нации.
Говоря о становлении европейских наций, И. Чернышевский так объясняет развитие отношений между нацией и малыми народами: «Как правило, статус «этносов» получают группы, которые не были уничтожены или ассимилированы самоутверждающейся нацией, но которые не удалось сразу переварить, и с ними пришлось налаживать отношения, а следовательно, «давать им место» и как-то осмысливать их существование. На положение «этносов» также низводятся проигравшие нации, утратившие свои трофеи, но еще способные отстаивать свое существование. Собственно, если «нация» определяет себя как «господствующую», то «этнос» – это оппозиционная структура по отношению к «нации»… Обычная мечта любого «этноса» – чтобы его оставили, наконец, в покое. Но эта мечта обычно приводит к историческому поражению: «этнос» в эпоху господства агрессивных национализмов рано или поздно ассимилируется.
Этносы, оказавшиеся на положении меньшинств в больших национал-государственных проектах, отказываются принять такую логику. Они прилагают понятие «нация» к самим себе. Таким образом, идеология национализма из интегрирующей силы превращается в дезинтегрирующую» [13].
В наиболее завершенной форме такой национализм периферии сложился в ходе борьбы колоний за свое национальное освобождение. Таким образом, в современной западной этнологии различают два крайних вида национализма, которые условно называют евронационализмом, который возник в Новое время в ходе образования национальных государств в Западной Европе, и этнонационализмом, тип которого сформировался в ХХ веке в ходе национально-освободительной борьбы колоний.
Важно подчеркнуть, что названия эти именно условны, ибо характерные черты евронационализма присущи националистическим идеологиям многих незападных народов (назовем проект китайского национализма, созданный Сунь Ятсеном или, в своих основных чертах, советский национализм начиная со второй половины 30-х годов, за вычетом особого военного периода). С другой стороны, к жесткому типу этнонационализма относятся идеологии многих политических движений европейских народов с конца 80-х годов ХХ в. (например, в Прибалтике или в последние годы на Украине). Для нас самое главное заключается в том, что эти две идеологии, обозначаемые одним и тем же именем национализма, являются принципиально несовместимыми. В пределе это – враждебные друг другу идеологии, но при этом в реальной общественной практике они, как правило, переплетены, что и делает сферу этнических отношений исключительно сложной и чреватой конфликтами.
Дж. Комарофф пишет: «Евронационализм не замкнут одной Европой; вполне очевидно, что Ботсвана представляет собой случай, наиболее близкий к его идеальному типу, в то время как некоторые европейские или другие нации, стремящиеся выглядеть европейскими (такие, как Израиль), отличаются ярко выраженным этнонациональным характером.
Дело, однако, в том, что евронационализм и этнонационализм онтологически противопоставлены друг другу: отсюда то грубое непризнание и непонимание, которые возникают при их столкновении и при попытках взаимодействия, когда переговоры проводятся через разделяющую их пропасть в понимании политики самоосознания. Полная противоположность исходных посылок относительно самой природы своего пребывания в этом мире заставляет их воспринимать друг друга в качестве принадлежащих к какому-то иному времени и пространству» [28, с. 59–60].
Опыт последнего десятилетия заставляет считать верным это очень сильное утверждение американского этнолога. Приведем самые главные различия между двумя видами национализмов, на которые указывает Дж. Комарофф [курсив мой. – С. К.-М.]:
«Евронационализм предполагает светское государство, основанное на универсалистских принципах гражданства; этнонационализм же ставит во главу угла культурную специфику, подчеркивает духовные начала своей природы…
Как правило, евронационализм признает правовую и политическую юрисдикцию по принципу территориальности, в соответствии с которым суверенитет политической общности совпадает с ее географическими границами. В противоположность этому, даже при наличии суверенной территории и государства, этнонационализм склонен требовать лояльности от своих членов независимо от места их пребывания и, вследствие этого, часто становится транснациональным по характеру, если имеются сильные и активные диаспоры.
Даже проецируя свою историю в далекое прошлое и изобретая свои собственные традиции, евронационализм обычно признает историчность своего происхождения, часто относя его на счет неких героических действий людей, и подает свою историю в виде исторического повествования о серии подвигов, дат и смертей. Из этого следует, что упор в евронационализме делается скорее на хронологию, чем на космологию, и, если перефразировать Ренана, – на забвение прошлого…
Этнонационализм напротив, ищет свои корни во временах незапамятных, приписывая себе черты изначальной сущности. Его генезис часто объясняется вмешательством сверхъестественных сил, а его прошлое, независимо от того, выражается ли оно в повествовательной форме или нет, может быть спрессовано и представлено в виде «традиции» или «наследия». В этом случае космология превалирует над хронологией; коллективная память воспринимается как решающий фактор для выживания группы; а различия рассматриваются, при всем непостоянстве в уровнях терпимости, как неизбежные и неискоренимые.
С точки зрения евронационализма, этнонационализм представляется примитивным, иррациональным, магическим и, прежде всего, угрожающим; с точки же зрения этнонационализма, который при взгляде изнутри предстает вполне «рациональным», евронационализм по-прежнему воспринимается как изначально колониальное по своей природе явление, в котором отсутствуют человечность и общественная совесть.
Я должен повторить, однако, что в обоих случаях мы имеем дело с идеологическими образованиями, а не «объективными» творениями истории. Лишь немногие евронациональные государства как прошлого, так и настоящего времени вполне реализовали свои собственные представления о себе, но при этом все они приобрели некоторые из тех черт, которые обычно приписываются этнонационализму. Справедливо и обратное, ибо в большинстве случаев и, особенно, в случае стремления к суверенному самоопределению, этнонационализм обретает некоторые характеристики, типичные для евронационализма» [28, с. 58–59].
Из этого сопоставления видно, что этнонационализм исходит из представления этнических оснований нации в понятиях примордиализма, как изначально данной сущности. В политической практике националисты, использующие эту идеологию, обращаются к обыденному сознанию, мобилизуя присущий ему примордиализм – при том, что сами эти идеологи в настоящее время чаще всего являются конструктивистами. Они именно конструируют политизированную этничность, манипулируя массовым сознанием в партийных целях.
И. Чернышевский пишет как будто о русском национализме, но на самом деле излагает типичную схему этнонационалистической доктрины:
«1. Во-первых, в обязательный набор националистических представлений входит (в том или ином варианте) миф о Золотом веке. Речь идет о неких отдаленных временах, когда счастливый и свободный народ вольно трудился на своей земле, не зная нужды и горя. Однако националисты всегда замечают, что в этом счастливом состоянии народ оставался наивным, не зная себя и своих сил, – то бишь, не имея национального самосознания.
2. Вторым этапом обычно является появление национального врага. В качестве врага может выступать конкретный народ, захвативший или полонивший страдающую нацию, или целый ряд таких народов, или какие-нибудь совсем безличные силы (например, «империалисты»). Враг действует силой и хитростью, при этом не только подчиняя народ себе, но и сообщая ему самосознание – однако самосознание ложное. Например, враг пытается ассимилировать народ, внушить ему ложные религиозные и/или общественные идеалы или еще как-нибудь искалечить.
3. Центральным этапом истории является начало националистической проповеди. Как правило, ее начинает один или несколько человек, чье самосознание (ложное) оказывается, однако, настолько развитым, что способно самостоятельно открыть истину. (Этим обычно объясняется тот странноватый на первый взгляд факт, что «в национальные лидеры» идут обычно самые «ассимилированные». Так, независимости Индии добились индусы, учившиеся в Оксфорде и Кембридже, «почти англичане». Первые теоретики «чешского возрождения» лучше говорили по-немецки, чем по-чешски, а идеологи алжирского движения за независимость предпочитали излагать свои воззрения на прекрасном французском языке. Так что не следует удивляться, что русские славянофилы, воспитанные на немецкой и французской литературе, имели самые теоретические представления о «добром русском народе».)
4. Идеологи просвещают народ относительно его чаяний и ценностей, сообщая ему учение о самом себе.
5. Далее следует борьба за «возрождение», обретение независимости и прочих благ, и в конце – счастливое возвращение в Золотой век, но с прибытком: нация обрела самосознание и больше не позволит себя так просто объегорить» [13].
Теоретик этнонационализма Энтони Смит (сам приверженец примордиализма), считает, что мифы, которые лежат в основе национализма, имеют у разных народов сходную структуру. Это предание о древних общих прародителях, своей земле и древней государственности, вера в существование «золотого века» в жизни этого народа, который сменился упадком, бедствиями, переселением, но в заключение – вера в будущее возрождение. Как указывают другие этнологи, эта общая схема повторяется далеко не всегда, хотя основные ее компоненты в том или ином виде присутствуют.
Важно, что в этнонационализме и вообще в национализме периферии делается очень сильный акцент на прошлом, которое мифологизируется в соответствии с политической задачей, а также на создании образа врага, который якобы виновен в тех бедствиях, которые перенес народ в прошлом. Нация в этом случае объединяется на негативной основе – общим бедствием и общим врагом в прошлом. Это бедствие и образ этого врага нередко переносятся в настоящее (и даже становятся неустранимой частью будущего) с нарушением норм рациональности и здравого смысла.
Реальное бедствие, типа войны или глубокого кризиса, неминуемо вызывает всплеск этнонационализма. В этих ситуациях он становится средством мобилизации национальных сообществ в защиту своих интересов. При глубоком кризисе, когда разрушаются сложившиеся системы ценностей, нормы поведения и материальные условия жизни, массы людей видят в своей национальной общине островок стабильности и связи с традицией. Это островок порядка, которому угрожает хаос. Националисты, объединенные общей целью (например, возрождения нации), представляются организованной силой, которая и вносит порядок в жизнь людей. Участие в этой их борьбе дает ощущение связи человека с другими людьми его национальности, придает высокий смысл индивидуальному существованию.
Речь вовсе не идет о ложном сознании. Известно, что права человека сами по себе не обладают механизмом по их реализации, а после крушения советского блока и международное право лишилось таких механизмов. Для народов, ущемленных в своих правах или становящихся объектом угроз, этнонационализм частично заполняет этот провал, подкрепляя малоэффективные попытки взывать к разуму мирового сообщества и идеям права. Как писала Б.Дж. Ригон, обсуждая соотношение между правами человека и национализмом, «на определенном этапе национализм является решающим для народа, если вы вообще намерены когда-либо оказывать свое влияние в ваших собственных интересах». Этнологи отмечают, что в некоторых ситуациях националистическая политика бывает наиболее эффективным средством для защиты народом своих прав.
Но проблема в том, что использование национализма как политического оружия – искусство чрезвычайно сложное, это оружие легко выходит из-под контроля. Та же Ригон продолжает свою мысль так: «Национализм в какой-то момент становится реакционным, поскольку он абсолютно неспособен к выживанию в многонациональном мире» (см. [16, с. 159–160]).
За последние двадцать лет мы были свидетелями множества трагедий целых народов, в массовом сознании которых этнонационализм вышел из-под контроля. Так, он в короткий срок разрушил Югославию. Э. Кисс пишет: «Результатом националистической политики может быть деструктивная поляризация населения, разительными примерами которой могут служить рассказы молодых людей из тех мест, что в прошлом были Югославией. Эти молодые люди и не подозревали ранее о тех национальных различиях, по поводу которых там идет теперь жестокая война. По словам молодой женщины, давшей интервью, «теперь все ненавидят Тито, потому что он был хорватом. До того, как все это началось, я даже и не знала, что он хорват. Но даже если бы я и знала об этом, это бы меня никак не волновало. До того, как все это началось, никого бы это не волновало». Она добавила также: «У меня совсем нет какого-то сербского самосознания, но меня вынуждают быть сербкой события, над которыми я совершенно не властна… Я югославка» [16, с. 161].
Наглядной иллюстрацией последствий, к которым может привести взрыв этнонационализма, служит разожженный во время перестройки вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. В Грузии, где вооруженные столкновения на национальной почве (в Абхазии и Южной Осетии) были прекращены при участии российских миротворческих сил, этнонационализм тоже загнал страну в порочный круг тлеющего противостояния. За период 1996–2002 гг. социальная дистанция между грузинами и другими народами возросла, при этом меньшинства относятся к грузинам лучше, чем грузины к меньшинствам. Отношения ухудшились даже в среде студентов, которые в середине 90-х годов были группой с самым высоким уровнем толерантности [29].
Надо остановиться на проблеме взаимоотношений между национализмом и демократией. Выше говорилось, что в ходе общего кризиса советского общества с конца 80-х, а затем и системного кризиса российского общества и государственности в течение 90-х годов ХХ в. едва ли не самый тяжелый удар был нанесен по сфере этнических отношений – как внутри русского народа, так и в межэтнических отношениях между народами СССР и РФ. Был прерван процесс становления большой полиэтнической нации – советского народа, произведен его глубокий демонтаж. На территории постсоветских государств была разожжена политизированная этничность с высоким потенциалом межнациональных конфликтов. Экономический и социальный кризис породил интенсивные миграционные потоки, что привело к напряженности и конфликтам в зонах межэтнических контактов нового, кризисного типа – при ослаблении возможности взаимной адаптации мигрантов и принимающего социума.
В этих условиях произошла быстрая трансформация идеологической трактовки происходящих процессов. С одной стороны, политическая задача разрушения советской государственной и социальной системы потребовала подрыва всех типов связей, скреплявших «империю зла» и ее общественный строй. С этой целью государственная идеологическая машина с конца 80-х годов вела интенсивную пропаганду с целью возбудить этнонационализм всех народов, включая русский. В этой кампании принимала и принимает активное участие и националистическая элита. В результате был подавлен тот державный, объединяющий национализм, который был характерен для официальной советской идеологии. Вместо него была создана множественная система агрессивных этнонационализмов, которые стали разделять как народы между собой, так и родственные этнические группы отдельных народов (иногда с откатом их к племенной и родоплеменной структуре).
Пассивное сопротивление этому давлению, в общем, в той или иной степени оказывали практически все народы. Наиболее устойчивым был, естественно, русский народ, в котором сохранялось самоосознание государствообразующего народа. Здесь наблюдаются сдвиги от советского имперского национализма к национализму гражданскому, который послужил бы идеологической основой для продолжения сборки большой полиэтнической нации в новых условиях, как политической нации.
Эта тенденция, однако, наталкивается на жесткое сопротивление тех политических сил, которые во время перестройки и в 90-е годы возглавили программу демонтажа советской национально-государственной системы. С их точки зрения, объединение народов РФ (а в большой степени и народов СНГ) вокруг русского народа, даже на иной идеологической и социальной основе, нежели в СССР, чревато возрождением имперского российского самосознания, а затем и государственности.
В результате параллельно со стимулированием разделяющего этнонационализма в РФ ведется интенсивная кампания по дискредитации и подавлению национализма гражданского (условно говоря, российского «евронационализма»). В этой кампании антисоветские идеологи работают на три фронта. Прежде всего, они эксплуатируют сохранившиеся в массовом сознании стереотипы советского интернационализма, в котором ради упрощения само понятие национализма было выхолощено и приравнено к национальному эгоизму. Это было одной из самых тяжелых деформаций советского обществоведения. Она не только лишила общество развитых интеллектуальных инструментов для понимания этнических процессов, но и отгородила советскую интеллигенцию от важного для России опыта нациестроительства других стран (в советском идеологическом пространстве не было, например, места для рассуждений Сунь Ятсена о «сокровище национализма»). Эту деформацию используют сегодня идеологи из команд Горбачева и Ельцина для подавления российского гражданского национализма.
Помимо советского интернационализма в этой кампании используются и более глубинные свойства русской культуры, которые Достоевский назвал «всечеловечностью». В образованном слое она обернулась своеобразным космополитизмом. С.Н. Булгаков пишет об этом в условиях начала ХХ в.: «Вследствие рационалистического космополитизма нашей интеллигенции, задающей тон в печати и общественном мнении, у нас как-то получилось такое положение вещей, что русская национальность в силу своей одиозной политической привилегированности в общественном сознании оказывается под некоторым моральным бойкотом; всякое обнаружение русского национального самосознания встречается недоверчивостью и враждебностью, и этот бойкот или самобойкот русского самосознания в русском обществе отражает его духовную слабость. Вся ненормальность этого положения, которая достаточно чувствуется из непосредственного повседневного опыта, ярко обнаруживается при самом даже деликатном прикосновении к этому вопросу»[95] [23, с. 184].
Второй фронт нынешней кампании против национализма в РФ – противопоставление национализма демократии и идее прав человека. Здесь эксплуатируются стереотипы, присущие сознанию большинства русских – при том, что некоторые вынуждены ради сохранения «сокровища национализма», заявлять о своем неприятии принципов демократии. Представление национализма как антипода демократии и прав человека есть злонамеренная идеологическая диверсия.
Третье направление – провоцирование этнических конфликтов и проявлений ксенофобии (для которых кризис создал питательную среду) с последующей гипертрофией этих событий с помощью СМИ. При этом проявления этнонационализма (или даже просто бытовой ксенофобии) выдаются за порождение гражданского национализма. На основании этих кампаний в массовое сознание нагнетается представление об аномально высоком уровне нетерпимости и ксенофобии в России, об агрессивности русского национализма и даже о «русском фашизме». Эта пропаганда ведется чрезвычайно жестко, с мобилизацией всех наличных ресурсов, без тонкостей и прикрытия.
Здесь коснемся второго направления. Национализм объявляется врагом демократии и прав человека именно тогда, когда он действует ради сплочения народа в борьбе за свои интересы против поползновений «золотого миллиарда». Имперский национализм США «демократические» СМИ никогда не назовут антиподом демократии – даже если он посылает авиацию бомбить города, села и мосты Сербии или Ирака. Проблема в том, что этим СМИ верит слишком большая часть интеллигенции. Это ее ошибка, которая именно нам в России может дорого обойтись. Дело в том, что противопоставление демократии и национализма загоняет общество в порочный круг, из которого бывает очень трудно вырваться. Это известно и из истории, и из современной этнологии.
Э. Кисс пишет, исходя именно из демократических принципов: «Каким же должно быть наше отношение к реально существующим видам национализма со всеми их потенциальными опасностями? Я хочу показать, что утверждение о несовместимости национализма и прав человека совершенно бесполезно при разработке политической стратегии, направленной на укрощение национализма» [16, с. 163–164].
Итак, первый тезис заключается в том, что атака на национализм «от демократии» бесполезна. Эмпирический опыт показывает, что «укрощению национализма» это нисколько не помогает, а по большей части наоборот, укрепляет его, но зато ослабляет позиции демократических сил. Говоря о политике конфронтации с национализмом, Кисс делает такой вывод: «Это нецелесообразно по двум причинам. Первая из них состоит в том, что при этом укрепляется точка зрения, предполагающая поляризацию между демократами и националистами… При малейшей возможности такой поляризации следует избегать, поскольку она способствует нарастанию националистического экстремизма. Гораздо предпочтительнее политика, поддерживающая умеренных националистов, которые, с одной стороны, защищают свои национальные интересы, но которые при этом готовы и к компромиссам для создания устойчивых демократических институтов.
Вторая причина, по которой нецелесообразно противопоставление демократии и национализма в обществах, разделенных изнутри по национальному признаку, состоит в том, что при этом затемняется тот факт, что чисто гражданские демократические институты, не уделяющие внимания согласованию интересов этнических групп, сами могут оказываться дестабилизирующими и даже небеспристрастными» [16, с. 165].
Вместо попыток подавления национализма демократическим силам следует вырабатывать политику согласования. Кисс продолжает: «По утверждению Дж. С. Милля, у национальных групп в регионах с многонациональным населением «нет другого пути, как согласиться с необходимостью совместного проживания в условиях равноправия и законности». Эта цель лучше всего может быть сформулирована как задача создания институтов, которые бы укрощали национализм, а разные формы национальных конфликтов делали бы менее опасными или менее дестабилизирующими, то есть проводили бы политику согласования, а не политику антинационализма как таковую. Кардинальнейшая политическая задача заключается в создании институтов, гарантирующих уважение к законным устремлениям националистов при одновременном соблюдении прав человека» [там же].
Вот смысл разумной и эффективной демократии – «уважение к законным устремлениям националистов при одновременном соблюдении прав человека». На практике чаще встречается полное неуважение к законным устремлениям националистов, лишение их доступа к СМИ, провокации и попытки подавления. А на деле тупое применение перенесенных из другой социокультурной реальности демократических норм означает дискриминацию народов – причем не только меньшинств, но иногда и этнического большинства населения.
Кисс приводит такой пример: «Мажоритарная демократия может оказывать сильный дестабилизирующий эффект и быть несправедливой в тех полиэтничных обществах, где благодаря ей создается какое-либо вечно бесправное национальное меньшинство. Вероятность дестабилизирующего эффекта свободных выборов чрезвычайно высока, если они бойкотируются какой-нибудь национальной группой, примером чего могут служить события в нескольких югославских республиках. Подобным же образом принцип равной защиты, гарантированный законом, не может обеспечить процветания и стабильности демократического общества, если при этом он способствует укоренению неравенства между национальными группами» [там же].
Наконец, особое значение приобретает подавление национализма в момент такого кризиса, который разрушает основания для выработки коллективных, общих взглядов и позиций, когда общество переживает болезненный всплеск индивидуализма. В эти моменты соединение людей на почве национализма может служить необходимым для выздоровления механизмом восстановления межличностных национальных связей. Это понимали два виднейших европейских социолога ХIХ в. – англичанин Дж. С. Милль и француз А. де Токвиль. Оба были обеспокоены опасностью роста индивидуализма в их странах и признавали необходимость поддержки «социальных чувств».
О.Ю. Малинова приводит примечательный фрагмент из их переписки таким пояснением: «Осенью 1840 г. вследствие столкновения интересов на Ближнем Востоке Англия и Франция оказались на грани войны. В своих письмах к Миллю Токвиль выражал глубокое удовлетворение тем патриотическим подъемом, который охватил Францию в дни кризиса. Позже, когда страсти уже улеглись, Милль счел возможным несколько охладить пыл своего французского корреспондента: «Я часто в последнее время вспоминал довод, который Вы приводили в оправдание поведения либеральной партии в ходе последней ссоры между Англией и Францией: чувство национальной оргии – единственное проникнутое общественным духом и возвышающее чувство, которое еще осталось, и нельзя позволить ему угаснуть. Увы, с каждым днем становится все яснее, насколько это верно: сейчас видно, что любовь к свободе, к прогрессу, даже к материальному благополучию во Франции – лишь временные, несущественные моменты, находящиеся на поверхности национального сознания, и что единственный призыв, который действительно достигает сердца Франции, – пойти наперекор чужакам… Я полностью согласен с Вами, что во Франции сейчас это единственное чувство, которое разделяется всеми и имеет публичный, а следовательно, не связанный с личной выгодой характер, и что оно не должно пропасть» [3].
В России же сегодня идеологическая машина власть имущих подавляет даже зачатки таких чувств, «не связанных с личной выгодой», и рекламирует «лишь временные, несущественные моменты, находящиеся на поверхности национального сознания».
Глава 23. Учебный материал: этнонационалистическая программа на Украине
Ценный познавательный материал дала программа нациестроительства, которая с начала 90-х годов ведется на антисоветской основе на Украине. Здесь осуществляется большой проект по отрыву Украины от России путем демонтажа советского украинского народа и формированию новой, «политической» нации. Кульминацией в процессе реализации этого проекта стала «оранжевая революция». На то, что результатом ее должно было быть возникновение «нового народа», настойчиво обращали внимание западные СМИ, обнаруживая наличие продуманной политико-философской доктрины. В множестве сообщений о событиях на Украине прямо писалось, что украинцы стали «политической нацией» и перестали быть постсоветским народом [30].
Историю вопроса об отношениях Великой и Малой Руси начинают обычно с первой учебной книги по истории на русском языке – напечатанного в 1674 г. в Киеве «Синопсиса», автором которого был один из православных иерархов Киево-Печерской Лавры. В нем сказано о единстве Великой и Малой Руси, об общей династии Рюриковичей и о едином «русском» или «православно-российском» народе [9][96]. Сложившаяся к середине ХIХ в. в зародившемся русском национализме концепция большой русской нации, уходящей корнями в Киевскую Русь, объединяла Великую, Малую, Белую и Червонную Русь. Последним термином обозначалась Восточная Галиция. Это представление о русской земле находилось в остром конфликте с польским видением – поляки включали в свой образ «идеальной Родины» территорию современной Белоруссии и часть Украины. Это и было причиной непримиримости русско-польского конфликта.
Поначалу представители малороссийской элиты составляли, как считают, до 50 % «русских националистов». А в Москве и Петербурге любили малороссийский колорит и литературу на «малорусском наречии» как особый красочный вариант русскости. Но наряду с русским возник и украинский национализм, который отрицал и русский, и польский образ «идеального Отечества», а также малорусскую идентичность. Этих националистов считали агентами «польской интриги», а их концепцию – диверсией изнутри «национального тела». Говорилось: «одним украинцем больше значит одним русским меньше». Постепенно поляки действительно стали поддерживать украинскую идею как подрывающую целостность Российской империи.
Украинские националисты сначала говорили о «своей земле» Русь, что имело совсем иной смысл, чем Россия. Но это вызывало путаницу, и постепенно они переключились на термин Украина. В первом, программном номере украинофильского журнала в 1861 г. историк Костомаров впервые пишет об украинском языке. Трудно шло замещение самоназвания русины на новый термин украинцы. Он вызвал резкое сопротивление тех, кто почувствовал за этой сменой имен проект отделения от России и русской культуры.
Однако проект этот был поддержан и за границей, и в России. Об этом пишет в книге «Происхождение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 1966) русский историк-эмигрант Н.И. Ульянов. Книга эта посвящена той роли, которую сыграли в формировании этого сепаратизма правящие круги Польши и Австро-Венгрии, а также либерально-демократическая столичная интеллигенция России, видевшая в украинском сепаратизме орудие борьбы с монархическим строем[97].
В конце ХIХ века Галицию, которая была провинцией Австро-Венгрии, стали называть украинским Пьемонтом, намекая на роль Сардинского королевства в национально-освободительной борьбе в Италии. В Галиции народность русинов (или рутенов, как их называли австрийцы) насчитывала около двух миллионов человек, которые жили вперемешку с поляками. Поляки называли их rusini с одним «с», а русских называли moskali[98].
Национальное самосознание русинов было неразвито, и от полонизации их спасал церковнославянский язык, на котором служила униатская церковь и который постоянно напоминал о едином русском культурном корне. Сами русины или считали себя частью русской нации, или особым народом, а не частью украинцев. Изменение названий было предметом политической борьбы, но борьба эта протекала в узком слое образованных людей, и украинцами называло себя в середине ХIХ в. ничтожное меньшинство жителей современной Украины.
Как пишет Ульянов, национальное пробуждение русинов произошло, вопреки всем ожиданиям, на русской культурной почве, местная интеллигенция даже отказалась от разработки местного наречия и в реальном выборе между польским и русским языком обратилась к русскому литературному языку, на котором и стали издаваться газеты. Вокруг них образовался кружок москвофилов, во Львове возникло литературное общество им. Пушкина, началась пропаганда объединения Галиции с Россией (русофилов называли «объединителями»). По словам лидера украинских «самостийников» и предводителя украинского масонства Грушевского, москвофильство «охватило почти всю тогдашнюю интеллигенцию Галиции, Буковины и Закарпатской Украины». Перелом произошел в ходе Первой мировой войны, когда москвофилы были разгромлены и верх стало брать антирусское меньшинство.
За этим стоял польский план, целью которого было не только прервать опасный для Польши процесс сближения Галиции с Россией, но и использовать ее как орудие отторжения Украины от России. Венское правительство этот план поддержало, а после 1918 г. Галиция перешла под власть Польши. Пропаганда галицийских панукраинцев была очень интенсивной, но после включения Западной Украины в состав Украинской ССР она переместилась в эмиграцию.
По мнению Ульянова, как уже говорилось, большое значение имела поддержка антирусского движения в Галиции со стороны демократической российской интеллигенции, начиная с Н.Г. Чернышевского. В этом деле революционным демократам, уже начиная с Чернышевского, пришлось даже пойти против В.Г. Белинского, который писал: «Малороссия никогда не была государством, следовательно, и истории, в строгом значении, не имела. История Малороссии есть не более как эпизод из царствования царя Алексея Михайловича… История Малороссии – это побочная река, впадающая в большую реку русской истории» (цит. в [31]).
Общий вывод Ульянова сводится к тому, что в начале ХХ века украинский национализм был авантюрой: «Не имея за собой и одного процента населения и интеллигенции страны, он выдвинул программу отмежевания от русской культуры вразрез со всеобщим желанием… Русская радикальная интеллигенция никогда не замечала его реакционности. Она автоматически подводила его под категорию «прогрессивных» явлений, позволив красоваться в числе «национально-освободительных» движений. Сейчас он держится исключительно благодаря утопической политике большевиков и тех стран, которые видят в нем средство для расчленения России» [31].
Относительно «утопической политики большевиков» Ульянов ошибается. Компромисс с националистами длился после Гражданской войны недолго. Сами историки-«украинофилы» пишут: «Интенсивный, но непродолжительный период «национального вiдродження» в рамках советской политики «коренизации» существенно продвинул процесс формирования украинской нации. Но относительно либеральная национальная политика была грубо прервана в конце 20-х – начале 30-х годов, а начавшиеся жестокие репрессии против местной интеллигенции практически полностью уничтожили украинский элитарный слой – носителей национального сознания и высокой культуры… Официальная советская версия украинской истории, усиленно насаждавшаяся с начала 30-х гг., была, по существу, модификацией старой имперской исторической схемы с добавлением марксистской методологии и фразеологии… Когда к началу 1990 г. идеологический контроль компартии над исторической наукой в Украине ослаб, научные дискуссии совершенно закономерно развернулись вокруг наследия и личности М.С. Грушевского» [32, с. 203].
Действительно, выдающуюся роль Грушевского в формировании украинского национализма отмечают все исследователи. Он «удревнил» историю Украины и разработал концепцию этой истории, альтернативную той, которая господствовала с ХVII в. И. Торбаков пишет: «Статья Грушевского «Традиционная схема «русской» истории и проблема рациональной организации истории восточного славянства», опубликованная в 1904 г., и первые тома его фундаментальной «Истории Украины-Руси» оказали поистине революционное воздействие и на украинскую историографию, и на формирование украинской национальной идентичности… Дав своему народу ИСТОРИЮ, Грушевский положил начало процессу трансформации неисторической этнографической массы в историческую украинскую нацию».
Грушевский активно культивировал два основных мифа: первый – что Украина была прямой и единственной наследницей Киевской Руси; второй – миф украинского казачества. Возникшая в краткий период независимости (1917–1920 гг.) «государственническая» школа добавила третий миф – о древней традиции государственности. Этот миф трактует Киевскую Русь, Галицко-Волынское княжество (в некоторых работах и Великое Княжество Литовское), а также «Козацкую Державу» (Гетманат XVII–XVIII вв.) как воплощение украинской государственности.
Ульянов обращает внимание на тот факт, что Грушевский печатал в Петербурге свои политические этнические мифы, нередко совершенно фантастические, но виднейшие историки из Императорской Академии наук делали вид, что не замечают их. Он пишет: «Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Существовал неписаный закон, по которому за самостийниками признавалось право на ложь. Разоблачать их считалось признаком плохого тона, делом «реакционным», за которое человек рисковал получить звание «ученого-жандарма» или «генерала от истории».
Надо, однако, подчеркнуть, что историческая литература создала в сознании образованных людей ложное видение реальности. Она, как признают сами историки, представила «конфликт националистических движений и проектов национального строительства» в «конфликт народов, наций». На самом деле массы тех, кому предстояло стать украинцами, вплоть до I Мировой войны и революции вовсе не имели национального самосознания. Галицийские русины, отправляясь в нынешнюю Западную Украину, говорили, что «идут на заработки в Россию».
Очень слабой была и поддержка сепаратистов после Февраля 1917 г. Глава образованного Центральной радой правительства (Директории) В.К. Винниченко в воспоминаниях, изданных в Вене в 1920 г., признает «исключительно острую неприязнь народных масс к Центральной раде» во время ее изгнания в 1918 г. большевиками. Он пишет: «огромное большинство украинского населения было против нас», а также говорит о враждебности, которую вызывала проводимая Радой политика «украинизации». Он добавляет, в упрек украинцам: «Ужасно и странно во всем этом было то, что они тогда получили все украинское – украинский язык, музыку, школы, газеты и книги» (цит. в [33, с. 379])[99].
Окончательное политическое банкротство националистов произошло в 1920 г., когда последний из министров директории Петлюра заключил договор с поляками – национальными врагами украинских крестьян.
Таким образом, в формировании политизированной этничности украинцев можно выделить две больших программы – начала и конца ХХ века. «Оранжевая» революция 2004 г. во многом опиралась на результаты обеих этих программ. Подготовка к антисоветскому, а затем и антироссийскому повороту была важной частью программы «холодной» войны.
Сейчас уместно привести выдержку из главного документа, излагающего стратегию холодной войны против СССР – Директивы Совета Национальной Безопасности США от 18 августа 1948 г. В ней обсуждаются альтернативы действий США в отношении территорий и народов СССР после предполагаемой «горячей» войны, которая должна закончиться ликвидацией советской политической системы. Отдельным пунктом обсуждаются и планы в отношении Украины. Этот документ сегодня интересен тем, что в 1948 г., по мнению американских стратегов, не имелось возможности столь эффективно мобилизовать этнонационализм, чтобы добиться разрыва между Украиной и русским ядром СССР. К 90-м годам такие технологии были созданы, и уже Бжезинский открыто ставил такую задачу, а украинские политики ее выполняют.
В Директиве 1948 г. сказано: «Пока украинцы были важным и существенным элементом Российской империи, они не проявили никаких признаков «нации», способной успешно и ответственно нести бремя независимости перед лицом сильнейшего российского противодействия. Украина не является четко определенным этническим или географическим понятием. В целом население Украины изначально образовалось в основном из беженцев от русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской национальности. Нет четкой разделительной линии между Россией и Украиной, и установить ее затруднительно. Города на украинской территории были в основном русскими и еврейскими. Реальной основой «украинизма» являются «отличия» специфического крестьянского диалекта и небольшая разница в обычаях и фольклоре между районами страны.
Наблюдаемая политическая агитация – это в основном дело нескольких романтично настроенных интеллектуалов, которые имеют мало представления об ответственности государственного управления. Экономика Украины неразрывно сплетена с экономикой России в единое целое. Никогда не было никакого экономического разделения с тех пор, как территория была отвоевана у кочевых татар и стала осваиваться оседлым населением. Попытка оторвать ее от российской экономики и сформировать нечто самостоятельное была бы столь же искусственной и разрушительной, как попытка отделить Зерновой Пояс, включая Великие Озера, от экономики Соединенных Штатов.
Наконец, мы не можем оставаться безучастными к чувствам самих великороссов… Украинская территория настолько же является частью их национального наследства, насколько Средний Запад является частью нашего, и они осознают этот факт. Решение, которое попытается полностью отделить Украину от остальной части России, связано с навлечением на себя неодобрения и сопротивления с ее стороны и, как показывает анализ, может поддерживаться только силой.
Существует реальная вероятность того, что великороссов можно убедить смириться с возвращением независимости прибалтийским государствам… По отношению к украинцам дело обстоит иначе. Они слишком близки к русским, чтобы суметь успешно самостоятельно организоваться во что-либо совершенно отличное. Лучше или хуже, но они будут строить свою судьбу в виде какой-то особой связи с великорусским народом… Существенно, чтобы мы приняли решение сейчас и твердо его придерживались. И это решение должно быть не пророссийским и не проукраинским, а признающим географические и экономические реальности и требующим для украинцев подобающего и приемлемого места в семье традиционной Русской Империи, неотъемлемую часть которой они составляют» [34].
Но уже во время перестройки поддерживался курс на разрыв этих «неотъемлемых частей». Антисоветская риторика перестройки на Украине была целенаправленно антисоюзной. И.К. Лавровский пишет: «Все предъявляли претензии центру. Никого при этом не интересовала роль республиканских парторганизаций в преступлениях, приписываемых центру. Почему-то никто не спросил, например, Компартию Украины, как это вы, хлопцы, допустили «голодомор» на территории «ридной неньки»?.. Перестройка и гласность не распространилась на организованные по этническому принципу республиканские парторганизации» [25].
На стадии этнонационалистического украинского проекта после 1991 г. показали свою исключительную эффективность технологии мобилизации этничности, созданные исходя из представлений конструктивизма. Было на практике подтверждено предсказание этнологов. К. Вердери писала, что «при помощи конструкционистских технологий производства, которые уже были апробированы для «изобретения» классических наций и которые проявили действенность языка, музея, географической карты и т. д., современный «этнолингвистический» национализм (Э. Хобсбаум) сможет породить новые воображаемые общности – воображаемые лишь в скверном смысле этого слова, то есть совершенно несвязанные с каким-либо чувством социальной реальности и гражданских обязанностей» [1].
Есть достаточно эмпирических данных, чтобы признать как факт, что пришедшие к власти на Украине после ликвидации СССР силы в своем нациестроительстве сделали выбор в пользу этнонационализма и возбуждения политизированной этничности. Параллельный опрос старших школьников в Киеве и Москве (в ноябре 2003 г.) показал, что «если русские демонстрируют картину неактуализированного этнического сознания, то украинские школьники национальному вопросу нередко дают завышенные оценки, присущие в большей степени нацменьшинствам в иноэтничном окружении, этносам в экстремальных ситуациях или гражданам молодых государств в процессе становления этничности». В выводах отмечено, что национальная идентичность украинских школьников развивается по типу гиперэтничности [35].
Русский язык преобладает в книгоиздательстве и в разговорной практике – из числа опрошенных киевских школьников дома на украинском языке говорят 13 %, а в школе с друзьями 4 %. На русском же говорят 61 и 65 % соответственно, остальные пользуются обоими языками. Тем не менее на Украине закрываются школы с преподаванием на русском языке – в Киеве из тысячи таких школ к 2003 г. осталось только девять. Таким образом, государственная власть сознательно идет на массовое снижение языковой культуры в стране.
Русские школьники хорошо говорят об украинцах (соотношение положительных и отрицательных стереотипов 32:18), а украинские о русских плохо (соотношение 22:38). Ответственность за это исследователи во многом возлагают на школьные учебники. Были изучены 7 основных учебников истории, рекомендованные на Украине с конца 90-х по 2003 г. Выводы такие. Образ России создается в негативном ключе для всех исторических периодов. Уже на раннем этапе этногенеза славян проводится размежевание с русскими (украинцы – «более чистые» славяне). Украинская цивилизация сформировалась на базе греческой и римской, остатки которых имеются в Крыму (когда Крым стал «украинским», не говорится). Киевская Русь – родина исключительно Украины, никакой связи с Владимирским и Московским княжествами у нее нет. Полтавская битва – антиколониальное восстание Мазепы. Дети учат историю про «Украину и русско-французскую войну 1812 г.», а о победе России в этой войне упомянуто в разделе «Франция».
И цели, и политические задачи националистической программы были известны. Следуя ее положениям, Л. Кучма еще в бытность президентом выпустил книгу «Украина не Россия» (2003). В ней он признает: «Процессы консолидации украинской нации пока еще далеки от завершения». На какой же основе и в каком направлении ведутся эти процессы? По классификации антропологов, строительство украинской нации ведется согласно примордиалистской концепции этногенеза. Националистическая доктрина «оранжевых» политиков представляет этничность как нечто изначально (примордиально) данное и естественное, порожденное «почвой и кровью».
Главным средством мобилизации политизированной этничности на Украине было разжигание в сознании части населения антироссийского психоза. Это совсем не проявления тех националистических чувств, которые издавна существовали в среде украинцев, то затихая, то обостряясь. Такой национализм присутствует в разной степени у любого народа как выражение необходимого для его идентификации этноцентризма. Он не препятствует диалогу, нахождению компромиссов и созданию приемлемых условий для общежития. Антироссийский психоз был разожжен теперь, через почти 15 лет после ликвидации союзного государства и при явной выгоде экономических отношений с РФ, исключительно как инструмент сплочения революционной толпы на иррациональной основе этнонационализма.
Это достигалось с помощью сильнодействующих символических акций. Так, движение Ющенко «Наша Украина» внесло в Верховную Раду проект закона, признающего бандеровцев ОУН-УПА воюющей стороной и приравнивающего их к ветеранам советской армии. Во Львове местные власти еще в 90-х переименовали улицу Лермонтова в улицу Дудаева, а ул. Мира – в улицу Степана Бандеры. А в Тернополе появилась даже улица имени дивизии СС «Галичина».
Однако нынешняя программа нациестроительства на Украине относится к новой вариации этнонационализма, которая лишь недавно стала предметом изучения и пока условно называется «гетеронационализмом». Это – переплетение двух философски несовместимых течений национализма (евро– и этнонационализма). Дж. Комарофф так определяет этот продукт гибридизации: «Из борьбы между этими двумя идеологическими построениями… рождается третья [идеологема], которую можно, если хотите, назвать «гетеронационализмом». Пока еще безымянный, он представляет собой некоторого рода синтез, стремящийся вместить этнонациональную политику самоосознания в рамки евронациональной концепции политической общности. На языке плюрализма это означает стремление найти место культурному разнообразию в рамках гражданского общества, состоящего из свободных граждан, которые по конституции являются равными перед законом личностями.
Поскольку это идеологическое построение провозглашает в качестве основного принципа право на отличие, то оно дает начало навязчивой практике «поликультурализма», слова презренного, если таковые вообще бывают. Именно по этой причине США, являющиеся, возможно, эпицентром гетеронационализма, оказались ввергнутыми в пучину бурных дебатов, ведущихся по данному вопросу в средствах массовой информации и в учебных заведениях, то есть в основных сферах производства и воспроизводства культуры» [28 с. 60–61][100].
Гетерогенный характер постсоветского украинского национализма хорошо иллюстрируется риторикой самого Л. Кучмы: он по-европейски говорит о нации и национальном государстве, но в качестве главного довода для легитимации этого государства использует типичный прием этнонационализма – память о преступлениях «колонизаторов» против ныне освободившегося украинского народа[101]. Вот формула из его речи на Вечере памяти жертв «голодомора» 22 ноября 2003 г.: «Миллионы невинно убиенных взывают к нам, напоминая о ценности нашей свободы и независимости, о том, что только украинская государственность может гарантировать свободное развитие украинского народа».
Кампания памяти «миллионов невинно убиенных» носит жесткий антисоветский и антисталинский характер и опирается на средства манипуляции сознанием и отключения исторической памяти – ведь, как признают сами украинские историки, в роли «собирателя украинских земель» выступил именно Сталин. И именно советские механизмы подавления этнического национализма позволили избежать необратимого раскола по конфессиональному и языковому признаку, который угрожал Украине в начале ХХ в. В. Грушевский в 1906 г. предупреждал националистов об угрозе формирования двух разных народов на одном этническом фундаменте, ссылаясь на опыт разделения сербов и хорватов [9, с. 160].
Прием этнонационализма – создание образа врага в лице другого народа – был выбран как средство консолидации «нового» украинского народа вполне сознательно, потому что он закладывает мину под попытки интеграции Украины и РФ. В качестве главного преступления «москалей» взят голод 1932–1933 г. Л. Кучма уже назвал эту трагедию «украинским холокостом», пойдя в строительстве нации по пути Израиля, доктрина которого считается в антропологии проявлением жесткого этнонационализма (в доктрине израильского этнонационализма Холокосту придан ранг высшего национального символа). К такому выбору украинских политиков подталкивали и США, где в 1986 г. Конгресс США даже учредил специальную комиссию по изучению этого «холокоста». МИД Украины пытается (пока без особых успехов) добиться от ООН признания «украинского холокоста» актом геноцида и «преступлением против человечества», активную поддержку в этом оказывает Польша[102].
28 ноября 2006 г. Верховная Рада Украины приняла закон «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине». Ст. 2 этого закона гласит: «Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине признано надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным». Таким образом, обязанность верить в некую идеологическую конструкцию, весьма спорную и слабо подкрепленную фактами, предписано на Украине силой закона. Отрицать трактовку событий, которую дает нынешний политический режим, значит совершать противоправное действие. Это – крайняя архаизация правовой системы, откат от уровня современной нации к структурам племенного сознания.
Здесь мы не вдаемся в обсуждение исторических событий на Украине в начале 30-х годов по существу. Независимо от того, имеются ли основания считать голод 1932-33 гг. геноцидом, тем более геноцидом именно украинцев, важен сам способ использования этого исторического события как инструмента пересборки украинского народа на новой основе. Надо сказать, что пропагандистские кампании по созданию образа «Голодомора» проводились до этого уже трижды – нацистами и профашистскими кругами США в 30-е годы, маккартистами после Второй мировой войны и во времена Рейгана. Все эти кампания были операциями информационно-психологической войны против России (СССР). Поэтому важно выяснить, ведется ли нынешняя кампания в русле трех прежних – или она по своем вектору является несовместимой с ними.
Первая кампания была основана на фальсифицированных данных, и фальшивка была разоблачена в самих США (этому посвящена книга Д. Тоттла «Обман, голод и фашизм: миф об украинском геноциде от Гитлера до Гарварда» (Tottle D. Fraud, Famine and Fascism: The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard. – Toronto: Рrogress Books, 1987). Так, например, большинство фотографий, на которых якобы изображены сцены трагедии Украины 1932–1933 гг., было сделано в Западной Европе периода Первой мировой войны.
Примечательно, что нынешние власти Украины и сегодня пользуются разоблаченными фальшивками 30-х годов. Это, в частности, относится к знаменитой фотографии «украинского крестьянина», склонившегося над своей лошадью. Ю. Дергунов пишет: «Центральный государственный фотокиноархив Украины с подачи херстовской печати утверждает, что это «крестьяне около умирающих лошадей» в 1933 г. На самом деле здесь изображен солдат австро-венгерской армии Первой мировой войны» [36].
Таким образом, украинские власти направили ускорившийся в условиях кризиса 90-х годов этногенез по рельсам жесткого этнонационализма. Глава Украинской греко-католической (униатской) церкви кардинал Любомир Гузар сказал об этом: «Память о голодоморе – это нациотворческий элемент… [Это] фундаментальная ценность, объединяющая общество, связывающая нас с прошлым, без которого не может сформироваться единый государственный организм ни сейчас, ни в будущем» (см. [37]).
Помимо мифа о «голодоморе» на Украине спешно вырабатываются и другие мифы как «нациотворческие элементы», чреватые расколами в среде украинцев. Так, например, в целях отстаивания территориальной целостности Украины уже давно был создан миф об украинском казачестве. В новых политических условиях этот миф был «переписан» по-новому. «В связи с продолжающимся российско-украинским спором по поводу Крыма традиционный антитатарский характер казацкой мифологии серьезно изменился, – отмечает современный исследователь. – Для стимулирования сотрудничества между украинским и татарским национальными движениями возрождаются эпизоды такого сотрудничества в прошлом, превращая, таким образом, традиционную казацкую мифологию в царство контрмифов. Будучи по своей природе национальным и антиимпериалистическим, казацкий миф в то же время дает возможность националистическим кругам Украины предъявлять требования на территории, колонизованные казаками в XVII–XVIII вв., но в XX в. включенные в состав Российской Федерации» [32, с. 207].
Опыт стран, пошедших при консолидации нации по пути этнонационализма, показывает, что он чреват риском спровоцировать тяжелые расколы и конфликты внутри общества, а также испортить отношения с ближайшими соседями. Выбор этой политической технологии перенес этнонациональный конфликт внутрь Украины.
Этнокультурное разделение Украины использовалось в политических целях и в ходе кампании по демонтажу СССР во время перестройки, но в настоящее время с помощью этой технологии страну просто взорвали. В преддверии выборов 2004 г. один российский обозреватель писал: «Десятилетие назад во время президентских выборов на Украине не было оснований говорить о возможной балканизации соседней страны, несмотря на то, что отмеченные различия чувствовались и тогда. Ныне напряженность политической ситуации на Украине на порядок выше, что дает почву опасениям по поводу вероятного гражданского конфликта» [38]. В октябре 2006 г. на конференции в Ростове-на-Дону докладчик из Львова сообщил, что, согласно социологическому опросу 2002 г., 37 % респондентов из всех регионов Украины выше всего ставят региональную, а не общеукраинскую идентичность. После «оранжевой» революции популярность региональной идеи еще более возросла – как в Донбассе, так и в Галичине [39].
Однако, по мнению современного наблюдателя, «несмотря на политическую и идеологическую победу национал-патриотов, большинство украинского населения, проголосовавшего за независимость, ассоциирует себя не с националистическим движением или деятелями УНР, а с историческим наследием Советской Украины» [40].
Литература
1. К. Янг. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
2. К. Вердери. Куда идут «нация» и «национализм»? – httр://www.рraxis.su/text/16/
3. О.Ю. Малинова. Либерализм и концепт нации. – ПОЛИС. 2003, № 2.
4. К. Нагенгаст. Права человека и защита меньшинств: этничность, гражданство, национализм и государство. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
5. Э. Геллнер. Нации и национализм. – «Вопросы философии». 1989, № 7.
6. А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоретических парадигм. – «Социологический журнал», 2003, № 3.
7. Б. Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс/Кучково поле, 2001.
8. Кустарев. Национал-государство, его наследники и наследие. – рelag.ru/geoeconomics/kaрital/evolution/heritage/
9. А.И. Миллер. Формирование наций у восточных славян в ХIХ в. – «Русский исторический журнал». 1999, № 4.
10. В.В. Коротеева. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? – Рro et Contra. 1997, № 2 (3).
11. В.И. Ленин. Соч., т. 30.
12. В.И. Ленин. Соч., т. 35.
13. И. Чернышевский. Русский национализм: несостоявшееся пришествие. – Отечественные записки, 2002, № 3.
14. Ф. Бродель. Что такое Франция? М.: Издательство им. Сабашниковых, 1994. Кн. 1.
15. В.А. Тишков. Культурный смысл пространства. – «Отечественные записки» 2002, № 6.
16. Э. Кисс. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические процессы. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
17. С. Лурье. Размышления над притчей о слоне. Теоретические подходы к исследованию национализма. – httр://svlourie.narod.ru/
18. П. Серно. Этнос и демос: дискурсивное построение этнической идентичности. – В кн. Этничность. Национальные отношения. Социальная практика. СПб.: Петрополис. 1995.
19. Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 года. Спб.: Алетейя. 1998.
20. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. Пер. с англ. – М.: Праксис, 2002.
21. Э. Геллнер. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991.
22. В.С. Малахов. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ. 2005.
23. С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции). В кн.: С.Н.Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
24. О. Неменский. Уход с Равнины. – httр://www.aрn.ru, 05.04.2006.
25. И.К. Лавровский. Странострой. – «Главная тема». 2005, № 4.
26. А. Филюшкин. Когда Россия стала считаться угрозой Западу? Ливонская война глазами европейцев. – «Россия-ХХI». 2004, № 3.
27. А.М. Салмин. Церковь, государство и политика в католическом мире. – ПОЛИС, 2005. № 6.
28. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
29. Н. Джавахишвили. Этнорелигиозные стереотипы грузинских студентов. – СОЦИС. 2005, № 3.
30. С.Г. Кара-Мурза, А.А. Александров, М.А. Мурашкин, С.А. Телегин. Революции на экспорт. М.: Алгоритм. 2006.
31. Н.И. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма (главы из монографии). – «Россия ХIХ». 1992, № 1; 1993, №№ 1, 4.
32. И. Торбаков. Историография и современное национальное строительство: становление украинской государственности. – В кн.: «Роль ученых в построении гражданского общества. М.: USIA. 1997.
33. Э. Карр. История Советской России. Т. 1. М.: Прогресс. 1990.
34. Директива Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 года. – В кн.: Th.H. Etzold and J. Lewis Gaddis, eds. Documents on American Рolicy and Strategy, 1945–1950. httр://.
35. И.А. Снежкова. Формирование этнических представлений украинских и русских школьников. – СОЦИС. 2004, № 11.
36. Ю. Дергунов. Индустрия «голодомора». – httр://left.ru/2006/18/dergunov152.рhtml.
37. А. Марчуков. А был ли «голодомор»? – «Россия ХХI», 2004, № 6.
38. Я. Батаков. Балканизация Украины. – «Русский Журнал». 2004, № 2.
39. Э. Попов. – httр:///рole.
40. S. Рlokhi. The History of a «Non-historical» Nation. – «Slavic Review». 1995, Vol. 53, No. 3.
Раздел 5. Становление советского народа
Главная тема этой книги – наш нынешний кризис, фундаментальной причиной которого я считаю проведенный за последние 20 лет демонтаж народа. А главная задача этого труда – наметить методологическую канву для мыслей, рассуждений и, главное, действий по сборке народа нашей страны.
Демонтаж нашего народа проводился (и продолжает проводиться) с помощью высоких технологий, созданных на базе новейшего научного знания. Это – знание об этносах, народах и нациях, наработанное и подготовленное для технологического использования в рамках конструктивизма (хотя конструктивисты-практики для политической мобилизации этничности чаще всего обращаются к свойственному для обыденного сознания примордиализму).
На «конвейер разборки» наш народ поступил в конкретной форме советского народа. Чтобы понять, как производилась «разборка» нашего старого народа, и извлечь уроки, необходимые для сборки нашего народа в его новых формах, надо кратко изложить самые важные для нашей темы сведения именно о советском народе – о его генезисе, скрепляющих его связях, происходивших в нем процессах этногенеза, представлениях об этничности в политической элите и о национальной политике советского государства. Этому и посвящен данный раздел.
Глава 24. Состояние народа России до 1917 г
К концу ХIХ – началу ХХ века народы и народности Российской империи находились на разных стадиях этногенеза. В слабо интегрированных в Империю (Польше и Финляндии) уже было развито национальное самосознание, здесь складывались нации западного типа, стремящиеся к отделению от России. На другом краю спектра были родоплеменные этнические общности, из которых в рамках российской государственности складывались народности.
И. Солоневич писал: «Россия завоевала Кавказ. Не следует представлять этого завоевания в качестве идиллии: борьба с воинственными горскими племенами была упорной и тяжелой. Но ничья земля не была отобрана, на бакинской нефти делали деньги «туземцы» – Манташевы и Лианозовы, «туземец» Лорис-Меликов стал русским премьер-министром, кавказские князья шли в гвардию, и даже товарища Сталина никто всерьез не попрекал его грузинским акцентом…
Русский «империализм» наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, средняя линия, правило заключались в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. Министры поляки (Чарторыйский), министры армяне (Лорис-Меликов), министры немцы (Бунге) в Англии невозможны никак. О министре индусе в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше, но они были для всех. Узбек имел все права, какие имел великоросс, и если башкирское кочевое хозяйство было сжато русским земледельческим, то это был не национальный, а экономический вопрос: кочевое хозяйство есть роскошь, которая сейчас не по карману никому» [1, с. 149].
Царское правительство принципиально отказалось от политики планомерной ассимиляции нерусских народов с ликвидацией этнического разнообразия (как произошло со славянскими племенами в Германии к востоку от Эльбы. Здесь не было этнических чисток и тем более геноцида народов, подобных тем, как очистили для себя Северную Америку англо-саксонские колонисты. Здесь не создавался «этнический тигель», сплавляющий многонациональные потоки иммигрантов в новую нацию (как в США или Бразилии). Здесь не было и апартеида в самых разных его формах, закрепляющего части общества в разных цивилизационных нишах (мы часто слышали об апартеиде ЮАР, но иммигрантские гетто во Франции – тоже вариант апартеида).
В III Государственной Думе представитель мусульманской фракции заявил принципиальную вещь: «Между нашим национальным бытием и русской государственностью никакой пропасти не существует; эти две вещи совершенно совместимы». Как отмечают сегодня специалисты, это – выраженная на современном языке максима этнополитики, исключительно высокая оценка государственности [2]. Какая уж тут «тюрьма народов»!
Даже богатая часть евреев, интересы которой вступили в противоречие с нормами сословного общества и монархической государственности, вовсе не перешла целиком в лагерь противников Империи. Так, автором знаменитой фразы Столыпина «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия!», которую так любят повторять наши «белые» патриоты, был видный еврейский деятель И.Я. Гурлянд. Он и писал речи Столыпину, а тот был прекрасным оратором и зачитывал их – всегда по тетрадке, никогда наизусть [3].
Во внешнем мире Россия в конце ХIХ в. понималась именно как нация, как носитель большой и самобытной национальной культуры. Этот факт, в свою очередь, укреплял и национальное самосознание российской элиты. Евразиец П.Н. Савицкий писал: «В самом процессе «европеизации» произошло «самоутверждение» России в области изящной литературы и изобразительных искусств. Это самоутверждение стало настолько несомненным фактом, что к концу ХIХ и в начале ХХ века духовный «экспорт» России в этих отраслях был, нужно думать, не менее духовного «импорта»…» [4].
Общероссийское сознание зрело и в массе населения. Народы России уже долго жили в одном государстве, пребывание в котором обеспечило им два важнейших для их национальной консолидации и самосознания условия – защиту от угрозы внешних нашествий и длительный период политической стабильности. Уже это стало источником высокого уровня лояльности государству и его символам. Красноречивым признаком ее был тот факт, что татары-мусульмане, не обязанные нести воинскую повинность, сформировали воинские отряды, которые принимали участие в Крымской войне против их единоверцев-турок.
С.В. Волков пишет: «Весьма показателен тот факт, что даже во время польского мятежа 1863 г. лишь несколько десятков из многих тысяч офицеров польского происхождения (а они составляли тогда до ¼ офицерского корпуса), т. е. доли процента, изменили присяге. Практически не встречалось и случаев измен в пользу единоверцев со стороны офицеров-мусульман во время турецких и персидских войн» [5].
Высокая степень равноправия подданных разной национальности, отказ от политики ассимиляции и веротерпимость государства способствовали укреплению и расширению межэтнических связей народов России. У этих народов имелся общий значимый иной – русские, которые были с ними в интенсивных и разнообразных контактах и образ которых был в целом положительным. Шло распространение русского языка и русской культуры, что усиливало связи других народов не только с русским ядром, но и между собой. Эти связи уже имели длинную историю и вошли в этнические предания. Не будет преувеличением сказать, что для большинства полиэтнического населения Российской империи совместная жизнь в одном государстве с русскими ощущалась как историческая судьба[103].
Как же можно определить тип межэтнического общежития, который сложился в России. По всем признакам, в ней складывалась большая полиэтническая нация, но нация своеобразная, не соответствующая тем образцам и понятиям, которые были выработаны на Западе. Поэтому слово «нация» и не употреблялось в отношении подданных Российской империи, это слово подразумевало национализм и ассимиляцию народов, которую как раз и отвергала концепция национально-государственного устройства России. В формулу этой концепции входила «народность» – идея сохранения народов в единой семье.
Либеральные философы не считали это соображение решающим и предлагали признать, что население Российской империи консолидируется в «обычную» нацию. О.Ю. Малинова пишет: «Наиболее последовательно мысль о том, что в России идет процесс формирования единой «гражданской» нации по образцу Соединенных Штатов, выражал П. Струве. Однако на эту тему высказывался и его оппонент – П. Милюков. Выступая в думских прениях, лидер кадетов, в частности, заявил: «Вопреки мнению некоторых о партии, к которой я принадлежу, мы горячо стоим и за единство государства и даже, если бы сложились такие нормальные условия жизни, в которых могла бы создаться русская государственная национальность, мы и эти нормальные условия жизни, и их результат горячо бы приветствовали. Мы считаем, что государство наиболее крепко тогда, когда национальное сознание становится единым, когда население государства одушевлено одной целью, одним идеалом».
Поскольку Милюков выступал против лозунга «Россия для русских», выдвигавшегося правыми, «выковывание государственной нации», по-видимому, означало в его представлении постепенное сближение народов, населяющих единое государство, при условии, что они будут иметь равный правовой статус и что русский язык как язык, обеспечивающий их взаимопонимание и работу во имя общих целей, будет принят добровольно (как английский язык в США)» [6].
Представления Струве наталкивались на почти общее отторжение идеи национализма как идеологии, необходимо включенной в самоосознание гражданской нации. Считалось, что эта западноевропейская идея противоречит идущей из православия всечеловечности русского мировоззрения. К тому же трудности включения национализма в государственную идеологию России были очевидны. Считалось, что Россия – «не нация, а целый мир», многонациональное государство с русским народом в качестве ядра. Основой государственного чувства здесь был не национализм «титульной» нации, как в государствах Запада, а державный патриотизм.
К. Леонтьев объяснял: «Кто радикал отъявленный, то есть разрушитель, тот пусть любит чистую племенную национальную идею; ибо она есть лишь частное видоизменение космополитической, разрушительной идеи». Это противоречие подчеркивал и Г. Федотов: «Задача каждого русского в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит воскресить в нем, в какой-то мере, духовный облик всех народов России». Вл. Соловьев даже считал, что национализм представляет угрозу для русского самосознания, для самого существования народа: «под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, т. е. желает ему зла и гибели».
Вл. Соловьев прямо считал национализм несовместимым с идеей всечеловечности христианства и писал: «Христианская истина утверждает неизменное существование наций и прав национальности, осуждая в то же время национализм, представляющий для народа то же, что эгоизм для индивида: дурной принцип, стремящийся изолировать отдельное существо превращением различия в разделение, а разделения в антагонизм».
Еще менее, чем для гражданского национализма, были в тогдашней России условия для принятия национализма этнического. Реформа 1861 г., предоставив простор для развития капитализма в России, в то же время породила глубокий кризис («Распалась цепь великая, распалась и ударила – одним концом по барину, другим по мужику»). Этот кризис ускорил этногенез и русского народа, и народов «окраин». Происходила ломка хозяйственных укладов, что приводило и к изменению системы этнических связей. В докапиталистической стадии развития хозяйства России отсутствовал уклад городского хозяйства, подобный укладу западных городов с их сложной цеховой организацией ремесленной промышленности и мануфактуры. Основная масса русской мелкой промышленности была рассеяна по деревням. Теперь развивалась городская промышленность с большими фабриками и заводами, формировались новые социальные и культурные типы, новые типы «пространства и времени», новые общности типа трудовых коллективов, в том числе многонациональных.
Изменился уклад деревни, был разорван «общественный договор» между крестьянами и помещиками, резко возросла роль общины в жизнеустройстве деревни. Крестьяне были «освобождены» так, что были обязаны платить за свою землю «выкупные» (их отменили только вследствие революции 1905 г.). Феодальная собственность помещиков стала преобразовываться в частную, что означало резкий перелом в социальных и человеческих отношениях. Исторически в ходе собирания земель, в процессе превращения «удельной Руси в Московскую» шел обратный процесс – упразднение зачатков частной собственности. Некоторые историки именно в этом видят главную задачу опричнины Ивана Грозного. Владение землей стало государственной платой за обязательную службу. Р. Пайпс пишет: «Введение обязательной службы для всех землевладельцев означало… упразднение частной собственности на землю. Это произошло как раз в то время, когда Западная Европа двигалась в противоположном направлении. После опричнины частная собственность на землю больше не играла в Московской Руси сколько-нибудь значительной роли» (цит. по [7]).
При частной собственности на землю аграрное перенаселение в России позволило поднять арендную плату в 4–5 раз выше капиталистической ренты. Поэтому укреплялось не капиталистическое, а трудовое крестьянское хозяйство – процесс шел совершенно иначе, чем на Западе. А.В. Чаянов пишет: «В России в период начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до революции 1917 г. в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого, ибо малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам» [8, с. 143].
В то же время государство с помощью налогообложения стало разрушать натуральное хозяйство крестьян без модернизации, просто заставляя крестьян выносить продукт на рынок, что обеспечивало валютные поступления от экспорта зерна. В середине 70-х годов XIX в. средний доход крестьян с десятины в европейской части России составлял 163 коп., а все платежи и налоги с этой десятины – 164,1 коп. Поэтому практически все крестьяне занимались отхожим промыслом или сочетали земледелие с сезонной работой в промышленности. Резко повысилась мобильность населения.
Все это усиливало связность основной массы населения, которая и превращалась в нацию. И в правительственных кругах, и в среде интеллигенции велись дебаты о ее характере, обсуждался опыт Европы и США, разговор неизбежно шел в понятиях национализма, хотя само это слово было непопулярным. Хороший обзор главных направлений «русского национализма» дан в статье А.И. Миллера [9]. Главный водораздел проходил между национализмом имперским, предполагающим сохранение полиэтнического государства, собранного вокруг ядра «большой русской нации», и идеей создания национального русского государства по типу западных. В обоих случаях под русской нацией понималось триединое образование из великороссов, малороссов и белорусов. Поэтому борьба против украинского национализма имела совсем иной характер, чем отношение к другим национализмам – украинский национализм угрожал целостности самого русского народа.
Однако в условиях кризиса, вызванного распадом сословного общества и вторжением капитализма, процессы резко ускорились и пошли по непредвиденному пути. Горизонтальную солидарность подданных Российской империи стали укреплять социальные угрозы и новый образ враждебного иного – того привилегированного меньшинства и государственной бюрократии, которые все больше противопоставляли себя народу. В ходе этого сплочения наблюдались явления, структурно схожие с теми, которые считаются признаками становления гражданских наций на Западе, например, массовое обращение к прессе.
В 1906–1907 гг. газета стала важным атрибутом крестьянской жизни в России. Вот сообщение мая 1906 г.: «Буквально не было ни одного глухого уголка, откуда бы не несся один вопль: дайте нам газету! По данным статистического отделения московской губернской земской управы, из ответов 700 корреспондентов из 700 деревень губернии выясняется, что газеты или журналы получают в 79 % деревень и на каждую деревню приходится по 2–3 периодических издания». Газеты читали вслух, информацию получала вся деревня. Вот сообщение из газеты «Страна» (10 мая 1906 г.): «Ты, Павел, обратились крестьяне одной деревни Юрьевского у. Владимирской губ. к грамотею, читавшему им долгую зиму газеты, – не паши, не коси, ты читай и нам передавай, а мы за тебя все делать станем». И Павел читал газеты в горячую страдную пору и передавал содержимое своим односельчанам, а они благодарили его и хвалили» [3].
В этих новых условиях сознание подавляющего большинства русского народа формировалось именно как гражданское, а не сословное – складывался общий понятийный язык и общая мировоззренческая матрица. Толстой настойчиво писал о том, что к началу ХХ века произошло знаменательное и для правящих кругов неожиданное повышение нравственных запросов крестьянства. Он обращал внимание на то, что крестьяне вдруг перестали выносить телесные наказания, это стало для них нестерпимой нравственной пыткой, так что стали нередки случаи самоубийства из-за этих наказаний[104]. Наказы и приговоры крестьян 1905–1907 гг., затрагивающие темы человеческого достоинства, поражают своим глубоким эпическим смыслом – сегодня, в нашем нынешнем моральном релятивизме, даже не верится, что неграмотные сельские труженики на своих сходах могли так поставить и сформулировать вопрос.
Когда читаешь эти приговоры и наказы в совокупности, то видишь, что крестьян уже нельзя было удовлетворить какими-то льготами и «смягчениями» – требование свободы и гражданских прав приобрело экзистенциальный, духовный характер, речь велась о проблеме бытия, имевшей даже религиозное измерение. «Желаем, чтобы все перед законом были равны и назывались бы одним именем – русские граждане».
Приговор схода крестьян дер. Пертово Владимирской губ., направленный во Всероссийский крестьянский союз (5 декабря 1905 г.) гласил: «Мы хотим и прав равных с богатыми и знатными. Мы все дети одного Бога и сословных различий никаких не должно быть. Место каждого из нас в ряду всех и голос беднейшего из нас должен иметь такое же значение, как голос самого богатого и знатного» [11, т. 2, с. 252].
Кульминацией созревания российской нации стала, на мой взгляд, революция 1905–1907 г. В тот момент в подавляющем большинстве населения еще были надежды на общественный договор с монархическим государством и привилегированным меньшинством, но в то же время уже возникло, по выражению Т. Шанина, «межклассовое единство низов». А это межклассовое единство и есть система горизонтальных связей солидарности, которая и соединяет людей в гражданские нации.
В социальном, культурном, мировоззренческом отношении крестьяне и рабочие, которые представляли собой более 90 % жителей России, являлись единым народом, не разделенным сословными и классовыми перегородками и враждой. Этот единый народ рабочих и крестьян и был гражданским обществом России – ядром всего общества, составленного из свободных граждан, имеющих сходные идеалы и интересы. Оно было отлично от западного гражданского общества тем, что представляло из себя Республику трудящихся, в то время как ядро западного общества представляло собой Республику собственников. Сословные «оболочки» российского общества (дворяне, буржуазия, чиновничество) утрачивали жизненные силы и даже в краткосрочной перспективе должны были занять подчиненное положение, как это и произошло в советское время на целый исторический период.
В ходе революции 1905–1907 гг. русские рабочие и крестьяне обрели столь сильно выраженное гражданское чувство, что стали народом даже в том смысле, какой придавали этому слову якобинцы – революционным народом, спасающим Отечество. Но в этом смысле слово «народ» есть просто синоним слова «нация». Более того, это «русское гражданское общество» было очень развитым и в смысле внутренней организации. Если на Западе после рассыпания общин и превращения людей в «свободные атомы» потребовалось около двух веков для того, чтобы из этой человеческой пыли начали складываться ассоциации для ведения борьбы за свои права и интересы (партии, профсоюзы и т. д.), то Россия эти структуры унаследовала от своей долгой истории. Такой структурой, принимавшей множественные и очень гибкие формы, была община, пережившая татарское иго и феодализм, абсолютизм монархии и наступление капитализма. Соединение большинства граждан в общины сразу создавало организационную матрицу и для государственного строительства и самоуправления, и для поиска хозяйственных форм с большим потенциалом развития.
Однако созиданию российской нации противодействовал целый ряд процессов разрушения скрепляющих ее связей. Эти процессы преследовали разные цели, за ними стояли разные социальные силы, но объективно они сходились в главном – они вели демонтаж культурного ядра русского «имперского» народа и той своеобразной гражданской нации, которая возникала в ходе революции 1905–1907 гг.
Демонтаж «имперского» русского народа (в терминах марксизма «феодальной нации») вели практически все западнические течения – и либералы, и революционные демократы, и, затем, социал-демократы. В какой-то мере в этом участвовали и анархисты с их радикальным отрицанием государства.
Социальной базой всех этих движений было «служилое сословие» – офицерство и чиновничество из дворян – и разночинное студенчество затем вливалось в это сословие. Особой частью этого сословия была и интеллигенция (в 1875 г. 46 % студентов университетов были бывшими семинаристами). Сословное общество переживало кризис и под воздействием наступающего капитализма, и под ударами крестьянства, которое уже не могло терпеть сословные притеснения помещиков и власти, но в то же время не желало принимать и программы капиталистического раскрестьянивания. Для большинства русских (крестьян и рабочих) дворянство, буржуазия и чиновничество стали чужим народом (во время Первой мировой войны – «внутренним немцем»).
В свою очередь, крестьяне (как сельские, так и «орабоченные») стали для «служилого сословия» враждебным иным – народом, угрожающим их цивилизационным устремлениям. Против них были и консерваторы, пытавшиеся сохранить структуры сословного общества, и модернизаторы (и либералы, и марксисты), ожидавшие, что капитализм расчистит пространство России для «правильного» общества. Русофобия, направленная именно на «имперское» большинство русского народа, была одинаково присуща и правым, и левым.
Здесь надо отметить важную особенность формирования правящего сословия в России. Его костяк во время реформ Петра I составило дворянство, которое к началу ХVIII в. насчитывало около 30 тыс. человек. В отличие от Запада, оно было Петром «открыто снизу» – в него автоматически включались все, достигшие по службе определенного чина. Уже в начале 1720-х годов имели недворянское происхождение до 30 % офицеров, а в конце ХIХ в. 50–60 %. Так же обстояло дело и с чиновничеством – в конце ХIХ в. недворянское происхождение имели 70 % [5]. Таким образом, Россия была единственной страной, где пополнение дворянства не только шло через службу, но и происходило автоматически[105].
Стоит, кстати, сказать, что служилый слой России был, по сравнению с Западом, немногочисленным – дворяне и классные чиновники вместе с членами семей составляли 1,5 % населения. Хотя и в царское, и в советское время нашим западникам удалось внедрить в массовое сознание миф о колоссальной по масштабам российской бюрократии (всегда уходя от прямых сравнений с Западом), реальность этому мифу прямо противоположна. На «душу населения» в России во все времена приходилось в 5–8 раз меньше чиновников, чем в любой европейской стране. О США и говорить нечего – в начале ХХ века в Российской империи было 161 тыс. чиновников (с канцеляристами 385 тыс.), а в США в 1900 г. было 1275 тыс. чиновников, при населении в 1,5 раз меньшем [5].
Но здесь для нас важнее тот факт, который подчеркивает С.В. Волков – культурная матрица старого дворянства была столь крепкой, а общие условия сословного общества столь сильно структурированными, что новое пополнение дворянства полностью ассимилировалось средой и не меняло ее установок и стереотипов. Рекрутируя в свои ряды разночинцев «из народа», дворянство тем не менее с народом не сливалось. Сходное явление мы наблюдали и в Советском Союзе при пополнении интеллигенции молодежью из рабочих и крестьян, и в странах Восточной Европы за 40 послевоенных лет.
Каковы же были установки ядра российского дворянства с точки зрения нашей темы? Прежде всего, аристократизм и элитизм, забота о поддержании такой дистанции от «простонародья», которая считалась необходимой в каждый исторический момент. Это непосредственно касалось отношения к важной части мировоззренческой матрицы, на которой был собран «имперский» русский народ – православию. Дети российской аристократии воспитывались французскими гувернерами и учителями, часто иезуитами. Многие дворяне не понимали язык богослужения. Русское духовенство в гостиные домов высшего общества не пускали, а священники не могли выслушать исповедь на французском языке.
Л.Н. Толстой разделял людей этого круга на четыре категории: 1) очень небольшая группа глубоко религиозных людей, прошедших через масонство, 2) люди, равнодушные к религии, но по привычке исполнявшие церковные обряды (таких около 70 %), 3) неверующие, исполняющие обряды по необходимости, 4) вольтерьянцы, открыто выражавшие свое неверие (2–3 %).
В конце ХIХ века типичный русский интеллигент был безразличен или враждебен религии. Большинство были сознательными атеистами. Демократическая молодежь из средних слоев прошла этап европеизации-секуляризации как нигилистическое отрицание православной культуры, под сильным влиянием статей Чернышевского, Добролюбова и Писарева.
В начале ХХ века, как и в начале ХIХ, «образованное общество» испытало увлечение религиозным синкретизмом – мистицизмом, восточными религиями, теософией и оккультизмом. Это говорило не столько об атеизме, сколько об изживании «религиозного органа». Оно создавало вакуум, который заполнялся идолами, например, идолами прогресса и демократии. Сдвиг к идолатрии, к внерелигиозным культам (примером их может быть масонство), с тревогой отмечался многими деятелями культуры. Разрыв с традицией был пафосом философии западников. Историк-эмигрант В.Г. Щукин так характеризует эту часть интеллигенции: «В отличие от романтиков-славянофилов, любая сакрализация была им в корне чужда. Западническая культура носила мирской, посюсторонний характер – в ней не было места для слепой веры в святыню… С точки зрения западников время должно было быть не хранителем вековой мудрости, не «естественным» залогом непрерывности традиции, а разрушителем старого и создателем нового мира» [12]. Те философы, которые «вернулись» в православие (в большинстве своем пройдя через марксизм), увлекались интеллектуальными и богословскими изысканиями.
Религиозное диссидентство и отрицание национальной традиции – при том, что «по долгу службы» приходилось демонстрировать им лояльность (как в советское время интеллигенции приходилось демонстрировать лояльность официальной идеологии) – неизбежно порождало русофобию. Даже в самом патриотическом сознании, как это выразилось в фигуре Чаадаева. В.В. Кожинов убедительно показывает, что Чаадаев был патриотом России, но ведь одновременно и ее ненавистником. Поэт Н.М. Языков, умирая, написал о Чаадаеве:
Вполне чужда тебе Россия, Твоя родимая страна! Ее предания святые Ты ненавидишь все сполна.При этом надо учесть, что из истории мы почерпнули представление о том, что западники и славянофилы боролись в России за умы образованного слоя как два течения примерно одинаковой силы. Это не так, влияние западников явно преобладало. Даже работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», впервые в мировой науке давшая анализ цивилизаций и предвосхитившая труды А. Тойнби и П. Сорокина, была издана в Петербурге в 1871 г. тиражом 1200 экземпляров – и к моменту смерти автора в 1885 г. тираж так и не был распродан.
Элита народа, обретшая такое самосознание, множеством способов ослабляет и разрушает мировоззренческую матрицу, соединяющую людей в народ, а также те механизмы, которые призваны эту матрицу обновлять и «ремонтировать». Так, например, произошел откат от русской классической литературы, которая на этапе распространения грамотности должна была бы стать (и стала в советское время) важным средством укрепления национального сознания. В.В. Розанов писал: «Совершилось то, что, например, в семидесятых и половине 80-х годов прошлого века сочинения Пушкина нельзя было найти в книжных магазинах. Я помню эту пору: в магазинах отвечали – «не держим, потому что никто не спрашивает!» [13].
Для Розанова отношение элиты российского общества к Пушкину было признаком нарастания беспочвенности. Он писал в 1912 г.: «Если бы Пушкин не только изучался учеными, а вот вошел другом в наши дома, – любовно прочитывался бы, нет – трепетно переживался бы каждым русским от 15 до 23 лет, он предупредил бы и сделал невозможным разлив пошлости в литературе, печати, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже. Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, его благородство предохраняет от всего пошлого… Но нашему министерству просвещения «хоть кол на голове теши» – оно ничего не понимает… Какая-то удивительно чистая кровь – почти суть Пушкина. И он не входит в «Курс русской словесности», а он есть вся русская словесность» [14, с. 365–367].
Замечу, что нам по инерции советского времени кажется немыслимым, что Пушкин не входил в «Курс русской словесности». А ведь это важный факт. Пушкин «вошел другом в наши дома» именно потому, что было понято значение его ума и его благородства для сплочения нашего народа, уже как советского. И соответственно проводилась и политика Министерства просвещения СССР, и издательская политика.
То же самое происходило с преподаванием истории. В статье «Беспочвенность русской школы» Розанов пишет: «Пора нашему просвещению снять «зрак раба», который оно носит на себе… Но дело лежит гораздо глубже, потому что и самый материал образования, с которым непосредственно соприкасается отроческий и юношеский возраст всей страны, есть также не русский в 7/10 своего состава. То есть незаметно и неуклонно мы переделываем самую структуру русской души «на манер иностранного» [14, с. 235–236].
Розанов приводит данные, в которые трудно поверить: на весь курс русской истории, который дается в трех классах гимназии, отведено в сумме 56 часов, то есть 1/320 часть учебного времени восьмиклассной гимназии. Он продолжает: «На «нет» сводится роль исторического воспоминания в душе почти каждого образованного русского. Удивляться ли при этой постановке дела в самом зерне его, что мы на всех поприщах духовной и общественной жизни представляем слабость национального сознания, что не имеем ни привычек русских, ни русских мыслей, и, наконец, мы просто не имеем фактического русского материала как предмета обращения для своей хотя бы и «общечеловеческой» мысли?» [14, с. 237].
Левая часть образованного слоя интенсивно разрушала образ монархического государства, подрывая его роль как символа национального сознания. Н. Добролюбов еще студентом писал о Николае I, апеллируя к Западу: «Но как могла Европа сносить подобного нахала, который всеми силами заслонял ей дорогу к совершенствованию и старался погрузить ее в мракобесие?» [15]. Народники повели демонтаж «имперского» народа при помощи террора как исключительно сильного символического действия.
Разлагающий связность «старого» народа смысл всей этой деятельности был достаточно ясен. С.Н. Булгаков писал в 1908 г: «Если мировоззрение самой интеллигенции, которое она несет народу, останется тем же, что и теперь, то и характер влияния ее на народ не изменится; оно будет только расти количественно. Но нельзя, конечно, и думать, чтобы интеллигенции, по крайней мере в обозримом будущем, удалось обратить в свою веру всю народную массу, часть ее во всяком случае останется верна прежним началам жизни. И на почве этого разноверия неизбежно должна возникнуть такая внутренняя религиозная война, подобие которой следует искать только в войнах реформационных. При этом духовная и государственная сила народа будет таять и жизнеспособность государственного организма уменьшаться до первого удара извне» [16].
Этот сдвиг интеллигенции был усилен влиянием на ее сознание марксизма, который, вплоть до 1907 г., своим авторитетом сильно укреплял позиции западников, особенно после дискредитации народников. Хотя работы Маркса и Энгельса, исполненные русофобии, в России широкой гласности не предавались, косвенно они разлагающе действовали на национальное сознание интеллигенции.
Как вспоминает меньшевичка Лидия Дан, сестра Мартова, в 90-е годы ХIХ в. для студента стало «почти неприличным» не стать марксистом. Анализируя воспоминания Л. Дан о самой себе, своих братьях и сестрах, Л. Хеймсон делает вывод об установках этого типа меньшевиков «из санкт-петербургских кругов ассимилированной высокой еврейской культуры». Он выделяет такие позиции: «отношение превосходства к крестьянству» (при одновременном незнании его и деревни вообще), их глубоко городской взгляд на мир… их «книжный» характер («мы мало знали о жизни, у нас уже был сложившийся взгляд, заимствованный из книг») и превышающая все остальное их интеллектуальная элитарность».
Л. Хеймсон подчеркивает особую роль, которую сыграли в формировании мировоззрения меньшевистской молодежи марксистские произведения Г.В. Плеханова: «В этих работах молодежь, пришедшая в социал-демократию, нашла опору для своего бескомпромиссного отождествления с Западом и для своего не менее бескомпромиссного отвержения любых форм российской самобытности» [17][106].
В целях обретения союзников в борьбе против имперского государства, прогрессивная интеллигенция со второй половины ХIХ в. вела непрерывную кампанию по дискредитации той модели межэтнического общежития, которое сложилось в России, поддерживала сепаратистские и антироссийские движения – в Польше и в Галиции. Миф о «бесправии» украинцев использовался для экстремистских нападок на царизм, но рикошетом бил и по русским как народу. Ленин писал в июне 1917 г. (!): «Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке» [18].
Какие «палачи украинского народа»? В Российской империи все православные славяне были совершенно равноправны, и малороссам была открыта любая карьера. Даже их браки с русскими не считались смешанными. В начале ХХ в., когда в русском национализме в условиях тяжелого кризиса возникла ксенофобия, а русскость стала частью общества трактоваться в терминах этнического национализма, малороссов и белорусов не причисляли к «инородцам», а считали частью единой этнической общности – русского народа. Об этом даже особо не говорили, так как считалось естественным.
Но в целом воздействие символического образа России как «тюрьмы народов» было очень сильным. Этот образ разрушал этническое самосознание русского народа («народ-угнетатель»!), порождал комплекс вины, обладающий разъедающим эффектом для национального сознания (это наглядно показала перестройка в конце ХХ в.). Этот образ, абсолютно противоречащий реальности, был введен в обиход в конце ХIХ в., но выражения типа «великорусы – нация угнетающая» мы знаем уже из социал-демократической литературы. Разница между большевиками и другими течениями в образованном слое России была в том, что большевики активно включились в сборку нарождавшейся российской нации уже в форме советского народа и стали необходимым участником этой программы[107].
Но в 1915 г. Ленин писал: «Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России: великороссы составляют только 43 % населения, т. е. менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения России около 100 миллионов угнетены и бесправны… Теперь на двух великороссов в России приходится от двух до трех бесправных «инородцев»: посредством войны царизм стремится увеличить количество угнетаемых Россией наций, упрочить их угнетение и тем подорвать борьбу за свободу и самих великороссов» [20][108].
Примечательно и такое суждение Ленина (1914 г.): «Экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами» [21]. В этих суждениях Ленин, на первый взгляд, выступает как русский антиимперский националист. В современной классификации русских национализмов есть такая категория: «Можно было быть русским националистом, отрицая империю, считая, что ее сохранение наносит ущерб интересам русской нации, и ратуя за создание на этом пространстве ряда независимых национальных государств, в том числе русского национального государства» [9]. Таковыми были русские националисты времен Горбачева, разрушавшие Советский Союз. В действительности Ленин был «имперским» националистом и доказывал «всем народам» необходимость пересборки Российской империи на иных основаниях.
Не будем здесь разбирать подробно миф о «тюрьме народов» и «бесправных инородцах». Упомянем лишь такой общеизвестный факт, что «инородцы» нехристианских вероисповеданий вообще никогда не состояли в крепостной зависимости, а для крестьян прибалтийских народов крепостная зависимость были отменена еще при Александре I. В тот момент, когда в США шла борьба за отмену рабства насильно завезенным туда инородцам, в России происходило освобождение от крепостной зависимости большой части «имперской нации».
Менее известен тот совершенно немыслимый в «западных» империях факт, что в Российской империи борьба инородцев за свои права начиналась чаще всего при попытках правительства уравнять их в правах с русскими. Так, в начале 90-х годов как пример национального угнетения в России приводили крупную волну эмиграции российских немцев в 80-е годы ХIХ в. Но эта эмиграция была вызвана именно тем, что на немецких колонистов распространили общий статус русских сельских жителей (см. [22, с. 79]).
Другой антирусский миф, оживленный во время перестройки, гласил о «рабстве» русских, как называли крепостное право. Часто поминали фразу из романа Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». Ленин писал в 1913 г. о реформе 1861 г.: «Теперь, полвека спустя, на русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на неграх [в США]. И даже было бы точнее, если бы мы говорили не только о следах, но и об учреждениях» [23].
В целом, когда в условиях пореформенного кризиса русский «имперский» народ стал «пересобираться» в гражданскую (но антибуржуазную) нацию, возник глубокий раскол между массой и элитой, которая в сфере общественного сознания была представлена интеллигенцией. Этот раскол приобрел характер разделения на два враждебных народа. Г. Флоровский писал: «Завязка русской трагедии сосредоточена именно в факте культурного расщепления народа. Разделение «интеллигенции» и «народа» как двух культурно-бытовых, внутренне замкнутых и взаимно-ограниченных сфер есть основной парадокс русской жизни» [24].
Это расщепление стало очевидным именно вследствие того, что «народ» после реформы стал обретать национальное самосознание, а значит, стал превращаться в политическую силу. До этого о «расщеплении» не шло речи потому, что народ просто не имел статуса субъекта истории. Так же обстояло дело и в Европе – «неассимилированные в культуру доминирующего центра крестьяне вполне в традициях колониального дискурса описывались как дикари и сравнивались с американскими индейцами» [9].
С этих позиций отрицали саму проблему «расщепления» консервативные русские националисты. Они исходили из «предмодерной» концепции нации, считая, что в нее входит только привилегированное сословие. Влиятельный публицист Р.А. Фадеев писал в 1874 г. в известной книге «Чем нам быть?»: «Русская жизнь сложила лишь два пласта людей – привилегированный и непривилегированный, отличающиеся между собой в сущности не столько привилегией, как тем коренным отличием, что они выражают, каждое, различную эпоху истории: высшее сословие – ХIХ в., низшее – IХ в. н. э. … Сознательная сила русской нации равняется тому ее количеству, которое заключается в дворянстве» [25][109].
После 1905 г. стал быстро нарастать социальный расизм дворянства и буржуазии в отношении крестьян. И.Л. Солоневич пишет: «Бунинские «Окаянные дни», вышедшие уже в эмиграции, полны поистине лютой злобы – злобы против русского народа» [1, с. 193]. Либеральная интеллигенция от народопоклонства метнулась к русофобии.
В начале ХХ в. русофобия распространилась в интеллектуальной элите России – влиятельной части гуманитарной и творческой интеллигенции. Это не могло не разрушать связи, соединявшие старый народ Российской империи, но в то же время сплачивало русское простонародье, ускоряло становление «нового», советского народа. Красноречивы установки И.А. Бунина, который обладал большим авторитетом и как писатель, и как «знаток русского народа». Он часто встречался с видными историками, которые в 1916 г. собирались у академика С.Б. Веселовского, с которым у Бунина завязалась большая дружба. Сын академика Всеволод вел записи бесед на этих собраниях.
Вот как он резюмирует высказывания Бунина «о русском народе»: «Отношение к народу у Бунина соединено с пессимизмом, в основе которого признание бессилия разума в исторической жизни… От дикости в народе осталось много дряни, злобности, зависть, жадность. Хозяйство мужицкое как следует вести не умеют. Бабы всю жизнь пекут плохой хлеб. Бегут смотреть на драку или на пожар и сожалеют, если скоро кончилось. По праздникам и на ярмарках в бессмысленных кулачных боях забивают насмерть. Дикий азарт. На Бога надеются и ленятся. Нет потребности улучшать свою жизнь. Кое-как живут в дикарской беспечности. Как чуть боженька не уродил хлеб – голод…
Профессора не согласились с этими высказываниями Бунина. Нельзя все мерить на свой интеллигентский аршин. То, что для интеллигента дикость, есть состояние народной массы и притом естественное состояние – ступень в его историческом развитии» [26, с. 14–15].
Профессора заступились за народ примерно так же, как этнографы – просвещенные расисты заступаются за дикарей перед расистами грубыми. «Естественное состояние»! При этом академик Веселовский, судя по его дневникам, – либерал и даже социалист[110]. Но он, «один из ведущих исследователей Московского периода истории России ХIV-ХVII веков», рассуждает как русофоб и крайний западник[111]. Он пишет в дневнике: «Еще в 1904–1906 гг. я удивлялся, как и на чем держится такое историческое недоразумение, как Российская империя. Теперь мои предсказания более, чем оправдались, но мнение о народе не изменилось, т. е. не ухудшилось. Быдло осталось быдлом… Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить и развивать дальше европейскую культуру и выработать прочное государство, как и другие ветви, раньше впавшие в рабство. Великоросс построил Российскую империю под командой главным образом иностранных, особенно немецких, инструкторов» [26, с. 31].
В другом месте он высказывается даже определеннее: «Годами, мало-помалу, у меня складывалось убеждение, что русские не только культурно отсталая, но и низшая раса… Повседневное наблюдение постоянно приводило к выводу, что иностранцы и русские смешанного происхождения даровитее, культурнее и значительно выше, как материал для культуры» [26, с. 38]. Или еще: «Когда переходишь от русских писателей к иностранным, то начинает казаться, будто попал из притона хитрованцев и хулиганов или из дома умалишенных в общество нормальных и порядочных людей. Со времени Гоголя пристрастие русских писателей к подлому, пошлому, уродливому и болезненному росло по мере проникновения в литературу полукультурных, талантливых и бездарных разночинцев» [26, с. 86].
Такое отношение со стороны элиты, образованного слоя, разрушительно действовало на этнические связи, даже сплачивая массы ответной неприязнью. Русофобия создавала общий духовный климат, который отравлял «воздух общения». Воздействие его было «молекулярным», но постоянным, оно подтачивало не только легитимность государства, но и легитимность самого народа как целого, омрачало в каждом человеке ощущение права народа на существование. Советские люди полной мерой хлебнули этнической ненависти к «совку», за которой скрывалась классическая русофобия, в годы перестройки и в начале 90-х годов.
Каково было чувствовать себя подавляющему большинству русских людей, зная о той ненависти, которые они вызывают у образованной части своих же русских людей. Об этой ненависти писал Толстой, но она просачивалась вниз, в массовое сознание: «Вольтер говорил, что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удовольствия. Отчего же не говорить правду? Если бы, пожавши пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было бы убить мужика в Царевококшайском уезде и никто бы не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки, если бы это могло им доставить хоть малейшее удовольствие. И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская жизнь, все то, что не переставая происходит по всей России. Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода… богачи не сидят с своими запасами хлеба, ожидая еще больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с работы?» [27].
Эту ненависть невозможно было скрыть. Вот письмо помещика от 6 июня 1906 г., перлюстрированное полицией. В нем видно, как сознание привилегированных слоев сдвигается к дремучему социал-дарвинизму: «А дела-то дрянь! Черт их возьми, прямо выхода, кроме драки, не видно. Народ озверел. Все эти забастовки и аграрные беспорядки, по-моему, создались на почве зависти к сытому и богатому со стороны голодного и бедного. Это такое движение, которое не поддается убеждению, а разрешается битвой и победой. Впрочем, что же – война, так война. Только противно видеть, что поднялись самые подлые страсти. Бедность, голод и т. д. вовсе не от того что у крестьян мало земли или плохо платят за работу, а от неумения работать, от необразованности и лени» [28, с. 36].
Государство в этом разрушительном повороте «служилого сословия» встало на сторону привилегированных слоев – и углубило раскол народа, а затем и кризис этнического самосознания русских. Начался отход крестьян от государства. Приговор крестьян дер. Стопино Владимирской губ. во II Госдуму в июне 1907 г. гласил: «Горький опыт жизни убеждал нас, что правительство, века угнетавшее народ, правительство, видевшее и желавшее видеть в нас послушную платежную скотину, ничего для нас сделать не может… Правительство, состоящее из дворян чиновников, не знавшее нужд народа, не может вывести измученную родину на путь права и законности» [11, т. 2, с. 239].
Попытка модернизации села через разрушение общины при сохранении помещичьего землевладения («реформа Столыпина») лишь ухудшила положение большинства крестьян[112]. Это породило острую духовную проблему. Церковь стала утрачивать свой авторитет, скреплявший национальное сознание. Начиная с 1906 г. из епархий в Синод стал поступать поток донесений о массовом отходе рабочего люда от церкви. В 1906 г. один из сельских сходов направил в Государственную Думу свое решение закрыть местную церковь, так как «если бы был Бог, то он не допустил бы таких страданий, таких несправедливостей». Расширился охват крестьян сектантством. В народных религиозных верованиях, например, в тайных псалмах духоборцев, «детьми Каина» назывались «зараженные сребролюбием господа», а «детьми Авеля» – бедные люди, которые «питаются трудом».
Действия властей вели к распаду духовных связей и внутри привилегированного слоя. Разрушительный эффект имело разоблачение в 1908 г. Е.Ф. Азефа, который состоял на службе в Департаменте полиции и одновременно был членом ЦК партии эсеров и руководителем ее боевой организации, осуществлявшей террористические акты. Дело Азефа потрясло российское общество, авторитет государства резко пошатнулся. Один депутат в Госдуме сказал на слушаниях: «Нет ни одного уголовного процесса на политической почве, в котором не присутствовал бы и не играл бы своей роли провокатор. Провокация Азефа отличается от других только тем, что она более красочна и по составу убивающих, и по составу лиц убиваемых. Но она решительно по принципу ничем не отличается от всех обыкновенных политических провокаций, которые есть альфа и омега нашего политического управления».
Горький, которому о деле Азефа сообщила Е.П. Пешкова, писал 15 января 1909 г.: «Письмо твое – точно камень в лоб, у меня даже ноги затряслись и такая тоска, такая злоба охватила – невыразимо словами, впечатление оглушающее» (см. [29]). С.Н. Булгаков также отметил: «Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом» [30]. Он был не вполне точен – значение дела Азефа как раз было оценено, не обязательно гласно.
Тяжело повлияла на самосознание русских и неудача в русско-японской войне. Эта неудача заставила даже бюрократию усомниться в способности царского самодержавия отвечать на исторические вызовы. Бывший директор Департамента полиции А.А. Лопухин отмечал (в 1923 г.), что «признание негодности данного политического строя проникло в бюрократическую среду и быстро претворилось там в сознание его конца, чем последний и был ускорен». Действительно, русско-японская и Первая мировая война показали кризис всех «институциональных матриц», которые определяли состояние народа и государства. В обоих случаях русская армия, в общем, потерпела поражение, имея двукратное превосходство в живой силе. В русско-японской войне численность русских войск составляла 946 тыс. против 437 тыс. японских. А в мае 1917 г. на восточном театре военных действий против 219 русских и 6 румынских дивизий воевала 71 дивизия германских войск и 44 дивизии союзников Германии [7].
Давление и даже репрессии власти в ходе революции не возымели действия. С декабря 1905 г. по май 1906 г. в России было казнено более 500 человек и сослано до 20 тысяч. В период выборов в I Государственную думу на военном положении находилась 41 губерния, а к моменту открытия Госдумы в тюрьмы было заключено по политическим мотивам более 70 тыс. человек. И тем не менее вот как голосовали крестьяне, для которых выборы были четырехстепенные (!). При избрании выборных на волостных сходах было взято за правило выбирать «из молодежи, побывавших на стороне, не обладающих имущественным достатком». В Тамбовской губернии на 12 депутатских мест прошли: 10 крестьян, 1 рабочий и 1 священник. Эту Госдуму пришлось распустить через 72 дня [3].
На глазах шел распад общественной морали, которая скрепляла народ. Его резко ускорило насильственное разрушение крестьянской общины как центра жизнеустройства, в том числе как инстанции, задающей в деревне иерархию авторитетов и культурных норм. Разрушение общины при одновременном обеднении крестьянских масс вызвало вспышку массового насилия. Журнал «Нива» писал в 1913 г. о неведомой ранее тяжелой социальной болезни России – деревенском хулиганстве:
«О том, что такое хулиганство и каковы его корни, не имеют даже приблизительного представления ни публицисты, которые пишут громовые статьи, ни администраторы, сочиняющие о нем канцелярские проекты. И те, и другие называют хулиганство чисто деревенским озорством. Но это озорство убийц и разрушителей, оперирующих ножом и огнем. В буйных проявлениях своих оно связано с абсолютным отсутствием каких бы то ни было нравственных и гражданско-правовых условий. Ничто божественное и человеческое уже не сдерживает…
Несомненно, во всероссийском разливе хулиганства, быстро затопляющего мутными, грязными волнами и наши столицы, и тихие деревни, приходится видеть начало какого-то болезненного перерождения русской народной души, глубокий разрушительный процесс, охватывающий всю национальную психику. Великий полуторастамиллионный народ, живший целые столетия определенным строем религиозно-политических понятий и верований, как бы усомнился в своих богах, изверился в своих верованиях и остался без всякого духовного устоя, без всякой нравственной опоры. Прежние морально-религиозные устои, на которых держалась и личная, и гражданская жизнь, чем-то подорваны… Широкий и бурный разлив хулиганства служит внешним показателем внутреннего кризиса народной души» [31].
Этот кризис, в начале ХХ века, самосознания «имперского» русского народа отражен во многих текстах современниками. В 1907 г. В.И. Никольский даже применил странные, но точные слова – писал о «существующих в настоящее время признаках безнародности и обезнародования русских». Его анализ причин нельзя считать удовлетворительным, но он верно описал многие стороны явления «денационализации» русских [32].
Вот наблюдения одного из виднейших историков, академика С.Б. Веселовского. Он западник, но за его слишком эмоциональными оценками все же есть и рациональное содержание – констатация глубокого неблагополучия. Он пишет в мае 1917 г.: «Одна из причин разложения армии – та, что у нее, как и у большинства русских, была уже давно утрачена вера в свои силы, в возможность победить… Вот уж подлинно, навоз для культуры, а не нация и не государство… Упадок уже наметился и стал для меня ясным в последнее пятилетие перед русско-японской войной» [26, с. 23–24].
Сегодня не может не поражать, насколько система обвинений в адрес имперского государства в начале ХХ в. совпадает с обвинениями против Советского Союза в конце ХХ в. Революционные демократы начала ХХ в. представляли Россию «тюрьмой народов», а русских – эксплуатирующей нацией, а историк С.Б. Веселовский обвиняет Россию за то, что она истощила русский народ имперской ношей. Точь-в-точь как «демократы» и «патриоты» в конце 80-х годов.
С.Б. Веселовский пишет: «Одной из главных причин, почему Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, который так неожиданно для многих пал с такой сказочной быстротой, мне кажется то, что мы во время величайшего столкновения народов оказались в положении народа, еще не нашедшего своей территории. То есть: мы расползлись по огромной территории, не встречая до недавнего времени на своем пути сильных соседей-врагов, растаскивали, а не накопляли хозяйственные и духовные свои богатства, и истощили основное ядро государства – великорусскую ветвь славян – на поддержание колосса на глиняных ногах» [26, с. 28–29].
Демонтаж народа, уже обретшего национальное самосознание, есть один из наиболее болезненных вариантов гражданской войны, хотя и войны плохо различимой. Эта холодная гражданская война в начале ХХ в. велась и против большого русского народа, и против сложившейся вокруг него системы межэтнического общежития. Полученные при этом травмы ускорили созревание революции и предопределили ее глубину и страсть. Такая революция требовалась и для становления нарождающейся нации, и для обретения новой силы российской государственностью.
А.И. Фурсов пишет: «Отклонения в историческом развитии бывают у маленьких стран. У стран-миров, стран-гигантов типа России девиаций не бывает. Коммунистический строй был абсолютно логичен и закономерен в рамках эволюции России с ХVI в. как с точки зрения власти, так и с точки зрения населения. С точки зрения власти, это было полное очищение последней от всех «классово-собственнических привесков» – эта тенденция пробивала себе путь с ХVI в. С точки зрения населения, которое в России никогда не было ни частнособственническим, ни классово-эксплуатируемым… комстрой оказался положительной формой «неклассовости»…
Большевизм был логически закономерным, кризисным и хирургическим выходом из страшной ситуации… Россия в начале 1900-х шла к кошмарному состоянию, похожему на то, в котором РФ оказалась в конце 1990-х. Хотите добольшевистскую, «нормальную» Россию? Тогда неизбежно получите и большевизм» [33].
Пафос А.И. Фурсова понятен, но неизбежности большевизма нет, как невозможно воспроизвести добольшевистскую Россию. Сейчас, чтобы предвидеть возможные образы будущего, нам надо упорядочить знание о недавнем прошлом.
Глава 25. Становление советского народа. Главные условия
Как уже говорилось, к началу Первой мировой войны и русской революции 1917 г. Россия подошла в состоянии интенсивного этногенеза, который захватил и главное ядро российской этносоциальной общности – русский народ, – и входящие в Российскую империю народы.
В ходе глубокого кризиса, возникшего после реформы 1861 г., в сословном обществе, государстве и хозяйстве Российской империи противоречия сложились в систему порочных кругов, которую Вебер назвал исторической ловушкой. Положение ухудшалось, и революции ждали как последнего способа остановить этот распад. Видный деятель земства Д.Н. Шипов считал даже, что революция не просто стала необходимой для возрождения общества, она была необходима срочно, и чем скорее она произойдет, тем менее разрушительной станет. И так думал не только либерал Шипов. В июне 1905 г. в Петербурге прошло совещание 26 губернских предводителей дворянства, которое поддержало требования земцев о проведении конституционных реформ. В записке, поданной царю, содержалась важная и глубокая мысль: «Роковое стечение обстоятельств таково, что, если бы удалось силою отсрочить революцию, не устранив ее причин, каждый месяц такой отсрочки отозвался бы в грядущем несоразмерным усилением ее кровавой беспощадности и безумной свирепости» [34, c. 156].
Социальное чувство угнетенных и эксплуатируемых тружеников приобрело в России окраску национального чувства угнетенного народа, а такое соединение всегда придает движению удивительную силу и упорство. Вот приговор сельского схода дер. Коптевка Богородицкого уезда Тульской губ. в Трудовую группу I Госдумы (июль 1906 г.): «Мы не можем защищать своих интересов даже совершенно мирными средствами: наши мирные села превращаются в военные лагери, а нас ставят в положение покоренного народа, с которым можно во всякое время расправиться шашками и нагайками, прикрываясь готовностью служить порядку и закону. Произвол и беззаконие свили себе прочное гнездо в наших бедных деревушках, над которыми витают кровавые призраки убитых за то, что они осмелились просить кусок хлеба» [11, т. 1, с. 172].
В начале ХХ века терпение крестьян лопнуло. Они пришли к убеждению, что правительство – их враг, что разговаривать с ним можно только на языке силы. Началась русская революция, которая была продолжена в других крестьянских странах и стала мировой – но не по Марксу. Крестьяне с. Никольского Орловского уезда и губ. в своем наказе в I Госдуму (июнь 1906 г.) предупреждали: «Если депутаты не истребуют от правительства исполнения народной воли, то народ сам найдет средства и силы завоевать свое счастье, но тогда вина, что родина временно впадет в пучину бедствий, ляжет не на народ, а на само слепое правительство и на бессильную думу, взявшую на свою совесть и страх действовать от имени народа» [11, т. 2, с. 271].
При таком видении компромисс найти уже почти невозможно, а его власть имущие и не искали. Распад народа на враждующие части стал неизбежным. Но на этом фоне подспудно уже началось зарождение будущего советского народа – как прошедшего в революции пересборку русского народа, который затем быстро подтянул к себе и другие народы Российской империи.
В совокупности крестьянских наказов и приговоров 1905–1907 гг. выражена центральная мировоззренческая матрица русского крестьянства начала ХХ века (суть которой М. Вебер выразил словами «общинный крестьянский коммунизм»). На этой матрице и стал собираться советский народ. В этих документах, выработанных сельскими сходами, было сформулировано представление о человеке – та антропология, которая была положена в основу принятой в СССР доктрины прав и обязанностей человека. Были определены принципы благой жизни – образ идеального будущего. В общих чертах был представлен и образ будущей государственности, основу которой должны были составить советы – привычный орган крестьянского самоуправления, принятый и развитый в российском кооперативном движении.
Февральская революция сокрушила одно из главных оснований российской цивилизации – ее государственность, сложившуюся в специфических природных, исторических и культурных условиях России. Тот факт, что Временное правительство, ориентируясь на западную модель либерально-буржуазного государства, разрушало структуры традиционной государственности России, был очевиден и самим пришедшим к власти либералам. Французский историк Ферро, ссылаясь на признания Керенского, отмечает это уничтожение российской государственности как одно из важнейших явлений февральской революции.
Напротив, рабочие организации, тесно связанные с Советами, стремились укрепить государственные начала в общественной жизни в самых разных их проявлениях. Меньшевик И.Г. Церетели писал тогда об особом «государственном инстинкте» русских рабочих и их «тяге к организации». При этом организационная деятельность рабочих комитетов и Советов определенно создавала модель государственности, альтернативную той, что пыталось строить Временное правительство.
Особую роль и в выработке советского проекта, и в создании структур советской государственности сыграла российская армия. Исторически именно она стала одной из важнейших матриц, на которых вырос советский проект, а затем и советы как тип власти. В каком-то смысле армия породила советский строй. Большая армия, собранная в годы Первой мировой войны, стала тем форумом, на котором шла доработка советского проекта, вчерне намеченного в наказах и приговорах 1905–1907 гг.
Мировая война вынудила мобилизовать огромную армию, которая, как выразился Ленин, «вобрала в себя весь цвет народных сил». Впервые в России была собрана армия такого размера и такого типа. В начале 1917 г. в армии и на флоте состояло 11 млн. человек – это были мужчины молодого и зрелого возраста. Классовый состав был примерно таков: 60–66 % крестьяне, 16–20 % пролетарии (из них 3,5–6 % фабрично-заводские рабочие), около 15 % – из средних городских слоев. Армия стала небывалым для России форумом социального общения, причем общения, не поддающегося политической цензуре. «Язык» этого форума был антибуржуазным и антифеодальным.
В тесное общение армия ввела и представителей многих национальностей (костяк армии составляли 5,8 млн. русских и 2,4 млн. украинцев). В армии возникли влиятельные национальные и профессиональные организации, так что солдаты получали большой политический опыт сразу в организациях разного типа, в горячих дискуссиях по всем главным вопросам, которые стояли перед Россией.
После Февральской революции именно солдаты стали главной силой, породившей и защитившей Советы. Вот данные мандатной комиссии I Всероссийского съезда Советов (июнь 1917 г.). Делегаты его представляли 20,3 млн. человек, образовавших советы – 5,1 млн. рабочих, 4,2 млн. крестьян и 8,2 млн. солдат. Солдаты представляли собой и очень большую часть политических активистов – в тот момент они составляли более половины партии эсеров, треть партии большевиков и около одной пятой меньшевиков.
Российская армия еще до 1917 г. сдвигалась к тем ценностям, которые вскоре резко выделили Красную Армию из ряда армий других стран – к ценностям общины, отвергающей классовое и сословное разделение. Более того, эта община, уходящая корнями в русскую культуру, сильно ослабляла и межнациональные барьеры. Интернационализм официальной идеологии марксизма, принятой в Красной Армии, в условиях СССР сделал ее уже специфически многонациональной неклассовой и несословной армией – первой и единственной в своем роде.
И еще одна фундаментальная особенность Красной Армии была предопределена тем, что в ней были ослаблены или даже совсем устранены сословные и кастовые структуры. Возникнув как армия простонародья, она и свою офицерскую элиту «выращивала» уже как элиту не кастовую, а народную, с присущим русской культуре идеалом всечеловечности, подкрепленным и официальной идеологией братства народов [35].
Историк Д.О. Чураков пишет: «Революция 1917 г., таким образом, носила не только социальный, но и специфический национальный характер. Но это национальное содержание революции 1917 г. резко контрастировало с приходом на первые роли в обществе либералов-западников. Что это могло означать для страны, в которой национальная специфика имела столь глубокие и прочные корни? Это означало только одно – рождение одного из самых глубоких социальных конфликтов за всю историю России. И не случайно эта новая власть встречала тем большее сопротивление, чем активнее она пыталась перелицевать «под себя» традиционное российское общество» [36, с. 77].
России удалось пережить катастрофу революции, собрать свои земли и народы, восстановить хозяйство и за десять лет сделать рывок в экономическом и научно-техническом развитии. Это стало возможным прежде всего потому, что за десять лет до краха, была начата работа по созданию матрицы и технологии монтажа нового народа России – советского. Условием нашего национального спасения было и то, что для этой работы была приспособлена готовая организационная структура, созданная сначала для совершенно другой цели, – партия большевиков.
Большевики как марксистская партия с начала ее возникновения в 1903 г. имели целью именно демонтаж старой «феодальной нации», свержение монархии и расчистку пространства для выполнения капитализмом его прогрессивной миссии развития производительных сил и воспитания своего могильщика – пролетариата.
Эту траекторию резко изменила революция 1905–1907 гг., из которой Ленин и идущая за ним часть большевиков сделали фундаментальные выводы. Уроки этой революции позволили им преодолеть важнейшие догмы марксизма и начать строить новую концепцию общества, государства, революции и даже мироустройства (марксизм-ленинизм). По мере того, как продвигалась эта работа, партия большевиков все больше приобретала национальный (точнее, народный) характер. Важнейшим поворотом на этом пути стало принятие и развитие идеи союза рабочих и крестьян как субъекта русской революции. Эта идея, высказанная М. Бакуниным в его полемике с Марксом, стала затем частью представлений народников. Русские ортодоксальные марксисты (Плеханов) верно оценили ее как откат от марксизма к народничеству. Для большевиков зеркалом русской революции стал Лев Толстой – выразитель мировоззрения русского общинного крестьянства, части центральной мировоззренческой матрицы, на которой собирался русский народ как этническая общность.
Большевики не просто послужили организационной основой для выработки нового национального проекта России и подготовительной работы по сборке советского народа. Они провели мировоззренческий синтез представлений крестьянского общинного коммунизма с марксистской идеей модернизации и развития – но по некапиталистическому пути.
Ю.В. Ключников, редактор журнала «Смена вех» (в прошлом профессор права Московского университета, а во время Гражданской войны министр иностранных дел у Колчака), объяснял эмиграции (1921), что большевики – «и не славянофилы, и не западники, а чрезвычайно глубокий и жизнью подсказанный синтез традиций нашего славянофильства и нашего западничества» [37].
Соединение русского славянофильства и русского западничества, крестьянского коммунизма с эсхатологической идеей прогресса придало советскому проекту большую убедительную силу, которая привлекла в собираемый советский народ примерно половину старого культурного слоя (интеллигенции, чиновничества, военных и даже буржуазии). Так проект революции стал и большим проектом нациестроительства, национальным проектом.
Виднейший теоретик этничности (в свете примордиализма) Э. Смит в своей главной книге «Национализм в ХХ веке» писал, что как ни назвать результат этого синтеза – «социалистическим национализмом» или «национальным коммунизмом», – он порождает социальный энтузиазм и могучее движение. Другой английский этнолог, Х. Сетон-Уотсон, пишет о «национализации коммунизма и марксизации национализма» [38, с. 307][113].
Этот шаг дался большевикам очень непросто. Мало того, что углубился конфликт с марксистами-меньшевиками – настолько, что они призывали Запад к социалистическому крестовому походу против большевиков и в значительной своей части поддержали белых. «Национализация» марксизма поразила и старых большевиков-ленинцев. В декабре 1914 г. Ленин послал в журнал «Социал-демократ» свою статью «О национальной гордости великороссов». Редактор В.А. Карпинский, прочитав слова «мы, великорусские с.-д.», «мы полны чувства национальной гордости», ответил Ленину: «Никогда таких разделений на страницах нашего Центрального органа не проводилось, никогда там не раздавалось таких слов! Понимаете: даже слов!»
Действительно, Карпинский был уверен, что чувство национальной гордости несовместимо с его положением марксиста. В своем ответе он продолжал: «Мне не чуждо только одно чувство гордости: пролетарской гордости (равно как и пролетарского стыда)». Ленин с этими замечаниями не согласился, статья вышла, но оппозиция в партии была серьезной[114].
В 1914 г. Ленин вступил в очень тяжелый и трудный спор с марксистами (западными и российскими) по национальному вопросу, конкретно – по вопросу о праве наций на самоопределение. Эта история имеет прямое отношение к нашей теме, но она слишком обширна и будет рассмотрена в отдельной дополнительной книге. Здесь замечу только одну сторону дела.
Истоки спора находятся в тех представлениях Маркса и Энгельса о «реакционных» и «революционных» народах, которые были сформулированы в связи с революцией 1848 г. и участием России в ее подавлении. Завершается эта история активным участием антисоветских марксистов (западных и советских) в уничтожении советского строя и «реакционного» советского народа. В промежутке – то скрытый, то явный конфликт Маркса и Энгельса с русскими революционерами, которые отвергали и саму концепцию «реакционных» народов (первым из которых был русский народ), и причисление крестьян к «реакционным» классам. Сначала на эту концепцию ответил М.А. Бакунин в книге «Кнуто-германская империя и социальная революция» (1870) – и был изгнан из числа приближенных к Марксу. Затем в очень резких выражениях Энгельс ответил народнику П.Н. Ткачеву[115].
В ходе этого конфликта Маркс и Энгельс представили реакционной саму назревающую революцию в России, если ее социальной базой станет, как предполагали народники, общинное крестьянство, а сама она произойдет не под руководством западного пролетариата. Энгельс в связи с брошюрами Ткачева предупреждал в 1875 г.: «Русские должны будут покориться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем остальной Европы» [41, с. 526].
Именно в этом была одна из главных причин, по которым Ленин в разгар Первой мировой войны вступил с марксистами в спор о праве наций на самоопределение. Было ясно, что война прямо толкает Россию к революции, и для русских актуальным выражением их права на самоопределение было право на их революцию. Право самим определить ее характер, движущие силы и организационные принципы, а не делать это «под контролем остальной Европы» и не дожидаться победоносной пролетарской революции на Западе. Но чтобы не входить в конфликт с марксистами России и Запада (или хотя бы смягчить этот конфликт), надо было в дискуссии утвердить этот общий принцип самоопределения наций.
Советское официальное обществоведение затушевало суть конфликта, но в тот момент она была понятна. В большевизме увидели силу именно национальную, ставшую организационным ядром русского сопротивления Западу, который угрожал России превратить ее в периферию своей экономической и культурной системы. Народ, собранный на матрице Российской империи, с этой задачей не справлялся, и его приходилось пересобирать на матрице Советского Союза.
Вальтер Шубарт в книге «Европа и душа Востока» пишет: «Самым судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с которым борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу… Причем вопрос ставится не в форме: Третий Рейх или Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом России…
Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма… Большевистскими властителями тоже руководит настроение противоположения Западу. То, что случилось в 1917 году, отнюдь не создало настроений, враждебных Европе, оно их только вскрыло и усилило» [42].
М. Агурский пишет примерно то же самое, но как выражение настроений в самой России: «По существу, капитализм оказывался аутентичным выражением именно западной цивилизации, а борьба с капитализмом стала отрицанием самого Запада. Еще больше эта потенция увеличилась в ленинизме с его учением об империализме. Борьба против агрессивного капитализма, желающего подчинить себе другие страны, превращалась невольно в национальную борьбу. Как только Россия осталась в результате революции одна наедине с враждебным капиталистическим миром, социальная борьба не могла не вырасти в борьбу национальную, ибо социальный конфликт был немедленно локализирован. Россия противостояла западной цивилизации» [39].
Для того «этнического материала», из которого в 1905–1907 гг. начал складываться будущий советский народ, мощным мобилизующим средством стал исторический вызов – Гражданская война. Белые предстали в ней как враждебный иной, как элита прежнего строя, которая пытается загнать уже обретший национальное самосознание народ в прежнюю «колониальную» зависимость. Потому и писал Сергей Есенин о Белой армии в ритме частушки:
В тех войсках к мужикам Родовая месть. И Врангель тут, И Деникин здесь…Есенин чувствовал, что уже идет, по выражению Энгельса, «битва народов». А либералы и ортодоксальные марксисты все еще считали, что происходит правильное «классовое» столкновение, и для победы пролетариата в отсталой России нет никаких объективных предпосылок – и Маркс с Энгельсом это убедительно доказали. Поэтому западническая интеллигенция в массе своей не верила в долговечность власти большевиков. М.М. Пришвин записал в дневнике 2 июня 1918 г.: «Как белеет просеянная через сито мука, так белеет просеянная через сито коммунизма буржуазия: как черные отруби, отсеются бедняки, и, в конце концов, из революции выйдет настоящая белая буржуазная демократия» [43].
Крест на этих иллюзиях поставила как раз Гражданская война – отсеялись «белые».
Гражданская война стала исключительно важным этапом сборки народа потому, что воспринималась большинством простонародья как общее дело, которое и сплачивает людей традиционного общества. Об этом кадет Н.А. Гредескул так писал, споря с авторами «Вех», которые считали русскую революцию интеллигентской: «Нет, русское освободительное движение в такой мере было «народным» и даже «всенародным», что большего в этом отношении и желать не приходится. Оно «проникло» всюду, до последней крестьянской избы, и оно «захватило» всех, решительно всех в России – все его пережили, каждый по-своему, но все с огромной силой. Оно действительно прошло «ураганом», или, если угодно, «землетрясением» через весь организм России. Наше освободительное движение есть поэтому не что иное, как колоссальная реакция всего народного организма на создавшееся для России труднейшее и опаснейшее историческое положение»[44, с. 254.].
В Гражданской войне сложился и кадровый костяк будущего советского народа, та управленческая элита, которая действовала в период сталинизма. Это были командиры Красной Армии нижнего и среднего звена, которые после демобилизации заполнили административные должности в государственном аппарате. В основном это были выходцы из малых городов и деревень Центральной России. Ценная для нашей темы книга Т. Шанина «Революция как момент истины» (М., 1997) имеет подзаголовок: «1905–1907 + 1917–1922». Этот заголовок подчеркивает значение опыта революции 1905–1907 гг., во многом предопределившего характер Гражданской войны.
Говоря о прямой связи между этими двумя событиями, Т. Шанин пишет: «Можно документально подтвердить эту сторону российской политической истории, просто перечислив самые стойкие части красных. Решительные, беззаветно преданные и безжалостные отряды, даже когда они малочисленны, играют решающую роль в дни революции. Их список в России 1917 г. как бы воскрешает список групп, социальных и этнических, которые особенно пострадали от карательных экспедиций, ссылок и казней в ходе революции 1905–1907 годов… Перечень тех, против кого были направлены репрессии со стороны белой армии, во многом обусловившие поражение белого дела, столь же показателен, как и состав Красной Армии» [45, с. 317]. Репрессии 1905–1907 гг. и времен столыпинской реформы более всего ударили как раз по областям Центра России.
Гражданская война была важным этапом и в сборке страны. Февральская революция «рассыпала» империю. В разных частях ее возникли национальные армии или банды разных окрасок. Все они выступали против восстановления единого централизованного государства. Что касается представлений большевиков о России, то с самого начала они видели ее как легитимную исторически сложившуюся целостность и в своей государственной идеологии оперировали общероссийскими масштабами (в этом смысле идеология была «имперской»). В 1920 г. нарком по делам национальностей И.В. Сталин сделал категорическое заявление, что отделение окраин России совершенно неприемлемо. Военные действия на территории Украины, Кавказа, Средней Азии всегда рассматривались красными как явление гражданской войны, а не межнациональных войн. Красная Армия, которая действовала на всей территории будущего СССР, была, по выражению Л.Н. Гумилева, той пассионарной группой, которая стягивала народы бывшей Российской империи обратно в единую страну.
Именно в Гражданской войне народ СССР обрел свою территорию (она была легитимирована как «политая кровью»)[116]. Территория СССР была защищена обустроенными и хорошо охраняемыми границами. И эта территория, и ее границы приобрели характер общего национального символа, что отразилось и в искусстве (в том числе, в песнях, ставших практически народными), и в массовом обыденном сознании. Особенно крепким чувство советского пространства было в русском ядре советского народа.
В.Д. Соловей пишет: «Принципиально новым явлением была сформированная Советами русская идентификация со всем советским пространством, чувство ответственности за Советский Союз, который русские стали воспринимать как свою Родину. Именно среди русских союзная идентификация заметно преобладала над республиканской: социологический опрос в Москве осенью 1987 – зимой 1988 г. показал, что большинство респондентов (почти 70 %) своей Родиной считали весь Советский Союз, а не РСФСР, с которой идентифицировали себя лишь 14 % опрошенных. В целом среди русских уровень союзной идентификации был даже выше, чем в советской столице, составляя почти 80 %» [46, с. 161][117].
Замечу также, что в населении СССР возникло общее хорологическое пространственное чувство (взгляд на СССР «с небес»), общая ментальная карта. Территория была открыта для граждан СССР любой этнической принадлежности, а границу охраняли войска, в которых служили юноши из всех народов и народностей СССР[118]. Все это стало скреплять людей в советский народ.
Советский народ был сплочен сильным религиозным чувством, как и русская революция, которая легитимировала выход советского народа на историческую арену. Религиозным чувством были проникнуты и революционные рабочие и крестьяне, и революционная интеллигенция. Бердяев писал: «Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. «Русские мальчики», атеисты, социалисты и анархисты – явление русского духа. Это очень хорошо понимал Достоевский» [47].
Советский проект (представление о благой жизни) вырабатывался, а Советский Союз строился людьми, которые находились в состоянии религиозного подъема. Навязанная нам трактовка конфликта большевиков с церковью уводит от сути дела, хотя сам по себе этот конфликт, конечно, был очень важен[119]. Но главным был конфликт церкви не с советской властью, а с массой населения. Навязав духовенству православной церкви функции идеологического ведомства, царский режим, авторитет которого после 1905 г. стремительно падал, нанес церкви тяжелый ущерб.
Во время перестройки выдвигались и сейчас выдвигаются теории, согласно которым христианизация Руси была поверхностной, что православие «не состоялось». Это утверждал М.К. Мамардашвили [49], этим же объясняет преследования церкви в начале 20-х годов В.Д. Соловей. Он пишет: «Христианско-языческий синкретизм так называемого «народного православия» представлял не более чем тонкую ментальную амальгаму христианства на мощном, преобладающем языческом пласте народной психологии… Бесспорно лишь, что политика форсированной насильственной христианизации, интеграции православной церкви в государственную машину вернулась бумерангом ответного насилия» [46, с. 15–17].
Мне кажется, что эта глубокомысленная теория если и имеет под собой какие-то основания, к данному случаю совсем не применима. Для конфликта начала века имелись явные и хорошо изученные совершенно земные причины – политические, социальные и психологические. Хаос революции и гражданской войны – это всегда и бунт части общества против любых авторитетов и морали. Во всех революциях и подобных войнах церковь всегда подвергается агрессии со стороны радикализованной массы людей. Это их «праздник угнетенных», и привлекать для объяснения якобы таящуюся в русской душе верность Перуну и память о «насильственной христианизации» не требуется.
Что же касается духовной стороны дела, то коммунистическое учение того времени в России было в огромной степени верой, особой религией (подробнее об этом сказано в [50]). М.М. Пришвин записал в своем дневнике 7 января 1919 г. «Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви, действует на словах во имя земного, материального изнутри, бессознательно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его имя с именем старого Бога» [43].
Да и антицерковный радикализм деревенских комсомольцев 20-х годов (с которым, кстати, даже боролась партия) на деле был всплеском именно религиозного чувства, просто этот факт сейчас выгодно замалчивать. А Иван Солоневич писал: «Комсомольского безбожия нельзя принимать ни слишком всерьез, ни слишком буквально. У русской молодежи нет, может быть, веры в Бога, но нет и неверия. Она – как тот негр из киплинговского рассказа, для которого Богом стала динамомашина. Да, суррогат – но все-таки не безверие. Для комсомольца Богом стал трактор – чем лучше динамомашины? Да и в трактор наш комсомолец верит не как в орудие его личного будущего благополучия, а как в ступеньку к какому-то все-таки универсальному «добру». Будучи вздут – он начнет искать других ценностей, но тоже универсальных.
Я бы сказал, что русский комсомолец, как он ни будет отбрыкиваться от такого определения, если и атеистичен, то атеистичен тоже по-православному. Если он и делает безобразия, то не во имя собственной шкуры, а во имя «мира на земли и благоволения в человецех» [1, с. 455].
В разных формах многие мыслители Запада, современники русской революции высказывали важное утверждение: Запад того времени был безрелигиозен, Советская Россия – глубоко религиозна. Так, В. Шубарт в книге «Европа и душа Востока» (1938) писал: «Дефицит религиозности даже в религиозных системах – признак современной Европы. Религиозность в материалистической системе – признак советской России». Эта «надконфессиональная» религиозность, присущая в той или иной мере всем народам и народностям СССР, – симптом интенсивного этногенеза, который вел к соединению советского народа.
Революционное движение русского рабочего и стоявшего за ним общинного крестьянина было богоискательским. Историк А.С. Балакирев пишет: «Агитаторы-революционеры, стремясь к скорейшей организации экономических и политических выступлений, старались избегать бесед на религиозные темы, как отвлекающих от сути дела, но участники кружков снова и снова поднимали эти вопросы. «Сознательные» рабочие, ссылаясь на собственный опыт, доказывали, что без решения вопроса о религии организовать рабочее движение не удастся. Наибольшим успехом пользовались те пропагандисты, которые шли навстречу этим запросам. Самым ярким примером того, в каком направлении толкали они мысль интеллигенции, является творчество А.А. Богданова» [50].
Эти духовные искания рабочих и крестьян революционного периода отражались в культуре. Исследователь русского космизма С.Г. Семенова так характеризует этап становления советского проекта: «Никогда, пожалуй, в истории литературы не было такого широчайшего, поистине низового поэтического движения, объединенного общими темами, устремлениями, интонациями… Революция в стихах и статьях пролетарских (и не только пролетарских) поэтов… воспринималась не просто как обычная социальная революция, а как грандиозный катаклизм, начало «онтологического» переворота, призванного пересоздать не только общество, но и жизнь человека в его натурально-природной основе. Убежденность в том, что Октябрьский переворот – катастрофический прерыв старого мира, выход «в новое небо и новую землю», было всеобщим» [51].
Великим еретиком и богостроителем был М. Горький, которого считают одним из основателей советского общества. Религиозными мыслителями были многие деятели, принявшие участие в создании культуры, собиравшей советский народ, – Брюсов и Есенин, Клюев и Андрей Платонов, Вернадский и Циолковский. В своей статье о религиозных исканиях Горького М. Агурский пишет, ссылаясь на исследования русского мессианизма, что «религиозные корни большевизма как народного движения уходят в полное отрицание значительной частью русского народа существующего мира как мира неправды и в мечту о создании нового «обоженного» мира. Горький в большей мере, чем кто-либо, выразил религиозные корни большевизма, его прометеевское богоборчество» [52].
Сейчас, когда слегка утихли перестроечные страсти, в «Независимой газете» читаем признания такого типа: «В первые два-три десятилетия после Октябрьской революции (по крайней мере до 1937 г.) страна воспринимала себя в качестве цитадели абсолютного добра, а в религиозном смысле – превратилась в главную силу, противостоящую безбожному капитализму и творящую образ будущего» [53]. Это самоосознание и сплотило советский народ.
Не вдаваясь в детали, скажем только, что в целом, через все системы культуры советское общество выработало свою специфическую центральную мировоззренческую матрицу. Она видоизменялась со временем, в ней обновлялся ряд символов, переделывались некоторые блоки исторической памяти, но не вызывает сомнения, что существовало общее мировоззренческое ядро, через которое все народы СССР собирались в надэтническую общность. Целый исторический период ему было присуще сочетание здравого смысла с антропологическим оптимизмом – уверенностью, что жизнь человечества может быть устроена лучше и что добро победит зло.
Вероятно, главную роль в создании и поддержании этого общего ядра сыграла единая общеобразовательная школа, давшая общий язык и приобщившая всех жителей СССР и к русской литературе, и к общему господствующему типу рациональности (синтезу Просвещения и космического чувства традиционного общества). Согласно переписи 1979 г., 81,9 % всего населения СССР (215 млн. человек) свободно говорили по-русски или считали русский родным языком[120]. В 1970 г. таких было 76 % населения. При этом широкое использование русского языка сочеталось с устойчивым сохранением родного языка своей национальности: в 1926 г. свой родной язык сохраняли 94,2 % населения, в 1970 г. 93,9 % и в 1979 г. 93,1 %[121]. Это значит, что в СССР сложилась специфическая билингвистическая национально-русская культура. Двуязычие везде считается ценным культурным ресурсом.
Выросшая именно из русской культуры советская школа подключила детей и юношество всех народов СССР, и прежде всего русский народ, к русской классической литературе. Этого не могло обеспечить социальное устройство царской России. А.С. Панарин пишет: «Юноши и девушки, усвоившие грамотность в первом поколении, стали читать Пушкина, Толстого, Достоевского – уровень, на Западе относимый к элитарному… Нация совершила прорыв к родной классике, воспользовавшись всеми возможностями нового идеологического строя: его массовыми библиотеками, массовыми тиражами книг, массовыми формами культуры, клубами и центрами самодеятельности, где «дети из народа» с достойной удивления самоуверенностью примеряли на себя костюмы байронических героев и рефлектирующих «лишних людей». Если сравнить это с типичным чтивом американского массового «потребителя культуры», контраст будет потрясающим… После этого трудно однозначно отвечать на вопрос, кто действительно создал новую национальную общность – советский народ: массово тиражируемая новая марксистская идеология или не менее массово тиражируемая и вдохновенно читаемая литературная классика» [54, с. 142–143].
Но дело не только в том, что школа служит инструментом передачи культурных ценностей, которые с детства связывают людей в народ. Она и воспитывает детей в системе норм человеческих отношений, которые служат важным механизмом созидания народа (см. гл. 18). В этом отношении советская школа резко отличалась от школ западного типа. Это показали большие сравнительные исследования 70-х годов.
Руководитель этого проекта американский психолог У. Бронфенбреннер подчеркивает, что уклад советской школы был ориентирован на развитие способности к сотрудничеству, а не конкуренции. Он излагает результаты эксперимента социальных психологов, проведенного в ряде стран. Изучались воспитанники интернатов в возрасте 12 лет. Он пишет: «Ответы учеников сравнивались с ответами нескольких сотен их сверстников из детских домов Швейцарии, страны, где еще со времен Иоганна Песталоцци была разработана теория и практика группового воспитания, но отсутствовал и даже отрицался коллективный метод.
Эксперимент требовал следующего: каждый ученик должен ответить, как бы он поступил, узнав, что его одноклассник или друг совершил недостойный поступок. Была предложена 21 ситуация с разнообразными видами плохого поведения… В каждой ситуации ребенку разрешали выбрать один вариант из предложенных ему действий: 1) пожаловаться взрослым; 2) рассказать об этом другим детям, чтобы они помогли ему воздействовать на товарища; 3) самому поговорить с другом и объяснить ему недостойность поведения; 4) ничего не предпринимать, считая, что это его не касается.
После проведения эксперимента, но до анализа результатов, мы опросили воспитателей и педагогов каждой страны, какие ответы они надеются получить… Советские педагоги высказали единодушное мнение, что ребенок 11–13 лет прежде всего постарается сам урезонить своего друга. Если же его попытки не увенчаются успехом, призовет на помощь коллектив. У швейцарских педагогов единой точки зрения на этот вопрос не оказалось.
Результаты исследования показали следующее: в большинстве своем (75 %) советские дети ответили, что сами бы поговорили с нарушителем дисциплины. Только третья часть швейцарских детей выбрала этот вариант, 39 % предпочли пожаловаться взрослым, к ним присоединились 11 % русских учеников. 12 % русских и 6 % швейцарских детей решили, что надо обратиться за помощью к сверстникам. Последний вариант: «ничего не предпринимать, так как это меня не касается» – предложили 20 % швейцарских и всего 1 % советских детей» [55].
Другим агентом такого собирания стала Советская армия, через которую с 30-х годов пропускалась большая часть мужского населения (при том, что в армии было принято рассылать солдат в отдаленные от их «малой родины» места). Полиэтническими поселениями стали в СССР крупные города, которые превратились в центры интенсивных межнациональных контактов. Мощное объединяющее воздействие оказывали СМИ, задающие общую, а не разделяющую, идеологию и тип дискурса (языка, логики, художественных средств и ценностей). Подробнее роль всех этих механизмов рассмотрим, когда речь пойдет о демонтаже этой мировоззренческой матрицы с конца 80-х годов.
Наконец, все этнические общности СССР были вовлечены в единое народное хозяйство. Оно изначально создавалось как экономическая система, которая позволила бы всем народам СССР избежать втягивания в капитализм как «общество принудительного и безумного развития» – в начале ХХ века почти у всех народов России, и прежде всего русских, было сильно ощущение, что в таком обществе жизнь для них станет невозможна (эти догадки, в общем, оказались прозорливыми).
И.В. Сталин заявил в 1924 г.: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мировой капиталистической системы, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны» (цит. в [56, с. 235]).
Смысл этой задачи был всем понятен, и выполнение ее было ответом на общий для всех исторический вызов. Смысл этой задачи пришел в Россию не с марксизмом, он вызрел в крестьянской общине и был как раз отрицанием политэкономии марксизма (поэтому А. Грамши назвал Октябрьскую революцию «Революцией против «Капитала» – «Капитала» Маркса). И ответ на этот вызов тоже вырабатывался не в трудах марксистских экономистов (они как раз считали, что русским, башкирам и якутам необходимо провариться в котле капитализма, атомизироваться и стать «пролетариями, не имеющими отечества», – чтобы затем участвовать в пролетарской революции). Ответ на микроуровне, в фундаментальной форме была дан еще до Октября, когда после Февральской революции власть на промышленных предприятиях по сути перешла в руки фабзавкомов и они стали переделывать социальный уклад заводов и фабрик по типу крестьянских общин. Уже прообраз советского предприятия имел черты центра жизнеустройства, основанного на связях доверия и взаимопомощи.
Советское предприятие, по своему социально-культурному генотипу единое для всех народов СССР, стало микрокосмом народного хозяйства в целом. Это – уникальная хозяйственная конструкция, созданная русскими рабочими из общинных крестьян, но свои классические этнические черты она приобрела в 30-е годы во время форсированной индустриализации всей страны. По типу этого предприятия и его трудового коллектива было устроено все хозяйство СССР – как единый крестьянский двор. Семьей в этом дворе и стал советский народ.
Это было зафиксировано в партийных документах. На ХХII съезде КПСС Н.С. Хрущев в своем докладе сказал: «В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты, – советский народ» [57].
В конце перестройки и в 90-е годы о советском народе наговорили много странных вещей – и справа, и слева. Сейчас идеологический накал снизился, в литературе появляются спокойные суждения специалистов. В.Ю. Зорин в книге «Национальная политика в России: история, проблемы, перспектива» (2003) пишет о национальной политике СССР и его правовой основе: «В его рамках действительно сформировалась новая полиэтническая общность со своей четко выраженной социокультурной спецификой, идеологией, ментальностью, стереотипами поведения, ценностями и критериями духовной жизни» [58, с. 202].
Этой точки зрения придерживается и известный исследователь национального вопроса в СССР П. Кольсте. Он считает процесс становления гражданской нации в Российской Империи и СССР непрерывным. Как пишет в своем обзоре Е.Н. Данилова, согласно точке зрения П. Кольсте Советский Союз – надэтническое государство: «Он считает, что и дореволюционная Россия была державой, надэтнической «сверхнацией», ядро которой составлял русский этнос, а верхушка обладала державным, имперским, но не национальным самосознанием. Советская власть также пыталась сконструировать «новую историческую общность «Советский народ», которая, по сути, была надэтнической. Соответственно, этнической идентичности русские практически не испытывали. Ссылаясь на данные опросов 70-х – начала 80-х годов, норвежский автор Поль Кольсте отмечает, что в то время как 80 % граждан других национальностей связывали свою родину с национальной республикой, 70 % русских заявляли, что их родина – Советский Союз» [59].
Е.Н. Данилова указывает на то, что даже по мнению антисоветского социолога Ю. Левады «советский народ» – суперэтническая категория, синтезирующая идею государственности и национальной идентичности («семья народов»). В советское время эта категория «подавляла и заменяла остальные социогрупповые идентичности, прежде всего этнические». Это сказано как обвинение, но на деле речь идет о том, что советское общество было «почти бесклассовым», а этничность отдельных народов была выражена слабее, чем общегражданская идентичность – что и является признаком гражданской нации.
Краткое объяснение самого понятия «советский народ» дает этнолог С.В. Чешко, и стоит привести обширную выдержку из его работы. Он пишет: «В последующие [после ХХII и ХХIII съездов КПСС] годы советские обществоведы много потрудились, чтобы придать этой идее облик глубокой научной концепции, но, по сути, лишь повторяли и перефразировали на все лады ее изначальные формулировки. Если я не ошибаюсь, последний раз в официальных документах «советский народ» появился в резолюции сентябрьского 1989 г. Пленума ЦК КПСС, но лишь, так сказать, в назывном порядке, без каких-либо пояснений. В последнем документе КПСС, до ее роспуска, проекте новой программы – эта идея вообще отсутствует. Она оказалась в числе прочих идеологем, отвергнутых или тихо забытых перестроечной партийной мыслью в результате давления политической конъюнктуры.
Суть концепции «советского народа» заключалась в том, что на стадии «развитого социализма» в СССР сложилась новая социальная общность, характерная именно для этой фазы общественного развития и выделяющаяся рядом признаков. В одном из документов КПСС (1972), например, записано, что советский народ «сформировался на базе общественной собственности на средства производства, единства экономической, социально-политической и культурной жизни, марксистско-ленинской идеологии, интересов и коммунистических идеалов рабочего класса».
Кажется, последняя формулировка, выдержанная в духе традиционного советского обществоведения (правда, без упоминания «развитого социализма»), представлена в вышедшем в 1990 г. словаре-справочнике «Нации и национальные отношения в современном мире»: «В ходе социалистических преобразований сложились основные признаки советского народа: территориально-экономическое единство многонационального социалистического общества – единый народнохозяйственный комплекс страны; однотипная социально-классовая структура советского общества; политическое единство, олицетворяемое социалистической федерацией и единой политической системой; общие черты духовного облика советских людей всех национальностей, их образ жизни, играющие определяющую роль в растущем многообразии национальных форм социалистической культуры; широкое распространение языка межнационального общения». Эти формулировки можно рассматривать как эпигонство классического советского обществоведения в условиях идеологической либерализации периода «перестройки». Но суть доктрины «советского народа» они вполне отражают.
Критики утверждают, что эта доктрина являлась идеологическим обоснованием политики ассимиляции, что «советский народ» долженствовал насильственным путем заменить этническое многообразие общества, и государство стремилось создать некоего безэтнического Homo sovieticus’a. А. Барсенков и А. Вдовин писали, что с 1917 г. политика Советского государства преследовала цель максимально быстро ликвидироватъ национальные различия и слить народы страны в какую-то безнациональную общность…
Что касается этнологической науки, то в ней советский народ всегда рассматривался как полиэтническая социальная общность. В целом же концепция «советского народа» не содержала в себе обоснования ассимиляторской политики.
Есть и другая сторона вопроса – в какой степени эта концепция соответствовала советским реалиям? Одни авторы считают «советский народ» реальностью, а А.С. Барсенков, А.И. Вдовин и В.А. Корецкий даже полагают, что еще в дореволюционной России формировалась такая общность, которую много позже вдруг открыли в «новой исторической общности – советском народе»… Другие авторы утверждают, что такой общности, как «советский народ», не было. По мнению, например, А. А. Празаускаса, «советский народ» оказался таким же мифом, как и социализм. Аналогичной точки зрения придерживается В. И. Козлов. А. И. Солженицын писал о «дутом советском патриотизме». Помню логическо-филологическое обоснование идеи отсутствия советского народа, которое сделал один литовский академик на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР году в 1989 или 1990. Ход мыслей был таков: «народ» – это «этнос», а «этнос», по Аристотелю, – это род, племя и т. п., и «советский народ» под это определение никак не попадает; следовательно в СССР имеются только народы-этносы, но нет никакой единой общности.
Разумеется, подобные интеллектуальные упражнения являются чистой схоластикой, предназначенной для обоснования очевидных идеологических целей. Общеизвестно, что понятие «народ» весьма многозначно и лишь одно из его значений соответствует понятию «этнос». Отрицать наличие в СССР народа как совокупности всех его граждан, как общности «по государству», можно только в том случае, если хочется оценивать СССР как пресловутую «тюрьму народов», не объединенных ничем, кроме власти надсмотрщиков. Интересней и важней подумать о том, каков был характер этой общности, «советский народ», что именно было у него общего.
К числу объединявших факторов следует прежде всего отнести принадлежность к единому государству и достаточно длительную историческую традицию единой государственности – более длительную, чем период существования самого СССР; этот фактор имел отнюдь не сугубо формальное значение, он вырабатывал и закреплял в поколениях привычку жить вместе, быть подданными общего царя или общего генсека, гражданами одной страны.
70 лет советской политической системы оставили свой отпечаток в сознании людей, сформировали новые традиции, наложившиеся на прежние. Это – традиция быть «советскими», которая явилась модификацией парадигмы российскости и в то же время – идеологическим маркером этой общности: вспомним формулу «социалистическое отечество». Степень «идейной сознательности» советских граждан – это вопрос крайне дискуссионный. Едва ли приверженность идейному «научному» коммунизму была сколько-нибудь массовым явлением, тем более что советские идеологизмы зачастую имели весьма отдаленное родство с марксовой теорией. Однако в данном случае это не очень существенный вопрос. Идеологическая общность советского народа заключалась в лояльности к доминировавшим идеологическим символам. По-видимому, это вообще особенность массового, обыденного по своему характеру сознания – воспринимать и ориентироваться на символы идей, а не на их суть. Любое государство создает систему таких символов и стремится внедрить их в сознание граждан с целью обеспечения их лояльности и сплочения общества. В этом смысле нет принципиальной разницы между идеей социализма в СССР, идеей демократии в США или, скажем, идеей монархии в Великобритании.
Очевидно также, что степень интеграции советского общества была выше, чем общества дореволюционного. Этому способствовали модернизация общества (хотя она же породила новые противоречия и диспропорции, особенно ощутимые в традиционалистских секторах общества), гораздо более высокая степень межрегиональной экономической интеграции, относительно интенсивные миграционные процессы, связанные с индустриализацией, освоением целины, организованным перемещением трудовых ресурсов, урбанизацией, развитием трaнcпoртa, средств массовой информации и коммуникации и пр.
Развитие профессиональной культуры, в том числе у народов, не имевших ее прежде, также действовало как интегрирующий фактор. Всякая профессиональная деятельность, ориентирующаяся на массового потребителя, – интернациональна и в значительной степени вненациональна… В условиях индустриализации общества – в широком смысле этого понятия – сокращалась сфера традиционно-бытовой, локальной культуры и соответственно расширялась область распространения массовой культуры в ее советском, общегосударственном варианте.
Наконец, объединяющим фактором выступал русский язык, благодаря которому существовала единая система коммуникации. В целом вполне можно говорить об общесоветском пласте культуры, сочетавшимся с этническими культурами. Культура вырабатывается не только этническими, но и практически любыми другими обществами: собственно, культура как обобщенная целостность представляет собой систему разнообразных субкультур, производных от разных видов деятельности человека. Поэтому нет ничего «антиэтнического» в том, чтобы говорить и о советской культуре.
Итак, официальная концепция советского народа была чрезмерно идеологизированной, помпезной, наивно-претенциозной, как и многие другие «концепции» той эпохи. Однако она не была полностью неверной, поскольку существовал сам советский народ как народ-общество, продукт длительного развития единого государства. Степень «советскости» была, наверное, неодинаковой у разных народов, у разных групп этих народов, у отдельных индивидов. Разные типы группового самосознания могли соотноситься по-разному. Но это довольно обычное явление для многих стран мира… и зачастую оказывается изменчивым, ситуативным [22, с. 137–141].
Этой ясной и спокойной трактовке мы вполне можем следовать и сегодня.
Глава 26. Противоречия и трудности процесса сборки советского народа
Как известно, несмотря на наличие мощных объективных факторов, способствующих сплочению жителей СССР в один народ (нацию), наличие эффективных политических, экономических и культурных механизмов, которые выполняли эту работу, а также наличие политической воли государства, процесс этот не был завершен, а начиная с 60-х годов началось ослабление связей, соединяющих людей в народ. «Антисоветская революция» демонтировала уже, казалось бы, надежно собранный и воспроизводящийся советский народ. Теперь само выживание России в любой мыслимой конфигурации зависит от того, сможет ли общество и государство создать механизмы, способные воссоздать народ – в новых формах, отвечающих новым условиям. Для этого и нужны нам уроки как опыта становления советского народа, так и его демонтажа. В этой главе речь идет о становлении.
Задача, которая стояла перед советским государством и советским обществом, исключительно сложна, и бесполезно строить предположения о том, удалось бы или нет советскому народу выдержать удар конца ХХ века, если бы в каких-то конкретных вопросах дело повели так, а не иначе. Мы можем, однако, выявить те мины, которые в новейшее время закладывались в конструкцию многонационального российского, а затем советского общества, а также обсудить возможные способы обезвреживания таких мин или хотя бы смягчения их разрушительного действия. Какие-то из этих мин до сих пор остались неразряженными, какие-то заложены в последние десятилетия, какие-то закладываются на наших глазах сегодня.
Российская империя как государственно-национальная система строилась совсем на других основаниях, чем известные большие государства Средневековья и Нового времени. По выражению историка кадета П.Н. Милюкова, до ХVI века это было военно-национальное государство, феодальные владыки и племенные вожди принимали российское подданство как средство избежать порабощения более опасными агрессивными соседями. Для такого государства было характерно наличие обширных социально-военных сословий – правящих, военно-крестьянских, военно-торговых (дворянства, казачества, стрельцов). Для войны, помимо постоянного войска, собирались большие ополчения. В ХVI – ХVII вв. на южных и юго-восточных границах войны происходили каждый год, на западных – примерно каждый второй год[122].
Во время войн отвоевывались захваченные другими государствами территории. Устои жизни на вошедших в Россию территориях резко не менялись, они управлялись с помощью местной знати. Чаще всего она и ставила вопрос о присоединении к России, которое нередко признавалось в столице уже после того, как происходило де-факто на местах. Правящая элита Российской империи с самого начала складывалась как многонациональная (в Прибалтике до конца ХIХ века сохранялись старинные привилегии за немецким дворянством и бюргерством и система сословного управления). По переписи 1897 г. только 53 % потомственных дворян назвали родным языком русский.
Царское правительство принципиально отказалось от политики ассимиляции нерусских народов, от создания «этнического тигля» для переплавки всех в одну российскую нацию. Слишком слаб был и капитализм для того, чтобы оказать свое унифицирующее воздействие. Не вела активной деятельности по христианизации и православная церковь – на Кавказе и в Средней Азии она практически совсем отказалась от проповеди. В России не было самого понятия метрополии, не было юридически господствующей нации[123]. Окраины империи обладали большими льготами (например, по всей Сибири и на Севере не было крепостного права), неправославное население было освобождено от воинской повинности. Управление и суды приноравливались к «вековым народным обычаям». Фактологическое описание процесса формирования Российской империи и развития ее национально-государственного устройства дано в [61].
Для сравнения вспомним, что в Конституции США 1787 г. было сразу записано «единый народ Соединенных Штатов». Официальным языком государственного и частного делопроизводства был английский. Луизиана, бывшая колония Франции, была принята в США как штат лишь после того, как перешла полностью на английский язык. Те, кто не отвечал критериям полноценного американца, не считались гражданами (как негры – целых сто лет после ликвидации рабства, хотя по Конституции каждый родившийся на территории США был полноправным гражданином)[124].
В результате в Российской империи возникла очень сложная государственная система с множеством укладов, норм и традиций. В жизни подавляющего большинства населения господствовал общинный уклад, а по своим принципам жизнеустройства российское общество было традиционным, а не гражданским. Государство было идеократическим, но его идеократия опиралась на авторитет религии – при том, что многонациональное общество было и многоконфессиональным. Жесткого конструктивистского воздействия на этногенез народов России государство не оказывало.
Эта система сохраняла стабильность лишь при условии сохранения норм традиционного общества. Процесс формирования гражданской нации находился в зачаточном состоянии. Там, где быстрее шел процесс модернизации и развития капитализма (Финляндия, Польша, Прибалтика), возникал национализм и сепаратизм. Пока монархическое государство было крепким, этнические элиты предпочитали пребывать под его защитой и пользоваться его ресурсами – из 164 депутатов IV Государственной думы, избранных от национальных окраин, 150 были сторонниками «единой и неделимой» России. Как только монархия была ликвидирована в феврале 1917 г., империя рассыпалась. В действительности, национализм этнических элит для этого уже созрел.
Сейчас, когда обобщен и систематизирован большой материал, посвященный развитию этнического сознания, способам политической мобилизации этничности, доктринам национализма разных культур, можно предположить, что в рамках той государственно-национальной конструкции, которая сложилась в России за ХVI – ХIХ вв., империя не смогла бы пережить капиталистической модернизации – национализм местных элит ее бы разорвал, нанеся при этом тяжелые травмы русским как «государствообразующему» народу.
Этот ход событий был прерван Октябрьской революцией 1917 г., которая позволила пересобрать империю на новых основаниях. В ходе Гражданской войны и последующих социальных преобразований прежние национальные элиты были устранены или на время отодвинуты в тень. Модернизация хозяйства и общества была проведена по иной, некапиталистической схеме. Одновременно шел процесс сборки советского народа – при том, что в политической сфере и в сфере сознания не были устранены источники потенциальной опасности для новых структур.
Это произошло по многим причинам. Часть этих причин осознана только сейчас, и иначе быть не могло. Другая часть причин осознавалась с самого начала строительства, но решения приходилось принимать в условиях большой неопределенности, под давлениям критических обстоятельств. Нынешние резкие оценки «ошибкам советской власти» для нас сейчас представляют мало пользы. Нет причин, по которым Горбачев, Жириновский или Зюганов смогли бы принять лучшие решения, нежели Ленин, Сталин и даже Брежнев. Никто не сомневается, что Ленин, Сталин и Брежнев стремились укрепить советское государство и сплотить советский народ. Они и их советники не были глупее нас, нынешних. А мы и сегодня не можем еще надежно взвесить всю совокупность условий, в которых приходилось принимать решения в прошлом.
Поэтому не будем давать оценки решениям, а попытаемся выявить главные критические условия, которые предопределили слабость сборки советского народа, проявившуюся в конце ХХ века – так, как эти условия видятся с высоты нашего современного знания. Все они взаимосвязаны, и порядок их рассмотрения может меняться. Я предлагаю начать со сферы сознания.
Советский проект был большим цивилизационным проектом мирового масштаба. В философской базе подобных проектов соединяются и постоянно взаимодействуют массовое обыденное сознание («здравый смысл» народов), теория (в понятиях которой мыслит правящая элита) и утопия (идеальный образ будущего – «стремленье вдаль, братающее нас»). Резкое несоответствие какого-то компонента двум другим может быть временно компенсировано суррогатами («шунтирующими» вставками), но в длительной перспективе приводит к кризису всю философскую базу.
Не будем говорить о проекте в целом (хотя кризис разных его частей имеет, на мой взгляд, общие корни), скажем о философских основаниях строительства советского народа. Здравый смысл (преимущества и недостатки совместной жизни в большой сильной стране) побуждал большинство поддерживать связность советского народа. Это проявилось на референдуме 1991 г. и в множестве последующих исследований. Утопия (братство народов в единой семье) также сохранила свою сплачивающую силу вплоть до ликвидации СССР. Сбой с самого начала произошел в теории.
В советском обществоведении, как и в дореволюционном марксистском, этническим общностям как субъектам и объектам политики и экономики придавалось гораздо меньшее значение, нежели классам. В программной книге 1983 г. Ю.В. Бромлей пишет, ссылаясь на общие замечания Ленина: «С момента возникновения классов они выдвигаются в жизни общества на передний план. Поэтому деление на классы приобретает в ней гораздо большее значение, чем принадлежность людей к иным социальным общностям» [62, с. 30].
Этот сдвиг к господству в общественной мысли формационного подхода, приглушающего значение этнических и национальных факторов, в дальнейшем имел тяжелые последствия для советского обществоведения, сильно ограничил его познавательные возможности. И в то же время мы не можем не видеть, что этот идеологический и даже философский выбор руководства большевиков (и вообще русских социал-демократов) в тот момент сыграл исключительно важную роль в том, что после Октября 1917 г. русский народ был принят Западом как легитимный субъект истории. Более того, он приобрел мощного союзника в лице западного рабочего класса и левой интеллигенции. Такое изменение статуса во взаимоотношениях со значимыми иными сыграло исключительно важную роль и в укреплении этнических связей в самом русской народе, и недооценивать этого фактора никак нельзя.
А.С. Панарин настойчиво подчеркивает эту роль, которую сыграла в тот критический период (и вплоть до конца 50-х годов) «марксистская оболочка» русской революции. Он пишет о том, как большевикам удалось на время нейтрализовать русофобию Запада: «Русский коммунизм по-своему блестяще решил эту проблему. С одной стороны, он наделил Россию колоссальным «символическим капиталом» в глазах левых сил Запада – тех самых, что тогда осуществляли неформальную, но непреодолимую власть над умами – власть символическую.
Русский коммунизм осуществил на глазах у всего мира антропологическую метаморфозу: русского национального типа, с бородой и в одежде «а la cozak», вызывающего у западного обывателя впечатление «дурной азиатской экзотики», он превратил в типа узнаваемого и высокочтимого: «передового пролетария». Этот передовой пролетарий получил платформу для равноправного диалога с Западом, причем на одном и том же языке «передового учения». Превратившись из экзотического национального типа в «общечеловечески приятного» пролетария, русский человек стал партнером в стратегическом «переговорном процессе», касающемся поиска действительно назревших, эпохальных альтернатив.
С другой стороны, марксизм выражал достаточно глубокую, рефлексивную самокритику Запада: от нее Запад не мог отмахнуться как от чего-то внешнего, олицетворяющего пресловутый «конфликт цивилизаций»…» [54, с. 139].
Говоря о том, что возникший в ходе революции новый антропологический образ русского (советского) народа, обладал в глазах Запада атрибутами гражданской нации, А.С. Панарин в то же время признает, что это новое самоосознание граждан СССР создавало и сильные внутренние связи, сплачивающие их в нацию. Он пишет: «В той мере, в какой старому русскому «национал-патриотизму» удалось сублимировать свою энергетику, переведя ее на язык, легализованный на самом Западе, этот патриотизм достиг наконец-таки точки внутреннего равновесия. И западническая, и славянофильская традиции по-своему, в превращенной форме, обрели эффективное самовыражение в «русском марксизме» и примирились в нем…
Советский человек, таким образом преодолевший «цивилизационную раздвоенность» русской души (раскол славянофильства и западничества), наряду с преодолением традиционного комплекса неполноценности, обрел замечательную цельность и самоуважение. В самом деле, на языке марксизма, делающем упор не на уровне жизни и других критериях потребительского сознания, обреченного в России быть «несчастным», а на формационных сопоставлениях, Россия впервые осознавала себя как самая передовая страна и при этом – без всяких изъянов и фобий, свойственных чисто националистическому сознанию» [54, с. 140].
Совершенно по-иному, не в конфронтации со «значимыми иными», а в духе оптимистической всечеловечности, происходила и этнизация советского народа иными, что спасало советский народ от соблазнов этнонационализма и скрепляло как гражданскую нацию. А.С. Панарин пишет: «По-марксистски выстроенная классовая идентичность делала советского человека личностью всемирно-исторической, умеющей всюду находить деятельных единомышленников – братьев по классу» [54, с. 141].
В дальнейшем негативное воздействие «оболочки» марксизма стало нарастать, особенно по мере того, как с политической и общественной сцены уходило поколение, обладавшее запасом «неявного знания» о национальной проблематике, унаследованного от старой российской государственности. Это неявное знание не нашло отражения в текстах и в малой степени оказалось переданным поколениям послевоенным. Оно стало иссякать, и «оболочка» истмата превратилась в действующие структуры сознания образованного слоя.
В идеологизированных книгах, на которых училась советская интеллигенция 60—80-х годов, всякая попытка отойти от классового подхода вызывает ругань. «Немецкий философ Шпенглер, основатель буржуазной «философии культуры», в нашумевшей книге… Испытавший влияние Шпенглера английский историк и социолог Тойнби попытался пересмотреть мировую историю… Попытка Тойнби… свелась к трактовке поступательного развития как в основном духовно-религиозного прогресса… Русский реакционный публицист Н. Данилевский, который утверждал… Шпенглер и Тойнби (как и Данилевский) фетишизируют национальный момент… Удивительно ли, что на основе подобных концепций в буржуазной социологии активно проповедуется идея…» [38, с. 69–70].
Но главное даже не в статусе проблемы, а в том, что принятая в марксизме и унаследованная советским обществоведением теория этничности и нации была ошибочной в принципе и негодной для проектирования и строительства народа именно в Советском Союзе.
Как было показано выше, представления о народах самих Маркса и Энгельса были унаследованы от романтической немецкой философии и лежали в русле примордиализма. В целостном виде теорию нации основоположники марксизма не изложили. Это сделал австрийский марксист О. Бауэр, его книга «Национальный вопрос и социал-демократия» была издана в 1909 г. на русском языке в Петербурге. Из ее положений и исходили российские марксисты. Бауэр продолжает традицию немецкого романтизма и представляет нацию как общность, связанную кровным родством – «общей кровью» [62, с. 209]. Формулу Бауэра принял Сталин, хотя и выбросив из нее «кровь».
Но суть теории не меняется от того, что из нее выбрасываются кое-какие одиозные термины. Главное, что в СССР была принята и утверждена официально парадигма примордиализма. В итоговом издании, отмеченном авторитетом АН СССР, было сказано (1983): «Среди всего многообразия человеческих общностей этносы, несомненно, должны быть отнесены к тем, что возникают не по воле людей, а в результате объективного развития исторического процесса» [62, с. 49]. Таким образом, сознательное «конструирование» советского народа и его создание по воле людей официально отвергалось. Оно должно было идти только естественным путем (на деле это означало, что созидающая народ деятельность должна была проводиться вопреки официальной теории, в интеллектуальном смысле подпольно). Это – кардинальное отличие от сознательного целенаправленного нациестроительства, которое осуществляли западные страны (прежде всего Франция и США).
Сам факт принятия вполне определенной теоретической концепции был, видимо, даже не замечен российской интеллигенцией всех направлений. Во-первых, как было сказано выше, примордиализм присущ обыденному сознанию. Значит, проблема выбора теории могла бы встать лишь в том случае, если бы возникла открытая дискуссия по этому поводу в образованной среде. Но домарксистская русская интеллигенция тоже находилась под влиянием немецкой философии. Так, представления о народах Н.Я. Данилевского вполне созвучны Гегелю и Энгельсу. Народы, создающие культурно-исторический тип, являются у Данилевского прогрессивными, а разрушающие его (монголы, турки) – реакционными. Остальные народы он считал неисторическими.
В царское время вопросов с теорией этничности, видимо, не возникало. Видимо, в кругах русской аристократии на интуитивном уровне бытовало представление о народах и племенах (языках), как созданиях Бога, который наделяет их душой (вспомним суждения де Местра, который долго вращался в петербургском высшем свете). Если так, то дело государей – охранять все перешедшие под его руку народы, не вмешиваясь в их «естественное» развитие.
Теоретические рассуждения советских идеологов следуют в том же ключе, только в них примордиализм сочетается с формационным подходом – были нации буржуазные и феодальные, стали социалистические. В установочной книге 1967 г. говорится, что при социализме происходят два процесса развития народов – превращение старых наций в социалистические нации и «развитие народностей (киргизы, таджики, туркмены и др.) до уровня наций» [63, с. 86].
Предполагалось, что советский народ по своей природе не является нацией и не станет ею, а все отдельные народы СССР дорастут до статуса социалистических наций, а затем, в далеком будущем, сольются. Во что сольются, не говорилось. В той же книге дана серия таких формул: «Советский народ отнюдь не является нацией», хотя реакционные западные идеологи утверждают, что цель КПСС «в слиянии всех наций и народов в единой нации советско-русского типа». «Укрепление советской общности, вопреки измышлениям антикоммунистов, отнюдь не означало растворения наций в этой общности… Сущность интернациональной общности как раз состоит в том, что она как продукт сближения наций выполняет роль переходной от нации к будущему безнациональному существованию… «Единый многонациональный народ» – здесь как нельзя лучше выражено существо советской общности людей, невиданной в истории» [63, с. 86, 89, 90].
Когда читаешь сегодня программные труды по проблемам этничности, прежде всего бросается в глаза схоластическое отношение к понятиям и даже терминам, которое блокирует содержательное рассмотрение проблем именно нашей, советской реальности. Так, в советской антропологии долго не включали племя в число исторических общностей, потому что когда-то Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос» сказал, что не следует смешивать «нацию, являющуюся исторической категорией, с племенем, являющимся категорией этнографической». Но в 1950 г. Сталин, отвечая на вопросы по поводу языкознания, упомянул в одном ряду племя, народность и нацию – и племя было восстановлено в своих правах как историческая общность.
До сих пор трудно понять, почему «единый многонациональный народ» – советский – нельзя было считать нацией. В изданной Политиздатом книге (1982) говорится угрожающим тоном: «В ряду незрелых или скороспелых суждений, отвергнутых наукой и практикой строительства коммунизма, следует назвать версию о том, будто в нашей стране «вырисовывается облик новой этнической общности, рождаемой практикой коммунистического строительства, – советская нация». Те, кто приходил к подобному выводу, по-видимому, механически переносили известные признаки нации… на новую историческую общность… Отождествление советского народа с «новой нацией» означало бы низведение новой исторической общности на уровень общностей, возникающих на исторически предшествующих ступенях общественного развития, т. е. на порядок ниже. С другой стороны, это перечеркивало бы факт существования в СССР более ста социалистических наций, народностей и национальных групп, успешно развивающихся в рамках новой исторической общности» [38, с. 244–245].
Из этого упорного отказа признать советский народ нацией следовало множество практических установок. Чем же был вызван этот отказ?
С.В. Чешко пишет: «С точки зрения принятых в современном мире понятийных норм следует признать не только реальное существование в СССР «советского народа», но и признать его в качестве обычной полиэтнической нации – советской нации. С точки же зрения традиции советского обществоведения, согласно которой нация – это моноэтнический социальный организм, одна из форм и стадий существования этноса, такой вывод может, наверное, выглядеть неслыханной ересью с оттенком «ассимиляторства».
О различиях в понятийно-терминологическом аппарате советской и западной (преимущественно англоязычной) науки – в том, что связано с «нацией», – написано уже вполне достаточно, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Но проблема заключается не только в терминологии, хотя и сам факт, что одним и тем же термином обозначают весьма разные явления, выглядит абсурдом. Благодаря своему упорному стремлению сохранить «самобытность», уберечь свои теории и профессиональный язык от внешних влияний, отечественное обществоведение попало в концептуальный тупик. Наши ученые не отваживались отрицать существование американской, бразильской или индийской наций, признавали принадлежность СССР к Организации Объединенных Наций, но даже не допускали мысли о возможности понятия «советская нация». А в период развала СССР эта несуразица активно использовалась теми, кто пытался доказать, что СССР – это «не страна и не государство», без своей нации, народа и поэтому без права на существование» [22, с. 141–142][125].
Трудно сказать, чем в действительности была вызвана эта «несуразица» и столкновение каких сил в партийном руководстве определило этот выбор. Идеологические основания, по которым можно было узаконить понятие советской нации, имелись. Представление о советском народе как полиэтнической («многонародной») гражданской нации лежало в основе евразийства – целостной, наиболее развитой и наиболее свободной от разных доктринерских «измов» концепции будущего образа России, созданной в ХХ веке. Н.С. Трубецкой писал в 1927 г.: «Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом.
Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм – евразийством… В применении к Евразии это значит, что национализм каждого отдельного народа Евразии (современного СССР) должен комбинироваться с национализмом общеевразийским, т. е. евразийством… Только пробуждение самосознания единства многонародной евразийской нации способно дать России-Евразии тот этнический субстрат государственности, без которого она рано или поздно начнет распадаться на части к величайшему несчастью и страданию всех ее частей». [65].
Советское государство имело основания опереться на эту доктрину, т. к. она уже была укоренена в общественной мысли с конца ХIХ в. во всех ее направлениях, за исключением либерального западничества. Достоевский в «Дневнике писателя» (январь 1881 г.) писал: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» [66]. Напротив, либералы, беря за идеал устройство Запада, вели к разрушению России как евразийской державы.
Это предвидел П.А.Столыпин и в 1908 г. предупреждал: «Не забывайте, господа, что русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света, что он отразил монгольское нашествие и что ему дорог и люб Восток; это его сознание выражалось всегда и в стремлении к переселению, и в народных преданиях, оно выражается и в государственных эмблемах. Наш орел, наследие Византии – орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью».
Одна из причин, по которым советские этнологи своими схоластическими дебатами о нациях и народах загнали себя в тупик, заключается в давлении формационного подхода. Маркс и Энгельс различали нации феодальные, крестьянские и буржуазные – значит, в СССР должны быть нации социалистические. Но они уже есть – в 1936 г. Сталин сказал, что в СССР проживает «около 60 наций, национальных групп и народностей». Что же, эти нации растворяются в советской нации? Эта мысль неприемлема, так как антисоветские идеологи в качестве одного из главных обвинений в адрес СССР утверждали, что советская национальная политика направлена на ассимиляцию народов и наций (знали, чем напугать).
Л.И. Брежнев в докладе о проекте Конституции СССР в 1977 г. отвергал это обвинение: «Мы встали бы на опасный путь, если бы начали искусственно форсировать этот объективный процесс сближения наций». Даже признать этот процесс целенаправленным считалось невозможным, объективное было в советском обществоведении равноценным разрешенному свыше. В том же духе выступал и Ю.В. Андропов, обещая, что национальные различия в СССР «будут существовать долго, много дольше, чем различия классовые».
Ю.В. Бромлей, как глава советской этнологии, так и объясняет отказ считать советский народ нацией: «Для возражений есть тем большие основания, что подобная характеристика советского народа означала бы косвенное отрицание реального факта существования наций в составе советского государства» [62, с. 373][126].
Указывают и еще на одну причину, хотя она кажется совсем неправдоподобной: без наций в составе советского народа никак нельзя, потому что советская идеология исходит из интернационализма, а как же он без наций! Ю.В. Бромлей поясняет: «Уже сам термин «интернационализм» (inter – между, natio – народ, нация) свидетельствует, что интернациональное немыслимо без национального» [62, с. 345].
Подытожим этот пункт. Очень трудно строить, тем более такой сложный объект, как полиэтническую нацию (советский народ), если официальная теория и идеология утверждают, что строить нельзя, что «изделие» должно возникнуть само собой, естественным путем. Многим читателям, думаю, будет трудно в это поверить, поскольку нас очень долго учили, что бытие определяет сознание, и теории особой роли не играют – бытие себе дорогу пробьет. На деле человек тем и отличается от пчелы или бобра, что он строит, всегда исходя из теории, пусть и упрощенной. А в ХХ веке теория как способ организации мышления вообще заняла слишком важное место в мышлении образованного человека – оно «зациклилось» на теориях.
И если французы или отцы-основатели США рассуждали о собирании, сохранении и ремонте своих наций спокойно и деловито, как инженеры на технических совещаниях, то проектировщики советского народа в СССР окутывали свои изобретения и разумные идеи массой туманных оговорок, ссылок и недомолвок. Но покуда практическая политика не была экранирована от реальности огромным сословием ученых-обществоведов, многое удавалось сделать. Применялся весь набор «сил созидания» советского народа из собравшихся в страну народов, народностей и этнических общностей. Насколько эффективным было это строительство, показал опыт Великой Отечественной войны. Западные специалисты считали, что сплотить за такой короткий срок полторы сотни народов в крепкую самоотверженную нацию невозможно.
Как быстро и слаженно могли советские органы «будить» этническое самосознание и буквально создавать народы, показывает их конструктивистская деятельность в Средней Азии. Как отмечалось выше (со ссылками на В.А. Тишкова), в 20-е годы население Средней Азии имело еще слабое этническое самосознание и нечеткие этнонимы – самоназвания этнических групп. Государственное строительство требовало упорядочения этнических и административных границ, чему служили первые переписи, в которых вводилось понятие национальности. «Я сама родила множество узбеков», – говорила одна из этнографов-участников переписи 1926 г. в Самарканде.
За 20-е годы ХХ века был создан таджикский народ, с развитым национальным самосознанием и культурой. Хотя слово «таджик» еще в VIII в. значило «араб» (воин халифа), ему не придавалось этнического значения вплоть до 1918 г. Отцы и деды нынешних таджиков о себе говорили «я – мусульманин, персоязычный».
Это была большая этническая общность иранской группы, в 20-е годы в Туркестане и Бухаре их насчитывалось более 1,2 миллиона. Но они, окруженные узбеками, оказались под сильным давлением идеологии пантюркизма, так что даже малочисленная таджикская интеллигенция принимала идею «обузбечивания» и считала бесперспективным развитие своей культуры. Проводить здесь советские установки было очень трудно – в Средней Азии были популярны идеи Ататюрка о государстве-нации «по-тюркски», и этим идеям были привержены руководители узбекских коммунистов. Они считали, что сила региона зависит от его единства, а оно во многом укрепляется языковой общностью – и отвергали культурное обособление таджиков от тюрок. Под все это подводилось «научно-материалистическое» обоснование.
Укрепление советской власти послужило тому, что таджикские интеллигенты стали преодолевать и пантюркизм, и джадидизм – течение либеральных модернизаторов, идущих в русле младотурок[127]. В 1924 г. Была образована Таджикская АССР в составе Узбекистана. Стал издаваться журнал «Голос таджикского бедняка», орган обкома ВКП(б) и исполкома Самарканда, потом еще два журнала. «Голос бедняка» стал создавать историографию таджиков, печатать переводы выдержек из трудов русского востоковеда В. Бартольда. Статьи в журнале начинались с таких разъяснений: «Вот кто мы, вот где мы географически расположены, в каких районах проживаем, в каком районе что выращивается». Пробуждалось и этническое самомнение, журнал писал: «Те, кто живут в горах, сохраняют арийский тип и говорят на более чистом языке, чем прочие».
Потом стали выпускать газету на таджикском языке. О ней «Голос бедняка» писал в 1924 г.: «Газета – это язык народа, волшебный шар, в котором отражается мир, подруга в уединении, защитница угнетенных. Газета – источник бдительности, пробуждения народа. Да здравствует образование, да здравствует печать». Газета помогла становлению таджикской светской школы. Как писал в стихах Айни, «лишь отсутствие школы в ту эпоху немного задержало полет таджика».
Вот как обстояло дело со школами в Таджикистане:
Школьное образование и ликбезы в Таджикистане (1921–1929)
В декабре 1924 г. наркомпрос образовал свой журнал на таджикском языке и писал: «Наш журнал должен быть справочником, в любой момент полезным учителю. Поскольку школьное дело в Таджикистане еще очень молодо и таджики не вполне понимают настоящий литературный персидский язык, наш журнал должен быть несложным и доступным для простого народа. Пусть нас не будут считать людьми высокого слога, но пусть каждый учитель сможет понять нас» [67].
В 1929 г. был открыт первый таджикский драматический театр, в 1931 г. первый вуз – Педагогический университет с одним факультетом и 12 преподавателями, а затем в том же году – Университет сельского хозяйства. Таджики стали народом. Причем этот народ сформировался как советский[128].
По данным социологов, в 1992 г. «подавляющая часть опрошенных рабочих, колхозников, сельской и технической интеллигенции не разделяла идей суверенизации страны, 77 % опрошенных выразили сожаление о распаде СССР, даже высказались против независимости Таджикистана… Иные настроения овладели политической и хозяйственной элитой, она решительно высказалась за независимость Таджикистана» [69].
Этот эпизод показывает, что когда перед советскими и партийными руководителями 20-30-х годов вставала конкретная практическая задача в сфере национальных отношений, они решали ее исходя из здравого смысла, и это решение находилось в русле той концепции этничности, которая теперь называется конструктивизмом. И тот факт, что обыденное сознание видит этничность через призму примордиализма, этим практическим решениям не мешал.
В сфере общественного сознания направление процесса было иным. В 20-е годы продолжалась деятельность идеологических служб ВКП(б) по демонтажу русского «имперского» народа. Не будем здесь пытаться реконструировать побуждения и замыслы той группы из руководства партии, которая вырабатывала доктрину и отвечала за практику идеологической работы. Важна сама доктрина и практика. Гражданская война устранила с политической арены либералов-западников, которые вели идеологическую борьбу против империи, но космополитическое крыло большевиков, которое приняло у них эстафету, разрушало символы империи и историческую память народа еще более радикально.
Ненависть этой части большевиков к России как «тюрьме народов» была не только доктринальной, но и глубоко укорененной (видимо, это неизбежно во всех больших революциях, но в психологическую сторону дела вдаваться не будем). Хотя после Октября большевикам пришлось заняться государственным строительством и ввести в свою риторику понятие социалистического отечества, инерция антигосударственных установок была очень велика, и в практике эти установки действовали как антироссийские.
Вот что писал активный деятель «правой оппозиции» М. Рютин (очень популярный во время перестройки как один из убежденных антисталинистов) в своей автобиографии 1 сентября 1923 г.: «Я стал самым непримиримым пораженцем. Я с удовлетворением отмечал каждую неудачу царских войск и нервничал по поводу каждого успеха самодержавия на фронте. Обосновать свою точку зрения к тому моменту я мог вполне основательно. Теоретически я чувствовал себя достаточно подготовленным: мною уже были проштудированы все главные произведения Плеханова, Каутского, Меринга, Энгельса, Маркса. К концу 1913 г. я проштудировал все три тома «Капитала», исторические работы Маркса, все важнейшие труды Энгельса» [70].
Вести борьбу с такими взглядами внутри партии было невозможно, пока не «наросло» новое массовое поколение большевиков уже из молодежи. Ведь антироссийский пафос М. Рютина прямо вытекал из трудов Маркса и Энгельса, а еще совсем недавно эти же труды цитировал Ленин. В результате в течение 20-х годов в СССР велась интенсивная кампания по вытеснению из исторической памяти всех символов прежней России. Тогдашний глава официальной исторической науки М.Н. Покровский прямо определил, что древняя и средневековая история «не нужна». Глубина упоминания исторических событий и лиц для СМИ была ограничена ХVIII веком. Так, сплошное изучение публикаций в «Комсомольской правде» за 9 месяцев с октября 1925 по июнь 1926 г. показало, что за это время газета ни разу не упомянула события и лица русской истории до ХVIII века. До 1934 г. история была исключена как предмет из учебных планов школы. В 1931 г. была прекращена подготовка историков в Московском и Ленинградском университетах.
На памятнике «Тысячелетие России» представлено 109 исторических фигур, которые стали символами российской славы с середины IХ до середины ХIХ века. Во всех советских газетах второй половины 20-х годов изредка упоминались лишь 15 из представленных на памятнике имен. Кутузов и Багратион обвинялись в бездарности и трусости, они получали в советской публицистике оценку ниже той, что содержалась во французских школьных учебниках. Главный репертуарный комитет в 1927 г. запретил публичное исполнение увертюры Чайковского «1812 год».
В связи с этим последним событием сделаем маленькое отступление. Отношение основоположников марксизма к Отечественной войне 1812 г. оказало устойчивое влияние на взгляды части интеллигенции СССР, оно стало своего рода пробным камнем. Во множестве статей и писем Энгельс характеризует победу России над Наполеоном как цивилизационную катастрофу Запада – «казаки, башкиры и прочий разбойничий сброд победили республику, наследницу Великой Французской революции». Во всех этих замечаниях Энгельса, сделанных все же вскользь, отечественная война России предстает как война реакционного народа. Но эта мысль настолько существенна, что она наследовалась «прогрессивной левой интеллигенцией», в том числе в России и СССР, из поколения в поколение – вплоть до нынешних дней.
Израильский историк Дов Конторер пишет сегодня о том, что во влиятельной части советской интеллигенции существовало течение, которое отстаивало «возможность лучшего, чем в реальной истории, воплощения коммунистических идей» (он называет эту возможность «троцкистской»). Конторер цитирует кинорежиссера Михаила Ромма, который 26 февраля 1963 г. выступал перед деятелями науки, театра и искусств (текст этот ходил в 1963 г. в самиздате): «Хотелось бы разобраться в некоторых традициях, которые сложились у нас. Есть очень хорошие традиции, а есть и совсем нехорошие. Вот у нас традиция: исполнять два раза в году увертюру Чайковского «1812 год». Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею – идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Ильич сам стыдился. Я не специалист по истории музыки, но убежден, что увертюра написана по конъюнктурным соображениям, с явным намерением польстить церкви и монархии. Зачем Советской власти под колокольный звон унижать «Марсельезу», великолепный гимн французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна? А ведь исполнение увертюры вошло в традицию. Впервые после Октябрьской революции эта увертюра была исполнена в те годы, когда выдуманы были слова «безродный космополит», которыми заменялось слово жид».
Ромм увязал увертюру Чайковского с «советским антисемитизмом», а сегодня Конторер увязывает эту увертюру и саму победу России в Отечественной войне 1812 г. с совершенно актуальным современным тезисом о «русском фашизме». Он пишет о демарше Михаила Ромма: «Здесь мы наблюдаем примечательную реакцию художника-интернационалиста на свершившуюся при Сталине фашизацию коммунизма» [71]. Так что пусть те, кто читает сегодня «Войну и мир» или слушает увертюру «1812 год», поостерегутся делать это на публике. Газета «Известия» и «Новая газета» уже учредили «черные списки» тех, кто при следующей победе Нового мирового порядка будут объявлены «русскими фашистами».
Вернемся в 20-е годы. В 1928 г. была начата кампания против встречи Нового года и Рождества с елкой. Поэт Семен Кирсанов писал в «Комсомольской правде»:
Елки Сухая розга маячит в глазища нам. По шапке Деда Мороза, ангела — по зубам!В материалах о союзных республиках та же газета писала: «Над Украиной скрипел сапог царского самодержавия, свистела колонизаторская нагайка русского капитализма». А вот как энциклопедия 1931 г. характеризует Богдана Хмельницкого, который возглавил антипольское восстание и воссоединение Украины с Россией: «Хмельницкий стал подыскивать нового, более сильного союзника в борьбе с крестьянской революцией, чем Польша, и нашел его в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли» [72].
Одной из важнейших сил, скрепляющих людей в народ, является язык – как устный, так и письменность. Основа письменности – алфавит, в котором важно и соответствие звукам родного языка, и графика, написание букв, и их расположение, и история создания. Русские с самого начала писали на кириллице – с помощью алфавита, созданного православными монахами Кириллом и Мефодием. В отношении русского языка в 20—30-е годы в советском обществе велась глухая, но непримиримая борьба. Были силы, которые укрепляли связь советского русского языка с его традиционной основой (из поэтов можно назвать Хлебникова, Маяковского, Есенина и Клюева), были и авангардисты, которые стремились разрушить «архаические» структуры языка.
Эта борьба в официальной советской истории была отражена в сглаженном виде – действовала установка на объединение общества. Но сейчас надо вспомнить и извлечь уроки. Ведь вплоть до начала 30-х годов велась кампания за перевод русского языка на латинский алфавит, что нанесло бы тяжелый удар по национальному сознанию русского народа. И эту кампанию поддерживал нарком просвещения А. Луначарский.
Он опирался на доводы, почерпнутые из марксизма, прежде всего исходя из примата «производительных сил». В своей статье 1930 г. А. Луначарский писал: «Графические формы современного руского алфавита отвечают более низкому уровню развития производительных сил, а следовательно, и техники чтения и письма дореволюционной царской России» [73, с. 37]. С другой стороны, он связывал кириллицу с догмой о реакционной сущности русского царизма: «С переходом на новую графику мы окончательно освобождаемся от всяких пережитков эпохи царизма в формах самой графики и принимаем интернациональную графику, вполне соответствующую интернациональному социалистическому содержанию нашей печати» [73, с. 40].
К счастью, время подобной демагогии уже кончалось, и статья эта была опубликована с пометкой, что она содержит спорные мысли. Тем не менее, она была напечатана, и это была статья наркома (министра). Сегодня нам полезно это вспомнить.
А. Луначарский пишет: «На этапе строительства социализма существование в СССР руского алфавита представляет собою безусловный анахронизм, – род графического барьера, разобщающий наиболее численную группу народов Союза как от революционого Востока, так и от трудовых масс и пролетариата Запада. Своими корнями этот алфавит все еще уходит вглубь дореволюционого прошлого. Национальные масы Советского Союза еще не забыли его русификаторской роли. Проклятие самодержавного гнета, мисионерской пропаганды, насильственой русификации и великоруского национал-шовинизма еще тяготеет над самой графической формой этого алфавита. Частичная, подготовленная еще до революции радикальной интелигенцией и осуществленая советской властью реформа руской орфографии приспособила это орудие класовой письменности дореволюционой царской России к потребностям распространения масовой грамотности в годы военого комунизма и нэп’а. Однако, в настоящее время, в момент, когда уже осуществляется генеральный план реконструкции страны, осуществляется строительство социализма, строительство новой социалистической культуры, естествено, что этот, даже исправленый, руский гражданский алфавит перестал удовлетворять наиболее активную, наиболее передовую часть советской общественности» [73, с. 36][129].
Свернуть всю эту кампанию удалось только после того, как была разгромлена, самыми жестокими методами, «оппозиция» в ВКП(б). Резкий поворот был совершен после ХVII съезда ВКП(б) – в мае 1934 г. постановлением правительства и ЦК ВКП(б) введено преподавание истории в средней школе, следом – постановление о введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР. Было предписано «преодолеть левацкие ошибки М.Н. Покровского», образован исторический факультет МГУ.
А. Иголкин в большом обзоре об этих событиях пишет: «Семнадцатилетний эксперимент по полному вытеснению исторической памяти заканчивался. Восстанавливалась глубина исторической памяти – на всю тысячелетнюю глубину истории страны. Подчеркивалась связность, непрерывность, преемственность русской истории, ее самобытность, самостоятельность ее политики, национальные интересы. В довоенных советских газетах – сгущение исторической символики, особенно связанной с обороной страны. Соотношение общегражданской и революционной истории, представленной в СМИ, резко меняется в пользу первой»[130] [74].
Поворот, совершенный в 1934 г., дался непросто. Даже при том, что к этому времени созрел культ личности Сталина и его власть казалась незыблемой, отход от антироссийской позиции Маркса и Энгельса был чреват опасным конфликтом с партийной верхушкой внутри СССР и с левой интеллигенцией Запада. Приходилось изощряться и вести восстановление исторической памяти русских «с опорой на марксизм»!
Г.П. Федотов пишет в эмиграции (1937): «Не так давно «Правда» посвятила передовицу славе «великого русского народа». Поразительно, что начинается эта слава цитатой из Маркса: «Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Европе». Если бы Маркс выступал лишь в роли барда русской революции, это было бы в порядке вещей. Но через несколько строк уже противопоставляемый гитлеровскому германизму, бедный Маркс делается апологетом русского народа и русской государственности, жестоко им ненавидимой. Это очень искусный трюк, который сделали возможным усердные штудии Маркса в рязановско-бухаринский период русской революции. Как известно, в России опубликовали множество сочинений, черновиков и записок Маркса из разных периодов его жизни (особенно молодости), которые не имеют ничего общего со зрелым, сложившимся марксизмом. Это дает возможность – не в одной России – интерпретировать марксизм в таком духе, от которого сам Маркс пришел бы в бешенство. Приведенная на этот раз выдержка «Правды» побивает все рекорды…
Карл Маркс выступает на защиту Александра Невского. Доселе Александр Невский, как и все содержание национальной русской истории, интерпретировались в духе марксизма. Теперь Маркс интерпретируется в национальном духе. Недурно?.. Нельзя не видеть, что рождение нового национального сознания в России протекает в тяжких, болезненных формах. Это такие муки родов, которые заставляют вспомнить о кесаревом сечении» [75].
Красноречив такой эпизод. 19 июля 1934 г. Сталин закончил текст под названием «О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» (редактировал он этот текст с апреля). Статья Энгельса, написанная им в 1890 г., содержит типичные для Энгельса антироссийские утверждения[131]. Ответный текст Сталина стал бы первым случаем открытой полемики с установками основоположников марксизма. Это было бы, конечно, важным событием.
Статья Энгельса не была напечатана, однако в 1934 г. Сталин не решился не только опубликовать свой текст, но даже разослать его членам Политбюро. Он лишь послал 5 августа 1934 г. Адоратскому, Кнорину, Стецкому, Зиновьеву и Поспелову записку с резкой критикой журнала «Большевик», который печатал письма Энгельса, не обращая внимания на их антироссийский подтекст[132].
Текст Сталина был напечатан в журнале «Большевик» только в мае 1941 г. – за месяц до начала войны. По нынешним временам этот текст выглядит как очень умеренная, с реверансами, отповедь Энгельсу, который представляет Россию угрожающим Европе монстром. Но и сегодня, излагая этот случай, Н.В. Романовский делает строгий выговор Сталину: «Сталин следовал вульгарно-материалистическим представлениям, свойственным людям со складом ума, далеким от научного… Но ведь был прав Энгельс… Конечно, за марксизм обидно. Но ведь подлинный марксизм и тогда и позднее был предан забвению» [77].
Таким образом, сборка советского народа происходила в очень противоречивых условиях – она накладывалась на продолжение интенсивной идеологической кампании, направленной на демонтаж народа Российской империи. Поскольку очень многие классы связей, соединявших людей в дореволюционной России, были необходимы для скрепления народа и в советское время, процесс созидания сопровождался и одновременным разрушением созданного. Так продолжалось до середины 30-х годов.
И все же разрушительная программа революционных и либеральных демократов царской России воспроизвелась уже и в начале 20-х годов далеко не полностью. Уже с Октября 1917 г. в советской идеологии был силен державный национальный дух. Иван Солоневич отметил важную вещь: «Советская историография всех «эпох» советской политики внесла в русскую историографию очень много нового: она, во-первых, раскрыла все тайны и все архивы и вывернула наизнанку все грехи русского прошлого, а такие грехи, конечно, были. И, во-вторых, в последний период, в период «национализации», именно советская историография сделала очень много для того, чтобы отмыть русское прошлое от того презрения, которым его обливали почти все русские историки. Как ни парадоксально это звучит, именно советская историография – отчасти и литература – проделали ту работу, которую нам, монархистам, нужно было проделать давно: борьбу против преклонения перед Западной Европой, борьбу за самостояние русской государственности и русской культуры… Во всяком случае, привычного русского самоослепления в советской историографии нет. А наша старая историография, собственно, почти только этим и занималась» [1, с. 248].
Глава 27. Советский народ: огосударствление этничности
Большинство ученых и политиков, говорящих о советской национальной политике, считают одной из главных причин кризиса советской государственности в 80-е годы ошибочное, по их мнению, решение партии большевиков и лично Ленина создавать СССР как федерацию – с огосударствлением народов и народностей бывшей Российской империи. Дескать, если бы поделили страну на губернии, без всякой национальной окраски, без каких-то «титульных наций» с их правом на самоопределение вплоть до отделения, то и не было бы никаких национальных проблем и никакого сепаратизма.
Этот взгляд я считаю непродуктивным, он блокирует само желание понять реальность. Для нас важнее не выдать оценки деятелям прошлого с высоты нашего редкостного ума и проницательности, а разобраться, почему они приняли то или иное решение. Насколько оно было принято под давлением исторических обстоятельств как меньшее зло? Какую роль сыграли в этом теоретические представления того времени? Если решение стало восприниматься как ошибочное, то можно ли его было исправить впоследствии? Такой анализ нам будет полезен, потому что подобные проблемы возникают перед нами сегодня и будут возникать впредь до того момента, как мы выйдем на новый виток стабильного развития – вплоть до следующего кризиса.
Надежно оценить, было ли верным принятое почти сто лет тому назад решение, мы сегодня не можем – очень трудно через столько времени точно «взвесить» значение каждого фактора, который тогда приходилось принимать во внимание, а также глубину и структуру неопределенности, с которой была сопряжена любая альтернатива. Мы уже не можем вернуться в ту неопределенность, ибо мы знаем, что произошло в результате принятого решения и развития всей совокупности факторов. Конечно, было бы полезно провести мысленный эксперимент с моделированием хода событий, которые бы последовали после создания вместо СССР Советской России, поделенной на «безнациональные» губернии. Но это было бы очень дорогое исследование, и никто его оплачивать не будет. А без этого наши оценки становятся досужими домыслами.
Вот первое условие, которое предопределило принятие советской властью доктрины федерализма – укорененность этой идеи в общественном сознании. Федералистские идеи развивались в России уже в первой трети ХIХ в. Декабристы разрабатывали две программы государственного устройства – Пестель унитарного и Никита Муравьев федерального. В федерализме стала вызревать идея России как федерации народов. В статье об истории этого процесса Н. Алексеев пишет: «С развитием революционного движения в России во второй четверти ХIХ – первом пятилетии ХХ в. принцип национального самоопределения начинает преобладать над принципом областничества. Русская революционная интеллигенция разных группировок начинает пробуждать и поддерживать децентрализационные силы русской истории, дремавшие в глубоких, замиренных империей настроениях различных, вошедших в Россию, народностей» [78].
С полной определенностью принцип национального самоопределения был декларирован в программе партии «Народная воля». В начале ХХ в. возникают национальные революционные движения и партии с сепаратистскими установками (например, армянская партия Дашнакцутюн). Важнейший для нашей темы исторический факт состоит в том, что эти настроения господствовали во всем революционном движении России. Это значит, что реальной возможности учредить в ходе Гражданской войны унитарное государство, разделенное на безнациональные административные единицы, не существовало.
Это и заставило большевиков изменить их первоначальные намерения. Ведь накануне Февральской революции Ленин был противником федерализации. Ленину больше импонировала французская модель, и он выступал за трансформацию Российской Империи в русскую демократическую республику – унитарную и централистскую. Это видно и из его опубликованных тогда трудов, и из его конспектов, в которых он делал выписки при изучении федерализма [79]. Ленин первым оценил изменение обстановки в ходе Гражданской войны, другие члены руководства (например, Дзержинский и Сталин) продолжали придерживаться идеи унитарного государства, и их поддерживало руководство большинства советских республик. Потому Сталин и выдвинул план автономизации, предлагавший объединение всех республик в составе РСФСР на правах автономий. Однако в ходе обсуждения они согласились с доводами Ленина.
Возьмем другой фактор – в Гражданской войне все борющиеся стороны действовали уже не на пространстве Российской империи, она распалась после Февраля 1917 г. Это было разорванное пространство, на клочках которого националисты всех цветов лихорадочно старались создать подобия государств. Возникла независимая Грузия с главой правительства меньшевиком Жордания, которая «стремилась в Европу» и искала покровительства у Англии. Возникла независимая Украина с масоном Грушевским и социалистом Петлюрой, которая искала союза с Польшей. «Народная Громада» провозгласила полный суверенитет Белоруссии (не имея никакой поддержки в народе), возникла автономная Алаш Орда в Казахстане – везде уже существовала местная буржуазная и европеизированная этническая элита, которая искала иностранных покровителей, которые помогли бы ей учредить какое-то подобие национального государства, отдельного от России. Некоторым это удалось – прибалтийские республики были отторгнуты от России с помощью Германии, а затем Антанты.
Таким образом, для советской власти не существовало дилеммы: сохранить национально-государственное устройство Российской империи – или преобразовать ее в федерацию республик. Задача состояла в том, чтобы собрать разделившиеся куски бывшей империи. Собирание могло быть проведено или в войне с национальными элитами «кусков» – или через их нейтрализацию и компромисс.
Предложение учредить Союз из национальных республик, а не Империю (в виде одной республики), нейтрализовало возникший при «обретении независимости» национализм. Армии националистов потеряли поддержку населения, и со стороны Советского государства гражданская война в ее национальном измерении была пресечена на самой ранней стадии, что сэкономило России очень много крови. Работа по «собиранию» страны велась уже во время войны (историки называют это военно-политическим союзом советских республик). Скорее всего, иного пути собрать Россию и кончить гражданскую войну в тот момент не было. Но спорить об этом сейчас бесполезно[133].
Факт заключается в том, что большевики в октябре 1917 г. унаследовали национальные движения, которые вызревали уже в царской России и активизировались после Февраля[134]. Можно с уверенностью сказать, что если бы Российская империя сумела преодолеть системный кризис 1905–1917 гг. и продолжить свое развитие как страна периферийного капитализма, то ускоренное формирование национальной буржуазии и национальной интеллигенции неминуемо привели бы к мощным политическим движениям, требующим отделения от России и создания национальных государств. Эти движения получили бы поддержку Запада и либерально-буржуазной элиты в крупных городах Центра самой России. Монархическая государственность с этим справиться бы не смогла, и Российская империя была бы демонтирована. Большевики в 20-е годы ХIХ века нашли способ обуздать эти движения (а в конце века просоветская часть КПСС такого способа не нашла).
Сегодня гораздо продуктивнее не обвинять большевиков в том, что они не совершили невозможного, а понять, каким образом они смогли так нейтрализовать этнический национализм, чтобы вновь собрать не просто единое государство, но во многих отношениях гораздо сильнее консолидированное, нежели Российская империя[135]. Это знание сегодня необходимо, даже несмотря на то, что тот опыт не может быть применен в нынешних условиях. Важны не рецепты, а методология подхода к проблеме. Мы, например, почти не обращали внимания на тот смысл, который придавался идее диктатуры пролетариата как средства ослабления власти национальных элит. Националисты не могли ничего противопоставить сплачивающей силе идеи союза «трудящихся и эксплуатируемых масс» всех народов России.
А в практике государственного строительства ленинской группировке удалось добиться, часто с очень большим трудом, сосредоточения реальной власти в центре с таким перевесом сил, что вплоть до 70-х годов власть этнических элит была гораздо слабее центра. Здесь и формирование системы неофициальной власти партии, подчиненной центру, и изобретение номенклатурной системы, гарантирующей контроль за кадрами, и полное подчинение центру прокуратуры и карательных органов, и создание унитарной системы военной власти, «нарезающей» территорию страны на безнациональные военные округа, и политика в области языка и образования.
Другой опыт – национальная политика «белых», которая кончилась полным крахом. Выдвинув имперский лозунг единой и неделимой России, белые сразу были вынуждены воевать «на два фронта» – на социальном и национальном. Это во многом предопределило их поражение. Недаром эстонский историк сокрушался в 1937 г., что белые, «не считаясь с действительностью, не только не использовали смертоносного оружия против большевиков – местного национализма, но сами наткнулись на него и истекли кровью». Разумно ли это? Сегодня спорить об этом бесполезно, но факт надо учесть.
Перестройка на десять лет лишила страну пространства для спокойных развернутых рассуждений. По мере угасания антисоветского психоза оценки становятся разумнее. В работе конца 1997 г. в «демократической» газете уже читаем такое суждение: «В национальном смысле коммунисты не только остановили хаотический распад России, но и воссоздали единство и территориальную целостность страны, мобилизовали народ на построение великой державы, хотя и тираническим путем. Красная Империя стала иным способом существования Империи Белой» [53]. Вещи очевидные, но надо было их сказать.
Надо учесть и оценки западных ученых, которые дотошно изучали историю национально-государственного строительства СССР и очень высоко оценивают тот факт, что советской власти вновь удалось собрать «империю». Модель Советского Союза была творческим достижением высшего класса[136]. На целый исторический период укротить силу радикального национализма – это труднейшая задача, которую в тот период советское руководство решило, и сегодня сваливать на него вину за то, что Горбачев и Ельцин под аплодисменты интеллигенции снова разожгли этот радикальный национализм, чтобы разрушить СССР, – признак упадка нашей общественной мысли.
К. Янг пишет о «судьбе старых многонациональных империй в период после Первой мировой войны»: «В век национализма классическая империя перестала быть жизнеспособной формой государства… Австро-Венгрия сжалась в своих границах до размеров ее германского ядра, некогда могущественное Оттоманское государство, в течение многих веков занимавшееся «одомашниванием» находившегося в его пределах религиозного и этнического многообразия, сократилось до размеров своей внутренней турецкой цитадели, которая была затем перестроена по модели утвердившейся национальной идеи. И только гигантская империя царей оказалась в основном спасенной от распада благодаря Ленину и с помощью умелого сочетания таких средств, как хитрость, принуждение и социализм.
Мощно звучавшая в границах «тюрьмы народов» национальная идея оказалась кооптированной и надолго прирученной при посредстве лапидарной формулы «национальное по форме, социалистическое по содержанию»… Первоначально сила радикального национализма на периферии была захвачена обещанием самоопределения и затем укрощена утверждением более высокого принципа пролетарского интернационализма, с помощью которого могла быть создана новая и более высокая форма национального государства в виде социалистического содружества. Последнее определяется Коннором в его плодотворном исследовании (1984) «национального вопроса» в государствах с социалистическим образом правления как «длительный процесс ассимиляции на диалектическом пути территориальной автономии для всех компактных национальных групп» [81, с. 95–96].
Даже сегодня, на антисоветской волне, социологи отмечают тот факт, что советская система создала для нынешней РФ прочный фундамент для сборки современной гражданской нации – прочнее, чем у моноэтнической Польши. При этом они ссылаются на высокие оценки советской федеративной системы, которые дают ей ведущие современные этнологи. Е.Н. Данилова пишет: «Россия, будучи преемницей Советского Союза, идеалами гражданского проекта которого восхищались западные мыслители, в определенном смысле обладала более модернизированными по сравнению с Польшей позициями: у россиян были все предпосылки идти по пути современной общегражданской идентичности. Однако вместо того в России может наметиться тенденция замыкания в этническом или местном сообществе. Чувство причастности к этническим и локальным сообществам, как показало наше исследование, автономно существуют здесь наряду с общегражданской российской идентичностью» [52].
Итак, страну собрали как Советский Союз. Исходили при этом из реальных обстоятельств, из инерции исторического развития Российской империи и из тех теоретических представлений о национально-государственном строительстве, которые были частью восприняты из российского же обществоведения, частью из западных учений (прежде всего, марксизма). «Срисовывать» образ Советской России с Франции или США тогда не стали[137].
Так была решена главная проблема момента – закончить Гражданскую войну и снова собрать историческую Россию в одну страну. Это соответствует одному из главных правил здравого смысла – каждое поколение должно решать ту критическую задачу, что выпала на его долю. Понятно, что при такой сборке страны были заморожены и преобразованы проблемы, «посеянные» в Российской империи. Их урожай пришлось собирать будущим поколениям – в 80-е годы. В решении этих проблем наши поколения оказались несостоятельны, но об этом поговорим позже. Сейчас о том, что было «посеяно» и преобразовано большевиками.
Был «посеян» потенциал политизированной этничности, который со временем и при определенных условиях мог вырасти до непредсказуемых размеров. Так оно и вышло – никто не мог даже в середине 80-х годов предсказать, что через три года начнется война между Советской Арменией и Советским Азербайджаном. Это был провал обществоведения, но теперь-то надо учесть результаты последующего анализа. Вот что пишут американские специалисты по национальным отношениям в СССР: «Парадоксально и вопреки ожиданиям коммунистов и большинства западных наблюдателей, но в Советском Союзе образовались новые нации, более сильные и более сплоченные, чем исторические этнические сообщества, на основе которых они возникли» [82]. Итак, процесс этот происходил «вопреки ожиданиям» большинства специалистов, то есть не был тривиальным и предсказуемым. Более того, ход его был парадоксальным, то есть перед нами – необычная система с мощными и скрытыми синергическими эффектами. Дальнейшее ее описание показывает, что движущие силы этого процесса были неустранимы, поскольку главной из них было «создание национального рабочего класса, новоурбанизированного населения, национальной интеллигенции и этнической политической элиты». Все это – необходимые условия развития страны.
Более того, из описания американских этнологов следует, что и политика форсированной индустриализации, и советская практика укрепления традиционного «семейного единства» тормозили консолидацию наций в союзных республиках. От себя добавлю, что и «огосударствление» малых народов и народностей в форме автономных республик тормозило этот процесс (как мы видим на примере Грузии). Иными словами, действовала большая система разнонаправленных сил, и этой системой было нужно и можно управлять. В течение полувека этой системой управляли умело и в целях укрепления Союза, а с середины 80-х годов – в целях расчленения Союза (или катастрофически неумело). В этом суть дела.
Вернемся в начало советского периода. Еще до образования СССР сама Российская Федерация представлялась как «союз определенных исторически выделившихся территорий, отличающихся как особым бытом, так и национальным составом», причем эти территории «возникли как естественный результат развития соответствующих национальностей, имея своей базой, главным образом, национальный признак» (Сталин). То есть с самого начала государственного строительства в СССР стали возникать этнополитические территориальные образования.
Народностям и народам России были предоставлены территория и политическая (государственная) форма. Были официально закреплены имена этносов и зарегистрирована этническая (национальная) принадлежность граждан. Были созданы общественные и государственные институты, конституирующие определенную систему советской этнической «реальности». Была создана письменность для 40 языков (а с учетом диалектов – для 57). У каждого народа формировалась «национальная по форме» культура – этнографы записывали сказки и песни, археологи изучали древность, историки писали историю, литераторы по крохам собирали национальный эпос. Быстро готовилась национальная художественная интеллигенция – еще и сегодня каждый может вспомнить десятки имен. В дело были вовлечены все силы созидания народов.
Работа была неимоверно сложной. Уже привязка народностей к территориям представляла собой задачу, которая не имела удовлетворительного для всех сторон решения (красноречивый пример – Нагорный Карабах). Исторически расселение племен и народов шло на территории России, как и везде, вперемешку. Однородность, достигнутая в Западной Европе, возникла лишь в процессе «сплавления» современных наций. Поскольку в России такого сплавления не производилось, мест с «чистым» в этническом отношении населением, помимо Центральной России, Белоруссии и Украины, было очень немного.
В 1934 г. из 2443 районов, имевшихся в СССР, только 240 считались национальными. В сельсоветах только 1 из 12 мог считаться национальным. Критерию мононациональной общности на низовом уровне удовлетворяла лишь небольшая часть административных единиц. Поэтому в конце 30-х годов национальные районы и сельсоветы были ликвидированы [83]. Этнизировать государственность оказалось возможным лишь на уровне более крупных единиц – автономных и союзных республик, которые все были многонациональными.
Велась работа по объединению родственных этносов в народы. Так за советское время сложились довольно крупные народы – мордва, коми, аварцы, хакасы и др. Это было большим изменением. В Дагестане, например, еще в ХIХ веке каждое село фактически являлось селом-государством, и сельско-общинные связи преобладали над национальными. Разделение на национальности было проведено в 20—30-е годы «с помощью советских ученых». Формирование этнических групп и их языков не завершилось и сегодня. Аварцы, например, делятся на 15 субэтнических групп, так что два аварца из разных сел могут не понять друг друга. Даргинский язык состоит из 10 диалектов, кумыкский – из 5 диалектов [84].
Эта конструктивная работа за советский период и не могла быть завершена – народности СССР находились на разной стадии этногенеза. В.А. Тишков писал в 1990 г.: «Многие народы или даже родоплеменные группы, в представлениях и лексиконе которых не было не только самого понятия «нация», но даже иногда и ее названия (азербайджанцы, например, назывались до этого «тюрками»), не только действительно совершили разительные перемены в своем развитии, но и быстро овладели самой идеей нации, включив в нее значительные мифотворческие, сконструированные начала» [85].
Возвращаясь к вопросу о теоретической интерпретации национально-государственной реальности СССР, нельзя не признать, что она была именно сконструирована и построена, в ней не было ничего естественного и изначально данного. Этот процесс может быть верно понят именно в свете представлений конструктивизма. Но под этой конструктивистской программой лежало примордиалистское убеждение, что народы и народности России есть изначальная данность, на которую нельзя посягать. Да к тому же из марксизма прямо вытекало, что в официальную советскую идеологию должен быть заложен интернационализм, значит, нужны и национальности. (Хотя в главном, в признании права народов на самоопределение, большевики отошли от марксизма еще до 1917 г.).
Сейчас, обсуждая доктрину национально-государственного устройства СССР, надо не забывать, что во времена Николая II, Ленина и Сталина не было никакой связной «теории этничности» – ни в России, ни на Западе. И представления Ленина и Сталина были ответственной и творческой систематизацией имеющихся знаний. Во многих отношениях их теоретические соображения, привязанные к бурной динамике исторического процесса первой трети ХХ века, были шагом вперед. Глупо этого не признавать.
Но более важной, чем теоретические соображения, в принятии решения о выборе государственно-национального устройства, думаю, была историческая инерция того типа межэтнического общежития, который был принят в России еще со времен Киевской Руси. Евразийцы называли его «симфония народов». Это значит – ни этнического плавильного котла (как в США), ни ассимиляции главным народом (как в Германии), ни апартеида, как в колониях. Кстати, те русские патриоты, которые не принимают устройства Советского Союза, никогда не говорят, какая из этих реально известных альтернатив им по душе. Похоже, альтернатива этнического тигля, хотя гласно этого никто не признает.
В размышлениях о русской революции многие философы, и российские, и западные, отмечают тот факт, что именно в программах большевиков сильнее всего проявилась преемственность с траекторией российской истории (С.В. Чешко считает, что мессианское восприятие русскими марксистами идеи мировой революции, а затем и представление России как носителя этой идеи, «по ее глобалистской направленности и сакрализованному характеру была в известном смысле модификацией теории Третьего Рима» [22, с. 75]).
Огосударствление этничности в развивающемся советском обществе не имело выраженного разрушительного характера потому, что этничность занимала в сознании людей небольшое место – мысли и чувства были заняты теми перспективами, которые открывал прогресс общества во всех его проявлениях. Социальная и географическая мобильность, доступ к учебе, творчеству, культурным ресурсам не побуждал людей к тому, чтобы замкнуться в своем этноцентризме.
А. Панарин писал: «Этническая специфика как принадлежность малого жизненного мира, не отменяющая универсалии публичного большого мира, – такова стратегия модерна. В Советском Союзе пошли на большее: на создание в союзных республиках национальной государственности, из которой, правда, был вытащен стержень политического суверенитета. Но и в СССР действовала доминанта модерна: культуры союзных республик были национальными по форме, но едиными – социалистическими – по содержанию. Это социалистическое содержание было на самом деле европейско-просвещенческим. Парадокс коммунизма состоял в том, что он подарил «советскому человеку» юношеское прогрессистское сознание, преисполненное той страстной веры в будущее, которая уже стала иссякать на Западе. Молодежь всех советских республик принадлежала не национальной традиции – она принадлежала прогрессу» [54, с. 170].
Как только идея прогресса и единое социалистическое содержание национальных культур в СССР были в конце перестройки «репрессированы» идеологически, а затем и лишились своих политических и экономических оснований, на первый план вышла агрессивная политизированная этничность, и «архитекторы» перестройки взорвали мину ее государственности.
Среди тех организованных политических сил в России в момент революции, которые имели какие-то программные установки, большевики были как раз менее федералистами, чем другие (если не считать черносотенцев, которые просто не мыслили Россию без царя и Империи, и анархистов, которые проповедовали утопию свободы без государства)[138]. Ленин считал федерацию вынужденным временным состоянием, о чем говорил в работах 1914 г., а в 1920 г. писал в Тезисах ко II конгрессу Коминтерна: «Федерация является переходной формой к полному единству трудящихся… Необходимо стремиться к более и более тесному федеративному союзу» [86].
Реальная политическая альтернатива большевикам, ставшая и движущей силой Белого движения – либерально-буржуазная – была принципиально антиимперской (декларации белого офицерства не в счет). С.Н. Булгаков писал, что моделью государственности для России не мог быть «деспотический автаркизм татарско-турецкого типа, возведенный в этот ранг Византией и раболепствующей официальной церковью; ею должна была стать федеративная демократическая республика, как это хорошо понимали в свое время английские диссиденты, эмигрировавшие в Америку» [87, с. 33]. Здесь – полное отрицание «самодержавного централистического деспотизма, превращающего в рабов тех, кто имеет несчастье быть его подданными» и четкий идеал – «всемирные Соединенные Штаты». Можно сказать, что православный мыслитель о. Сергей Булгаков – прямой предшественник А.Д. Сахарова.
Во время перестройки советская либеральная интеллигенция аплодировала А.Д. Сахарову и подливала масла в огонь этнического сепаратизма – разрушала СССР. Отвергая устройство Советского Союза, она, конечно, и не думала о восстановлении империи – ее идеалом была именно «федеративная демократическая республика», которую, как полагали, создало бы Временное правительство, не вмешайся большевики. Эти образованные товарищи не учитывали, что при строительстве государства и служащего ему опорой общественного строя национальные проблемы неразрывно переплетены с социальными. Не может быть демократической федерации, если при этом возникает этносоциальное неравенство, так что большинство народов становится населением внутреннего «третьего мира».
Пытаясь, уже на уровне программы, собирать разваленную ими же Российскую империю по шаблонам западных федераций (типа Швейцарии или США), либералы Керенского принципиально не могли построить никакой государственности. О чем же тогда прекрасные речи перестройки? И. Солоневич пишет о попытке российских либералов как альтернативы большевикам: «Конструкции, ими спроектированные, не продержались ни одного дня, ибо даже и А. Ф. Керенского мы демократической республикой никак считать не можем: при А. Ф. Керенском была керенщина. Месяца через два после попытки «взять в свои руки московские дела» профессоров вышибли вон. Через полгода после этой попытки профессора бежали на юг, как птицы перелетные. На юге они припадали к ногам генерала Эйхгорна и молили о помощи. Генерал Эйхгорн не помог. Потом молили генерала Франше д’Эспре – генерал Франше д’Эспре не помог. Потом портили настроение генералу Деникину – генерал Деникин тоже не смог помочь. Потом, обжегшись на попытках что-то там «взять в свои руки», разочаровавшись во всех генералах контрреволюции, они стали мечтать о революционных генералах: Клим Ворошилов – вот он и есть «национальная оппозиция Сталину». Но не помогли и революционные генералы» [1, с. 427–428].
Федерация не либерально-демократическая, а советская была не просто возможна, она стала свершившимся фактом – именно потому, что накладывалась на единую систему национальной и социальной политики развития и соединения народов – при сохранении их этнического лица. По мере укрепления СССР и всех союзных институтов (партии и идеологии, культуры и науки, школы, армии и правоохранительных органов, хозяйства и образа жизни) набирал силу и процесс объединения народов в большой советский народ. Одновременно и государство становилось объективно более унитарным и внутренне связанным. Эти «массивные» процессы дополнялись тщательным наблюдением за тем, чтобы этничность народов СССР не «взбунтовалась» – равновесие контролировалось с помощью всей системы экономических, административных, культурных, кадровых мер. В критических случаях применялись и репрессии, иногда кровавые (в основном против той части национальных элит, в которой обнаруживался или подозревался заговор против союзного целого).
Можно ли было в какой-то момент отойти от принципов федерализма, которые в массовом сознании уже были чистой формальностью (как, например, «граница» между РСФСР и УССР)? Сегодня этот вопрос представляет чисто академический интерес[139]. Его никто и не обсуждает. Исторический факт заключается в том, что сознательные меры по контролю за этническими процессами были прекращены с демонтажем «тоталитаризма» во второй половине 50-х годов. Было официально объявлено, что национального вопроса в СССР «не существует»[140]. С.В. Чешко пишет: «Покойный Ю.В. Бромлей любил рассказывать, в каком логическом тупике оказывались его иностранные собеседники, когда узнавали, что в СССР есть кое-какие национальные проблемы, но нет национального вопроса. Буквально такой подход сохранялся и в первые годы перестройки» [22, с. 65].
Между тем существенная часть населения тех территорий, которые были включены в состав СССР только в 1939–1940 гг. (Западная Украина, Прибалтика) занимала антисоветские позиции. Например, во время Великой Отечественной войны в Красной Армии воевало 35 тыс. эстонцев, а на стороне вермахта – более 45 тыс. Публикации изданий украинских националистов-эмигрантов, которые распространялись на Западной Украине, наполнены крайней, из ряда вон выходящей русофобией. Вот выдержка из такого памфлета, которую цитирует Н.И. Ульянов: «Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом – ненависть к ее врагам… Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам кацапам. Любить Украину – значит пожертвовать кацапской родней» [88].
В союзных и автономных республиках стали формироваться сплоченные этнические элиты, а в их среде – местные кланы с развитой целостной структурой, включавшие в себя партийных, административных, хозяйственных работников, представителей художественной и научной интеллигенции и даже авторитетов преступного мира. Собственная государственность, казавшаяся формальной массе рядовых граждан, для элиты наполнилась смыслом и превратилась в замаскированную крепость.
И уже в 60-е годы идеологи «холодной войны» против СССР пришли к выводу, что именно национальные проблемы, а вовсе не экономика и не социальные отношения являются слабым местом всей советской конструкции. Здесь и сосредоточили главные силы. Теоретики КПСС, для которых национального вопроса «не существовало», относились к этому со смехом. С искренним недоумением цитирует Э.А. Баграмов [38] такие предупреждения «буржуазных идеологов»: «Самым заразным из всех экспортных товаров Запада (либерализм, демократия, религия) является идея национализма» (А. Барнетт, 1962) или «Национализм, и только национализм является эффективным барьером на пути коммунизма» (Дж. Дэвис, 1970).
Более того, представления Ленина, а затем и Сталина, о том, что федерация – лишь необходимый этап на пути к полному объединению трудящихся (хотя и при сохранении их национальных отличий), постепенно сменились догмой, согласно которой социалистические нации должны иметь свою государственность. Таким образом, в 60-е годы, когда созревание советского народа как гражданской полиэтнической нации позволяло постепенно снижать уровень огосударствления этносов и укреплять общее государство, в официальной идеологии был сделан упор на ослабление целого. Можно предположить, что этому способствовал укорененный в сознании партийной интеллигенции примордиализм, уже не дополняемый здравым конструктивистским смыслом государственных строителей прежнего поколения.
Типичная книга, изданная Политиздатом (1967), гласит: «Социалистические нации – это такие нации, которым присуща социальная однородность в основном… наличие государственности… В отличие от наций социально неоднородных, социалистические нации всегда имеют государственность. Она может выражаться в разных формах: как в относительно обособленном национальном государстве, так и в наличии государственных образований и их представительства в федеративных органах» [63, с. 57]. Авторы в сноске резко отвергают мнение П.Г. Семенова о «денационализации» союзных республик.
А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев приводят вывод Р. Брубейкера, который изучал этот процесс и его последствия в конце 80-х годов [89]. Он пишет о созданных в советское время институтах огосударствления этничности: «Эти институты составляют устойчивую систему социальной классификации, некий организующий «принцип усмотрения и учреждения различий» в социальном мире, определенную стандартизированную схему социального восприятия, интерпретативную сетку для общественных дискуссий, набор маркеров для проведения границ, легитимную форму для публичных и приватных идентификаций. И стоило политическому пространству расшириться при Горбачеве, как обнаружился уже готовый шаблон для призывов к суверенитету» (см. [90]).
Тот факт, что реформы Горбачева открыли простор для той части этнических элит, которая в холодной войне перешла на сторону противников СССР и вступила в широкий сговор с целью его развала (и приватизации его богатства), идеологи перестройки и реформ используют для того, чтобы убедить общество в нежизнеспособности советского общественного строя. Общий мотив множества их выступлений таков: «Советский Союз держался только с помощью насилия или страха перед насилием. Как только тоталитаризм с его репрессивной машиной был ослаблен Горбачевым, подавленная межэтническая ненависть вырвалась наружу и советская империя распалась»[141].
Эта модель объяснения ложна, и ее несостоятельность была показана уже в 70—80-е годы в исследовании многих этнических конфликтов. «Бунтующая этничность» не таится, как постоянная сущность, в сознании народов, ожидая ослабления центральной власти, чтобы взорвать порядок. Она создается в условиях кризиса для решения, с ее помощью, каких-то политических и экономических задач. Дж. Комарофф пишет о таких этнических конфликтах: «Хочу подчеркнуть, что это выражение культурного самоосознания не есть механическая функция ослабления центров… Я подчеркиваю это в противовес так называемым теориям этнического и национального самоутверждения, которые существуют в нескольких вариантах и связывают недавний всплеск политики самоосознания (сравниваемый с «джинном, выпущенным из бутылки») с ослаблением режимов, которые до того подавляли глубокие и давно копившиеся коллективные чувства и настроения. Мои предыдущие теоретические работы показывают, почему эта форма неопримордиализма не выдерживает критики» [91, с. 68].
Таким образом, процесс «созревания» национального самоосознания этнических элит, который быстро шел в Российской империи в ХIХ и начале ХХ века, был на время прерван после Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны, но потом вновь набрал силу уже в структурах советской государственности. По мере того, как начиная с 60-х годов назревал кризис советской политической системы, этничность национальных элит усиливалась и политизировалась. Этому способствовало огосударствление этничности в СССР, которое по мере нарастания кризиса все меньше и меньше нейтрализовалось скрепляющими Союз механизмами. Это огосударствление дало национальным элитам готовый «шаблон» для мобилизации политизированной этничности, который и был использован во время перестройки. Нынешнее состояние дел хорошо выразил, с позиций конструктивизма, В. Малахов, говоря об этноцентристской доминанте российского общественного сознания.
Он сказал: «Эта доминанта вызвана прежде всего институциализацией, которую этничность приобрела у нас в советский период. Институциализация этничности, а тем самым и невольная сегрегация населения по этническому признаку, нашла выражение в этнофедерализме, при котором некоторые этнические группы – не просто субъекты (культурной) идентичности, но и субъекты (политического) суверенитета. Институциализация этничности выразилась и в паспортной системе (пятый пункт в паспортах, которые мы до сих пор донашиваем). Этничность в результате превращалась из аскриптивной характеристики индивидов и групп в их сущностное свойство. Именно так чаще всего и воспринимается этничность сегодня, причем не только на уровне массового сознания, но и на уровне интеллектуальных и политических элит» [92].
Как видится дальнейшее развитие событий, мы рассмотрим в следующих главах.
Литература
1. И.Л. Солоневич. Народная монархия. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
2. М.А.Фадеичева. «О пользе и вреде истории для жизни». Этнополитика глазами историка, или История глазами этнополитолога. – ПОЛИС. 2004, № 3.
3. Л. Сенчакова. Крестьяне и Государственная Дума (1906–1907 гг.). – Россия – ХХI. 1996, № 9-10.
4. А. Соболев. О евразийстве как культуроцентричном мировоззрении. – Россия – ХХI. 2000, № 1.
5. С.В. Волков. Исторический опыт Российской империи. – «Русский исторический журнал». 1999, № 2.
6. О.Ю. Малинова. Либерализм и концепт нации. – ПОЛИС. 2003, № 2.
7. А. Степанов, А. Уткин. Геоисторические особенности формирования российского военно-государственного общества. – «Россия-ХХI». 1996, № 9-10.
8. А.В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика. 1989.
9. А.И. Миллер. Формирование наций у восточных славян в ХIХ в. – «Русский исторический журнал». 1999, № 4.
10. Л.Н. Толстой. Стыдно. – Собр. Соч., т. 16. М.: Художественная литература, 1964.
11. Л.Т. Сенчакова. Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905–1907 гг. Т. 1. М.: Ин-т российской истории РАН. 1994.
12. В.Г. Щукин. Культурный мир русского западника. – «Вопросы философии». 1992, № 5.
13. В.В. Розанов. О писательстве и писателях. М., 1995, с. 634.
14. В.В. Розанов. Сумерки просвещения. М.: Педагогика. 1990.
15. Е.В. Тарле. Собр. соч., т. 8. 1959, с. 26.
16. С.Н. Булгаков. Религия человекобожия в русской революции. В кн.: С.Н. Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991, с. 135.
17. Л. Хеймсон. Меньшевизм и эволюция российской интеллигенции. – Россия – ХХI. 1995, № 7–8.
18. В.И. Ленин. Украина. Соч., т. 32., с. 342.
19. В.В. Кожинов. Загадочные страницы истории ХХ века. М.: Прима В. 1995, с. 177.
20. В.И. Ленин. Социализм и война. Соч., т. 26, с. 318.
21. В.И. Ленин. О национальной гордости великороссов. Соч., т. 26, с. 109.
22. С.В. Чешко. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. М., 1996.
23. В.И. Ленин. Русские и негры. Соч., т. 22, с. 345.
24. Русская идея: в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. СПб.: Искусство. 1994. Т. 1, с. 110.
25. Р.А. Фадеев. Чем нам быть? – «Русский исторический журнал». 1999, № 4.
26. С.Б. Веселовский. Из старых тетрадей. М.: АИРО-ХХ. 2004.
27. Л.Н. Толстой. О голоде. Собр. Соч., т. 16.
28. С.В. Тютюкин. Июльский политический кризис 1906 г. в России. М.: Наука. 1991.
29. Б.И. Николаевский. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. М.: Высшая школа, 1991.
30. С. Н. Булгаков. Тихие думы: Из статей 1911–1915 гг. М., 1918, с. 28.
31. «Нива». 1913, № 33, c. 659 – Цит. по: В.Логинов. Столыпинские итоги. – httр://stolyрinрetr.narod.ru/Loginov.htm
32. В.И. Никольский. О русском национальном самосознании. – В кн. «Этнопсихологические сюжеты (из Отечественного наследия)». М.: Институт философии РАН. 1992.
33. А.И. Фурсов. Мифы перестройки и мифы о перестройке. – СОЦИС. 2006, № 1.
34. Р.Ш. Ганелин. Российское самодержавие в 1905 году: реформы и революция. СПб.: Наука. 1991.
35. С.Г. Кара-Мурза. Красная Армия – часть народа и часть народного хозяйства. – «Наш современник». 2005, № 12.
36. Д.О. Чураков. Русская революция и рабочее самоуправление. М.: Аиро-ХХ, 1998.
37. Ю.В. Ключников. Наш ответ. – «Смена вех». 1921, № 4.
38. Э.А. Баграмов. Национальный вопрос в борьбе идей. М.: Политиздат. 1982.
39. М. Агурский. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.
40. Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 1990.
41. Ф. Энгельс. О социальном вопросе в России. Соч., т. 18.
42. В. Шубарт. Европа и душа Востока. – Общественные науки и современность, 1992, № 6.
43. М.М. Пришвин. Дневники. М.: Московский рабочий. 1995–1999.
44. Н.А. Гредескул. Перелом русской интеллигенции и его действительный смысл. – В кн. Вехи. Интеллигенция в России. М.: Молодая гвардия. 1991.
45. Т. Шанин. Революция как момент истины. М.: Весь мир. 1997.
46. В. Д. Соловей. Русская история: новое прочтение. М.: АИРО-XXI, 2005.
47. Н. Бердяев. Русская идея. – «Вопросы философии». 1990, № 1.
48. Н.А. Кривова. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. М.: Аиро-ХХ. 1997.
49. М.К. Мамардашвили. Мысль под запретом (Беседы с А. Эпельбауэн). – «Вопросы философии». 1992, № 5.
50. А. Балакирев. Русские коммунистические утопии и учение Н.Ф.Федорова. – Россия XXI, 1996, № 1–2, 3–4.
51. С.Г. Семенова. Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989. Цит. в [20].
52. М. Агурский. Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель). – Вопросы философии. 1991, № 8.
53. С.В. Кортунов. Судьба русского коммунизма. – «НГ-сценарии». 4.11.1997.
54. А. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006.
55. У. Бронфенбреннер. Два мира детства. Дети в США и СССР. М.: Прогресс, 1976.
56. Феномен Сталин. М.: Изд-во МГУ. 2003.
57. ХХII съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. 1. М.: Политиздат. 1962, с. 153.
58. В.Ю. Зорин. Национальная политика в России: история, проблемы, перспектива. М.: ИСПИРАН, 2003.
59. Е.Н. Данилова. Россияне и поляки в зеркале этнических и гражданских идентификаций. – «Восточноевропейские исследования». 2005, № 1.
60. О.А. Богатова. Этнические границы в Мордовии: парадокс многоуровневой идентичности. – СОЦИС. 2004, № 6.
61. Национальная политика России: история и современность. М.: Русский мир. 1997.
62. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М.: Наука. 1983.
63. П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. Нации – народ – человечество. М.: Политиздат. 1967.
64. Партия развития. Идеология развития страны. 30.01.2007 – httр://www.рartrazvi.ru/ideologiya/10/
65. Н.С. Трубецкой. Общеевразийский национализм. – В кн. «Основы евразийства». М: Арктогея. 2002, с. 202–203.
66. Ф.М. Достоевский. Соч., т. 27, с. 33.
67. Г. Джахангири-Жанно. К вопросу о формировании таджикского национального сознания (1920–1930 гг.). – «Восток». 1996, № 2.
68. Д.В. Микульский. Анализ некрологов членов ИПВТ: традиционное и современное. – «Восток». 1996, № 1.
69. С.К. Олимова. Коммунистическая партия Таджикистана в 1992–1994 гг. – «Восток», 1996, № 2.
70. И.А. Анфертьев. М.Н. Рютин – инициатор создания «Союза марксистов-ленинцев». – «Клио. Журнал для ученых». 2003, № 3.
71. Д. Конторер. Враг у ворот: юбилейные размышления. – «Россия ХХI», 2005, № 4.
72. Малая Советская энциклопедия. Т. 9. М., 1931. Стб. 576.
73. А. Луначарский. Латинизация русской письменности. – «Культура и письменность Востока». 1930, № 6.
74. А. Иголкин. Историческая память как объект манипулирования. – Россия ХХI. 1996, № 3–6.
75. Г.П. Федотов. Александр Невский и Карл Маркс. – «Вопросы философии». 1990, № 8.
76. httр://www.рroriv.ru/articles.shtml/stalin?stalin_рismo2
77. Н.В. Романовский. Сталин и Энгельс: забытый эпизод кануна Великой Отечественной. – СОЦИС. 2005, № 5.
78. Н. Алексеев. Советский федерализм. – «Общественные науки и современность». 1992, № 1.
79. В.И. Ленин. Соч., т. 33, с. 72, 147.
80. И.К. Лавровский. Странострой. – «Главная тема». 2005, № 4.
81. К. Янг. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.АДанило
82. А. Манугян, Р. Суни. Советский Союз: национализм и внешний мир. – «Общественные науки и современность». 1991, № 3.
83. А.И. Вдовин. Этнополитика и формирование новой государственности в России. – «Кентавр». 1994, № 1.
84. З. Тодуа. Дагестан: десять лет между войной и миром. – В кн. «Бунтующая этничность». М.: РАН. 1999.
85. В.А. Тишков. Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе. – «Вопросы философии». 1990, № 12.
86. В.И. Ленин. Соч., т. 41, с. 164.
87. С.Н. Булгаков. Неотложная задача (о Союзе христианской политики). – В кн.: Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
88. Н.И. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма (главы из монографии). – «Россия ХIХ». 1992, № 1 и 1993, №№ 1, 4.
89. R. Brubaker. Nationhood and the national question in the Soviet Union and рost-Soviet Eurasia: An institutional account. – «Theory and Society». Vol. 23. 1994. Рр. 47–78.
90. А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев. Этничность в постсоветском пространстве: соперничество теоретических парадигм. – «Социологический журнал». 2003, № 3.
91. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
92. В. Малахов. Зачем России мультикультурализм? – В кн.: «Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ». М., 2002, с. 48–60.
Раздел 6. Советский Союз: демонтаж страны и народа
Глава 28. Демонтаж народа: общий ход процесса
В конце ХХ в. закончился цикл длительной цивилизационной войны Запада против России. Последняя кампания этого цикла, начатая в 1946 г., называлась «холодной войной» (хотя в ней была и череда «горячих» эпизодов – и на советской границе, и на территории дружественных СССР стран – КНДР, Вьетнама, Кубы).
Русофобия, ненависть к России как самобытной, во многом несогласной с Западом цивилизации, уже в ХVI в. сложилась как целостная идеологическая система, которая включалась в самые разные, даже конфликтующие обществоведческие учения Запада. Русские представлялись в них как продолжатели дела Чингисхана, стремящегося уничтожить Запад и добиться мирового господства.
Вот, например, Энгельс пишет в 1849 г.: «Европейская война, народная война, стучится в дверь… О немецких интересах, о немецкой свободе, немецком единстве, немецком благосостоянии не может быть и речи, когда вопрос стоит о свободе или угнетении, о счастье или несчастье всей Европы. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует только один вопрос! Хотите ли вы быть свободными или хотите быть под пятой России?» [1, с. 570].
Уверенность в том, что Россия стремится покорить Европу и увековечить свое «монгольское господство над современным обществом», очень устойчива. В гл. 16 приведена выдержка из работы Маркса «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» (1856–1857) о том, как «Московия» планирует «стать господином над Западом». В том же ключе Черчилль написал в октябре 1942 г., когда немцы, завязнув в России, перестали быть угрозой для Англии: «Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе как прародительнице современных наций и цивилизации. Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое под руководством европейского совета. Я обращаю взоры к созданию объединенной Европы» (цит. в [2]).
А в 1948 г. на собрании промышленных магнатов США формулируется такая установка: «Россия – азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная, воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, предательстве и терроризме». И вывод: США должны получить неограниченное право для контроля за промышленными предприятиями других стран, способными производить оружие, и разместить свои лучшие атомные бомбы «во всех регионах мира, где есть хоть какие-то основания подозревать уклонение от такого контроля или заговор против этого порядка, а на деле немедленно и без всяких колебаний сбрасывать эти бомбы везде, где это целесообразно» [3][142].
Завершил этот ряд, как известно, Рейган, назвав Россию (в облике СССР) «империей зла». К нему тогда присоединилась и влиятельная часть советской элиты, перешедшая на сторону противника России в этой войне цивилизаций. При этом надо подчеркнуть, что интеллектуальная бригада перестройки не могла не знать об этой установке правящих кругов Запада в отношении русских. Видный эксперт «Горбачев-фонда» В. Соловей пишет: «О том, что отношение западного общества к русским представляет исторически устойчивую паранойю, пропитано подсознательным страхом и враждебностью, писал не какой-нибудь замшелый русский националист-конспиролог, а рафинированный французский интеллектуал, известный философ Р. Барт» [5, с. 21].
Разрушение страны («империи зла») с необходимостью означало и разрушение ее народа. Согласно привычным представлениям, страны ликвидируются или подвергаются глубоким деформациям или вследствие поражения в войне, или в результате внутренних гражданских войн. Однако непосредственной причиной ликвидации или «переформатирования» страны может быть исчезновение народа, слом или эрозия механизма, воспроизводящего те связи, которые соединяют людей и их малые группы в народ. Часто именно этот процесс бывает и предпосылкой поражения в войне или гражданской войны между частями рассыпающегося народа. Распад народа может происходить незаметно, так что страна и государство слабеют с необъяснимой скоростью и становятся добычей внешних сил (как это произошло в Китае в конце ХIХ века). В других случаях углубление кризиса наблюдается и даже изучается, но он представляется как накопление социальных противоречий (как в Российской империи в начале или в СССР в конце ХХ века).
Механизм соединения людей в народ поддается рациональному анализу и изучению научными методами. Значит, могут быть созданы и эффективные технологии таких воздействий, которые приводят к поломкам этого механизма, его отказам или даже переподчинению заданным извне программам, заставляющим этот механизм работать на разрушение скрепляющих народ связей.
За последние десятилетия это и произошло. Период «перестройки» стал большой спецоперацией, целью которой был демонтаж советского народа. К 1991 г. этот демонтаж был проведен на глубину, достаточную для ликвидации СССР при полной недееспособности всех защитных систем государства и народа. После 1991 г. эта программа была продолжена с некоторой потерей темпа вследствие нарастания стихийного, неорганизованного сопротивления «контуженного» перестройкой народа. Параллельно велось совершенствование технологии демонтажа народов, и ее обновленная версия была с успехом применена в Сербии, Грузии и на Украине в форме «цветных» революций.
Прочтение, уже «после битвы», основных текстов доктрины перестройки показывает, что ликвидация советского народа как особой полиэтнической общности была целью фундаментальной. А.С. Панарин пишет: «Анализ либеральной идеологии показывает, что у нее на подозрении оказывается народная субстанция как таковая – советский народ здесь не является каким-то особым исключением. Исключительность его роли не в том, что он выражал нечто, не укладывающееся в нормы стихийного морального сознания любого народа, а в том, что он позволил этим стихиям вырваться из подполья, преодолеть цензуру либеральной современности, олицетворяемую господствующими силами Запада. Именно совпадение коммунистического этоса советского типа с народным этосом как таковым вызвало величайшую тревогу Запада перед русским вызовом» [6, с. 156].
Эта операция велась в двух планах – как ослабление и разрушение ядра советской гражданской нации, русского народа, и как разрушение системы межэтнического общежития в СССР и Российской Федерации. Интенсивно разрабатывался тезис, что никакого советского народа (нации) не существует и что обитающие в СССР народы общностью не являются. Как выражался один из авторов «Независимой газеты», доктор исторических наук из Института Востоковедения АН СССР А. Празаускас, Россия представляла собой «своеобразный евразийский паноптикум народов, не имевших между собой ничего общего, кроме родовых свойств Homo saрiens и искусственно созданных бедствий» [7].
А.С. Панарин указывает на эту связь между настойчивым применением антисоветскими западными политиками в отношении СССР термина «империя» и утверждениями идеологов перестройки о том, что советский народ был не нацией и не народом, а конгломератом этносов, насильственно удерживаемых в империи. Он пишет: «Запад сохранил за собой право на понятие политической нации, в рамках которой этнические различия не могут иметь политического статуса и давать повода для «этносуверенитетов»… Что же касается Востока – начиная с постсоветского пространства и кончая Китаем, – то Запад проецирует на него негативное понятие империй, которые, в соответствии с правом на демократическое национальное самоопределение, должны распасться» [8, с. 172].
Но исподволь в кругах антисоветской элиты стала культивироваться еще более фундаментальная мысль, – что население СССР (а затем РФ) вообще не является народом, а народом является лишь скрытое до поры до времени в этом населении особое меньшинство. Когда она стала высказываться демократами начиная с середины 80-х годов, эти рассуждения поражали своей недемократичностью, но подавляющее большинство просто не понимало их смысла. Точно так же не поняло оно и смысла созданного и распространенного в конце 80-х годов понятия «новые русские». Оно было воспринято как обозначение обогатившегося меньшинства, хотя изначально разрабатывалось как обозначение нового народа – тех кто отверг «дух Отечества». Точнее, при введении самого термина «новые русские», было сказано, что это те, кто отверг «русский Космос, который пострашнее Хаоса»[143].
Политики, которые конструировали этничность «новых русских», определенно считали их нацией. В газете «Утро России» (февраль 1991 г.), органе партии Демократический союз (В. Новодворской), ее главный редактор В. Кушнир писал в статье «Война объявлена, претензий больше нет»: «Рано или поздно, осыпаемые оплеухами, мы перейдем наш Рубикон и тогда все изменится. Вот почему я за войну… После взрыва, ведя войну всех со всеми, мы сумеем стать людьми. Страна должна пройти через испытания… Сражаться будут две нации: новые русские и старые русские. Те, кто смогут прижиться к новой эпохе и те, кому это не дано. И хотя говорим мы на одном языке, фактически мы две нации».
Ненависть возникающего в революции-перестройке «нового народа» к прежнему народу, была вполне осознанной. Один такой «новый» гражданин писал в статье «Я – русофоб» в элитарном журнале перестройки: «Не было у нас никакого коммунизма – была Россия. Коммунизм – только следующий псевдоним для России… Итак, я – русофоб. Не нравится мне русский народ. Не нравится мне само понятие «народ» в том виде, в котором оно у нас утвердилось. В других странах «народ» – конкретные люди, личности. У нас «народ» – какое-то безликое однообразное существо» [10].
Собирание в новый народ всех таких русофобов предполагало подрыв этнических и гражданских связей большинства населения и изъятие у него прерогатив, прав и обязанностей народа. К 1991 г. самосознание «новых русских» как народа, рожденного революцией, вполне созрело. Их лозунги, которые большинству казались абсурдно антидемократическими, на деле были именно демократическими – но в понимании западного гражданского общества. Потому что только причастные к этому меньшинству были демосом (то есть народом), а остальные остались быдлом, «совками».
Г. Павловский писал в июле 1991 г.: «То, что называют «народом России» – то же самое, что прежде носило гордое имя «актива» – публика, на которую возлагают расчет. Политические «свои»…» Это самосознание нового «народа России» пришло так быстро, что удивило многих из их собственного стана – им было странно, что это меньшинство, боровшееся против лозунга «Вся власть – Советам!» исходя из идеалов демократии, теперь «беззастенчиво начертало на своих знаменах: «Вся власть – нам!»
Ничего удивительного, вся власть – им, потому что только они и есть народ. Так и понимался смысл слов «демос» и «демократия». Историк этнографии С.А. Токарев еще в 1964 г. предлагал ввести в антропологию наименование демос для обозначения основного типа этнической общности рабовладельческой формации – свободных людей, рабовладельцев. Некоторые опасения вызывало неопределенное отношение к новому порядку будущих «рабов». Отношение к тем, кто власть признавать не желал, с самого начала было крайне агрессивным и остается таковым до сих пор[144].
Респектабельный интеллектуал из Института философии РАН, выступая в «Горбачев-фонде» перед лицом недавнего Генерального секретаря ЦК КПСС, говорил такие вещи: «Британский консерватор скорее договорится с африканским людоедом, чем член партии любителей Гайдара – с каким-нибудь приматом из отряда анпиловцев» [12, с. 63]. Вдумаемся: интеллигент, который считает себя демократом, на большом собрании элитарной интеллигенции, называет людей из «Трудовой России», которые пытались, чисто символически, защитить свои ценности (причем ценности человеческой солидарности, именно демократические), приматами. Чтобы так себя вести и даже не замечать чудовищности своих высказываний, требовалось действительно возомнить себя демосом и в глубине души отказать большинству (охлосу) в правах человека[145].
Доктрина реформ 90-х годов в интересующем нас аспекте открыто излагалась еще до краха советского государства. Предполагалось, что на первом этапе реформ будут созданы лишь «оазисы» рыночной экономики, в которых и будет жить демос (10 % населения). В демократическом (в понятиях данной доктрины) государстве именно этому демосу и будет принадлежать власть и богатство. Ведь демократия – это власть демоса, а гражданское общество – «республика собственников»! «Старые русские» («совки»), утратив статус народа, были бы переведены в разряд быдла, лишенного собственности и прав.
В советское время такое представление о народе нам и не приходило в голову, на Западе же мысль о выделении из населения некоторого меньшинства, которое и наделяется статусом демоса, постоянно присутствует в политической философии (в гл. 2 говорилось о том, как Хабермас развивает мысль о разделении «нации граждан» и «нации соотечественников»). Так же явно присутствует и мысль о «роспуске» народа, лишении большинства этого статуса. Бертольд Брехт с иронией говорил об этом: «Если правительство недовольно своим народом, оно должно распустить его и выбрать себе новый».
Эту же мысль «онаучивает» глава официальной российской этнологии В.А. Тишков в статье «О российском народе»: «Общество, прежде всего в лице интеллектуальной элиты, вместе с властями формулирует представление о народе, который живет в государстве и которому принадлежит это государство. Таковым может быть только согражданство, территориальное сообщество, то есть демос, а не этническая группа, которую в российской науке называют интригующим словом «этнос», имея под этим в виду некое коллективное тело и даже социально-биологический организм. Из советской идеологии и науки пришли к нам эти представления, которые, к сожалению, не исчезли, как это случилось с другими ложными конструкциями» [13].
Эта идеологическая конструктивистская формула утверждает, что в РФ «интеллектуальная элита вместе с властями» формирует демос, «которому принадлежит это государство». Демос будет составлять зажиточное меньшинство, а остальная часть населения превращается в бесправную этническую массу[146].
Защищать это зажиточное меньшинство от бедных (от бунтующих люмпенов) должна была реформированная армия с новыми ценностными ориентациями. Существующая на грани нищеты масса (90 % населения) – охлос, лишенный и собственности, и участия во власти. Его надо держать под жестким контролем и, по мере возможности, рекрутировать из него пригодных людей для пополнения демоса (по своей фразеологии это – типичная программа ассимиляции национального меньшинства).
Весной 1991 г., еще при советской власти, в типичной антисоветской статье «Рынок и государственная идея» дается типичная формула этой доктрины: «Демократия требует наличия демоса – просвещенного, зажиточного, достаточно широкого «среднего слоя», способного при волеизъявлении руководствоваться не инстинктами, а взвешенными интересами. Если же такого слоя нет, а есть масса, где впритирку колышутся люди на грани нищеты и люди с большими… накоплениями, масса, одурманенная смесью советских идеологем с инстинктивными страхами и вспышками агрессивности, – говорить надо не о демосе, а о толпе, охлосе… Надо сдерживать охлос, не позволять ему раздавить тонкий слой демоса, и вместе с тем из охлоса посредством разумной экономической и культурной политики воспитывать демос» [14].
Уже в самом начале реформы была поставлена задача изменить тип государства – так, чтобы оно изжило свой патерналистский характер и перестало считать все население народом (и потому собственником и наследником достояния страны). Теперь утверждалось, что настоящей властью может быть только такая, которая защищает настоящий народ, то есть «республику собственников».
Д. Драгунский объясняет: «Мы веками проникались уникальной философией единой отеческой власти. Эта философия тем более жизнеспособна, что она является не только официальной государственной доктриной, но и внутренним состоянием большинства. Эта философия отвечает наиболее простым, ясным, безо всякой интеллектуальной натуги воспринимаемым представлениям – семейным. Наше государственно-правовое сознание пронизано семейными метафорами – от «царя-батюшки» до «братской семьи советских народов»… Только появление суверенного, власть имущего класса свободных собственников устранит противоречие между «законной» и «настоящей» властью. Законная власть будет наконец реализована, а реальная – узаконена. Впоследствии на этой основе выработается новая философия власти, которая изживет традицию отеческого управления» [15].
В требованиях срочно изменить тип государственности идеологи народа собственников особое внимание обращали на армию – задача создать наемную армию карательного типа была поставлена сразу же. Д. Драгунский пишет: «Поначалу в реформированном мире, в оазисе рыночной экономики будет жить явное меньшинство наших сограждан [ «может быть, только одна десятая населения»]… Надо отметить, что у жителей этого светлого круга будет намного больше даже конкретных юридических прав, чем у жителей кромешной (то есть внешней, окольной) тьмы: плацдарм победивших реформ окажется не только экономическим или социальным – он будет еще и правовым… Но для того, чтобы реформы были осуществлены хотя бы в этом, весьма жестоком виде, особую роль призвана сыграть армия… Армия в эпоху реформ должна сменить свои ценностные ориентации. До сих пор в ней силен дух РККА, рабоче-крестьянской армии, защитницы сирых и обездоленных от эксплуататоров, толстосумов и прочих международных и внутренних буржуинов… Армия в эпоху реформы должна обеспечивать порядок. Что означает реально охранять границы первых оазисов рыночной экономики. Грубо говоря, защищать предпринимателей от бунтующих люмпенов. Еще грубее – защищать богатых от бедных, а не наоборот, как у нас принято уже семьдесят четыре года. Грубо? Жестоко? А что поделаешь…» [16].
О составе этого нового народа, демоса, поначалу говорилось глухо, смысл можно было понять только изучая классические труды западных идеологов гражданского общества, но мы их не изучали. Картину можно было составить из отдельных мазков – коротких статей, выступлений, оброненных туманных намеков, – но этим анализом не занимались. Систематически заниматься этим нет времени и сегодня, но примеры привести можно.
Вот развернутое рассуждение Г. Павловского о «его народе», интеллигенции: «Русская интеллигенция вся – инакомыслящая: инженеры, поэты, жиды. Ее не обольстишь идеей национального (великорусского) государства… Она не вошла в новую историческую общность советских людей. И в сверхновую общность «республиканских великоруссов» едва ли поместится… Поколение-два, и мы развалим любое государство на этой земле, которое попытается вновь наступить сапогом на лицо человека.
Русский интеллигент является носителем суверенитета, который не ужился ни с одной из моделей российской государственности, разрушив их одну за другой… Великий немецкий философ Карл Ясперс прямо писал о праве меньшинства на гражданскую войну, когда власть вступает в нечестивый союз с другой частью народа – даже большинством его – пытаясь навязать самой конструкции государства неприемлемый либеральному меньшинству и направленный против него религиозный или политический образ…
Что касается моего народа – русской интеллигенции, а она такой же точно народ, как шахтеры, – ей следует избежать главной ошибки прошлой гражданской войны – блока с побеждающей силой. Не являясь самостоятельной политической силой, русская либеральная интеллигенция есть сила суверенная – ей некому передоверить свою судьбу суверенного народа» [17].
Сейчас Павловский поет другие, антилиберальные песни, но это неважно, он высказал в 1991 г. стратегические идеи, в них и надо вникать. Правда, тогда он был еще покладист – антилиберальное большинство тоже называл народом. Более того, точно таким же, как интеллигенция, народом он называл даже шахтеров (впрочем, в 1991 г. демократы шахтеров похваливали и сулили им пряник – тогда шахтеры под руководством умелых режиссеров устроили общесоюзный Майдан).
Говоря об этом разделении идеологи перестройки в разных выражениях давали характеристику того большинства (охлоса), которое не включалось в народ и должно было быть отодвинуто от власти и собственности. Это те, кто жил и хотел жить в «русском Космосе». Г. Померанц пишет: «Добрая половина россиян – вчера из деревни, привыкла жить по-соседски, как люди живут… Найти новые формы полноценной человеческой жизни они не умеют. Их тянет назад… Слаборазвитость личности – часть общей слаборазвитости страны. Несложившаяся личность не держится на собственных ногах, ей непременно нужно чувство локтя… Только приоритет личности делает главным не место, где проведена граница, а легкость пересечения границы – свободу передвижения» [18].
Здесь – отказ уже не только от культурного Космоса, но и от места, от Родины-матери, тяготение этого нового народа к тому, чтобы включиться в глобальную расу «новых кочевников». Здесь же и прообраз будущей «оранжевой» антироссийской риторики – Померанц уже в 1991 г. утверждает, что под давлением «слаборазвитости» охлоса «Москва сеет в Евразии зубы дракона».
Связь конструктивистской доктрины новой этнической структуры России с глобализацией сильно влияла на идеологию реформ. Известно, что глобализация, как она замыслена правящей политической и финансовой верхушкой Запада, требует резкого ослабления национальных государств и, соответственно, народов как носителей национальной государственности. А.С. Панарин пишет об этой необходимости «устранения народа как самостоятельного субъекта истории и носителя суверенитета»: «Без всемерного ослабления и дробления такой исторической субстанции, как народ, невозможно добиться ни подчинения былых национальных элит глобальной финансовой власти, ни тотализировать отношения купли-продажи, подчинив им все сферы общественного бытия, все проявления человеческой активности. Что же скрепляет эту субстанцию? Ее основанием служит: единство территории (месторазвития), истории, образующей источник коллективной культурной памяти, и ценностной нормативной системы, служащей ориентиром группового и индивидуального поведения. Все это выражает язык, непрерывно актуализирующий все три единства в сознании данного народа» [8, с. 29].
В случае России без глубокого демонтажа народа было бы невозможно выполнить и промежуточную задачу – создания того демоса, который взял бы на себя функцию контроля за населением и «цивилизованной» передачи национального достояния глобальным хозяевам. По выражению А.С. Панарина, «атомизация народа, превращаемого в диффузную, лишенную скрепляющих начал массу, необходима не для того, чтобы и он приобщился к захватывающей эпопее тотального разграбления, а для того, чтобы он не оказывал сопротивления» [8, с. 31].
Надо подчеркнуть, что идеологи нынешней реформы в России кардинально порывают с нормами Просвещения даже в их кальвинистской трактовке. В США «отцы нации», конструируя новую государственность, отстраняли большинство населения от участия во власти с помощью новых политических технологий (манипуляции сознанием). Но при этом они не лишали это большинство статуса народа, они лишь ущемляли его в некоторых правах. А. Гамильтон говорил: «Истинное различие между древними формами республиканского правления и принятой в Америке в… полном исключении народа, который представляется общенародным собранием, из участия правления в Америке, а не в полном исключении представителей народа из правления в древних республиках» (см. [19])[147].
Идеологи российских реформ, сдвинувшись к рациональности постмодернизма, вообще не признают отодвинутое от политического волеизъявления большинство народом. А.С. Панарин отмечает: «Технологическая система современной демократии отвергает само понятие народа как устойчивой коллективной личности, проносящей через все перипетии истории, через все изменения политической конъюнктуры выпуклые национальные качества» [8, с. 260].
Он считает даже, что переход от советского плебисцитарного типа выборов как общего одобрения политики государства к выборам как политическому рынку, на котором конкурируют разделенные группы электората, было вообще невозможно без предварительной атомизации сложившихся в советском обществе социальных структур. Для этого требовалось, по его словам, «максимально возможное дистанцирование отдельных индивидов – особенно из народных классов – от своей социальной группы, от групповой картины мира и групповых (коллективных) ценностей. Персонажем электоральной системы может быть не тот рабочий, который всегда со своим классом, а тот, которого в ходе избирательной кампании можно убедить покинуть классовую нишу рабочих и проголосовать за представителей других партий. Только при условии такого свободного дистанцирования от групп, когда индивиды ведут себя как свободные электроны, покинувшие классовую орбиту, из них можно формировать текучий демократический электорат, меняющий свои очертания от одних выборов к другим. Устойчивые коллективные групповые сущности здесь противопоказаны, а народ как устойчивая коллективная сущность – тем более» [8, с. 217].
В конце 80-х и начале 90-х годов речь шла о том, что в постсоветской РФ будет сконструирован один демос, заменивший «размонтированный» прежний народ. Сейчас некоторые аналитики склоняются к тому, что будет создаваться множество новых малых народов (и «переформатированных» прежних этносов), которые и станут разрывать Россию. Так, Р. Шайхутдинов прогнозирует, что «оранжевая» революция в России пойдет по пути создания целого ряда новых народов, в разных плоскостях расчленения общества – так, что легитимность государства РФ будет подорвана. Он мельком упомянул, что лидеры «прозападного» народа потребуют от российской власти: «Отпусти народ мой» (так обращались евреи к фараону). Куда отпустить? В Европу [21].
Надо вспомнить, что на завершающей стадии перестройки идея исхода вовсе не была ветхозаветной метафорой. Она уже была «активирована» и стала действенным политическим лозунгом, так что СССР вполне серьезно уподоблялся Египту (главный раввин Москвы Рав Пинхас Гольдшмидт даже доказывал, обращаясь к Гематрии, разделу Каббалы, что «сумма значений слова «Мицраим» – «Египет» и «СССР» одинакова»). Да и В.В. Путин, выступая перед студентами, соблазнился и уподобил себя (впрочем, застенчиво) Моисею, водящему по пустыне свой народ, покуда не вымрут все, воспитанные в египетском рабстве.
Демонтаж народа России проводился в 80-90-е годы сознательно, целенаправленно и с применением сильных и даже преступных технологий. На разрушение духовного и психологического каркаса этого народа были направлены большие политические, финансовые и культурные средства. Выполнение этой программы свелось к холодной гражданской войне нового народа (демоса) со старым (советским) народом. Новый народ был все это время или непосредственно у рычагов власти, или около них. Против большинства населения (старого народа) применялись средства информационно-психологической и экономической войны. О них будет сказано отдельно в следующих главах.
Защитные системы советского государства и общества не нашли адекватного ответа на новый исторический вызов. К 1991 г. советский народ был в большой степени «рассыпан» – осталась масса людей, не обладающих надличностным сознанием и коллективной волей. Социологи пишут: «В 1992–2002 гг. по общероссийской выборке фиксировались изменения в социальном самоопределении российских граждан или ответы на вопрос, кого опрашиваемые считают «своими» группами и общностями… Ближайшее окружение – семья, друзья, коллеги – образует устойчивый базовый комплекс социального самоопределения. Идентификации с бóльшими общностями нестабильны… Главными ресурсами выживания остаются персональные сети взаимодействия, поскольку только знакомые и близкие вызывают доверие и чувство защищенности» [22].
Это и было важнейшей целью перестройки. А.С. Панарин пишет: «Находящееся в страхе перед большинством правящее меньшинство всеми силами стремится и будет стремиться к политическому, идеологическому и моральному разоружению большинства – превращению его в пассивно-безоружный объект чужой воли» [6, с. 213].
Суть информационно-психологической войны заключается в нанесении народу тяжелой культурной травмы. Это понятие определяют как «насильственное, неожиданное, репрессивное внедрение ценностей, остро противоречащих традиционным обычаям и ценностным шкалам», как разрушение культурного времени-пространства (по выражению М.М. Бахтина, хронотопа; сам он называл такие культурные травмы «временем гибели богов»). Теория культурной травмы возникла именно в ходе анализа нарушений национальной идентичности[148].
Культурная травма – это именно агрессия, средство войны, а не реформы. По словам П.А. Сорокина, реформа «не может попирать человеческую природу и противоречить ее базовым инстинктам». Человеческая природа каждого народа – это укорененные в подсознании фундаментальные ценности, которые уже не требуется осознавать, поскольку они стали казаться «естественными». Изменения в жизнеустройстве народа в РФ именно попирали эту «природу» и противоречили «базовым инстинктам» подавляющего большинства населения.
Многие народы пережили культурные травмы, и это надолго определяло их судьбу. В теоретическую модель культурной травмы хорошо вписывается русская Смута начала ХVII в. Тогда же в обиход вошли понятия, точно соответствующие сути современной теории. Автор первого на Руси трактата «Политика» хорват Ю. Крижанич ввел тогда слово чужебесие как смертельно опасное для народа внедрение чужих нравов и порядков. Он писал: «Ничто не может быть более гибельно для страны и народа, нежели пренебрежение своими благими порядками, обычаями, законами, языком и присвоение чужих порядков и чужого языка, и желание стать другим народом» [25, с. 635]. В России 90-х годов чужебесие было не болезнью народа, а специально занесенной ему инфекцией.
Культурная травма, нанесенная советскому народу, в начале 90-х годов привела к культурному шоку. Он привел к тяжелому душевному разладу у большинства граждан. В начале 90-х годов 70 % опрошенных относили себя к категории «людей без будущего». В 1994 г. «все возрастные группы пессимистически оценивали свое будущее: в среднем только 11 % высказывали уверенность, тогда как от 77 до 92 % по разным группам были не уверены в нем» [26]. Летом 1998 г. (до августовского кризиса) на вопрос «Кто Я?» 38 % при общероссийском опросе ответили: «Я – жертва реформ» (в 2004 г. таких ответов 27 %).
В результате перестройки масса людей утратила связную картину мира и способность к логическому мышлению, выявлению причинно-следственных связей. В этом состоянии у населения РФ отсутствует ряд качеств народа, необходимых для выработки проекта и для организации действий в защиту хотя бы своего права на жизнь. Можно говорить, что народ болен и лишен дееспособности, как бывает ее лишен больной человек, который еще вчера был зорким, сильным и энергичным.
Некоторые политологи, чтобы охарактеризовать состояние народа, используют понятие субъектности, то есть степени способности данного общества быть субъектом истории, самому определять свою судьбу. Историк А.И. Фурсов пишет о том, какое воздействие оказала перестройка на эту способность народа России: «Сквозь все неадекватности и глупости курса Горбачева – а их было немало – прочеркивается железная логика, работающая на формирование нового класса социальных хищников, «тремя источниками, тремя составными частями» которого стали номенклатура, криминалитет и иностранный капитал плюс примкнувшие к ним «шудры» из совинтеллигенции, мечтавшие стать буржуазией.
Перестройка решила задачу представления групповых интересов в качестве общенародных. Под эту сурдинку уничтожили «социалистическую субъектность». Тогда и выяснилось: именно она была гарантией советского населения от эксплуатации, нищеты, депопуляции, щитом от своих и заморских хищников. Эта субъектность была жизнь. Теперь для 60–70 % населения вместо жизни – выживание… Без субъектности, пусть завоеванной с огромными потерями (а когда бывало иначе?), народ превращается в биомассу – легкую добычу для хищников. Горбачевы-яковлевы подтолкнули население к самому краю пропасти, гайдары-чубайсы столкнули его туда, а грефы-зурабовы пытаются добить окончательно» [27].
Однако надо подчеркнуть, что 90-е годы обнаружили слабость и постсоветской государственности. Тот народ, который в здоровом советском обществе был вместе с Отечеством, что и придавало легитимность и силу государству, просто исчез, когда государство объявило себя не Отечеством, а либеральным «ночным сторожем». В таком состоянии это государство и не имеет права быть Отечеством – это сразу объявят тоталитаризмом и рецидивом имперского мышления. Оно уже не может и обратиться за помощью к старому народу, у него уже нет для этого соответствующего языка. В 1991 г. советский народ еще был дееспособен, но он не понимал, что власть потеряла дееспособность, и ее надо спасать.
В августе 1991 г. против советской власти выступил весь наличный состав нового народа, демоса – менее 1 % населения Москвы[149]. Остальные, узнав о том, что ГКЧП отстранил Горбачева от власти, успокоились и посчитали, что ГКЧП выполнит свою функцию и восстановит порядок (для чего тогда не требовалось даже минимального кровопролития). Затем люди с удивлением выслушали пресс-конференцию, на которой члены ГКЧП клялись в своей верности Горбачеву и перестройке, а еще через два дня с изумлением наблюдали, как из Москвы выводили войска, просто сдав страну Ельцину – без боя и даже без переговоров[150].
С точки зрения этнологии, в результате реформ в РФ возникла патологическая система: большинство населения «съеживается» и низводится до положения бесправного меньшинства. В рамках демократических процедур (например, выборов) это «меньшинство» и не может отвоевать и защитить свои права и обречено на вымирание. Тот факт, что в численном отношении этот «бывший» народ находится в большинстве, при демократии западного типа не имеет значения – как для англо-саксов в США не имела значения численность индейцев при распределении собственности и политических прав.
Медики даже говорят о разрушении динамического стереотипа – вырабатываемой в культуре способности ориентироваться в социальном пространстве и времени. Именно этим они объясняют аномально высокую смертность населения трудовых возрастов [28]. Этим же во многом объясняется и всплеск преступности, особенно с применением насилия. Но и в этом болезненном состоянии он продолжает подвергаться тяжелым ударам, направленным на разрушение его самосознания[151].
Состояние бывших советских граждан, в подавляющем своем большинстве русских, как этнического меньшинства, даже не противоречит нормам права. Специалист по правам человека К. Нагенгаст разъясняет смысл ярлыка «меньшинство»: «В некоторых обстоятельствах и с определенной целью в качестве меньшинств рассматриваются… и люди, составляющие численное большинство в государстве, но лишенные при этом на уровне законодательства или на практике возможности в полной мере пользоваться своими гражданскими правами» [29, с. 179]. Другой антрополог, Дж. Комарофф, специально отмечает: «Я заключаю слово «меньшинства» в кавычки, поскольку во многих случаях подобные группы обладают фактическим численным большинством, но при этом относительно безвластны» [30, с. 68].
Именно так и обстоит дело в РФ – на практике численное большинство в государстве лишено возможности в полной мере пользоваться своими гражданскими правами. Практика эта определена тем, что и собственность, и реальная власть целиком принадлежат представителям другого народа – того самого демоса, о котором говорилось выше. Именно эти представители диктуют экономическую, социальную и культурную политику. Большинство населения против монетизации льгот или смены типа пенсионного обеспечения, но власть не обращает на это внимания. Большинство страдает от программной политики телевидения, выступает против смены типа российской школы или ликвидации государственной науки – на это не обращают внимания. Большинство не желает переделки календаря праздников, не желает праздновать День независимости – на это не обращают внимания. И все это вполне законно, потому что в созданной победителями политической системе это численное большинство – охлос, пораженный в правах.
Конечно, ярлык «меньшинство» – не более чем символ, но это символ, который отражает реальность. Ведь в социальных процессах важна не численность общественной группы, а ее «мощность», аналогично тому, как в химических процессах важна не концентрация агента, а активность[152]. Этот ярлык узаконивает политическую практику в глазах демоса. Иначе господствующее в РФ меньшинство не могло бы считать себя демократами и получать подтверждение этого титула на Западе.
Чувствуя, что неравенство в распределении прав и богатства носит в РФ вовсе не классовый, а постмодернистский квазиэтнический характер, часть русских, пытаясь нащупать понятное обозначение этого состояния государства, выражает его в простой, но неверной формуле: «к власти пришли евреи».
Неверна эта формула потому, что хотя евреи и слишком «видимы» в верхушке господствующего меньшинства, они присутствуют там вовсе не в качестве представителей еврейского народа, а как организованная и энергичная часть нового сборного народа, созданного в ходе перестройки и реформы. И на любое проникновение во властную элиту людей и групп, которые по своей мировоззренческой матрице не вполне принадлежат к этому новому народу, весь он, независимо от исходной национальности Ясина или А.Н. Яковлева, реагирует на это чрезвычайно болезненно. В.В. Путин привел в эту властную команду группу т. н. «силовиков». Ее отторжение господствующим меньшинством является категоричным и непримиримым, но его никак нельзя представить как столкновение мировоззренческих матриц еврейского и русского народов.
Социальные инженеры и политтехнологи, которые конструировали постсоветское пространство и его жизнеустройство, мыслили уже в категориях постмодерна, а не Просвещения. Они представляли общество не как равновесную систему классов и социальных групп, а как крайне неравновесную, на грани срыва, систему конфликтующих этносов (народов). Действительно, все эти программы и политическая практика никак не вписываются в категории классового подхода, но зато хорошо отвечают понятиям и логике современного учения об этничности – конструктивизма.
Если же и нам в целях анализа перейти на этот язык, то нынешняя РФ предстает как этнократическое государство. Здесь к власти пришел и господствует этнос (племя или народ), который экспроприирует и подавляет численное большинство населения, разрушает его культуру и лишает его элиту возможности выполнять ее функции в восстановлении самосознания населения как народа. Причем господствующая общность не только пользуется властью и привилегиями (это первый признак этнократии), но и присваивает себе государство в целом. Она выдает себя за единственную «настоящую» нацию и навязывает всему населению ту модель, к которой остальные обязаны приспосабливаться. Этот второй признак этнократии еще более важен, чем первый.
Особенно отчетливо проявился этот характер государства в период господства «олигархии». Социолог Ж.Т. Тощенко пишет: «Политическая, финансовая и другие виды олигархии отчетливо стали проявлять себя в жизни постсоветской России с середины 1990-х годов. Анализ политической жизни России показывает, что в это время произошло резкое усиление власти олигархов в обмен на их поддержку, которая обеспечила избрание Ельцина на второй президентский срок. Они стали диктовать решение практически всех основных вопросов жизни общества… При этом полностью игнорировались интересы народа, хотя в политике формально провозглашался их учет. Иначе говоря, реальная практика демонстрировала, что политический режим воплощает олигархическую и плутократическую формы власти. Основными характеристиками российской олигархии стали: осуществление небольшой группой (социальным слоем) политического и экономического господства в обществе» [31].
Однако и спектр этнократических государств широк. Этнократию РФ следует считать жесткой, что отражается прежде всего в аномально высокой смертности и резком разделении доминирующей общности и численного большинства по доходам. Близкой к нам по результатам (хотя и не по методам) аналогией можно считать Бурунди, которую и приводят как пример жесткой этнократии: «В Бурунди элитарная группа тутси, которую вскармливали немецкие колонисты до Первой мировой войны, а затем бельгийцы вплоть до независимости в 1960-х гг., начали в 1972 г. активные действия против большинства хуту с ярко выраженной целью если не полного их уничтожения, то резкого уменьшения численности и убийства всех реальных и потенциальных лидеров. Результатом стал геноцид… Следующая резня, имевшая место в 1988 г., и еще одна в прошлом [1992] году нанесли большой урон хуту-язычным народам» [29, с. 192]. Стоит добавить, что расследование актов геноцида хуту 1992 г. экспертами ООН привело к выводу, что они были организованы спецслужбами западных держав (по этой причине сообщение об этом промелькнуло по западной прессе почти незаметно). Это был, видимо, постмодернистский эксперимент по искусственной организации этнического конфликта с массовыми убийствами.
Итак, доктрина реформ в России предполагала параллельное решение двух задач, формулируемых в понятиях конструктивизма – демонтаж старого советского народа (и прежде всего его ядра, русского народа) и сборка небольшого демоса («новых русских»).
О первой задаче А.С. Панарин писал: «Так народ из естественной и самодостаточной субстанции, которая прежде просто не ставилась под сомнение, превращается в сложную составную конструкцию, подлежащую последовательной «деконструкции». Либеральная аналитика демонстрирует специфическую зоркость, недоступную прежнему «народническому» восприятию, к которому, мол, все с детства приучены. Для нас, русских, это особенно интересно, ибо, как оказывается, русский народ сегодня выступает олицетворением той самой народности, которую либеральные деструктивисты исполнены решимости разъять окончательно. Стратегическая гипотеза современного мирового либерализма состоит в том, что русские являются последним оплотом народности как всемирно-исторического феномена, враждебного западному индивидуализму» [8, с. 240].
Что же касается «сборки» демоса, то утверждалось, что в ходе реформы произойдет консолидация индивидов, «освобожденных» от уз тоталитаризма, в классы и ассоциации, образующие гражданское общество. Этому должны были служить новые отношения собственности и система политических партий, представляющих интересы классов и социальных групп. Должны были быть реформированы и механизмы, «воспроизводящие» народ – школа, СМИ, культура и т. д. На первый взгляд, вышедший на арену и созревший в годы перестройки демос за 90-е годы добился успеха. Ему удалось в значительной мере ослабить патерналистский характер государства и произвести экспроприацию собственности у большинства населения, перераспределив соответственно и доходы.
Но в главном план оказался утопическим и выполнен не был. Гражданского общества и «среднего класса» не возникло. Созданный социально-инженерными средствами квази-народ («новые русские») оказался выхолощенным, лишенным творческого потенциала и неспособным к строительству в социальной и культурной сфере. Большинство населения не изменило своего представления о том, что такое народ. Оно продолжает именно себя считать народом, а не «новых русских» и не либеральную интеллигенцию. Люди, в общем, даже плохо понимают, чего от них хотят. Они считают себя народом, а демократию – властью большинства народа. И до сих пор удивляются тому, что Запад явно поддерживает ничтожное меньшинство – какие-то «демократические группы в России».
Да не нужна Западу «демократия большинства». Суть излагается нашему непонятливому охлосу открытым текстом. Известный американский политолог Ф. Фукуяма в интервью газете «Süddeutsche Zeitung» (05.10.2004) говорит: «Большинство россиян проголосовали за Путина и его партию. Создается впечатление, будто российское общество решило, что оно сыто свободами девяностых годов и теперь хотело бы вернуться к более авторитарной системе. Но ведь мы хотим не просто демократии большинства, а либеральной демократии. Именно поэтому Запад должен поддержать демократические группы в России».
Состояние, в которое был приведен народ России, превратило кризис начала 90-х годов в Смуту. Это – положение более тяжелое, чем кризис. Это хаос, не обладающий творческим потенциалом. Связи, соединявшие людей в народ, подорваны или ослаблены настолько, что люди не могут договориться между собой о главных вещах, а значит, не могут и выработать проекта совместных действий.
Чтобы овладеть хаосом, надо его знать. Если свержение государств и уничтожение народов происходит сегодня не в ходе классовых революций и межгосударственных войн, а посредством демонтажа, искусственного создания и стравливания этносов и народов, то бесполезны попытки защититься от этих новых типов революции и войны марксистскими или либеральными заклинаниями. Мы должны понять доктрины и оружие этих революций и войн, многому научиться – и противопоставить им свою доктрину и свое оружие.
Глава 29. Демонтаж народа: информационно-психологическая война
Перестройку и реформы 90-х годов мы рассматриваем с одной точки зрения – как программы демонтажа советского народа, а затем народа нынешней России. Главными кампаниями в этой программе стали информационно-психологическая и экономическая война.
Более наглядны действия, средства и результаты экономической войны, которая разрушила материальную культуру народа, систему народного хозяйства и заставила большинство народа изменить образ жизни. Тот удар, который нанесла реформа по этим силам созидания и воспроизводства народа, очевиден. Но едва ли не большие усилия были приложены и для прямого воздействия на центральную мировоззренческую матрицу, на которой был собран народ России. В этом воздействии и применялись средства информационно-психологической войны.
А.С. Панарин пишет о России 90-х годов: «Ясно, что новая экономическая среда – это пространство экономического геноцида. Но не менее агрессивна в отношении населения «этой» страны и господствующая духовно-идеологическая среда. Ее репрессивная бдительность направлена против любых проявлений здравого смысла народа, его культурно-исторической памяти и традиций. Господствующая пропаганда опустошает национальный пантеон, последовательно оскверняя образы национальных героев, полководцев (от Суворова до Жукова), писателей (вся великая русская литература заподозрена в грехе опасного морального максимализма, связанного с сочувствием к униженным и оскорбленным), создателей национальной музыки, живописи, зодчества» [8, с. 294–295].
В силу инерции мышления народа, сохранившего в коллективной памяти образ Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., мы понимаем слова «информационно-психологическая война» как метафору. В действительности речь идет о настоящей войне, которая уже более полувека рассматривается как особый вид боевых действий и которая стала важнейшим содержанием всей совокупности действий «холодной» войны против СССР. Но машина этой войны не остановлена с ликвидацией СССР, эта война стала мировой, и одно из главных направлений ее удара – Россия и постсоветские страны. И масштабы этих усилий очень велики. По оценкам экспертов, суммарные ежегодные затраты ведущих западных стран только на разработки в области информационного оружия в начале этого десятилетия превышали 120 млрд. долл. [32].
В американском руководстве по психологической войне (1964) говорится, что цель такой войны – «подрыв политической и социальной структуры страны-объекта до такой степени деградации национального сознания, что государство становится не способным к сопротивлению». Французский журнал пишет, что с конца 60-х годов «ЦРУ вышло за рамки обычного шпионажа, где, впрочем, не достигло больших результатов, для того чтобы начать действительно современную психологическую войну». Описание практических действий и более строгую модель информационно-психологической войны см., например, в [33].
Уже один из первых теоретиков информационной войны Г. Лассуэлл в своей «Энциклопедии социальных наук» (1934) отметил важную черту психологической войны – она «действует в направлении разрыва уз традиционного социального порядка». Этничность и национальность и являются главным выражением «традиционного социального порядка» народа или нации. А главным смыслом его «уз» и является соединение людей в народ.
В начале 70-х годов советологи США, опираясь на достижения современной этнологии, пришли к выводу, что мировоззренческий кризис, вызванный быстрой модернизацией и урбанизацией советского общества, подстегнутые этим кризисом процессы этногенеза, а также сложность всей российской и советской конструкции межэтнического общежития оказываются наиболее уязвимыми участками советской государственности. Главным направлением психологической войны против СССР стало с этого времени не политическое и социальное самосознание советских людей, а именно сфера этничности. Советское обществоведение, уверенное в незыблемости примордиально заданных советским людям этнических установок, не смогло верно оценить этого стратегического изменения. В 1977 г. в США вышел сборник работ, посвященных этничности. Профессор философ Э.А. Баграмов в книге, изданной Политиздатом (1982), дает такую отповедь: «Суть дела здесь нетрудно понять. Идеи религии, общего расового происхождения и судьбы – излюбленное средство духовного одурачивания масс. Помешать трудящимся успешно бороться за социальное и национальное освобождение – таков смысл концепции этничности» [34, с. 39]
Рассмотрим, каким деформациям и разрушениям подверглись главные «пучки» связей, соединявших население СССР в народ в годы перестройки, а затем и население РФ в 90-е годы. Основные классы этих связей и механизмы, которые их генерируют и воспроизводят, описаны в разделе 3. Из этой классификации будем исходить и в этой главе.
§ 1. Значимый иной для этнического самоосознания русских
Как говорилось в гл. 9, люди осознают себя как народ в сравнении с другими народами и культурами, которые оказывают наибольшее влияние на их судьбу. Начиная с ХVI в. главными иными для русских стали народы Запада, в целом – Западная цивилизация. С Запада приходили теперь захватчики, представлявшие главные угрозы для существования России. К Западу же русские относились с напряженным вниманием, перенимая у них многие идеи, технологии и общественные институты. По поводу отношения к Западу в среде самих русских шел непрерывный диалог и возникали длительные конфликты, так что в ХIХ в. оформились даже два философских и культурных течения – западники и славянофилы.
Самосознание русских никогда не включало ненависть к Западу в качестве своего стержня. От такого комплекса русских уберегла история – во всех больших войнах с Западом русские отстояли свою независимость, а в двух Отечественных войнах одержали великие победы. Это укрепило не только этнические связи русского ядра, но и ту полиэтническую нацию, которая складывалась вокруг этого ядра в ХIХ и ХХ веках. Кроме того, самосознание русских в их сравнении с Западом укреплялось успехами в культурном строительстве – большинство русских чувствовали себя, в главном, на равных с Западом.
За исключением небольшой части интеллигенции, в сознании русских, в общем, не было комплекса неполноценности по сравнению с Западом. Не слишком задумываясь об этом, русские считали себя самобытной цивилизацией и понимали это примерно так же, как Г.В. Флоровский (тоже евразиец), который подчеркивал, что «самобытность национальная шире национального своеобразия, совпадая по своему содержанию с понятием творчества». Образ Америки в какое-то время был включен в свое мировидение славянофилами, которые противопоставляли его «умирающей Европе». И.В. Киреевский считал, что в пространстве европейской культуры есть только два молодых великих народа – США и России.
К середине 80-х годов ХХ в. русские и в целом советский народ подошли с совершенно определенным представлением о Западе, и особенно США, которые его олицетворяли, как к образу иного, задающего координаты для самоосознания. Эти представления сложились за два века и соответствовали центральной мировоззренческой матрице русских. С разной степенью определенности их выражали многие духовные авторитеты народа. Так, Гоголь сказал: «Что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит». Но он лишь заострил мысль Пушкина, который выразился так: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом».
Тут все понятно. Да, многое есть у Запада, чем можно восхищаться, но есть и духовная пропасть, возникшая с отходом его от православного представления о человеке. И русские философы видели в этом именно трагедию Европы. Это делало вдвойне важным роль Запада как иного для самосознания русских, поднимало этот образ на высокий уровень. Русский националист К.Н. Леонтьев, скорее западник чем славянофил, высказал глубокую мысль. Он сказал, отвечая Достоевскому: «И как мне хочется теперь в ответе на странное восклицание г. Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги»!» – воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих: «О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием!» [35].
Особым воздействием этого «заразительного дыхания» Запада на Россию были провоцируемые им расколы общества и, говоря современным языком, национальные предательства тяготеющей к Западу части элиты. Уже с опытом вторжения в русскую жизнь западного капитализма конца ХIХ века писал историк В.О. Ключевский: «Чем больше сближались мы с Западной Европой, тем труднее становились у нас проявления народной свободы, потому что средства западноевропейской культуры, попадая в руки немногих тонких слоев общества, обращались на их охрану, а не на пользу страны, усиливая социальное неравенство, превращались в орудие разносторонней эксплуатации культурно безоружных масс, понижая уровень их общественного сознания и усиливая сословное озлобление, чем подготовляли их к бунту, а не к свободе» [36].
Вот тяжелый, с перегибами, самокритический анализ русской интеллигенции – книга «Вехи». С.Н. Булгаков говорит о самой ее западнической части, о том, что «ей остается психологически чуждым – хотя, впрочем, может быть, только пока – прочно сложившийся «мещанский» уклад жизни Западной Европы… Законченность, прикрепленность к земле, духовная ползучесть этого быта претит русскому интеллигенту, хотя мы все знаем, насколько ему надо учиться, по крайней мере, технике жизни и труда у западного человека. В свою очередь, и западной буржуазии отвратительна и непонятна эта бродячая Русь… и в последние годы этот духовный антагонизм достиг, по-видимому, наибольшего напряжения… Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божьем, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции» [37, с. 142–143].
Таким образом, Запад и его наиболее «чистое» воплощение – США – были для русских важнейшей системой координат, в которой они понимали сами себя. В 70-е годы эта система координат вступила в кризис, который возник в сознании элитарной части интеллигенции. Этот кризис красноречиво отразился в представлениях А.Д. Сахарова. В те годы важным фактором общественного сознания в СССР, да и во всем мире, была война во Вьетнаме. В 1968 г. Сахаров пишет об этой войне США: «Во Вьетнаме силы реакции… нарушают все правовые и моральные нормы, совершают вопиющие преступления против человечности. Целый народ приносится в жертву предполагаемой задаче остановки «коммунистического потопа» [38, стр. 17].
Семь лет спустя, в 1975 г., он уже пишет о «героизме американских моряков и летчиков» и упрекает Запад в том, что тот воевал плохо. По его мнению, требовалось вот что: «Политическое давление на СССР с целью не допустить поставок оружия Северному Вьетнаму, своевременная посылка мощного экспедиционного корпуса, привлечение ООН, более эффективная экономическая помощь, привлечение других азиатских и европейских стран… Очень велика ответственность других стран Запада, Японии и стран «третьего мира», никак не поддержавших своего союзника, оказывающего им огромную помощь в трудной, почти безнадежной попытке противостоять тоталитарной угрозе в Юго-Восточной Азии» [там же, с. 131–132]. Это поворот, положивший начало нынешнему разделению нашего народа.
Отношение к вьетнамской войне – лишь симптом. Вот сдвиги отношения к своей стране и Западу. Сахаров в 1968 г.: «Как показывает история, при обороне Родины, ее великих социальных и культурных завоеваний наш народ и его вооруженные силы едины и непобедимы» [там же, с. 20]. В 1975 г. он пишет «о многих тревожных и трагических фактах современного международного положения, свидетельствующих о существенной слабости и дезорганизованности перед лицом тоталитарного вызова… Единство требует лидера, таким по праву и по тяжелой обязанности является самая мощная в экономическом, технологическом и военном отношении из стран Запада – США» [там же, с. 146].
Таким образом, Сахаров, признанный духовный лидер нашей демократической интеллигенции, в холодной войне встал на сторону Запада против СССР категорически и открыто. В интервью «Ассошиэйтед Пресс» в 1976 г. он заявляет: «Западный мир несет на себе огромную ответственность в противостоянии тоталитарному миру социалистических стран». Он завалил президентов США требованиями о введении санкций против СССР и даже о бойкоте Олимпийских игр в Москве в 1980 г. В 90-е годы демократы этим хвастались, теперь помалкивают, но надо же вспомнить расстановку сил.
В 1979 г. Сахаров пишет писателю Беллю о том, какая опасность грозит Западу: «Сегодня на Европу нацелены сотни советских ракет с ядерными боеголовками. Вот реальная опасность, вот о чем нужно думать, а не о том, что вахтер на АЭС нарушит чьи-то демократические права. Европа (как и Запад в целом) должна быть сильной в экономическом и военном смысле… Пятьдесят лет назад рядом с Европой была сталинская империя, сталинский фашизм – сейчас советский тоталитаризм» [39, с. 481][153].
С. Обогуев пишет: «Иной раз переживания Сахарова за Запад начинают становиться чуть ли не параноидальными». Он цитирует «Сахаровский сборник» 1981 г.: «Запад и развивающиеся страны наводнены людьми, которые по своему положению способны распространять советское влияние и служить орудиями советского экспансионизма» [40]. Таким образом, Запад совершенно по-разному этнизировал разные части советского народа и «растаскивал» его.
В. Соловей писал уже о времени реформ: «В нашем массовом сознании роль и значение США не только гипертрофированы… но и сама эта страна приобретает буквально метафизическое измерение. Для русских США – не реальная страна, но проекция их собственных фобий, надежд и представлений о Западе, квинтэссенция «духа Запада» [5].
Представления о Западе русские черпали и черпают и у авторитетных западных мыслителей. А. Тойнби в своем главном труде «Постижение истории» пишет о замещении христианства культом Левиафана: «В западном мире в конце концов последовало появление тоталитарного типа государства, сочетающего в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способностью порабощения душ, которой могли позавидовать тираны всех времен и народов… В секуляризованном западном мире ХХ века симптомы духовного отставания очевидны. Возрождение поклонения Левиафану стало религией, и каждый житель Запада внес в этот процесс свою лепту».
Запад не свободен и от тех «слабостей», в которых начиная с 60-х годов все более настойчиво обвиняли русский народ. Взять хотя бы такой штрих, как «культ личности». Тут Запад явно не указ для русских. Не будем уж поминать всенародную любовь немцев к своему фюреру, но вот как проявил себя великий мыслитель Запада Гегель. 13 октября 1806 г. ему посчастливилось из толпы увидеть Наполеона, и он пишет: «Я увидел императора, эту душу мира, пересекавшего на лошади городские улицы. Поистине это колоссальной силы ощущение – увидеть такого человека, сидящего на коне, сосредоточенного, который заполняет собой весь мир и господствует над ним».
Да и в самые последние моменты – никаким примером благородства и гуманизма Запад служить для русских не мог и не может. В. Малахов писал в связи с бомбардировками Сербии и Ирака: «То, что либеральный Запад повел себя в высшей степени нелиберально, и то, что эти бомбардировки находились в вопиющем противоречии с самими основаниями либерального дискурса, более-менее однозначно. И цезура, проходящая между российскими и западными участниками интеллектуального сообщества, очень показательна. Получилось, что по национальному (не этническому, а именно национальному) признаку здесь прошел водораздел, то есть подавляющее большинство российских участников эту акцию осуждает, подавляющее большинство западных участников эту акцию поддерживает. Тот же самый Ю. Хабермас поддерживал. Потом, правда, открестился, сославшись на слишком большое количество жертв среди мирного населения. Но то, что можно в принципе навязывать свободу бомбами, – это его не смущало» [41].
Хабермас, крупнейший представитель старшего поколения лево-либеральной философской мысли Запада, пишет: «Применение военной силы определено уже не одним только в сущности партикуляристским государственным мотивом, но и желанием содействовать распространению неавторитарных форм государственности и правления… Так как во многих случаях права человека пришлось бы утверждать вопреки желанию национальных правительств, то необходимо пересмотреть международно-правовой запрет на интервенцию» (цит. в [8, с. 248–249]).
Ясно, что когда государственная идеологическая машина (СССР, а затем РФ), а также большинство уважаемых интеллектуалов вдруг потребовали от советского и русского народа принять Запад как идеал гуманизма, демократии и прав человека, это сразу нанесло тяжелейший удар по мировоззренческой матрице народа. Рушились ориентиры нравственности и совести, критерии различения добра и зла. То, что люди считали у Запада для нас неприемлемым – без всяких фобий и комплексов – теперь от них требовали считать образцом для подражания. Вся конструкция национального самосознания рушилась – или это самосознание должно было «уйти в катакомбы», что повергает большинство нормальных людей в тяжелый стресс.
Тяжелый кризис народного самосознания был вызван тем, что тот Новый мировой порядок, который США стали лихорадочно строить после 1990 г., был одобрен государственными деятелями России и даже официально самим российским государством. Этот порядок был противен совести нашего народа и главным устоям русской культуры, так что его одобрение сразу создавало непримиримый конфликт между этой совестью и государством, что разрушало другую важную систему «народообразующих» связей.
На фоне тех потрясений, которые обрушились на нашу страну с самого начала 1991 г., позиция советского государства в отношении американских бомбардировок Ирака прошла почти незамеченной. Но затем ее разрушительное действие стало возрастать. В 1993 г. США совершили действия, которые во всем мире были восприняты как заявка США на установление своего монопольного «права сильного» и полный отказ от норм международного права. В июне они нанесли ракетный удар по Багдаду со смехотворным предлогом – у них якобы появились данные, что во время первой войны (в 1990 г.) спецслужбы Ирака планировали покушение на экс-президента Буша (старшего). Довод настолько абсурдный, что никто в мире его и не обсуждал. Бомбардировка столицы другого государства в наказание за какие-то «планы» уже далекого прошлого – это наглая акция против всей системы международного права. И эту акцию одобрило государство Российская Федерация!
МИД РФ, где командовал А. Козырев, заявил: «По мнению российского руководства, действия США являются оправданными, поскольку вытекают из права государства на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН». Чуть позже Ельцин уточнил, что право государства на самооборону возникает и в случае вооруженного нападения на его граждан (хотя никто на гражданина Буша с оружием не нападал). При этом Ельцин защищал это право только для Запада, он и не думал применять право на самооборону при вооруженных нападениях на граждан России в Южной Осетии или Абхазии. Даже напротив, когда этнократическое правительство Молдавии открыто пригрозило геноцидом населению Приднестровья и начало массовые убийства, известный демократ Денис Драгунский рассуждал на российском телевидении о том, что «законное правительство Молдовы должно было бы применить силу против мятежников и сепаратистов Приднестровья».
После ракетного удара по Багдаду в 1993 г. с большой статьей в европейской прессе выступил М.С. Горбачев. Он упрекнул Клинтона за то, что тот «не оформил корректно» бомбардировки Ирака и тем самым «совершил ошибку», которая может усложнить судьбоносный процесс установления нового мирового порядка под лидерством США. Как противно было слышать это гражданам нашей страны, от имени которой Горбачев разъезжал тогда по всему свету и вещал от имени нашего народа.
Чтобы понять, как это действовало на самосознание русских, надо вчитаться хоть сегодня. Горбачев обращается к США: «Ведь можно же было… в конце концов осуществить акцию на основе процесса коллективного и легитимного принятия решения. Тогда престиж США в мире только бы вырос… Совершенно справедливо Соединенные Штаты были тогда (в 1991 г.) поддержаны всем международным сообществом. Ведь можно было бы, и это долг всех заинтересованных сторон, повторить положительный опыт, полученный при ответе на агрессию Саддама Хусейна в 1991 году». Этот «положительный опыт» Горбачев квалифицирует как «наказание, решение о котором было принято коллективно и законно» [42].
Горбачев торжественно называет такой миропорядок «империей международного права», которая создается под лидерством США. Это само по себе наглая ложь – ООН не может дать разрешение на наказание, международное право допускает только отпор агрессии, что совершенно не одно и то же.
И это одобрение недавний президент СССР выражает уже после того, как широко обнародованы результаты комиссии ООН (медиков Гарвардского университета), изучавшей последствия бомбардировок Ирака 1991 г. За месяц бомбардировок погибло около 2 % мирного гражданского населения. В результате почти полного разрушения инфраструктуры (водопроводов, электростанций, мостов и т. д.) уже в 1991 г. умерло 170 тыс. детей. В докладе Комиссии ООН сказано: «Ирак на долгие годы возвращен в доиндустриальную эру, но с грузом всех проблем постиндустриальной зависимости от обеспечения энергией и технологией».
А 12 октября 2006 г. был обнародован доклад комиссии, которая по заданию ООН произвела подсчет числа жертв, которые понесло население Ирака в результате войны, начатой США в 2003 г. под предлогом необходимости ликвидировать оружие массового уничтожения, якобы созданное режимом Саддама Хусейна. В этом докладе сказано, что в Ираке погибло 665 тыс. человек (подсчет проводился по официально принятой в США методике). При этом никаких следов ядерного и других видов оружия массового уничтожения в Ираке, как известно, обнаружено не было, но при этом половина американцев все равно одобряет эту войну.
Политики, пришедшие к власти в СССР и РФ в конце 80-х годов, подвергли население страны жесткой идеологической кампании, требуя принять именно этот Запад за образец при перестройке мировоззренческой матрицы нашего народа, при выработке у него «нового мышления». На деле они вели демонтаж народа, ибо переделать его мировоззрение эти политики не могли, но подорвать его связность им было по силам.
Важнее всего для нашего будущего тот факт, что за последние двадцать лет не произошло слома тех главных устоев русской культуры, для которых пробным камнем был Запад как «этнизирующий иной». В декабре 2006 г. Аналитический центр Ю. Левады провел большой опрос на тему «Россия и Запад». На вопрос «Является ли Россия частью западной цивилизации?» положительно ответили 15 %. Большинство, 70 % опрошенных выбрали ответ «Россия принадлежит особой («евразийской» или «православно-славянской») цивилизации, и поэтому западный путь развития ей не подходит». Затруднились ответить 15 % [43].
Показательно выделение главных, по мнению опрошенных, характеристик русского народа при большом опросе 2001 г. [44]. На первые места в ответах поставлены качества, которые и были символическими характеристиками советского народа. В этих приоритетах явно виден тот ответ, который массовое сознание дало на все попытки политиков и идеологов заставить русских принять Запад за духовный образец.
Доля положительных оценок исторически обоснованных характеристик русского народа (в % от количества, опрошенных в каждой возрастной группе)
Русский народ – защитник народов! Народ-освободитель! Вот что думают о себе русские, сравнивая себя с Западом. И эта установка лишь укрепилась по мере углубления катастрофы России и ее последствий для других народов. Да, сейчас, с ослабевшим государством, в больном состоянии, русские не могут выполнять эту свою миссию, но они же не изменили своей совести. На этом направлении ударов психологической войны оборона русского народа устояла. И смена верховной власти в 2000 г. была важным событием в этой кампании.
Сравните заявления Горбачева и МИД РФ в 1993 г. и Заявление Совета Федерации РФ 26 марта 2003 г., первая фраза которого гласит: «Соединенные Штаты Америки с 20 марта 2003 года осуществляют агрессию против Республики Ирак». Агрессию! И смягчающие слова В.В. Путина, что «по политическим и экономическим соображениям Россия не заинтересована в поражении США», не меняют дела – 90 % (иногда говорили, что 95 %) населения РФ именно желали США поражения в этой войне (при этом вовсе не желая зла американцам, поскольку поражение в Ираке было бы шагом к их возвращению в человеческий образ).
§ 2. Место России «на карте человечества»
Представление Запада, ставшее официальным во время перестройки, было большой акцией психологической войны против народа. Замысел ее многослойный. Она не только разрушала тот устойчивый образ главного иного, который соединял народ, но отрицала и сам статус России как самобытной цивилизации. Если вспомнить понятие, введенное в гл. 17, она разрушала хорологическое видение России в человечестве как системы культур и цивилизаций. Люди чувствовали себя русскими, а потом советскими, потому что «с небес» было видно: вот Запад, а вот Россия (СССР).
Эту акцию начали уже «шестидесятники». В книге П. Вайля и А. Гениса «60-е. Мир советского человека», которая публиковалась с начала перестройки в журналах, говорилось прямо противоположное. Авторы пересказывают мысли И. Эренбурга, которого уподобляют апостолу Павлу: «Спор об отношении к западному влиянию стал войной за ценности мировой цивилизации. Речь шла уже не о направлении или школе, а об историческом месте России на карте человечества… Эренбург страстно доказывал, что русские не хуже и не лучше Запада – просто потому, что русские и есть Запад… То, что хотел сказать и сказал Эренбург, очень просто: Россия – часть Европы… Ну что может разделять такие замечательные народы? Пустяки», – пишут П. Вайль и А. Генис и приводят слова Эренбурга. – «Их разделяют не мысли, а слова, не чувства, а форма выражения этих чувств: нравы, детали быта».
С середины 80-х годов это положение стало частью официальной идеологии. Один из активных «прорабов перестройки» И. М. Клямкин утверждал: «Россия может сохраниться, только став частью западной цивилизации, только сменив цивилизационный код» (см. [5, с. 21]). Психологическое воздействие этих заявлений не только сбивало с толку людей, вовсе не мечтающих о том, чтобы отказаться от своего исторического пути, но и соблазняло влиятельную часть общества ложной перспективой быть «принятыми» в Запад. И.К. Лавровский писал: «К сожалению, «железный занавес» мешал советским идеологам общечеловечества видеть, что все мы скопом уже давно зачислены в разряд нечистых и что неожиданное появление из-за забора бедного дальнего родственника с атомным топором не вызовет сильной радости у родственников богатых» [45].
Итак, это акция психологического воздействия, которое резко меняет оценки главного «этнизирующего иного» и даже сами критерии таких оценок; людям навязывается совершенно новое основание для самоосознания – из него удаляется стержневое положение о самобытности русской культуры и культуры других народов СССР. Дескать, между мыслями и чувствами русских и немцев, православных и протестантов, советского и буржуазного мировоззрения нет никакой существенной разницы – так, детали быта (чуть позже скажут, что и быт наш недостойный). Не занимает Россия и никакого особого места «на карте человечества». Когда подобные утверждения стали литься на головы людей в тысячах разных словесных и художественных форм, был ослаблен или разрушен целый важный пучок связей этничности и национального сознания. Была разрушена та часть фундамента этого сознания, выстроенная с огромными трудами в советский период, о которой писал А.С. Панарин в выдержке, приведенной в гл. 26 (о том, что в «формационных сопоставлениях Россия впервые осознавала себя как самая передовая страна и при этом – без всяких изъянов и фобий, свойственных чисто националистическому сознанию»).
История становления современного представления русских о пространстве России довольно хорошо изучена. Землепроходцы, казаки и мореходы прошли огромные расстояния, вступили в интенсивные контакты с множеством народов, и постепенно устоялось видение России как Евразии. Об этой концепции имеется большая литература, ее смысл выражен в художественной форме великими поэтами, этот смысл принят массовым сознанием. Понятно, что идеологическая кампания по разрушению этого образа создала множество трещин в сознании и русских, и других народов России.
Вот, в журнале «Вопросы философии» излагается навязчивая идея начала 90-х годов: «Россия не Евразия, она принадлежит Европе и не может служить мостом между Европой и Азией, Евразией была Российская империя, а не Россия» [46]. Как это должны понимать русские – Сибирь не Россия, а часть Российской империи? А Приморье чье будет? Как это должны понимать якуты – они из России изгоняются и места в Европе лишаются? Ведь эта статья, а таких было множество, есть типичная идеологическая диверсия, одна из множества бомб психологической войны против России. Могла ли этого не видеть редколлегия главного философского журнала Российской Академии наук?
В целом вся проблематика пространства России, ее территории, ее геополитических союзников и противников излагалась во время перестройки и реформы настолько противоречиво, что народ в течение вот уже двадцати лет находится в состоянии стресса. Устойчивое восприятие пространства, которое, как было сказано в гл. 11, является одной из важнейших «сил созидания» народа, непрерывно подтачивалось. Это делалось сознательно и зачастую глумливо. Еще в 1990 г. в популярной передаче «Взгляд» ведущий Александр Любимов и его собеседники, давая сюжет из Калининграда, все время называли его Кенигсбергом, подчеркивали его немецкое происхождение и радовались, что он начал заселяться немцами. Столь же разлагающее воздействие на связность народа оказывали периодические кампании 90-х годов с пропагандой идеи возвращения Японии Курильских островов – без какого бы то ни было диалога с несогласной стороной.
Отметим еще одну важную кампанию, которая на фоне прочих событий не привлекла большого внимания, но в действительности обеспечивала непрерывную коррозию пространственных представлений народа. Речь идет о политических играх правящей верхушки РФ и западнической элиты с НАТО.
В массовом сознании советского народа НАТО воспринимался как военный союз Запада в его «холодной» войне против Советского Союза с целью непрерывного балансирования на грани «горячей» войны. НАТО объединил огромные экономические, технические и людские ресурсы и заставил СССР втянуться в тяжелую гонку вооружений. От НАТО исходила постоянная крупномасштабная угроза для русского народа как ядра СССР, и это единодушное восприятие НАТО играло большую роль в сплочении всего советского народа и особенно русских. НАТО сплачивало народ России не страхом (сравнимого по интенсивности с «ядерным страхом» в США советские люди не испытывали) – людей соединяло возмущение несправедливостью и тупостью политики с позиции силы.
Известно, что попытки остановить развитие событий по сценарию «холодной» войны были безуспешными, хотя И.В. Сталин даже поставил вопрос о вступлении СССР в НАТО и его превращении в систему коллективной безопасности. После этого НАТО однозначно стал символом Запада как угрозы.
В декабре 1989 г. Горбачев вел на Мальте конфиденциальные переговоры с Бушем, и стало созревать ощущение, что он там договорился о ликвидации Организации Варшавского Договора, социалистического лагеря, а потом и СССР. НАТО как угроза приобрел новый смысл, и советских людей волновал вопрос, будет ли НАТО подступать к границам СССР. Горбачеву уже не верили, он до этого врал слишком много. На время успокоили сами немцы – 31 января 1990 г. министр иностранных дел ФРГ Геншер выступил с такой декларацией: «НАТО непременно должно заявить – что бы ни происходило внутри Варшавского пакта, территория НАТО не будет расширяться на восток, то есть в направлении границ Советского Союза».
Казалось, что это условие можно было бы оформить юридически, поскольку СССР «снизу» казался еще могучим государством. Бывший министр обороны Чехословакии генерал Мирослав Вацек утверждал, что Вацлав Гавел сказал ему во время их первой встречи: «Мы не сумасшедшие, чтобы пытаться выйти из Варшавского договора». Затем Гавел в беседе с Горбачевым предложил ему провести переговоры с Западом об одновременном роспуске обоих блоков. Горбачев этого предложения не принял.
Одновременно в Москве резко изменилась риторика «демократов». Они заговорили о «европейской цивилизационной идентичности» России, взяли курс на выталкивание из союза среднеазиатских республик, выступали в тесном альянсе с «народными фронтами» Прибалтики. В этих кругах стали говорить о желательности вступления в НАТО и его расширения, таким образом, до границ Ирана и Китая как общего у Запада с Россией цивилизационного противника. Эта западническая элита обнаружила совершенно новый для масс геополитический вектор, несовместимый с теми представлениями, которые были укоренены в культурном ядре народа.
Как только был ликвидирован СССР, Ельцин в первом же своем послании Совету НАТО 20 декабря 1991 г. заявил: «Сегодня мы ставим вопрос о вступлении России в НАТО, однако готовы рассматривать это как долговременную политическую цель» [47][154].
Это был первый пробный шар, но для нашей темы важнее та кампания, которая с тех пор велась в прессе. Так, в 1994 г. влиятельный политик и политолог С. Караганов в статье «У дверей НАТО мы должны оказаться первыми» («Известия», 24 февр.) доказывал, что РФ надо бороться с Польшей, Чехией и Венгрией за право вступить в НАТО первой. Сторонники этого курса (например, А. Козырев) представляли Россию как цивилизационного союзника Запада в назревающем столкновении с исламом, в «совместной защите ценностей» при «продвижении на восток». Сам Козырев выражался ясно: по его словам, Западу «следует помнить об азиатских границах стран, образующих зону Совета североатлантического сотрудничества. И здесь основное бремя ложится на плечи России».
Даже политолог А. Мигранян, который выступал как противник членства России в НАТО, в качестве довода приводил несбыточность этой цели, в принципе считая ее желательной. Он писал в марте 1994 г.: «Если бы Россия вступила сразу же в полноправные члены НАТО, а эта организация стала бы универсальной структурой, обеспечивающей безопасность в Европе, то только сумасшедший не поддержал бы такое развитие событий». Сказано эмоционально, а с логикой неважно. Разве НАТО стал для русского народа мировоззренчески и нравственно близкой организацией? Разве отдать российскую армию и российское оружие под команду американских генералов не является историческим выбором, для которого требуются куда более веские аргументы, нежели привел Мигранян? Разве ракеты НАТО долетают только до Европы? Само это выступление Миграняна выполняет разрушительную функцию.
Вследствие всей этой кампании образ НАТО как угрозы с Запада перестал выполнять свою роль как связующей силы, соединяющей людей в народ, – этот пучок связей распался, здесь в массовом сознании наступил период разброда (вплоть до бомбардировок Сербии).
Другая часть этой же операции – усилия правящей верхушки РФ по продвижению НАТО на восток, к границам России. Здесь уже речь шла о разрушении в массовом сознании образа собственного государства. Верховная власть воспринималась значительной частью народа как предательница национальных интересов. 25 августа 1993 г. Ельцин заявил в Варшаве (в беседе с Валенсой), что Россия не возражает против расширения НАТО на Восток. Затем аналогичное заявление он сделал в Праге. Результат нам известен, и частью этого результата стали бомбардировки Югославии, свержение Милошевича, отторжение Косова от Сербии.
Те же самые силы в России, которые тащили ее в НАТО, стали и пропагандистами программы мироустройства, которую США пытаются реализовать после ликвидации «советского блока» под названием глобализации. Это очередная программа втягивания всех слабых стран и культур в периферию западной капиталистической системы с ослаблением национальных государств периферии и овладением их ресурсами. Главным инструментом глобализации является ослабление связей, соединяющих население периферии в народы – демонтаж этих народов экономическими и культурными средствами (но и с демонстративными репрессиями против тех, кто сопротивляется). Реализация этой программы наталкивается на противодействие народов, обычно уже скрытное и лишенное явной поддержки своих государств, ибо те, которые пытаются охранить права своих народов, становятся «государствами-изгоями».
В нынешней России большинство населения, как показывают опросы, относится к доктрине глобализации отрицательно, но голос его не слышен, поскольку оно лишено и организационной базы для диалога, и доступа к СМИ. Зато громко слышен голос тех, кто стремится расщепить и подавить сознание большинства.
Активный во время перестройки философ Г.С. Померанц представляет это сопротивление следствием варварства и примитивного этнического национализма: «Этническое сопротивление глобализации шло и среди народов (первоначально варварских), не сумевших найти богословские альтернативы вселенской догматике. Верующие, не вдаваясь в тонкости, превратили Богородицу в королеву Польши, в державную владычицу России. Христос освобождается от своего еврейства и становится русским богом. В семинариях этому не учили, но такова была народная вера. И когда стали складываться современные нации, эта вера иногда порождала национальный мессианизм (польский, русский). У инока Филофея идея третьего Рима еще одета во вселенские ризы, но у Шатова (в романе «Бесы») языческая воля к самоутверждению племени вырывается на простор, перескакивая через любые интеллектуальные барьеры. Каждый шаг глобализации вызывает волну этнического сопротивления» [48].
Это пафос наигранный, серьезных доводов под ним нет, но непрерывное воздействие на сознание потока подобных рассуждений понемногу разрывает ткань общей мировоззренческой основы народа.
В 80-е годы, пока связность советского народа была еще весьма сильной, большой психологический эффект производили разговоры высокопоставленных деятелей о возможности уступок территории. Как было сказано в гл. 11, образ родной земли, включающий в себя священную компоненту, служит важной частью национального сознания и скрепляет людей общим отношением к земле. К подрыву этого образа команда Горбачева подбиралась осторожно и постепенно. Конкретно речь шла о том, чтобы уступить японским притязаниям на Курильские острова. Сейчас эта проблема стала привычной, и на фоне потрясений 90-х годов ее психологическое воздействие сильно ослабло. Но начатая в годы перестройки кампания вызвала у советских граждан сильный душевный разлад. Подробную хронику этой кампании дает в своей книге один из ведущих японоведов И.А Латышев, пятнадцать лет проработавший в Японии спецкором «Правды» [49].
Вот основные моменты. С началом разговоров о «новом мышлении» группа обозревателей прессы и телевидения СССР (А. Бовин, В. Цветов и О. Лацис) стали высказывать свои «личные мнения», расходящиеся с курсом СССР на то, что «территориального вопроса» в отношениях с Японией не существует. Эта обработка общественного мнения в прессе усиливалась и расширялась в течение года. Как пишет Латышев, «поборниками уступок Москвы японским домогательствам стали, как показал дальнейший ход событий у нас в стране, именно те журналисты и общественные деятели, которые спустя года полтора влились в движение, направленное на слом «советской империи» и превращение ее в конгломерат больших и малых «суверенных государств» [49, с. 683].
В октябре 1989 г. в Японию приехал один из лидеров Межрегиональной депутатской группы Ю. Афанасьев и сделал сенсационное заявление, что «перестройка как историческая реальность представляет собой конец последней империи, именуемой Советский Союз», и что ее целью должна стать ликвидация системы международных отношений, сложившейся на основе Ялтинских соглашений. В заключение он обратился к правительству СССР с призывом безотлагательно «возвратить Японии четыре южных Курильских острова» [49, с. 685]. По тем временам заявление еще беспрецедентное, и для всего советского общества была важна реакция верховной власти. Реакция была благосклонной – несмотря на массовые митинги протеста в Приморье и на Сахалине.
Всего через несколько дней в Токио прибыл депутат Верховного Совета СССР А.Д. Сахаров и заявил: «Я понимаю, что для Японии с ее очень высокой плотностью населения и не очень богатой, по сравнению с СССР, природными ресурсами, каждый квадратный километр имеет огромное значение… Я считаю, что вообще правильным принципом было бы сохранение тех границ, которые существовали до Второй мировой войны» [там же, с. 686].
Еще через несколько дней, в Москве, дал интервью Гарри Каспаров: «А почему бы нам не продать Курилы Японии? Откровенно говоря, я не уверен в том, что эти острова принадлежат нам. А ведь требующие их японцы могли бы заплатить нам за них миллиарды долларов» [там же, с. 687].
В 1990 г. пропаганда «возврата Курил» в академических кругах и в прессе в Москве стала вестись открыто. Периодически деятели «пятой колонны» наезжали и в Японию. Председатель Моссовета Г.Х. Попов не раз пользовался японскими приглашениями. Латышев пишет: «Не будучи в состоянии, а скорее не желая расплачиваться за японское гостеприимство свободно конвертируемой валютой, Попов осенью 1990 года предпочел возместить расходы, связанные с его пребыванием в Японии… путем публичного выражения сочувствия притязаниям Японии на четыре острова Курильского архипелага. Сделал он это в интервью, опубликованном 21 октября 1990 г. в газете «Майнити» [там же, с. 700]. Итак, три лидера Межрегиональной группы заняли одинаковую позицию относительно Курил.
Во всей кампании подрыва убежденности в незыблемой территориальной целостности СССР как земли всего советского народа тема Курил была одной из многих. Но она хорошо показывает, с какой настойчивостью велась «молекулярная», малыми порциями, трехлетняя обработка сознания советских людей и какие персонажи для этого привлекались.
§ 3. Подрыв национального сознания: комплекс вины
Самоуважение и убежденность в своем коллективном праве на существование – необходимая часть национального сознания. Во время перестройки и реформы на разрушение этой убежденности были направлены очень большие силы. Одним из главных видов оружия в этой кампании была идея исторической вины, причем шаг за шагом источник вины приобретал все более определенный характер – от вины Сталина к вине государства и партии, от них к исторической вине русского народа. Эта идея помогла на время ввергнуть в саморазрушительную вакханалию нынешнее поколение всего народа России.
Удар по самоуважению нашего народа был настолько мощным и неприкрытым, что сейчас от него открещивается даже часть сторонников реформ. В интеллектуальном «прорежимном» журнале можно прочитать: «Человека невозможно заставить быть творцом. Громадный исторически зафиксированный энтузиазм советского народа не мог быть вызван репрессиями просто потому, что невозможно вызвать репрессиями какой-либо энтузиазм. Подавляющее большинство народа работало и жило, любя свою страну и гордясь ею. Следуя на поводу у идеологических противников в третьей мировой войне, мы объявляем почти весь ХХ век России как бы не существовавшим, прошедшим мимо нас. Мы не можем найти точку опоры для своих корней, болтающихся в воздухе. Да, совершались преступления, политики интриговали, стравливали страны и народы, это происходило по всей Европе, по всему миру. Почему только мы должны нести комплекс вины и некое навязываемое нам чувство гиперответственности? Почему американцы не маются комплексами, испытав чудо-бомбу на 2 тыловых японских городах?.. Почему только мы пытаемся взвалить на себя всю мировую скорбь и загнуться под ее тяжестью?» [45].
В кампанию по разжиганию комплекса вины была вовлечена не только большая часть либеральной интеллектуальной элиты, но и значительная часть «патриотов-почвенников», которых соблазнили иллюзорной возможностью реванша «белой идеи». Каждая из этих колонн наносила удары на своем участке фронта. Пробежим вскользь тематический перечень, еще свежий в памяти многих.
Русские должны были покаяться за империю и СССР. Вот советник Ельцина философ А.И. Ракитов счастлив: «Самая большая, самая жестокая империя в истории человечества распадается». Он излагает «особые нормы и стандарты, лежащие в основе российской цивилизации». Здесь весь набор отрицательных качеств: «ложь, клевета, преступление и т. д. оправданы и нравственны, если они подчинены сверхзадаче государства, т. е. укреплению военного могущества и расширению территории». Как обычно, поминается Иван Грозный и тираны помельче – и подчеркивается, что их якобы патологическая жестокость была изначально присущим, примордиальным качеством России: «Надо говорить не об отсутствии цивилизации, не о бесправии, не об отсутствии правосознания, не о незаконности репрессивного механизма во времена Грозного, Петра, Николая I или Сталина, но о том, что сами законы были репрессивными, что конституции были античеловечными, что нормы, эталоны, правила и стандарты деятельности фундаментально отличались от своих аналогов в других современных европейских цивилизациях» [50].
Эта статья 1992 г. замечательна тем, что в ней философ, призванный во власть, выступает с открытым забралом – он требует «революции в самосознании, глубинных трансформаций в ядре культуры». Это и есть демонтаж народа, а уж будет или не будет произведена потом сборка рассыпанных человеческих атомов, решаться будет не в России.
Вся программа по созданию образа «сталинских репрессий» представляет из себя целую кампанию психологической войны. Этот образ в годы перестройки был распространен на всю жизнь русского народа в целом – и нерусских народов. Еврейский поэт (М. Юпп), уехав из СССР, так изобразил то, что внутри страны густым потоком лилось в прозе с экрана телевизора и из радиоприемника:
О судьбы Руси и России!.. Потеряны годы в бессилье. …………………………….. О, судьбы нерусских народов!.. Погрязших в ярме живоглотов, …………………………………. А есть только в крике истошном — Проклятья стране лагерей.Более того, образ сталинских репрессий быстро был распространен на всю Россию – она была представлена как всеобщая и вечная плаха. Вот другой еврейский поэт, один из виднейших, А. Межиров, пишет в большой лирической поэме времен перестройки о том, что вспоминает:
Что Россия вся как плаха От Ивана Калиты, Собиратели ГУЛАГа, На которой я и ты, Ты да я – и век от века Кровью плаха залита…В кампанию по созданию такого образа были вовлечены очень большие силы. Достаточно вспомнить Солженицына – его «Архипелаг Гулаг», шедевр фальсификации, созданный буквально в лаборатории, сыграл большую роль в повороте интеллигенции к антигосударственной и антисоветской позиции. Прикрываясь званием академика и авторитетом науки, активное участие в этой операции принимал А.Н.Яковлев. Хотя имеются достоверные и надежно проверенные данные о масштабах репрессий в сталинский период, он 15 лет продолжал говорить о «миллионах расстрелянных». Он заявлял, например: «Я поражен равнодушной реакцией нашего общества на правду о том периоде. Вроде ничего и не было. А ведь одних расстрелянных – миллионы. Расстрелянных ни за что ни про что» («Литературная газета». 2001, № 41).
Утверждение, будто все были расстреляны «ни за что ни про что», противоречит логике и здравому смыслу, но это хотя бы не связано с количественной мерой и может быть принято за гиперболу, как и фраза, будто общество считает, что «вроде ничего и не было». Но говоря, что «расстрелянных – миллионы», А.Н.Яковлев не мог не знать истинной величины. В книге, изданной под редакцией самого А.Н.Яковлева, приводится документ от 11 декабря 1953 г., который является основным источником по данному вопросу и официально признается нынешним руководством страны, – «Справка спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных органами ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР в 1921–1953 гг.» [51, с. 433].
В 1937 г. к расстрелу были приговорены 353 074, а в 1938 г. – 328 618 человек. Около ста тысяч приговоренных к высшей мере приходится на все остальные годы с 1918 по 1953, из них абсолютное большинство на годы войны – 1941–1945 гг. Акты об исполнении приговора не опубликованы, но число расстрелов существенно меньше числа приговоров – для части приговоренных расстрел был заменен заключением в лагерь.
Надо подчеркнуть, что данные о репрессиях были проверены в Москве авторитетными историками США, что отражено в ряде научных публикаций (см., например, [52]). Ведущие университеты США рекомендуют использовать в курсах истории именно эти данные, которые признаны достоверными. Сообщения об этом размещены в Интернете на официальных сайтах университетов. Тем не менее в РФ дикторы даже государственного телевидения продолжают периодически сообщать уже заведомо ложные сведения.
Эта кампания была эффективной в течение длительного времени (сейчас тема репрессий исчерпана – не потому, что разоблачена фальсификация, а потому, что она неактуальна для молодежи, комплекса вины она в ней создать уже не может). Эффективность ее объяснялась тем, что манипуляторы, включив тему репрессий в национальную «повестку дня» навязали каждому гражданину обязанность сделать выбор – верит он или не верит этому официальному мифу. Ситуация была примерно та же, что и с мифом Холокоста, неверие в который сейчас преследуется в Западной Европе как уголовное преступление. Те в СССР, кто в миф о репрессиях поверили, были обязаны принять на себя вину за них («покаяться»). Те, кто не поверили, получали клеймо неблагонадежных.
Так или иначе, народ сразу раскололся на две группы, которые относились друг к другу недоброжелательно. Вступая в общение с человеком, приходилось соблюдать осторожность и прощупывать его отношение к мифу о репрессиях. Резко возрос общий уровень взаимного недоверия. Затем началось дробление группы «поверивших», потому что в ней обнаружился широкий спектр разных и несовместимых установок – вплоть до выделения группы тех, кто считал, что репрессии были «недостаточными».
Вина за то, что люди жили в СССР, были ему лояльны и особенно за то, что воевали с его врагами, возлагалась на весь народ, на всех рядовых и даже на их близких. Идеологи, которые разжигали этот комплекс вины, определенно вели психологическую войну против народа, сознательно противопоставляя себя ему – как враги народа. Причем враги в войне этнической (независимо от их собственной личной этнической принадлежности) – объектом их бомбардировок было национальное сознание прежде всего русского народа. Вот стихотворение поэта-шестидесятника Александра Городницкого (кандидата в Госдуму от «Яблока»), где он выражает отношение к солдатам, подавлявшим в 1956 г. восстание в Будапеште:
Танк горит на перекрестке улиц, Расстреляв последние снаряды, В дымном жаре, в орудийном гуле, У разбитой им же баррикады. …………………………………….. Как там встретят весть, что не вернулись, Закусив губу или навзрыд? Танк горит на перекрестке улиц, Хорошо, что этот танк горит!С другой стороны русских обвиняет духовный авторитет более крупного калибра – Солженицын. Ему стыдно за то, что в ГУЛАГе после войны находились не только русские, но и люди других национальностей. По его мнению, за все беды, преступления и ошибки на территории, по которой прокатились битвы и хаос ХХ века, должны расплачиваться только русские.
Он пишет в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ»: «Особенно прилегают к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных правах, мне так стыдно перед ними, будто посадил их я. Неиспорченные, работящие, верные слову, недерзкие, – за что и они втянуты на перемол под те же проклятые лопасти? Никого не трогали, жили тихо, устроенно и нравственнее нас – и вот виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море. «Стыдно быть русским!» – воскликнул Герцен, когда мы душили Польшу. Вдвое стыднее быть советским перед этими незабиячливыми беззащитными народами» [53].
Благодаря гипнозу литературного таланта Солженицына читатель впадал в странную уверенность, что «неиспорченные» эстонцы, конечно, же, попали в ГУЛАГ безвинно. Он забывал и о том, что на стороне немцев воевало на треть больше эстонцев, чем в Красной Армии, и что из них немцы формировали самые жестокие карательные части, которые орудовали не только в Прибалтике. Стыдно ему быть русским! Поезжайте, Александр Исаевич, в гости к своим солагерникам, пройдитесь с ними в марше эстонских эсэсовцев.
Второй исторический выбор, за который русские должны были испытывать чувство вины, – принятие христианства от Византии. На этом поле более десяти лет работала вся интеллектуальная рать демократов, вплоть до Новодворской. Эту песню мы слышим со времен Чаадаева, который писал: «Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими [западными] народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания»[155]. Но тогда царь упрятал его в сумасшедший дом. Зато во времена Горбачева и Ельцина его ученики разгулялись.
На симпозиуме в Гарварде в 1992 г. интеллектуал из Института философии РАН вещал: «Над культурой России царила идеологическая власть догматического православия… Все это сопровождалось религиозной нетерпимостью, церковным консерватизмом и враждебностью к рационалистическому Западу… Несколько лидеров ереси были сожжены в 1504 г.»[156].
Мысль Чаадаева о том, что воспринятое от «глубоко презираемой» Византии христианство оказалось в России несостоятельным, считается в русофобской элите очень плодотворной, ее перепевают уже почти два века. Вот авторитетный философ, «грузинский Сократ» М.К. Мамардашвили объясняет французскому коллеге, что такое Россия: «Живое существо может родиться уродом; и точно так же бывают неудавшиеся истории. Это не должно нас шокировать. Вообразите себе, к примеру, некоторую ветвь биологической эволюции – живые существа рождаются, действуют, живут своей жизнью, – но мы-то, сторонние наблюдатели, знаем, что эволюционное движение не идет больше через эту ветвь. Она может быть достаточно велика, может включать несколько порой весьма многочисленных видов животных, – но с точки зрения эволюции это мертвая ветвь. Почему же в социальном плане нас должно возмущать представление о некоемом пространстве, пусть и достаточно большом, которое оказалось выключенным из эволюционного развития? На русской истории, повторяю, лежит печать невероятной инертности, и эта инертность была отмечена в начале 19 века единственным обладателем автономного философского мышления в России – Чаадаевым. Он констатировал, что Просвещение в России потерпело поражение… По-моему, Просвещение и Евангелие (ибо эти вещи взаимосвязанные) совершенно необходимы… Любой жест, любое человеческое действие в русском культурном космосе несут на себе, по-моему, печать этого крушения Просвещения и Евангелия в России» [55].
Историк Н.И. Ульянов пишет: «С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость их натуры, их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатчину, и на последнее место, которое занимает в человеческом роде презренный народ московитов. На начало 30-х годов XIX в. падает небывалый взрыв русофобии в Европе, растущий с тех пор крещендо до самой эпохи франко-русского союза» [54].
Вот сугубо академическое издание – книга «Русская идея и евреи» уже времен нынешней реформы (1994), выпущенная небывалым для издательства «Наука» тиражом в 15 тыс. экземпляров. В ней большое место уделено Православию, и в целом оно представлено как бы языческим, национальным (а уж его поддержка российской государственности в советский период трактуется как «сотрудничество с палачами»). Один из авторов пишет: «Я думаю, что наше православное христианство утратило характер Евангелия… Взамен этого оно стало «стержнем русской культуры»… Принеся некогда проповедь Евангелия в жертву национальной идее, Русская православная церковь по-прежнему остается верой нерассуждающих крестьян и людей, чье сознание связано с общинным менталитетом… Не уверен, что РПЦ станет той церковью, которая приблизит русский народ к пониманию христианских ценностей демократии» [56].
Упреки в том, что Православная церковь (в отличие от западной) не ведет нас к «ценностям демократии», – поразительный рецидив инфантильного евроцентризма. Связывать церковь, стоящую на догматах почти двухтысячелетней давности, с современной западной демократией, возникшей пару веков назад, просто глупо.
Как это ни покажется странным, но в вину русскому народу ставился и тот факт, что он дважды осмелился ответить Отечественной войной на нашествие с Запада – «отторг душу», которая ему несла культуру. В явном виде эта идеологическая разработка излагалась в философской литературе, а затем тиражировалась в СМИ вскользь, с тем или иным прикрытием.
В.И. Мильдон в «Вопросах философии» представляет Отечественные войны как вторжение русских в Европу: «Дважды в истории Россия проникала в Западную Европу силой – в 1813 и в 1944–1945 гг., и оба раза одна душа отторгала другую. В наши дни Россия впервые может войти в Европу, осознанно и безвозвратно отказавшись от силы как средства, не принесшего никаких результатов, кроме недоверия, озлобленности и усугублявшегося вследствие этого отторжения двух душ» [46].
Пара фраз, а сколько в них ядовитых плевков, которые отравляют подсознание. Подумать только – Великая Отечественная война «не принесла никаких результатов, кроме недоверия». А то, что она прекратила уничтожение евреев в Освенциме, философ Мильдон за результат не считает?
Д.Е. Фурман (тогда директор Центра политологических исследований в фонде Горбачева) запускает другую ядовитую пилюлю – русские, мол, немцев в Отечественной войне ограбили. Но он оптимист и верит, что в силу своего внутреннего порока никогда русские благополучного исхода истории иметь не будут. Фурман лепит образ русских по контрасту с их значимым иным – немцами: «С народом, в культуре которого выработано отношение к труду, как долгу перед Богом, обществом и самим собой, у которого есть представление о некоем обязательном уровне чистоты, порядка, образования, жить без которых просто нельзя, – вы можете сделать все, что угодно, он все равно быстро восстановит свой жизненный уровень. Вы можете разбить его в войне, ограбить, выселить с земель, на которых сотни лет жили его предки, искусственно разделить его между двумя разными государствами… как мы это сделали с немцами – все равно пройдет какой-то период времени и немцы будут жить лучше, чем русские… Как в XVIII веке немецкий крестьянин жил лучше русского, так это было и в XIX веке, и в ХХ в., и, скорее всего, будет… и в XXI веке» [57].
Мы здесь не можем разбирать по существу содержание каждого тезиса в той кампании русофобии, которая имела целью создание в сознании русских комплекса вины. Заметим лишь кратко, что тезис, будто «немецкий крестьянин жил и всегда будет жить лучше русского» ложен в своих фундаментальных основаниях, ибо у немецкого и у русского крестьянина различаются представления о благой жизни, а они входят в ядро мировоззренческой матрицы этноса.
Ведь крестьянское хозяйство в контексте разных культур формирует совершенно разные этнические типы. И.Л. Солоневич пишет: «Русский крестьянин и немецкий бауэр, конечно, похожи друг на друга: оба пашут, оба живут в деревне, оба являются землеробами. Но есть и разница.
Немецкий бауэр – это недоделанный помещик. У него в среднем 30–60 десятин земли, лучшей, чем в России, – земли, не знающей засух. У него просторный каменный дом – четыре-пять комнат, у него батраки, у него есть даже и фамильные гербы, имеющие многовековую давность. Исторически это было достигнуто путем выжимания всех малоземельных крестьян в эмиграцию: на Волгу и в САСШ, в Чили или на Балканы. Немецкий бауэр живет гордо и замкнуто, хищно и скучно. Он не накормит голодного и не протянет милостыни «несчастненькому». Я видел сцены, которые трудно забывать: летом 1945 года солдаты разгромленной армии Третьей Германской Империи расходились кто куда. Разбитые, оборванные, голодные, но все-таки очень хорошие солдаты когда-то очень сильной армии и для немцев все-таки своей армии. Еще за год до разгрома, еще вполне уверенные в победе, немцы считали свою армию цветом своего народа, своей национальной гордостью, своей опорой и надеждой. В мае 1945 года эта армия разбегалась, бросая оружие и свое обмундирование… С наступлением ночи переодетые в первые попавшиеся лохмотья остатки этой армии вылезали из своих убежищ и начинали побираться по деревням. Немецкий крестьянин в это время был более сыт, чем в мирные годы: города кормились в основном «аннексиями и контрибуциями», деньги не стоили ничего, товаров не было – и бауэр ел вовсю. Но своему разбитому солдату он не давал ничего.
В сибирских деревнях существовал обычай: за околицей деревни люди клали хлеб и пр. для беглецов с каторги… Там, в России, кормили преступников – здесь, в Германии, не давали куска хлеба героям. Бауэр и крестьянин – два совершенно разных экономических и психологических явления. Бауэр экономически – это то, что у нас в старое время называли «однодворец», мелкий помещик. Он не ищет никакой «Божьей Правды». Он совершенно безрелигиозен. Он по существу антисоциален» [58, с. 152–153].
Д.Е. Фурман запустил идею о том, что в Великой Отечественной войне «русские ограбили немцев», в 1991 г., когда состоялся «круглый стол» в «Вопросах философии». В дальнейшем эта тема развивалась и расширялась. Подключено было и искусство. К 60-й годовщине Победы на средства госбюджета был снят фильм «Полумгла» (режиссер А. Антонов, студия «Никола-фильм»). Сюжет – работа военнопленных немцев на стройке где-то на севере в 1944 г., их отношения с охраной и местными жителями. Был написан сценарий нормального психологического фильма, соответствующий достаточно хорошо изученной реальности жизни и работы пленных немцев в СССР в те годы. Но режиссеры переиначили и замысел, и содержание сценария и сотворили очередной черный миф, упакованный в кинематографическую форму.
Суть фильма теперь такова: «Коренной «демифологизации» подвергся, во-первых, главный герой, молодой советский лейтенант, откомандированный после тяжелого ранения не на фронт, куда он всеми правдами и неправдами порывался вернуться, а в глубокий тыл – руководить строительством. Этот образ, в сценарии вполне положительный, переосмыслен режиссеров в направлении… алкогольно-психопатическом. Теперь наш главный герой готов напиваться где угодно и когда угодно, после чего, очнувшись в соответствующем состоянии, хватается за пистолет и открывает пальбу по людям.
Но главное изменение было внесено в финал картины… На экран врывается мощная бронетехника, оттуда – безжалостные, как орки во «Властелине колец», русские солдаты во главе с назгулом – майором. И абсолютно безо всякой причины берут и расстреливают из автоматов всех немцев, с которыми зритель за полтора часа худо-бедно успел сродниться… На фестивали 2005 года – выборгский («Окно в Европу») и монреальский – студия «Никола-фильм» представила готовую картину о том, как русские «недочеловеки» перебили ни в чем не повинных немцев» [59].
Попытка сценаристов возбудить судебное дело успеха не имела – ведомство Швыдкого, которое финансировало фильм, мобилизовало крупные силы. Центральные СМИ заполнили статьи в поддержку «молодого талантливого режиссера». На просмотре фильма в Доме кино вообще было сказано, что это была «война между людоедами». На вопрос, из каких источников режиссер получил информацию о том, что в 1944 г. в глубоком тылу в СССР производились массовые расстрелы военнопленных немцев, ответ был таков: «Если капитан Ульман расстрелял в Чечне мирных жителей, то как вы можете отрицать расстрелы военнопленных немцев в 1944 г.?»
И это – один из множества эпизодов психологической войны против советского и постсоветского русского народа.
§ 5. Тема «вырождения» русского народа
Те, кто формировал доктрину психологической войны против России, взяли за основу самую примитивную мысль: якобы в течение многих веков у нас вследствие «отклонения от столбовой дороги цивилизации» не могло быть ни нравственности, ни интеллектуального развития, ни трудовой этики. Читаешь вроде бы нормальный текст на какую-то тему, а по нему разбросаны, как бы невзначай, например, утверждения, как об очевидном факте, о «двоемыслии, которое не десятилетия, а века душило в России искреннюю веру и искренние побуждения к добру и честной жизни» (доктор филологических наук Ю.В.Манн).
Вот Николай Петров, народный артист России, вспоминает героический август 1991 г., когда спасать Россию пришлось лично Ростроповичу: «Прекрасно понимаю, что заставило моего великого друга Мстислава Леопольдовича Ростроповича в том знаменитом августе написать завещание и прилететь в Москву. Какое-то очень острое ощущение, что не на кого страну оставить… Не оставлять же, в конце концов, мою страну вороватым чиновникам и бестолковым люмпенам» [60].
Вот критик Л.А. Аннинский жалеет неразумный русский народ: «Мы, русские люди, не можем переключиться на постиндустриальное общество… Мы – не народ работников… Мы не приспособлены для того типа жизни, в который человечество вошло в конце ХХ века и собирается жить в ХХI… Наше неумение отойти от края пропасти фатально… У нас агрессивный, непредсказуемый, шатающийся, чудовищно озлобленный народ… Мы невероятно много пьем» [61].
Как и в начале ХХ в., элитарная интеллигенция утверждает, разумеется, что вырождению подверглось именно «простонародье». В 1992 г. в демократическом (!) журнале в статье с подзаголовком «Крик души молодого литератора» М. Руденко пишет: «Интеллигенция, давно и страшно искупившая свою мифическую «вину перед народом», живет ныне «по правилу другой щеки», и все яснее становится, что не отъевшееся и обнаглевшее простонародье, а по-евангельски нищая интеллектуальная элита исполнит роль «народа-богоносца»:
Еще нас не раз распнут И скажут потом: «распад» (Иосиф Бродский)Хватило бы сил дотащить этот крест» [62].
Как должно быть стыдно русскому «отъевшемуся простонародью» за то, что пришлось молодым литераторам во главе с Бродским одним тащить крест народа-богоносца!
Идеологизированная русофобия маскировалась под науку, в ней широко применялась «генетическая» фразеология. Гуманитарии «доказывали», будто в результате революции, войн и репрессий произошло генетическое вырождение большинства населения СССР, и оно по своим «качествам» опустилось до уровня «человек биологический».
Видный социолог В. Шубкин дает в «Новом мире» такие определения: Человек биологический – «существо, озабоченное удовлетворением своих потребностей… речь идет о еде, одежде, жилище, воспроизводстве своего рода». Человек социальный – он «непрерывно, словно четки, перебирает варианты: это выгодно, это не выгодно… Если такой тип не нарушает какие-то нормы, то лишь потому, что боится наказания», у него «как видно, нет внутренних ограничений, можно сказать, что он лишен совести». Человек духовный – «это, если говорить кратко, по старому, человек с совестью. Иначе говоря, со способностью различать добро и зло».
Каково же, по выражению В. Шубкина, было «качество населяющей нашу страну популяции»? Удручающе низкое: «По существу, был ликвидирован человек социальный, поскольку любая самодеятельная общественная жизнь была запрещена… Человек перестал быть даже «общественным животным». Большинство людей было обречено на чисто биологическое существование… Человек биологический стал главным героем этого времени» [63].
Это поразительное для конца ХХ века мракобесие подхвачено следующим поколением гуманитариев. Эксперт Горбачев-фонда В. Соловей пишет в 2005 г.: «Хотя доля русских во всем населении страны уменьшилась не так уж драматически, составив в 1989 г. 50,6 %, качество «человеческого материала» не оставляло им шансов сохранить традиционную роль хранителя и краеугольного камня государства» [64, с. 172].
На антисоветской платформе легко сходятся «демократы» и «патриоты». Вот, в газете «Завтра» (2000, № 10) большая статья известного писателя Д. Балашова «Зюганов, побеждай». Начинается статья с такого образа Отечественной войны: «И затравленный, ограбленный, раскулаченный народ пошел умирать «за Родину, за Сталина».
Каково представление о народе у этого автора исторических романов! Он утверждает, что к 1941 г. русские были затравленным народом! Королев и Чкалов, Жуков и Василевский, Стаханов и Шолохов – порождение затравленного народа? Если так, то когда же русские были «незатравленными»? Скорее всего, Д. Балашов вообще не понимает, в чем смысл такого исторического проявления русской культуры, как Стаханов, – тут он остался на уровне «Британской энциклопедии», хоть и считается патриотом.
Слышал я от одного военного, разведчика, а после войны известного ученого, что главное отличие советского и немецкого солдата на фронте было в следующем. Когда у немцев убивали офицера, это производило довольно длительное замешательство, что в скоротечном бою часто решало исход дела. Когда убивали офицера у наших, тут же поднимался сержант и кричал: «Я командир, слушай мою команду». Убивали сержанта – поднимался с тем же криком рядовой. Большинство солдат обладали ответственностью, волей и готовностью быть командиром. Это значит, что народ именно не был затравленным, он был духовно свободным.
Второе утверждение – что народ был ограбленным? Кто его ограбил – Сталин? Куда делось награбленное? Каково было распределение доходов среди населения? До советской власти и после советской власти огромные средства изымались у подавляющего большинства населения, вывозились за рубеж и использовались на расточительное потребление ничтожного меньшинства. Казалось бы, именно это состояние надо назвать ограблением народа, а писатель применяет термин в совершенно обратном смысле.
Назвать же советский народ раскулаченным – вообще нелепость. И дело не только в реальных масштабах раскулачивания (было раскулачено 1,5 % советских семей – это много, но это все же не весь народ). Считать, что народом были именно кулаки, а 98,5 % «нераскулаченных» были не-народом – верх нелепости.
Таким образом, вся эта кампания била по одному из важных источников легитимности советского народа и условию его связности – самоуважению. В 90-е годы этот механизм соединения жителей России в народ был в значительной степени ослаблен.
§ 6. Миф о русском антисемитизме
Во время перестройки зазвучал новый важный мотив в теме «вины русских» – якобы присущий русской культуре антисемитизм. Эта тема была прелюдией к развитию еще более разрушительной для самосознания советского и русского народа темы «русского фашизма». Сама постановка этих двух тем в «повестку дня» означала важное обвинение русских в подлоге. Антисемитизм? Значит, действительно, не была Россия (и СССР) «семьей народов»! Не было в СССР никакого пролетарского интернационализма – как же хитро провели русские доверчивых западных пролетариев и левую интеллигенцию! Русский фашизм? Значит, какой всемирной мистификацией Сталина была вся эта Отечественная война якобы с фашизмом! Просто столкнулись два конкурирующих фашизма и, по выражению Е. Евтушенко, это была «война двух мусорных вихрей».
Обе эти темы, раздутые и российских и западных СМИ, не имели бы такого деструктивного эффекта, если бы из них прямо не вытекали оценки русским, даваемые Западом, который в 90-е годы и был утвержден как главный для русских этнизирующий иной. А на Западе антисемитизм и фашизм являются понятиями-символами почти религиозного уровня. Смысл их принципиально не подлежит рациональному определению, и никаких дебатов в отношении этого смысла и критериев отнесения людей к антисемитам и фашистам не допускается. Эти понятия – «черная метка» народам, которые ждут своей очереди на получение звания «народов-изгоев». Сама эта угроза до определенного момента действует на этническое самосознание разрушительным образом (хотя какая-то часть может и начать сплачиваться как субэтнос, превративший клеймо в знамя – «уж лучше грешным быть, чем грешным слыть»).
Диапазон кампании по обвинению русских в антисемитизме с самого начала был очень широк. В элитарном академическом журнале «Общественные науки и современность» некто Аб Мише (литератор из Израиля, родился и воспитывался в СССР) обвиняет в антисемитизме всю русскую культуру и даже делает Гоголя всемирным эталоном антисемитизма. Он пишет: «Гоголь бессмертен. И вездесущ. Глаголом антисемитским жегшие сердца людей, вот они, гоголи, каждому народу свои». Он перечисляет главных «гоголей» разных народов, в том числе: «в России – вождь декабризма Пестель, ничтожный Булгарин и великий Пушкин, Достоевский, И. Аксаков» [65].
Философ Д. Фурман представляет Россию и СССР, вплоть до прихода Горбачева, бастионом антисемитизма: «Прошлое евреев, начиная с падения Второго храма и кончая прекратившейся лишь с перестройкой официальной «борьбой с сионизмом» – это сплошная цепь преследований и унижений». Как видим, России отведено в этой «сплошной цепи» исключительное место. Чем же подтверждает Д. Фурман эту картину? Ничем. Он пишет: «Какого-то массового антисемитизма опросы не фиксируют (здесь наши данные совпадают с данными других аналогичных опросов). Но одно дело – реальность угрозы погрома или дискриминации и совсем иное дело – восприятие этой угрозы» [66].
Вот вам гибкость философа: на деле антисемитизма нет, но мы его изобретаем в нашем «восприятии» – и реальность не имеет значения.
В этой теме звучит многозначительная мысль в том, что христианство по сути своей есть антисемитизм и юдофобия. Соответственно, русские как православный народ содержат в своей культуре как бы «зародыш» Холокоста (уничтожения евреев нацистами). Такую общую установку дал один из основателей и президент Научно-просветительского центра «Холокост» историк М.Я. Гефтер в своей книге «Эхо Холокоста и русский еврейский вопрос» (1995). Звучит она так: «Холокост, взятый в своем философско-историческом и в экзистенциальном объеме, – это русская тема, это русский вопрос».
Итак, хотя евреев уничтожали в 40-х годах ХХ века немцы, а 3–4 века до этого все другие страны Запада, в «философско-историческом» плане виновна в этом Россия. При этом «дело Бейлиса» 1913 г. и «дело врачей» 1953 г. (оба дела без единой жертвы со стороны евреев) ставятся совершенно на одну доску с уничтожением 6 млн. евреев нацистами.
Упомянутая выше книга «Русская идея и евреи» посвящена русской идее, и в ней мысль о том, что именно русские виноваты в Холокосте, выражена буквально: «В недра мира было брошено семя злодейства. Ненависть к евреям, нарастающая в предреволюционной России, подожгла Германию, а затем и Россию. Мир – единое целое. Россия заплатила за жажду расправы над евреями ГУЛАГом».
Итак, именно в России – семя зла, Россия «подожгла Германию». Ясно, что своим тоталитарным обвинением авторы книги показывают, что они исторгли себя из русского народа, противопоставили себя ему полностью и непримиримо. Это не такая уж большая потеря, важнее тот яд, который они лили и льют в сознание русских, создавая у них комплекс вины[157]. В создании черного образа «русского антисемитизма» в старой, дореволюционной России важное место занимает представление всех ее общественных течений с начала ХХ века, за исключением потерпевших крах кадетов, как изначально антисемитских.
Это и правые (В.В. Шульгин), и христианские философы (Н. Бердяев), сменовеховцы и евразийцы, и, конечно, большевики. Под всем этим якобы лежит черносотенство и его предшественник – славянофильство. Светлым пятном в России в книге «Русская идея и евреи» представлены лишь «свеча Б.Пастернака, светившая и в этой ночи, отщепенство и дезертирство со всех фронтов Юрия Живаго». Чтобы заслужить одобрение, надо быть отщепенцем русского народа и «дезертиром со всех фронтов».
У авторов этой академической книги выходит, что фашизм – прямое следствие русского антисемитизма. Читаем, что черносотенство – «расистский национализм протонацистского толка, вышедший на поверхность политической жизни России в самом начале ХХ века». И далее: «Не вызывает сомнения, что русское черносотенство удобрило почву, вскормившую гитлеризм». Надо же, у них это не вызывает сомнения! Между тем исследования германского нацизма как раз показывают принципиальные отличия его антисемитизма от тех форм юдофобии, которые существовали в России (см. [50]).
Чтобы представить Россию виновницей Холокоста, идеологи реформы внедряли в сознание два почти взаимоисключающих мифа – о глубинном антисемитизме царской России и одновременно о государственном антисемитизме в СССР. То есть стремились подвести читателя к выводу, что антисемитизм – присущее России сущностное качество.
А.Д. Сахаров в своем «Меморандуме» 1968 г. пишет о «свойственном сталинской бюрократии и НКВД (и Сталину лично) мещанско-зоологическом антисемитизме», но считает его неизбывной чертой советского государства: «Разве не позор очередной рецидив антисемитизма в кадровой политике (впрочем в высшей бюрократической элите нашего государства дух мещанского антисемитизма никогда полностью не выветривался после 30-х годов)?» [38, с. 33].
Р. Рывкина, отрекомендованная как «известный социолог, профессор, доктор экономических наук» из РАН, близкий сотрудник академика Т.И. Заславской, в книге «Евреи в постсоветской России: кто они?» (1996) так и пишет: «Антисемитизм в России (речь идет об антисемитизме политических группировок) инвариантен всем ее политическим режимам: он сохраняется независимо от того, какая именно власть устанавливается в стране» [68].
Оснований для такого вывода в книге Рывкиной не приводится. Напротив, мало-мальски строгие исследования самих еврейских социологов показывают, что антисемитизма в СССР не было. Доля евреев в самых элитарных и влиятельных профессиях была такая, что сионисты начала XX века и мечтать не могли.
Более того, уровень антисемитизма даже в 90-е годы в России, согласно ряду международных исследований, был ниже, чем во всех изученных «цивилизованных» странах. Даже в «лучшем из миров» – США – был обнаружен высокий уровень антисемитизма. По данным 1993 г., 35–40 млн. взрослых жителей США «бесспорно являются антисемитами». Но антиамериканских настроений в среде лидеров российского еврейства и в помине нет.
Надо подчеркнуть, что 40 млн. убежденных антисемитов насчитывалось в США в 1993 г., в момент экономического процветания и радости от победы в холодной войне. Как только в США возникает хоть едва заметный кризис, к которому каким-то боком можно пристегнуть евреев, положение резко меняется – антисемитизм достигает белого каления[158]. В России же антисемитизма не находят в условиях экономической катастрофы, когда люди дошли до края отчаяния – при том, что к этой катастрофе вела череда министров экономики – евреев.
Таким образом, в реальной «системе координат», то есть в сравнении с общемировой реальностью, антисемитизма в России исследования не обнаруживают. Чем же подтверждают обвинение в «государственном» антисемитизме? Рывкина – доктор из Академии наук – пишет, что в СССР «как в явной, так (чаще) и в скрытой форме, проводилась политика государственного антисемитизма, принимавшая преступные формы, вплоть до попыток депортации». То есть она обвиняет государство даже не в намерениях, а прямо в попытках депортации.
Казалось бы, человек, претендующий на титул ученого, должен был бы при таком тяжелом обвинении привести надежно установленные факты, документы и т. д. Ничего! А ведь в годы перестройки перерыли все архивы и подзудили людей на самые фантастические «свидетельские показания». Ну хоть что-то могла Рывкина притянуть к такому обвинению в своей главе. Видно, ничего не нашла. Даже ни одной серьезной литературной ссылки – кроме какой-то публикации из Израиля никак не научного характера (это видно по реквизитам публикации).
Рациональных оснований для обвинения России в антисемитизме нет, речь идет об идеологической кампании как операции в психологической войне. Рывкина в своей книге дает, по ее словам, «надежную социологическую информацию». Это, конечно, преувеличение – в книге нет даже данных о распределении евреев в нынешней России по уровню доходов. Но есть качественный вывод: «Позитивная тенденция постсоветской эпохи, расширившая возможности для самореализации евреев, – развитие рыночной экономики… Реально сегодня, как и в эпоху революции 1917 года, еврейская интеллигенция снова являет собой один из наиболее активных отрядов реформаторов – банкиров, руководителей новых общественных организаций, работников прессы и др.». Таким образом, и в советское время, и сейчас евреи в России не испытывали никакой дискриминации в социально-экономическом плане.
Каково же было положение евреев в СССР и РФ в культурной сфере? По данным Рывкиной, 68 % евреев имели высшее образование, а включая лиц с незаконченным высшим – 76 %. Если же прибавить лиц, окончивших техникум, то доля евреев с высоким уровнем образования достигает 90 %. То есть практически все они принадлежали к интеллигенции, которая приобрела черты сословия. В 1982 г. число докторов наук среди евреев было, в расчете на 1000 человек, в 17,5 раза больше, чем среди русских, в 29 раз больше, чем среди украинцев, и в 37,6 раза больше, чем среди белорусов. И в этой сфере антисемитизм в реальных признаках не проявился.
Сошлюсь на личный опыт. На симпозиуме с учеными США в 1994 г. одна социолог, в прошлом секретарь партбюро моего института, жаловалась американцам, – почти как инспекторам – на дискриминацию евреев в советских вузах. Те кивали головами – зная о проценте евреев с высшим образованием и учеными степенями в СССР. Я спросил докладчика и тех, кто ей кивал: какая, по их мнению, должна была бы быть «нормальная» доля евреев с высшим образованием, если бы не было «дискриминации и антисемитизма», и какой должна быть доля других народов? На вопрос не только не ответили, но и посчитали как бы неприличным. А ведь вопрос естественный. Если уж от нас скрывают, что такое антисемитизм, то скажите хотя бы, что не считается антисемитизмом! Кажется немыслимым – сообщать (как в книге Рывкиной), что 76 % евреев имеют высшее образование, и в то же время доказывать наличие государственного антисемитизма ограничениями на прием евреев в вузы.
Оборотной стороной обвинений русских в антисемитизме стали во время перестройки и реформы проявления, со стороны влиятельных еврейских кругов, крайней и даже провокационной русофобии. Вспомните: перед выборами президента в 1996 г., ввиду неопределенности их исхода, ведущие на тот момент банкиры в открытом письме призвали к компромиссу, который должен был предотвратить якобы неизбежную гражданскую войну. Банкиры – почти все евреи – со своей стороны пообещали: «Оплевывание исторического пути России и ее святынь должно быть прекращено».
Так зачем же принадлежащие им СМИ оплевывали святыни России? Это ведь не шутка. И кто собирался составлять список «помилованных» святынь? Можно сказать, что тезис насчет прекращения «оплевывания святынь» – всего лишь предвыборная патетика 1996 года. Ведь прошли выборы, голоса подсчитали, как надо, и телевидение Гусинского спокойно продолжило оплевывание. Но вот конец 1998 г. – один из тех банкиров, А. Смоленский, признает: «Все последние годы мы воспринимали свою страну, с одной стороны, через отрицание ее ценностей, а с другой, так сказать, через желудок».
В психологической войне против России главным было, конечно, «отрицание ее ценностей», а в экономической войне – ее восприятие «так сказать, через желудок», как пищи. Большой материал для размышлений об «отрицании ценностей» дает антология стихов еврейских поэтов о России [69].
Еврейский поэт Самуил Мороз сказал: «Мы пасынки слепой России / И мы ее поводыри». В чем же вина «слепой России», почему любовь к ней так надрывно переплетена с ненавистью? Когда охватываешь множество искренних упреков, то выходит, что ее вина в том, что она, несмотря на все усилия поводырей, и в облике СССР осталась самой собою, поводыри оказались ни с чем:
Мы дали вам Христа – себе в ущерб. Мы дали Маркса вам – себе на горе. (Давид Маркиш)Сила художественного слова велика. Люди каждого народа знают о его бедах, болезнях, исторических ошибках, учатся на них, но держат их в отведенном для этого месте души. Нельзя же позволить этой части сожрать целое. Но в еврейских стихах о России очень сильна тяга к тому, чтобы образ болезней России полностью ее сожрал, чтобы он стал оружием массового уничтожения в психологической войне. Вот «вечный» образ России:
И та же пляска обагренных душ — Юродивых, насильников, кликуш, Святых чертей, пророков бесноватых, Пустых колоссов, странников горбатых, Уставивших глазницы в никуда… Россия, долго ль будешь виновата? (Лия Владимирова)Сегодня одно из главных обвинений – сохранение советской Россией ее тысячелетней «рабской души» («наркоз покорности царям и мавзолеям»).
Был прав поэт: не взять умом, Не заглянуть в глаза Стране, помеченной клеймом, И знать ее – нельзя. (Юрий Колкер)Причем отрицание советского человека является фундаментальным, это отрицание квинтэссенции русского человека. В книге «Русская идея и евреи» речь как раз идет о том, что этот человек вовсе не связан с политическим режимом, он в разных идеологических оболочках вырастает «из недр», это нечто большее, чем национальность. Говорится, что даже через десять лет перестройки, после развала СССР, «на физиономии советского человека мы обнаруживаем национал-патриотическое выражение. Оно, конечно, привычнее и кондовее, но речь идет… о восстановлении в новом качестве вида «хомо советикус», сколько бы этот «хомо» ни клял революцию, Ленина, большевиков и евреев».
И в художественной форме проходит тема антисемитизма и погромов, тема, оживленная в СССР как идеологический артефакт, этнизирующий советских и российских евреев:
Когда из глубин поднимается страх, Когда Увертюрой Двенадцатого года Ревет в репродукторах голос народа, ………………………… Ведь жизни и смерти лежат на весах, Ведь жаждет погрома не горсточка сброда, А родины-мачехи грозная рать… (Нина Воронель)Когда советская «грозная рать» жаждала погрома? Как это себе представляет Нина Воронель – «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход»? Почему увертюра Чайковского и образ Отечественной войны 1812 г. сделаны символом антисемитизма? Ведь антисемитизм – специфическая интеллектуальная конструкция, привязка к ней 1812 года просто нелепа. При этом тема погромов поднимается даже самыми знаменитыми поэтами в момент, когда еврейская элита буквально встала у рычагов власти и никакой возможности даже символических протестов не было. В большой поэме Александр Межиров так объясняет свои мрачные пророчества:
Потому что по Москве Уже разгуливает свастика На казенном рукаве. ……………….. И кощунственно молчат Президенты наши оба. И в молчанье – христиане…С этой темой государственного антисемитизма и даже «казенного» фашизма легко сопрягается ненависть к победе над фашизмом! Уже одна эта шизофреническая связка разрушала сознание русской интеллигенции, которая в первую очередь находилась в поле воздействия этой кампании, а от нее болезненные разрывы шли и по ткани массового сознания. В. Гроссман сказал, что дело нашей войны было неправое. Он писатель, но на этом пути даже идеологи с академическими регалиями идут на подтасовки. Так, поднятый на пьедестал историк и философ М. Гефтер пишет: об «ответственности и пагубности военного союза Гитлера и Сталина, из которого органически проистекали… возможности человекоистребления, заявленные Холокостом».
Гефтер подменяет понятие «пакта о ненападении» понятием военного союза. Это – идеологическая диверсия, способ усугубить в русских комплекс вины. При этом историка нисколько не смущает, что пакты о ненападении с Гитлером Англия и Франция подписали в 1938 г. – на год раньше СССР. У него и в мыслях нет сказать, что из тех пактов «органически» вытекал Холокост – только из пакта с СССР. О том, что все подобные историки самым чудесным образом «забыли» о Мюнхенских соглашениях, и говорить не приходится.
Кампания по созданию гипертрофированного образа русского антисемитизма в общественном сознании и России, и Запада развертывалась именно в тот момент, когда происходило отстранение большинства граждан России от участия во владении и пользовании национальным богатством. При этом возникало расслоение не только в социальной плоскости, но и в этнической – евреи оказывались привилегированной этнической группой.
Этому явлению Рывкина дает, как она говорит, «простое и реалистическое объяснение» – евреи стали владельцами огромной доли собственности просто потому, что они «конкурентоспособны для занятия мест в новых и наиболее сложных сферах экономики – таких, как финансы, внешние экономические отношения, рынок ценных бумаг и др.». Это, конечно, никакое не объяснение – «евреи конкурентоспособны потому, что конкурентоспособны». Но важен сам факт – в стране возникло острое «этносоциальное неравенство». При этом сама Рывкина, как социолог, признает, что этносоциальное неравенство – то есть различие социального положения в зависимости от этнической принадлежности – всегда есть предпосылка для недоверия и боязни (фобии). Более того, она называет его главной причиной напряженности в межнациональных отношениях.
Как пишет Рывкина, «подавляющее большинство респондентов [евреев] работают на должностях специалистов». Очевидно, что в ходе приватизации, когда практически вся государственная собственность была присвоена «прослойкой специалистов», этносоциальное неравенство резко обострилось. Более того, половина евреев сегодня работает в «гуманитарной сфере». Поскольку деньги и манипуляция сознанием стали в России главным средством господства и власти, то бригада «мастеров денежных дел» и специалистов-гуманитариев предстает перед русскими как господствующее меньшинство. И оно приобрело ярко выраженные этнические черты.
Этот раскол сопровождался культурным и даже мировоззренческим расхождением: Влиятельная часть евреев декларировала себя как принципиальных противников не только традиционного для России типа хозяйства, а и всего жизнеустройства. Фурман, обвиняя русских в антисемитизме, представляет евреев как наиболее «прозападную» этническую группу в России. На основании опроса 1991 г. он пишет: «С тем, что на Западе создано лучшее из возможных обществ и нам надо следовать за Западом, согласились 13,2 % русских и 52,5 % евреев» [66]. Но если большинство евреев считают благом то, что для русских бедствие, – не это ли и есть причина напряженности, вполне объективная предпосылка юдофобии? Ведь юдофобия в переводе на русский означает «страх перед иудеем».
По данным Рывкиной, в 1995 г. из числа тех, кто собирался идти на выборы, 71 % евреев собирались голосовать за партии «радикальных демократов» – Гайдара, Явлинского и Б. Федорова (а если прибавить «народный капитализм Св. Федорова, то доля сторонников радикальной рыночной реформы среди евреев достигала 81 %). А за КПРФ собирались голосовать лишь 3 % евреев. Это очевидное противопоставление меньшинства массе, возникновение «двухполюсного мира».
Удивляться приходится тому, что эти предпосылки антисемитизма не превратились в активную юдофобию. И причина этой устойчивости заключается как раз в тех ценностях русской культуры, которые интенсивно разрушаются усилиями «специалистов-гуманитариев» из еврейской элитарной интеллигенции.
§ 7. Разрушение связующей силы государства
Как говорилось выше, одной из главных сил созидания народа является государство. Оно же служит и механизмом, непрерывно воспроизводящим народ. Война, целью которой был демонтаж советского народа, велась на обоих этих фронтах.
И здесь главным объектом атаки стал русский народ как ядро советского народа. Та ненависть, с которой наносились удары по этническим связям русского народа, во многом и определялась его государственным чувством. А.С. Панарин объясняет это так: «Почему… объектом агрессии выступает в первую очередь русский народ. Здесь мы видим столь характерное для новейшей эпохи превращение идеологических и социально-политических категорий в расово-антропологические. Как возникла новая логическая цепочка либеральной пропаганды: от антикоммунизма – к критике государственного начала вообще, а от нее – к «антропологической» критике русского народа, к расистской русофобии? Русский народ в самом деле является одним из самых государственнических, или «этатистских», в мире. Причем данная черта является не просто одной из его эмпирических характеристик, отражающих ситуацию де-факто, но принадлежит к его сакральной антропологии как народа-богоносца, затрагивает ядро его ценностной системы» [6, с. 207].
В советское время эта «сакральная антропология» преломилась через создание особого идеократического советского государства, сакрализованный характер которого подчеркивал Н.А. Бердяев. Сплачивающая сила советского государства была столь высокой, что стала фактором мировой политики.
И.К. Лавровский писал, рассуждая уже о кризисе СССР: «Почему США и Британия, которые в 1945 году были политически и экономически сильны как никто и никогда, так боялись разоренного войной Советского Союза вплоть до организации «санитарных кордонов», «витрин процветания», коренного изменения внутренней социальной политики? Потому что лояльность их населения и населения колоний коммунистическим собратьям угрожала пересилить лояльность собственным буржуазным правительствам» [45].
Важнейшим механизмом поддержания такой сплоченности была коммунистическая партия – и как носитель государственной идеологии, и как исключительно важная для СССР управляющая система, контролирующая через «горизонтальные» всепроникающие связи этнические элиты союзных республик. И.К. Лавровский добавляет: «Позволив добить объединявшую страну квазиимперскую идеологию коммунизма, КПСС фактически дала добро на развал СССР».
Именно на идеологию и на партию и были направлены главные удары перестройки. В 1990–1991 г. уже было ясно, что разрушение этих «связывающих» механизмов нанесет непоправимый ущерб связности страны и народа. Об этом говорили на совещаниях, и невозможно принять оправдания, которые иногда слышались после развала СССР со стороны обществоведов.
Видный философ Э.Ю. Соловьев в 1992 г. журил ельцинскую команду, имитируя наивность: «Сегодня смешно спрашивать, разумен или неразумен слом государственной машины в перспективе формирования правового государства. Слом произошел. И для того, чтобы он совершился, отнюдь не требовалось «все сломать»… Достаточно было поставить под запрет (т. е. политически ликвидировать) правящую коммунистическую партию. То, что она заслужила ликвидацию, не вызывает сомнения. Но не менее очевидно, что государственно-административных последствий такой меры никто в полном объеме не предвидел.
В стране, где все управленческие структуры приводились в движение не материальным интересом и даже не чиновным честолюбием, а страхом перед партийным взысканием, дискредитация, обессиление, а затем запрет правящей партии должны были привести к полной деструкции власти. Сегодня все выглядит так, словно из политического тела выдернули нервную систему. Есть головной мозг, есть спинной мозг, есть живот и конечности, а никакие сигналы (ни указы сверху, ни слезные жалобы снизу) никуда не поступают. С горечью приходится констатировать, что сегодня – после внушительного рывка к правовой идее в августе 1991 г. – мы отстоим от реальности правового государства дальше, чем в 1985 г.» [70].
Такое заметание следов не делает чести философу. Как может «заслужить ликвидацию» (причем без сомнений) система, которую сам же он уподобляет нервной системе организма! Почему же смешно спрашивать – разумно ли было выдергивать нервную систему из организма, наблюдая («с горечью») за его агонией и гибелью? Последствия этой меры предвидели многие – и в прошлом, и в момент перестройки – и предупреждали о них. Подобные Э.Ю. Соловьеву философы своими объяснениями мешают следующим поколениям даже извлечь уроки из трагической истории.
Разрушение государства производилось под флагом демократизации посредством радикального перехода от советского механизма выборов («плебисцитарного» типа) к многопартийным выборам. С разрушительным характером подобной «вестернизации» представительной власти на опыте столкнулись многие государства Азии и Африки в ходе модернизации их политических систем (см. [71]). Одно из главных следствий такой демократизации – быстрое и резкое размежевание общества по этническим признакам, вплоть до вспышек межэтнического насилия и гражданских войн (см. гл. 7).
Этот фактор стал действовать в СССР, а затем в РФ. Так, в Конституции Республики Коми, сказано, что «коми народ – источник государственности Республики Коми». Вот результат: «На выборах Главы республики в 1994 г. электорат фактически раскололся по национальному признаку в отношении к двум кандидатам на этот пост: большинство коми накануне выборов собиралось голосовать за предсовмина В. Худяева (коми по национальности), а большинство русских – за спикера парламента Ю. Спиридонова (русского по национальности)» [72]. И это при том, что Республика Коми с точки зрения межэтнических отношений является благополучным регионом.
Известно, что многопартийные выборы могут вовсе не быть демократическими. Например, многие западные социологи классифицируют выборы, которые проходили в РФ в 90-е годы, как «свободные, но несправедливые» (имели место неравные условия в доступе к СМИ и финансовым ресурсам, несправедливое разрешение избирательных споров и т. д.). Положение о выборах, введенное после октября 1993 г., было разработано группой либеральных экспертов под руководством В. Шейниса. На основании этого документа был принят и рамочный закон 1994 г. Исход выборов по этому закону во многом стали определять деньги[159].
Так были созданы условия для огромной манипуляции на выборах 1996 г., которые вновь привели к власти Ельцина. По формулировке Европейского института СМИ, та кампания была проведена «резко, грубо и односторонне». Главную роль в этих выборах, как мягко выражаются социологи, сыграли «неформальные институты». Эти самые «неформальные институты» и захватили власть в России после ликвидации советской системы. Надо подчеркнуть, что неформальные институты гражданского общества – мафия и автократические клики – более опасны для демократии, чем «пережитки» традиционного общества (кумовство и «блат»).
В обзоре западной литературы, посвященной процессу демократизации в постсоветской России, дается такое резюме многих работ: «Непреднамеренным последствием демократизации оказалось замещение государства различными агентами (часть из которых не без оснований претендовала на то, чтобы выступать от его имени). Это повлекло за собой выдвижение на передний план неформальных институтов и усиление произвола власти в ущерб верховенству права. Справедливость данного тезиса иллюстрируют многочисленные примеры фрагментации (как «горизонтальной», так и «вертикальной») российского государства в 1990-е годы, в т. ч. «захват государства» экономическими группами интересов, спонтанная передача полномочий Центра регионам, зачастую управляемых на манер феодальных вотчин… обеспечение порядка силами криминальных «крыш» [73].
Криминализация политики, принимающая к тому же этническую окраску, загнала политическую систему РФ в порочный круг, из которого уже очень трудно вырваться.
Вернемся к перестройке. Интенсивная психологическая кампания была направлена на подрыв авторитета, разрушение легитимности государства вообще, что разрушало целый пучок связей, соединяющих советский народ (как гражданскую нацию) общей лояльностью людей к государству. Вторая, организационно-политическая кампания была направлена на подрыв самого государства как системы власти и управления. Правящая верхушка – сначала при Горбачеве, потом при Ельцине – производила демонтаж государства и его отказ от главных функций по воспроизводству народа. Это были функции поддержания, развития и соединения воедино всех институциональных матриц, на которых стояла страна и жизнеустройство народа – хозяйства, безопасности, ЖКХ, школы и здравоохранения и пр.
Легитимность всех систем государства СССР, а затем РФ, подрывалась сначала средствами пропаганды, а затем «порчей» самих систем. В массовом сознании именно «кризис власти и правления» представляется главной угрозой для России и народа – так считают 35 % опрошенных в 11 регионов России. Вторая по значимости угроза (31 %) – «потеря российским обществом смысловых координат своего развития», третья (30 %) – «гегемонистская политика США и их стремление к мировому господству» (30 %). При этом в массовом сознании устойчиво определились и социальные субъекты, «виновные» в этом положении: чиновники-бюрократы (54 %, что по классификации социологов считается всеобщим социальным явлением), нынешняя власть (49 %, массовое явление, переходящее в разряд всеобщего), уголовный мир, криминалитет (47 %, массовое явление, переходящее в разряд всеобщего), олигархи (40 %, массовое социальное явление), демократы (18 %, устойчивое социальное явление, приближающееся к разряду массового) [74].
Авторитет, а значит, и сплачивающая народ роль государства, резко ослабли вследствие того, что в массовом сознании укрепилась мысль, что государство неспособно защитить население от главных угроз. Согласно опросам, государство охраняет и обеспечивает конституционные права граждан: в Москве – 17 %, в Самаре – 8 % и во Владикавказе – 5 % (у русских во Владикавказе – 3 %).
Можно поэтапно проследить за разрушением одной из главных систем государства – армии. Еще в 1988–1989 гг. она была институтом, который пользовался очень высоким доверием граждан (70–80 %). Но уже в 1993 г. от службы уклонилось 80 % юношей призывного возраста, укомплектованность армии и флота упала до 53 %. В осенний призыв 1994 г. Сухопутные войска получили только 9 % необходимого числа призывников [75].
В конкретно-исторических условиях России конца ХХ в. такой уход государства от выполнения его обязанностей означал моментальный обвал страны в тяжелейшую разруху. Подрыв легитимности государства средствами психологической войны и утрата им авторитета вследствие дезертирства со своего поста соединились, усиливая друг друга. Это во многом предопределило и глубину бедствия страны, и степень распада народа. Подчеркнем, что самый сильный удар при этом был нанесен по русскому народу как государствообразующему, по народу-ядру России.
Вот вывод социологов (2004 г.): «В период 1993–1997 гг. все параметры гражданской идентификации теряли силу вследствие отчуждения от государственных институтов и недоверия к властным структурам. В настоящее время высокий рейтинг Президента можно рассматривать как сугубо символический, поскольку доверие к гаранту Конституции и законности не сопровождается уважительным отношением к государственным институтам власти: Думе, Правительству, органам правопорядка» [22].
Вспомним основные операции информационно-психологической войны на этом фронте.
На первом этапе перестройки, когда команда Горбачева вела подрыв советской государственности под знаменем марксизма-ленинизма и лозунгом «Больше социализма!», был мобилизован антигосударственный пафос марксизма. На арену выпустили энергичную клику обществоведов-марксистов, которые получили трибуну для идеологической кампании против государства как формы организации общества. Эту кампанию можно с полным правом назвать оголтелой – государство было представлено как коллективный враг народа, причем враг принципиальный, непримиримый.
В разных обрамлениях тиражировались высказывания Маркса о государстве как «паразитическом наросте»: «Централизованная государственная машина, которая своими вездесущими и многосложными военными, бюрократическими и судебными органами опутывает (обвивает), как удав, живое гражданское общество, была впервые создана в эпоху абсолютной монархии… Этот паразитический нарост на гражданском обществе, выдающий себя за его идеального двойника… Все революции только усовершенствовали эту государственную машину, вместо того чтобы сбросить с себя этот мертвящий кошмар… Коммуна была революцией не против той или иной формы государственной власти – легитимистской, конституционной, республиканской или императорской. Она была революцией против самого государства, этого сверхъестественного выкидыша общества» [76, с. 543–546].
В конце 80-х годов выпускались целые книги с перепевами этих идей Маркса, причем они прямо распространялись и на советское государство. Подкреплением этих идей служил и присущий марксизму натурализм, который, уподобляя общество природной системе, подчиняющейся «объективным законам естественного развития», сводил на нет созидающую и организующую роль государства. Энгельс писал: «Столкновения бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе» [77, с. 306].
В СМИ, которые находились под тотальным контролем тогдашней верхушки КПСС, всякая лояльность государству трактовалась как признак архаичного («совкового») сознания или приверженность «консерватизму». Была изобретена сильная художественная метафора – двадцатилетний период советского государства перед перестройкой был назван застоем. Д. Алексеев пишет: «В годы перестройки советский человек как бы потерял личный контроль над действительностью своей жизни – над настоящим и прошлым. Огромным успехом в формировании «нового зрения» в СССР была, например, прививка политического термина «застой», которым советское руководство, а потом и все общество стали характеризовать свое недавнее прошлое. Тем самым замечательно подтвердилась идея Фрейда о том, что прошлое формируется из будущего… новая антикоммунистическая модель будущего породила мазохистское отношение к прошлому» [78].
Патриотические чувства вообще приравнивались к мракобесию. И речь шла не о примитивном корыстном космополитизме тех, по словам Пушкина, «для коих все равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить все русское – были бы только сыты». Людям навязывалась философская установка в отношении своего государства. Писатель-демократ А. Адамович в марте 1989 г. на открытии в Москве международного научного клуба даже воззвал к иностранным ученым, прося у них помощи против советского государства (это – депутат Верховного Совета СССР!).
Николай Петров, преуспевающий музыкант, писал: «Когда-то, лет тридцать назад, в начале артистической карьеры, мне очень нравилось ощущать себя эдаким гражданином мира, для которого качество рояля и реакция зрителей на твою игру, в какой бы точке планеты это ни происходило, были куда важней пресловутых березок и осточертевшей трескотни о «советском» патриотизме. Во время чемпионатов мира по хоккею я с каким-то мазохистским удовольствием болел за шведов и канадцев» [60].
Были мобилизованы литературные ресурсы. Множество привычных произведений вдруг сумели истолковать так, что все ахнули. В них же зашифрованы идеи отрицания власти и государства! В таком ключе начали снимать фильмы, ставить пьесы. Заумную сказку Е. Шварца «Дракон» до сих пор эксплуатируют – недели не пройдет, чтобы не услышать какую-нибудь туманную фразу из кинофильма. А ведь в этом фильме антигосударственная идея доведена до гротеска: убивший дракона власти сам неизбежно становится драконом![160]
Красноречивыми были сочетания установок, присущих радикальным антисоветским и антигосударственным движениям. Это в большинстве своем были люди, не верящие в Бога, но и не атеисты, а приверженцы оккультных верований. Для них был характерен эгоистический индивидуализм и отказ от патриотизма. В отчете по исследованию религиозных установок населения России в 1990–1992 гг. сказано: «Верящие в сверхъестеcтвенные силы, оккультисты – основная мировоззренческая социальная база борцов с коммунистическим государством… Наибольшее отсутствие социальной ответственности демонстрируют «верящие не в Бога, а в сверхъестественные силы» и индифферентные. В целом комплекс их идейных установок можно охарактеризовать не только как антиэтатизм, но и как асоциальность» [79].
В своем походе против государства антисоветские интеллектуалы легитимировали, а потом и опоэтизировали преступный мир. Он всегда играет большую роль в сломах жизнеустройства. Распад – его питательная среда. Художественная интеллигенция сыграла важную роль в снятии неприязни советского человека к вору, в разрушении ключевого культурного стереотипа, связывающего людей в народ. В этой кампании, одном из множества эпизодов программы демонтажа народа, был поврежден важный элемент центральной мировоззренческой матрицы.
Для любого народа преступный мир – это «программный вирус», который стремится ослабить и разорвать все связи, объединяющие общество, и перепрограммировать атомизированных индивидов на своей матрице, сделать их общностью изгоев народа. Умудренный жизнью и прошедший через десятилетнее заключение в советских тюрьмах и лагерях В.В. Шульгин написал в своей книге-исповеди «Опыт Ленина» (1958): «Из своего тюремного опыта я вынес заключение, что «воры» (так бандиты сами себя называют) – это партия, не партия, но некий организованный союз, или даже сословие…. Это опасные люди; в некоторых смыслах они люди отборные… Существование этой силы, враждебной всякой власти и всякому созиданию, для меня несомненно. От меня ускользает ее удельный вес, но представляется она мне иногда грозной. Мне кажется, что где дрогнет, при каких-нибудь обстоятельствах, Аппарат принуждения, там сейчас же жизнью овладеют бандиты. Ведь они единственные, что объединены, остальные, как песок, разрознены. И можно себе представить, что наделают эти объединенные «воры», пока честные объединяются» [80].
Понятно, что сильнее всего подрывают сплачивающую функцию государства преступные действия самих правителей или хорошо сфабрикованный миф о таких действиях. Такие мифы фабриковались во времена Брежнева и были очень эффективными, уже во время перестройки был сфабрикован миф, дискредитирующий одного из влиятельных деятелей КПСС Романова (в этой акции, видимо, уже участвовало и новое руководство ЦК КПСС)[161].
Начиная с 1992 г. сведения о коррупции и активных преступлениях деятелей высших эшелонов власти хлынули потоком. Публиковались документы и даже их факсимильные изображения, изобличающие преступников – никаких последствий.
Высшие должностные лица – председатель высшей палаты Парламента, министры, один за другим Генеральные прокуроры, министр юстиции, другие чиновники высшего ранга становились обвиняемыми по уголовным делам – и выходили сухими из воды! О первом заместителе министра финансов А. Вавилове в прессе писали так: «По числу уголовных дел, в которых фигурирует Вавилов, его давно пора заносить в книгу рекордов Гиннесса. Причем по двум разделам сразу: все обвинения против Вавилова – даже самые доказательные, подкрепленные тоннами документов, – до суда не доходят. Они исчезают на глазах, словно разбиваются о какую-то невидимую колдовскую стену… По оценке антикоррупционной комиссии Госдумы, ущерб, нанесенный государству этим человеком, переваливает за 2 миллиарда долларов». Вавилову это не помешало, он стал «олигархом», а потом еще и сенатором – членом Совета Федерации.
Счетная палата опубликовала результаты проверки законности приватизации 1992–2003 гг. Это документ показывает, как коррумпированное правительство погубило народное хозяйство. Судя по всему, за ничтожные взятки в сравнении с ценностью погубленного хозяйства. Но это преступление политической верхушки не имеет никаких юридических последствий. Психологические последствия этого едва ли не важнее экономических.
Особенно сильный удар по авторитету государства наносят преступные действия, воспринимаемые как национальная измена. С 1991 г. именно так уже и трактовались в массовом сознании дела правящей верхушки – Горбачева, Яковлева и Шеварднадзе. Основанием для этого были прежде всего объективные результаты их деятельности. Было и много мелких фактов, которые подкрепляли это мнение[162].
А во время тяжелой войны в Чечне в 1994 г. выяснилось, что перед этим чеченским «сепаратистам» было передано из арсеналов Министерства обороны РФ количество вооружения, в том числе тяжелого, достаточного для снаряжения стотысячной армии.
Все это обрывало невидимые нити, связывающие граждан лояльностью к государству.
§ 8. Разрушение мира символов
Большой кампанией психологической войны стало разрушение мира символов, служивших общей опорой национального самосознания. Большая часть этих символов прямо касалась государства и его институтов (например, армии).
Мир символов упорядочивает историю народа и страны, связывает в нашей коллективной жизни прошлое, настоящее и будущее. В отношении прошлого символы создают нашу общую память, благодаря которой мы становимся народом. В отношении будущего символы также соединяют нас в народ, указывая, куда следовало бы стремиться и чего следовало бы опасаться. Через них мы ощущаем нашу связь с предками и потомками, что и позволяет человеку принять мысль о своей личной смерти.
Во время перестройки идеологи перешли от «молекулярного» разъедания мира символов, который вели «шестидесятники», к его открытому штурму в операциях психологической войны. Интеллигенты-западники даже бравировали своим бесстрашием в манипуляции с символами, в солидных журналах прошел поток глумливых публикаций. Жизнь без символов, без опоры, в пустоте стала выдаваться за образец. Вот, популярный в годы перестройки философ Г. Померанц пишет в «Независимой газете»: «Что же оказалось нужным? Опыт жизни без почвы под ногами, без социальной, национальной, церковной опоры. Сейчас вся Россия живет так, как я жил десятки лет: во внешней заброшенности, во внешнем ничтожестве, вися в воздухе… И людям стало интересно читать, как жить без почвы, держась ни на чем» [81]. Жизнь «человека из подполья», без почвы, навязывалась всей России.
Хорошо известно, например, что Красная площадь – один из больших и сложных символов, выражающих космогонические (хорологические) представления русского народа об устройстве мира и России. На поверхности лежит и ее символический смысл, олицетворяющий связь поколений. Вот что пишет французский философ С. Московичи: «Красная площадь в Москве – одна из самых впечатляющих и наиболее продуманных. Расположена в центре города, с одной стороны ее ограничивает Кремль. Этот бывший религиозный центр, где раньше короновались цари, стал административным центром советской власти, которую символизирует красная звезда. Ленин в своем мраморном мавзолее, охраняемом солдатами, придает ей торжественный характер увековеченной Революции. В нишах стены покоятся умершие знаменитости, которые оберегают площадь, к ним выстраивается живая цепь, объединяющая массу вовне с высшей иерархией, заключенной внутри. В этом пространстве в миниатюре обнаруживает себя вся история, а вместе с ней и вся концепция объединения народа» [82].
На десакрализацию этого символа, изъятие его священного смысла было направлено много акций реформаторов, в частности, устройство грандиозного концерта поп-музыки на Красной площади – и именно 22 июня 1992 г. И чтобы даже у тугодума не было сомнений в том, что организуется святотатство, диктор телевидения объявил: «Будем танцевать на самом престижном кладбище страны». То, что в могилах на Красной площади лежит много ненавистных демократам покойников, несущественно. Цель – обесчестить святое для русского государственного сознания место (ведь не только Мавзолей наблюдал кривлянье, а и могила Василия Блаженного).
Особое место в универсуме символов занимают праздники, в том числе государственные праздники, когда демонстрируется связность народа и общая лояльность к государству. Искажение, принижение и разрушение образа праздников, давно уже вошедших в календарь советского народа и русских, стало объектом интенсивной и настойчивой кампании.
Вот. например, 1 Мая. Этот день стал праздником международной солидарности трудящихся. Праздник был связан с кровью и имел большой символический смысл (в 1886 г. в США была проведена провокация против рабочей демонстрации и казнены несколько анархистов). В России при пособничестве «независимых» профсоюзов стали называть 1 Мая «Днем весны и труда». 7 ноября, годовщину Октябрьской революции, Ельцин постановил «считать Днем Согласия». С целью инверсии этого символического праздника, для превращения его в день поражения, Ельцин объявил о запрете КПСС именно 7 ноября 1991 г., в день праздника, который был дорог большой части народа.
В праздник 8 Марта (Международный женский день) в 1992 г. центральное телевидение в программе «Вести» дало такой репортаж В. Куца: «Эту даму бальзаковского возраста звали так же, как героя пушкинского романа – помните: «Итак, она звалась Татьяна» Так отметили праздник 8 марта…» И далее – скабрезная история о том, как часовой ставропольской тюрьмы за 700 руб. провел к заключенным женщину. И высказано предположение, что военная прокуратура не будет раздувать это дело.
Итак, в маленьком эпизоде В.Куц успел мазнуть грязью сразу несколько дорогих для русского человека вещей: праздник 8 марта, давно утративший свое первоначальное идеологическое значение и вошедший в число национальных праздников, – образ женщины и праздника был увязан с проституткой; армию, которая была представлена в образе часового-взяточника и покрывающей его военной прокуратуры; Пушкина, чьи строчки о самом чистом женском образе в русской литературе ассоциированы с гадостью. Эта «загрязняющая способность» полуминутного телевизионного эпизода говорит о высокой квалификации психологов «российского» телевидения.
Сильнодействующим средством разрушения было осмеяние, идеологизированное острословие, имеющее своим объектом именно скрепляющие народ символы. Хазанов и Жванецкий, Задорнов и Петросян стали влиятельными реальными политиками. Поднимите сегодня подшивку «Огонька», «Столицы», «Московского комсомольца» тех лет – захлебывающаяся радость по поводу любой аварии, любого инцидента, любой неудачи государства.
Вот символическое событие, которое уже вытеснено из памяти множеством эпохальных событий. После того, как в августе 1991 г. ГКЧП завершил свою бесславную миссию быть марионетками в большом политическом спектакле «путча», для острастки было совершено убийство Министра внутренних дел СССР Б.К. Пуго и его жены. Официально было объявлено о самоубийстве, но тогда в это почти никто не поверил – не было для этого разумных причин, да и объяснения давались нарочито нелепыми. Эту смерть люди и приняли как символ – такая гибель одного из руководителей СССР понималась и как гибель самого советского государства. Скорее всего, на это и был расчет. Понятно, что событие это было воспринято с тяжелым чувством – чему тут мог радоваться нормальный человек! Но на телевидении это событие обыгрывалось с хохотом, демократические юмористы постарались. Успехом пользовалась песенка: «Забил заряд я в тушку Пуго». Людям было стыдно друг на друга смотреть.
§ 9. Разрушение образа Великой Отечественной войны
Широкая и планомерная программа проводилась и проводится с целью подрыва всего строя символов, связанных с Великой Отечественной войной. Образ этой войны – один из немногих сохранившихся центров сосредоточения связей общенациональной основы. Вся система действий по разрушению этого сгустка этнических связей настолько широка и многообразна, что заслуживает даже не книги, а серии книг (см. [83]).
Надо подчеркнуть, что эта кампания ведется несмотря на то, что нынешняя власть РФ прекрасно понимает значение образа Отечественной войны для поддержания сплоченности народа, хотя бы на минимальном уровне. На круглом столе в Российской академии госслужбы в 2002 г. в заключительном слове было сказано: «Память о Великой Отечественной войне при всех ее проблемах, ошибках, провалах – это практически сегодня, пожалуй, единственное объединяющее наш народ историческое событие прошлого» [84].
Здесь отметим акции, которые били сразу по обоим пучкам связей – по образу войны и по образу государства. Один из способов подрыва авторитета символов войны – пробуждение симпатий к тем, кто во время войны действовал на стороне гитлеровцев против СССР. В 90-е годы государственные институты приняли активное участие в этой кампании. Достаточно упомянуть реабилитацию группенфюрера (генерал-лейтенанта) СС фон Паннвица, который командовал карательной дивизией в Белоруссии, был осужден за военные преступления и казнен в 1947 г. Мало того, что его реабилитировали как невинную жертву политических репрессий, ему и его соратникам поставили «скромный памятник» в Москве. Уже после избрания президентом В.В. Путина пришлось принимать беспрецедентное постановление об «отмене реабилитации» (а памятник сносить не решились) [59].
В 90-е годы в государственных еще издательствах возник жанр литературы, оправдывающей предательство. Власовцы были изменниками – но ведь они боролись со сталинизмом. Чингиз Айтматов в своей книге «Тавро Кассандры» (1994) уже не считает войну Отечественной. Это «эпоха Сталингитлера или же, наоборот, Гитлерсталина», и это «их междоусобная война». В ней «сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища».
Писатель В.О. Богомолов, участник Великой Отечественной войны, пишет в 1995 г: «Очернение с целью «изничтожения проклятого тоталитарного прошлого» Отечественной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников как явление отчетливо обозначилось еще в 1992 году. Люди, пришедшие перед тем к власти… стали открыто инициировать, спонсировать и финансировать фальсификацию событий и очернение не только сталинского режима, системы и ее руководящих функционеров, но и рядовых участников войны – солдат, сержантов и офицеров.
Тогда меня особенно впечатлили выпущенные государственным издательством «Русская книга» два «документальных» сборника, содержащие откровенные передержки, фальсификацию и прямые подлоги. В прошлом году в этом издательстве у меня выходил однотомник, я общался там с людьми, и они мне подтвердили, что выпуск обеих клеветнических книг считался «правительственным заданием», для них были выделены лучшая бумага и лучший переплетный материал, и курировал эти издания один из трех наиболее близких в то время к Б. Н. Ельцину высокопоставленных функционеров. Еще в начале 1993 года мне стало известно, что издание в России книг перебежчика В.Б. Резуна («Суворова») также инициируется и частично спонсируется (выделение бумаги по низким ценам) сверху» [85].
Как пишет А. Тарасов, перед юбилеем Победы «по суворовским училищам и кадетским корпусам с помпой и почетом ездил капитан власовской армии П. Бутков, который рассказывал учащимся, как он вместе с гитлеровцами уничтожал «проклятых большевиков» [86].
Во время перестройки публиковались не только «художественные» произведения, разрушающие образ войны, но и «документальные» фальшивки. Вот показательный случай, о котором рассказал видный историк из ФРГ М. Хеттлинг. В 1950 г. в ФРГ вышла книжка «Последние письма из Сталинграда» с 39 письмами немецких солдат из окружения. Она стала бестселлером и была переведена на многие языки. Вскоре, однако, выяснилось, что все эти письма – фальсификация. Историк пишет: «Их поначалу остававшийся неизвестным автор, личность которого все же была установлена, – военный корреспондент Хайнц Шрeтер, находившийся в Сталинграде до середины января 1943 г. Весной того же года он получил задание министра пропаганды Геббельса подготовить работу, прославляющую доблесть германских войск в Сталинграде. Книга эта основывалась на собранных в Министерстве пропаганды материалах о битве на Волге. В нацистский период она не была опубликована, так как показалась Геббельсу недостаточно героической». Разоблачение было громким, но эта фальшивка пошла в дело в информационной войне в годы перестройки. В 1990 г. журнал «Знамя» издал эту стряпню под заголовком «Последние письма немцев из Сталинграда» («Знамя», № 3, с. 185–204)[163].
Активно действовало и действует телевидение. Вот мелочь, но типичная. На 9 мая 2003 г. канал REN-TV назначил показ фильм «В тылу врага» (Финляндия, 1999) с такой рекламой: «Драма. Лето 1941 года. В Советской Карелии финские части ведут ожесточенные бои с Красной Армией. Получив приказ освободить захваченные земли, взвод лейтенанта Ээро Перкола отправляется в тяжелый и опасный поход. После того, как отважный лейтенант получил известие, что его невеста, медсестра Каарина, погибла в бою с советскими партизанами, тайная вылазка отчаянных бойцов станет для юного офицера миссией отмщения за любимую».
Разрушение символического образа Великой Отечественной войны продолжается и сегодня, в том числе в государственных СМИ и на государственные деньги. В официальной «Российской газете» в юбилейный 2005 г. можно было прочесть: «Мы за эти годы узнали о войне много нового, шокирующего, развенчивающего миф о тотальном героизме и борьбе за правое дело» (см. [59]). Задача сформулирована четко – развенчать образ этой войны как «миф о борьбе за правое дело». Это и называется психологическая война.
Театр «Современник» к юбилею поставил подлую пьесу «Голая пионерка», которая сопровождалась не менее подлыми комментариями в прессе. Был снят целый ряд фильмов с заведомой ложью о войне («Штрафбат», «Полумгла», «Сволочи»). Ложь разоблачалась и военными специалистами, и непосредственными участниками событий, но эти разоблачения трибуны не получали.
Вот, Президент Академии военных наук генерал армии М.А. Гареев говорит о многосерийном фильме «Штрафбат»: «Такие фильмы, как «Штрафбат» – это своеобразный политический, идеологический заказ. Надо вдолбить в головы современной молодежи, что Победу ковали не маршалы Жуковы и рядовые Матросовы, а уголовники… Один из известных политических деятелей заявил буквально следующее: «Без развенчания этой Победы мы не сможем оправдать все, что произошло в 1991 г. и в последующие годы»[164].
Во множестве писем и выступлений говорилось, что практически все существенные утверждения фильма ложны – это воспринималось «творцами» со смехом. Гареев дает краткий перечень заведомых фальсификаций: «В штрафбате никаких уголовников, равно как и политических заключенных, просто не могло быть. Из уголовников формировали штрафные роты. Командовали штрафными подразделениями только кадровые офицеры. Во всех штрафных подразделениях не было обращений «гражданин», а только «товарищ». Во время войны в любом штрафбате был заместитель командира по политчасти. В фильме его нет. Вместо политработника в «Штрафбате» действует священник. Но в те времена это было просто невозможно не только как не типичный, но и как самый исключительный случай. Да и вообще война с фашистскими захватчиками ушла в фильме на второй план. А на первом – показ ненависти персонажей к советской власти. Все штрафные подразделения составляли не более 1,5 % от всей численности действующей армии».
Как человек дисциплинированный, М.А. Гареев просто не решился назвать вещи своими именами: создатели фильма и не заботились об исторической правде, они выполняли заказ противников России в психологической войне. Война эта для нас непривычна, непривычен и образ этих изменников Родины. Они же стреляют нам в спину виртуальными пулями.
Особый подход к деградации символов Отечественной войны – обвинение советского государства, а потом и вообще советских людей того времени, в жестоком отношении к немцам. Публикация в специальных исторических журналах материалов, рисующих истинную картину, практически не могла нейтрализовать эту кампанию, для которой были предоставлены средства массовой информации. Не проникали к нам и документы из Германии, сборники воспоминаний военнопленных, в том числе такого авторитетного человека, как лауреат Нобелевской премии антрополог Конрад Лоренц. Идеологи, которые подняли тему, знали истину, но она для них значения не имела.
Другая тема – доведенное до абсурда преувеличение потерь Красной Армии с целью внушить обществу мысль о порочности советской государственной и хозяйственной системы, влиянии сталинских репрессий и бездарности военного командования. Возможности опровергнуть ложь или поправить ошибку были несравнимо меньше тех сил, которые занимались фальсификацией.
Эту тему подробно освещает Я. Бутаков. Он пишет: «В последнее десятилетие сделалось популярным возводить цифру жертв Великой Отечественной в несообразную степень. Такие попытки предпринимаются со вполне определенными целями: обесценить значение Победы, придать ей черты поражения и национальной трагедии, принизить моральный дух нации. Самое удивительное, что общественное сознание оказывается вполне восприимчиво к подобным мистификациям и охотно им верит. Цифры в 30, 40, 50 миллионов погибших ложатся на подготовленную почву и испытывают весьма слабое сопротивление со стороны историков, а массой людей встречаются просто на «ура»… В годы перестройки тема военных потерь, естественно, стала одной из самых актуальных в «переосмыслении» нашей истории широкими общественными кругами. Но именно идеологический вектор горбачевской «гласности», ориентированный на очернение светлых страниц нашего прошлого, препятствовал оглашению итогов давно уже произведенных подсчетов.
Этими подсчетами в течение многих лет занималась комиссия Министерства обороны СССР. И когда в декабре 1988 года тогдашний министр обороны маршал Д.Т. Язов направил в ЦК КПСС заключение комиссии и проект постановления ЦК по поводу публикации ее работ, стало ясно, что правда о потерях вовсе не нужна партийному руководству. На одном из заседаний Политбюро против публикации подсчетов, произведенных комиссией Министерства обороны, резко выступил не кто иной, как Шеварднадзе. В чем же дело? А в том, что комиссия выявила абсолютно точное число потерь среди военнослужащих» [87].
Эту кампанию мы все можем наблюдать каждый год. Вот, телепередача «Времена» с В.В. Познером, буквально накануне праздника – 3 апреля 2005 г. Приглашен Президент Академии военных наук генерал армии М.А. Гареев, который к тому же в свое время возглавлял комиссию по оценке потерь в ходе войны. В числе приглашенных также писатели. Познер начинает разговор: «Вот поразительное дело, мы до сих пор не знаем точно, сколько погибло наших бойцов, солдат, офицеров в этой войне».
В этом утверждении скрыто обвинение государству, но оно ложно. Официальные, не раз проверенные за годы перестройки данные о потерях личного состава Советских вооруженных сил в ходе Великой Отечественной войны были опубликованы в 1992 г. Они таковы: безвозвратные потери составили 11 млн. 444 тыс. человек, в том числе 6,33 млн. убитых и умерших от ран; 4,56 млн. пропавших без вести и попавших в плен; 0,56 млн. – небоевые потери от болезней и несчастных случаев. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на Восточном фронте – 8,65 млн. человек. Таким образом, соотношение по людским потерям 1:1,3 в пользу противника [88]. Эти данные, с небольшими уточнениями, публиковались после 1992 г. (например, в журнале «СОЦИС», 1995, № 6) и публикуются до сих пор.
Гареев сообщает эти данные, но на них просто не обращают внимания. Писатель Борис Васильев вступает в разговор: «Сталин сделал все для того, чтобы проиграть войну… Немцы в общей сложности потеряли 12,5 миллионов человек, а мы на одном месте потеряли 32 миллиона, на одной войне». На этот абсурд Гареев ничего не может ответить – с чем тут можно спорить! И как спорить, если незадолго до этого сам А.Н. Яковлев в интервью «Аргументам и фактам» (1.03.2005) заявил: «В войне с Германией погибло не менее 30 млн. человек… Я думаю, цифра больше». Видимо, число 30 миллионов было согласовано, повторялось оно не раз.
Познер заводит разговор о том, что чудовищные потери были вызваны сталинскими репрессиями в армии, показывает ролик, звучат абсурдные числа. Гареев пытается воззвать к здравому смыслу: «Это никакой не поиск правды, это поиск неправды. Ведь он сказал, что 90 % командного состава было уничтожено в 1937–1938 годах. Есть точная цифра: было репрессировано 9 тысяч человек. Это 5 % командного состава вооруженных сил». Познер отмахивается.
Переходят к следующему мифу – о том, что Сталин приказал взять Берлин к 1 Мая, что привело к большим потерям. Познер: «Сталин решил, что надо взять Берлин к 1 Мая, праздник трудящихся, и сказал – взять». Гареев: «Но этого же не было… Есть документ. Сталин Жукову говорит: не будем торопиться». Познер: «Нет, мне лично Жуков сказал, что это не так. И они брали и положили там [на Зееловских высотах] 300 тысяч человек, 300 тысяч наших бойцов». Гареев: «Владимир Владимирович, во всей Берлинской операции все три фронта потеряли, безвозвратные потери, 70–80 тысяч человек, а 350 тысяч – это вместе с ранеными. Ранен или убит, это не одно и то же». Познер: «Неверно».
Этот миф тоже был, похоже, утвержден на горбачевском Политбюро. Его слово в слово повторяет в своем интервью и Яковлев. Его спрашивают: «Зачем во время Берлинской операции, когда до Победы оставались дни, наших солдат гнали на пулеметы?» Яковлев отвечает: «Нам всегда надо было что-то взять первыми. И обязательно к какой-нибудь дате… Вот и завалили дорогу к Берлину сотнями тысяч трупов… Потери Берлинской операции с 16.04 по 8.05.45 г. составили 361 367 солдат».
Дальше, по стандартному сценарию, оплевывается маршал Жуков, который в массовом сознании уже давно стал фигурой символической. По символам и бьют. Б. Васильев начинает: «Меньше всех погибло на фронте Рокоссовского. Он берег людей, а больше всех было у Жукова, потому что у него была одна фраза: новых нарожают. Он был жесток безумно, Жуков».
Гареев и здесь, и на других подобных «диспутах» пытается взять логикой и точной мерой: «Если брать процент потерь от общей численности войск, потери в войсках Жукова были сравнительно меньшими. Например, в Висло-Одерской 1-го Белорусского фронта – 1,7 %, а 1-го Украинского фронта (маршал Конев) – 2,4 %, в Берлинской операции соответственно – 4,1 и 5 %. Потери в Берлинской операции в полтора-два раза меньше, чем в Будапештской операции 1945 г. И так всюду». Но эти попытки бесполезны. Никого эти данные не интересуют – миф уже узаконен какими-то теневыми начальниками. Вот читаем стихи И. Бродского «На смерть Жукова»:
Сколько он пролил крови солдатской В землю чужую! Что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской Белой кровати? Полный провал. Что он ответит, встретившись в адской Области с ними? «Я воевал».Какие чувства бушуют в этих стихах? Глухая, зрелая ненависть к Жукову и к советскому солдату – и он, и они пошли, по мнению Иосифа Бродского, прямо в ад.
Целая рать гуманитариев и писателей зарабатывала себе политический и иной капитал, создавая образ Красной Армии как дикой орды, которая завалила цивилизованных немцев своими трупами. Этот образ так грел душу русофобствующей части интеллигенции, что логика и мера на ее разум не действовали. Хотелось бы понять, почему в среде российской элиты периодически вызревает желание повоевать против своей страны в армии противника – хотя бы в войне психологической. Перед юбилеем Победы выступил и Г.Х. Попов – не дали ему отсидеться. Он говорит в интервью «Московскому комсомольцу» (07.02.2005): «После вступления армии в Германию власти закрыли глаза на захват немецкого имущества… Были официальные нормативы, утвержденные лично Сталиным. Всем генералам по одной легковой машине – «Опель» или «Мерседес» – бесплатно. Офицерам – по одному мотоциклу или велосипеду бесплатно».
Лжет идеолог узаконенной коррупции. Если бы были такие «нормативы» за подписью Сталина, о них во время перестройки уже растрезвонили бы на весь мир. Но главное, живы еще миллионы людей, у которых воевали офицерами отцы и старшие братья, и кто-то из них даже вернулся живым из Германии. Все мы видели и свою родню, и своих сверстников – никто «по одному мотоциклу или велосипеду бесплатно» не привез. И ведь зачем-то он это говорит именно перед праздником – вот на что надо обратить внимание.
Но велосипеды – мелочь. Главная мысль Попова покрупнее: «Но не только кофточки были солдатской добычей. Ею стали немецкие женщины и девушки. Наши солдаты насиловали во всех странах. Но настоящая вакханалия началась именно в Германии. Только в Берлине, после его штурма, к врачам по поводу изнасилования обратилось до 100 тысяч немок. Я хотел бы сейчас, хотя бы спустя 60 лет, услышать от лидеров новой России официальные извинения перед женщинами Европы за эти оргии в «великие те года».
И множество людей не замечают лжи, глотают яд этого отравителя колодцев. Подумали бы, к каким это врачам в превращенном в руины Берлине «обратились по поводу изнасилования до 100 тысяч немок»? В палатках медсанбатов в эти дни врачам надо было оказать срочную помощь примерно тремстам тысячам советских раненых и не меньшему числу немецких. И зачем эти 100 тысяч немок обращались к врачам – чтобы получить справки и обратиться в суд? Посмотрите на фотографии Берлина «после штурма».
Война сопряжена с жестокостью и эксцессами, но не о них говорит Попов, знает он, что наша армия как раз резко отличалась способностью после боя очень быстро утихомирить ярость. Это специально отметил антрополог Конрад Лоренц как удивительное свойство советских солдат. Что же касается насильников, то даже А.Н. Яковлев в своем интервью сказал, что их расстреливали. А вот «Записки о войне» Б. Слуцкого, который был военным прокурором. В городке Зихауэр пришли с жалобой две изнасилованные женщины. Б. Слуцкий пишет: «Через два дня я докладывал начальству о женщинах Зихауэра. Генералы сидели внимательные и серьезные, слушали каждое слово. Из Москвы поступали телеграммы – жестокие, определенные… Но и без них накипали самые сокровенные элементы человечности. По этому докладу были приняты серьезные меры». Ясно, что если бы в Германии творилась «настоящая вакханалия» изнасилований, то не сидели бы генералы «внимательные и серьезные», не «слушали каждое слово».
Надо сказать, что в этих кампаниях по разрушению символов национального сознания применяются идеологические бомбы с «разделяющимися боеголовками». Представляя Красную Армию скопищем грабителей и насильников, а маршала Жукова бездарным «мясником», бьют в первую очередь по образу Великой Отечественной войны и по связям, соединяющим людей общей лояльностью к этому символу. Но одновременно – и по нынешнему государству, которое медленно выходит из болезни 90-х годов. Да, власть тоже прислонилась к символу Победы, и уже этим символическим жестом завоевала какой-то кредит доверия граждан. Чтобы сорвать этот процесс выздоровления, «архитекторы и прорабы» перестройки стремятся внушить людям, что празднование юбилея Победы – лживая и позорная акция, что война была позором нашего государства и память о ней низменна.
Вот Г.Х. Попов «объясняет» гражданам мотивы, по которым власть стала отмечать праздник Победы: «Я понимаю, что все это не случайно. Оказавшись почти что у разбитых корыт в Чечне и Беслане, в обещаниях увеличить ВВП и прочих начинаниях, не имея за душой ничего такого, что могло бы вдохновить всех нас, наши лидеры однопартийного разлива собираются ухватиться за шинель Сталина и даже влезть в его сапоги». И этот человек обучает российских студентов!
Отравляющий память о Победе яд снабжен самыми разными этикетками. Одна из них – «антифашистская», объявляющая наше государство фашистским. Вот как Л. Радзиховский «благодарит» в юбилей Победы Красную Армию за спасение евреев: «В память о войне остался вечный огонь и вечный вопрос – кто фашист, кто антифашист? Вопрос действительно вечный, но обостряется он, понятно, к 9 мая… Я, конечно, помню. И благодарен за спасение… за «дарованную жизнь». Благодарен Красной Армии, и СССР, каким бы отвратительным государством он ни был, благодарен солдатам, как бы кто из них ни относился к евреям, каким бы кто ни был антисемитом, благодарен – как ни трудно это сказать – да, благодарен Сталину. Этот антисемит, пусть сам того не желая, но спас еврейский народ… Но помня великую заслугу Сталина, я не могу отрицать очевидного – что он, конечно же, был «обыкновенным фашистом», создал вполне фашистский строй» [89].
Эта грязная работа оправдывается необходимостью нанести еще удар по образу советского государства и по «массовой идентичности россиян». «Известный социолог» Л.Д. Гудков объясняет эту задачу так: «Державная интерпретация победы 1945 года стала не просто оправданием советского режима в прошлом и на будущее… Победа в войне легитимирует советский тоталитарный режим… Представление людей о себе как жертве агрессии придало им непоколебимую уверенность в своей правоте и человеческом превосходстве, закрепленном Победой в этой войне. Рутинизацией этой уверенности стало и внеморальное, социально примитивное, почти племенное деление на «наших и ненаших как основа социальной солидарности… Произвол становится легитимирующим принципом социальности, как это можно видеть и в деле «ЮКОСа» или Гусинского» [90]).
Вот как закручено: гордость народа-победителя, поддерживающая его национальное самосознание, называется внеморальной и социально примитивной. Жертвой агрессии советский народ не был и никакого человеческого превосходства над фашистами в войне не продемонстрировал. Память о Победе порождает произвол и ту солидарность, которая нанесла ущерб Гусинскому! Это – речь солдата психологической войны против России, сознательно подрывающего национальную идентичность ее граждан.
На этой статье стоит остановиться потому, что в ней прекрасно изложен смысл Великой Отечественной войны как символа, скрепляющего национальное сознание. И показано, что именно поэтому для тех сил, которые представляет Л.Д. Гудков, и необходимо разрушение этого символа. И говорит это квалифицированный специалист, доктор философских наук, руководитель Отдела социально-политических исследований Аналитического Центра Юрия Левады, окончивший факультет журналистики МГУ и аспирантуру Института философии АН СССР, работавший в Институте социологии АН СССР и во ВЦИОМ. Замечательно также, что в основе статьи лежит выступление автора на IX Немецко-российских осенних дискуссиях в Берлине 22–24 октября 2004 г. В этой статье, по словам автора, он рассматривает «характер коллективной «памяти о войне» или роль представлений о войне в системе национальной идентичности нынешних россиян».
Он совершенно верно определяет эту память как «социальное отношение к войне, воплощенное и закрепленное в главном символе, интегрирующем нацию: победе в войне, Победе в Великой Отечественной войне. Это самое значительное событие в истории России, как считают ее жители, опорный образ национального сознания. Ни одно из других событий с этим не может быть сопоставлено. В списке важнейших событий, которые определили судьбу страны в ХХ веке, победу в ВОВ в среднем называли 78 % опрошенных… Всякий раз, когда упоминается «Победа», речь идет о символе, который выступает для подавляющего большинства опрошенных, для общества в целом, важнейшим элементом коллективной идентификации, точкой отсчета, мерилом, задающим определенную оптику оценки прошедшего и отчасти – понимания настоящего и будущего».
Вся статья проникнута ненавистью к этой памяти, к этому «опорному образу национального сознания». В свой текст, выдержанный в академической манере, Л.Д. Гудков даже включает художественный образ: «Победа торчит сегодня как каменный столб в пустыне, оставшийся после выветривания скалы». Да, за 15 лет удалось, по его мнению, превратить национальное сознание народа России в пустыню, выветрить то, что недавно было скалой. И вот, осталась Победа – торчит (!) как каменный столб. Надо ее взорвать!
Почему же память об Отечественной войне и Победе стала таким важным объектом ударов в психологической войне? Л.Д. Гудков дает развернутое объяснение: «Она стягивает к себе все важнейшие линии интерпретаций настоящего, задает им масштаб оценок и риторические средства выражения… [Она дала] огромному числу людей свой язык «высоких коллективных чувств», язык лирической государственности, который намертво закрепился впоследствии, уже к середине 1970-х годов, и на котором только и могут сегодня говорить о войне большинство россиян».
Таким образом, если бы удалось вырвать из национального сознания память о Победе, то для народа России была бы уничтожена система «всех важнейших линий интерпретаций настоящего». Более того, была бы уничтожена система координат для оценки реальности, то есть была бы рассыпана мировоззренческая матрица народа. Он был бы лишен языка («риторических средств выражения»). Кроме того, народ был бы лишен и общих художественных и эмоциональных средств общения внутри себя и с государством – он утратил бы «язык «высоких коллективных чувств» и язык «лирической государственности». Поразительно точно определил цели бомбометания социолог из ВЦИОМ – вот для чего команда Юрия Левады двадцать лет изучала наше национальное сознание. Видимо, непростой операцией для В.В. Путина было лишить противника России в психологической войне такого важного наблюдательного пункта.
Л.Д. Гудков признает, что память о войне в России не окрашена национальной ненавистью и не создает никакой напряженности в отношениях с бывшими противниками, это память для нас самих. Он пишет: «Смысл победы у россиян обращен исключительно к себе, он значим лишь в структурах российского самоопределения. Сегодня практически не осталось тех, кто испытывал бы ненависть к тем странами, которые были врагами: Германии или тем более – Италии, Японии, Румынии».
Значит, разрушение этого главного символа национального сознания требуется вовсе не из соображений безопасности Запада. Эта операция психологической войны – не средство обороны. Это именно агрессия, единственная цель которой – дальнейший демонтаж народа, разрыв соединяющих его связей.
Л.Д. Гудков отмечает, что нынешнее поколение российских граждан уже имеет смутное представление о конкретных военно-политических аспектах войны. Казалось бы, это естественно – зачем держать в социальной памяти детали, если война стала общим символом, источником «высоких коллективных чувств». Но у социолога свое, удивительно подлое объяснение. Он пишет о наличии разных толкований военно-политических факторов в ходе войны, особенно в ее первый период: «Это не выражение раскола общества на «партии» с четкими позициями и ясными убеждениями, а симптоматика «нечистой совести» и какой-то непроявленной то ли вины, то ли внутренней неудовлетворенности общепринятым отношением к проблематике войны».
Попробуйте в здравом уме найти основания для «нечистой совести» из-за победы в войне с фашизмом! Каких он хотел бы «четких позиций и ясных убеждений»? Чтобы мы сегодня передрались из-за отступления 1941 года? Те, кто в сознательном возрасте встретил победу, прекрасно помнят чувство глубокой горечи, которое было у солдат и офицеров, вернувшихся с войны живыми. Их товарищи погибли, а они живы! Но даже в самый извращенный ум не могла тогда прийти мысль о «нечистой совести». Совесть была нечистой только у дезертиров, но ведь Л.Д. Гудков говорит обо всем населении России.
Л.Д. Гудкова тревожит тот факт, что память о Победе действует как средство сплочения народа, помогает залечивать старые раны и расколы. А старые раны надо растравлять, сыпать на них соль. Вот головная боль антисоветских интеллектуалов: «Уходит память о сталинских репрессиях (значимость их для российской истории за последние 12 лет, по мнению опрошенных, упала с 29 % до менее 1 %); напротив, позитивные оценки роли Сталина с 1998 года к 2003 году выросли с 19 % до 53 %; на вопрос: «Если бы Сталин был жив и избирался на пост президента России, вы проголосовали бы за него или нет?» – 26–27 % жителей России сегодня ответили: да, проголосовали бы».
Похоже, что целью этой идеологической кампании является превращение граждан России совсем в беспамятных людей, лишенных здравого смысла. Кому же должны граждане давать «позитивные оценки» – изменникам Родины типа Горбачева, творцам хаоса типа Ельцина и тем, кто, как Гусинский, присвоили их национальное достояние?
Разрушение образа войны как национального символа необходимо, согласно Гудкову, и потому, что он способствует постепенному, робкому выздоровлению российской государственности. А государственность России ненавистна антисоветским интеллектуалам в любой ее форме. Гудков пишет: «Воспоминания о войне нужны в первую очередь для легитимации централизованного и репрессивного социального порядка, они встраиваются в общий порядок посттоталитарной традиционализации культуры в обществе, не справившемся с вызовами вестернизации и модернизации, обществе, не выдержавшем напряжения начавшихся социальных изменений… Непрожитая война оборачивается рецидивами государственной агрессии – чеченской войной и реставрацией репрессивного режима».
Если отцедить ругань, то смысл ясен – память о войне мешает ликвидации централизованного государства, превращению России в периферию Запада, поддержанию правового хаоса и сохранению «серых зон», контролируемых преступным миром.
Поэтому Гудкову ненавистен даже сам праздник, связанный с Победой. Надо быть просто свиньей, чтобы ехать в Германию и говорить такие слова о праздновании 60-летия Победы: «Это будет принудительная имитация коллективной солидарности с властью, не имеющей ничего за душой, кроме казенного полицейского патриотизма и политического цинизма» [90].
§ 10. Разрушение исторической памяти
В гл. 16 коллективная историческая память рассматривалась как один из ключевых механизмов соединения людей этническими связями. Когда-то (в 1919 г.) Джон Стюарт Милль говорил, что «самой сильной из всех является идентичность политических предшественников; наличие национальной истории, а следовательно, общие воспоминания; коллективные гордость и унижения, радость и сожаление, связанные с тем, что случилось в прошлом».
Во время перестройки и реформы 90-х годов была проведена большая операция психологической войны против советского народа, а затем и народов РФ, направленная на разрушение этого механизма, а также и накопленного ранее в массовом сознании «фонда исторической памяти» (об этом см. [91])[165].
Подводя итог этой операции, современный политолог пишет: «История – это биография нации… В результате [перестройки] в истории страны нет ни одного живого места. История России превратилась в одну сплошную зону экологического загрязнения, куда всяк сливает свои токсичные помои. Не верится во все это. Не может такого быть… Прекращение идеологической истерии по поводу своего прошлого и восстановление разорванных исторических связей неизбежно и необходимо, если мы хотим быть мировой нацией. Дайте нам быть лояльными собственным предкам. Наша война с отеческими гробами ни у кого не вызывает уважения, в том числе у нас самих» [45].
В 1990 и в 2001 гг. были проведены два больших представительных исследования исторического сознания граждан РФ. Во втором из них был задан вопрос: «искажается или нет отечественная история в современных публикациях?» Только 5 % ответили «нет». Какие же периоды искажались в наибольшей степени? Советский период, перестройка и реформы 90-х годов. Люди чувствовали, что у них разрушили историческую память и не дают ее восстановить. Это чувствовали даже 63,5 % опрошенных, не имевших среднего образования. При этом подчеркивалось, что «наиболее искажается история советского общества, когда руками, умом, трудом народа осуществлены такие свершения, которые вывели нашу страну в разряд великой мировой державы, что является обобщающим достижением всех народов, населявших тогда СССР».
Комментируя этот вывод на круглом столе в Российской академии госслужбы, Управляющий делами РАГС В.И. Меркушкин сказал: «Момент истины заключается в том, что предмет гордости российских граждан, согласно обоим исследованиям, составляют достижения, относящиеся к периоду советской истории – в области культуры, литературы, искусства, в космонавтике, в спорте; всенародная самоотверженность и массовый героизм советских людей в Великую Отечественную войну» [84][166].
Конечно, разрушение памяти о советском периоде сильнее всего бросалось в глаза, потому что людей не мог не удивлять тот факт, что они каким-то образом забывали черты своей собственной жизни, жизни своего поколения. Но в действительности разрушалась историческая память на очень большую глубину – память не поколения, а народа.
Анализируя с этой точки зрения СМИ 1996 г., А. Иголкин пишет: «Количество традиционных исторических символов в сегодняшнем среднем номере газеты меньше, чем даже в начале 1950-х годов. Тогда за небольшой, скажем, трехмесячный период в обычной газете можно было обнаружить ссылки на все без исключения века русской истории, сотни исторических имен, причем сама отечественная история была представлена как связное единое целое. История не знала огромных «черных дыр»: ни в смысле исторических «провалов», ни в смысле сплошного очернения… Общая плотность исторической символики, идущих из глубины веков духовно-исторических полей и энергий в СМИ была достаточно высокой. Историко-символические ресурсы служили национальным интересам» [93].
В другом месте А. Иголкин пишет, что «для современной российской газеты характерна потеря практически всех исторических имен, всей архаики», и приводит замечание Ю. Лотмана: «Каждая культура нуждается в пласте символов, выполняющих функцию архаики. Сгущение символов здесь особенно заметно». При этом Ю. Лотман подчеркивает, что самые простые, архаические символы образуют символическое ядро культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить об ориентации каналов коммуникации [94].
К участию в этой операции психологической войны оказалось нетрудно привлечь большие интеллектуальные и художественные силы российской гуманитарной интеллигенции из числа «западников». Задача разрушения исторической памяти народа соответствовала их устойчивым философским установкам: для западников время – разрушитель старого и создатель нового мира. Но, как мы знаем, с «созиданием нового мира» ничего у российских гуманитариев не получилось, потому что это вовсе не входило в планы стратегов психологической войны против России. Это обычная беда тех, кто переходит на сторону врага своей страны «из лучших побуждений».
Какое значение придавалось разрушению истории, видно по рангу фигур, которые были задействованы в этой операции. Например, в их рядах мы видим «архитектора» перестройки А.Н. Яковлева. Очень показательно заседание Президиума РАН 16 ноября 1999 г., где обсуждался вопрос о документальных изданиях Международного фонда «Демократия». Обзор выступлений на этом заседании Президиума дан в [95]. Все это обсуждение – вещь в своем роде поразительная.
Доклад сделал президент этого фонда А.Н. Яковлев. Он рассказал о грандиозном проекте фонда – издании 40 томов документов по советской истории. К моменту заседания было издано 10 томов тиражом по 3 тыс. экземпляров. Вскользь А.Н.Яковлев отметил важную деталь: «У нас есть договоренность с «Открытым обществом» Фонда Сороса о передаче им бесплатно до 2 тыс. томов каждого издания для рассылки по университетам и библиотекам. Мы заинтересованы именно в этом».
А.Н. Яковлев представляет порочной всю историю России и саму ее государственность, независимо от конкретных политических режимов. Он сказал в своем выступлении: «На мой взгляд, коренная причина того, что происходит в России, заключается в том, что она тысячу лет живет под властью людей, а не законов. Вот отсюда все идет, и в этом все коренится». Эту глупость (представление законов как некой мистической сущности, не зависящей от людей) ведущие академики РАН проглатывают молча.
В выступлении А.Н. Яковлева идет речь не о советском строе, а о типе России как цивилизации, чья «неправильная» история вовсе не началась и не кончилась с советской властью. Важно само это явление: идеолог, ведущий информационную войну против своей страны и ее тысячелетней истории, получает власть и большие деньги, чтобы целенаправленно отобрать из фондов государственных архивов России (в том числе секретных фондов!) те документы, которые можно представить как порочащие, опубликовать их, чтобы затем бесплатно разослать по отечественным и зарубежным библиотекам. И это представлено как научная работа и докладывается в Президиуме Российской Академии наук. В этом есть нечто абсурдное и разрушительное для самой науки, а значит, и всей скрепляющей народ культуры, частью которой наука стала в ХХ веке.
Для А.Н. Яковлева в его операции конкретный политический режим в России не важен. Вот он негодует по поводу установок ельцинского министра, апеллируя к Президиуму РАН: «Бывший министр обороны И. Родионов запретил кому бы то ни было выдавать документы из архива, касающиеся морального состояния армии». Представьте: министр обороны РФ считает, что секретные сведения о российской армии публиковать нельзя, а А.Н. Яковлев добивается именно этого – дай ему опубликовать секретные сведения и отправить в Джорджтаунский университет! Причем он тут же признает, что Запад вовсе не раскрывает своих архивов и не публикует множества материалов даже большой давности.
Реплики академиков напоминают лепет приличного человека, ошарашенного наглостью хулигана. Академик Д.В. Рундквист спрашивает: «Меня интересует вероятное воздействие этих публикаций на нашего и зарубежного читателя, тем более, что речь идет о рассылке всех материалов по зарубежным университетам… Как вы оцениваете значение этих публикаций для государственных интересов страны?» Ответ А.Н.Яковлева именно наглый: «Не будет правды – не будет свободы». При чем здесь свобода? Ведь его же спрашивают не о свободе (весьма сложной философской категории), а о нанесении вреда стране и народу, причем вполне конкретно.
Академик Е.П. Челышев подходит с другой стороны: «Но может создаться впечатление, что в нашей стране бушевали только разрушительные силы. А созидательное за всем этим не просматривается». Ответ А.Н. Яковлева: «Позитивные документы никто не засекречивал. Они известны». Но ведь это есть прямое признание, что данный труд не является объективным, в него отобраны только «негативные» документы, создающие своей совокупностью искаженный образ реальности. Почему читатели в дополнение к этим 40 томам должны еще для равновесия искать какие-то «позитивные документы»?
Кстати, на дикий довод о том, что «позитивные документы и так известны», академик А.М. Прохоров резонно заметил: «Это глубокое заблуждение, потому что у нас много закрытых документов о достижениях, которые поднимали престиж нашей страны, и вы могли воспользоваться этими материалами». На это – ноль внимания.
Чтобы показать, как непросто было и продолжает таким оставаться сопротивление этой кампании по разрушению памяти, приведу такой случай. По поводу самых вопиющих примеров явной фальсификации академиком А.Н. Яковлевым истории советского периода И.В. Пыхалов и я направили президенту РАН Ю.С. Осипову открытое письмо. В нем мы совершенно не касались идеологических установок А.Н.Яковлева, а говорили об обязанности РАН как высшего органа российской науки требовать от своих членов соблюдения научных норм. Письмо заканчивалось словами: «Заведомая ложь в устах ученого по общественно значимым вопросам – вещь недопустимая. Она подрывает корень науки. Ложь академика А.Н. Яковлева к тому же усиливает раскол в обществе, она направлена на стравливание людей и на углубление кризиса. На такой лжи Российская Академия наук уж никак не должна ставить свой знак качества» [96].
Ю.С. Осипов поручил изучить наше письмо Отделению историко-филологических наук РАН. Ответ (от 29.06.2004) нам дал заместитель академика-секретаря Отделения член-корр. РАН В.А. Тишков. Этот ответ показывает, что верхушка РАН тоже отвергает научные нормы – по доброй воле или по необходимости. Не сказав ни слова по существу содержательных утверждений письма, В.А. Тишков отвергает его с чисто идеологических позиций: «Мы ценим деятельность академика А.Н.Яковлева как ученого… Но Ваш с ним спор – спор убеждений (заслуживает ли советский режим нравственного осуждения или нет?)… Нам только непонятно…» и пр.
Таким образом, сама проблема истины из ценностей верхушки гуманитарного сообщества РФ исключена. Пусть А.Н. Яковлев лжет (это в ответах руководства РАН и не пытались отрицать), но это – его право иметь свои убеждения, руководство РАН все равно «ценит его как ученого». Институциональной поддержки ученых в сопротивлении операциям информационно-психологической войны против России получить нельзя. Это, конечно, создает противнику очень большие преимущества.
Рассмотрим подробнее одну из диверсий психологической войны, направленную на разрушение одного из национальных символов России наиболее долгосрочного действия – образа Александра Невского.
Как известно, в ХIII в. прибалтийские и славянские племена и народности испытывали экспансию немецких и скандинавских феодалов, организованных в военно-религиозные ордены. В булле от 24 ноября 1232 г. папа Григорий IХ призвал ливонских рыцарей-меченосцев идти в Финляндию «защитить новое насаждение христианской веры против неверных русских». В булле от 9 декабря 1237 г., после объединения Ордена меченосцев с Тевтонским орденом, этот же папа призывает организовать «крестовый поход». Был назначен и координатор, папский легат. В походе должны были участвовать датские крестоносцы с территории нынешней Эстонии, тевтонцы и шведские рыцари. В рамках этой кампании и произошла битва со шведами 1240 г. на Неве, за которую Александр получил свой титул. Тогда он просто опередил немцев, которые шли на соединение со шведами[167].
В это же самое время Русь подверглась монгольскому нашествию с Востока. Невозможность ведения войны на два фронта поставила ее перед историческим выбором. Изучение образа действий обоих противников и долгосрочных «доктрин» обоих нашествий определило этот выбор как военный отпор Западу. Символическое значение и для русских, и для Запада имело Ледовое побоище 1242 г., в котором русские отряды под командой Александра Невского разгромили рыцарей.
Современный для нас историк Г.В. Вернадский так определяет его значение: «Два подвига Александра Невского – подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке – имели одну цель: сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром. Племя Александрово построило Московскую державу» (цит. в [97]).
Современный же немецкий историк Э. Хеш пишет в статье «Восточная политика Немецкого Ордена в ХIII веке» о символическом значении тех событий для ХХ века, уже для германских фашистов перед войной с СССР: «В национал-социалистические времена средневековые походы в восточные земли были склонны связывать преимущественно с «немецкой миссией» в крае, лишенном культуры» (цит. в [97]).
Мы имеем дело с историческими событиями, которые сыграли большую роль и в становлении русского народа, и в образе «родной земли», и в выборе цивилизационного вектора будущей России – вплоть до наших дней. Это их значение было понято в России очень быстро. На Соборе Русской Православной церкви в 1547 г. Александр Невский был причислен к лику общерусских святых как новый чудотворец. Тогда же было написано и включено в Великие четьи минеи каноническое житие Александра Невского – на основе источников ХIII в. Из этого и исходила и официальная, и народная русская национальная идеология во все времена, включая советские[168].
Во время перестройки была поставлена задача развенчать Александра Невского как «хитрого, властолюбивого и жестокого правителя». Для этого были привлечены зарубежные и отечественные историки, проведена международная «научная» конференция в 1989 г., мобилизованы научно-популярные издания (типа «Знание – сила»). В тот момент казалось очень странным, что элитарные советские гуманитарии из самых разных сфер вдруг стали резко критиковать Александра Невского по самым разным поводам, казалось бы, совсем далеким (утверждалось, например, что он помешал освоению русскими прогрессивного земельного права, которое предлагал им Тевтонский орден).
В 1989 г. издательство «Прогресс» перевело и выпустило книгу профессора Оксфордского университета Дж. Феннела «Кризис средневековой Руси», одна из важных тем которой сводилась к созданию отталкивающего образа Александра Невского. Во вступительной статье сказано, что «книга профессора Дж. Феннела приоткроет дверь не только в творческую лабораторию английского историка, но и в ту мастерскую, где создаются британские стереотипы русского прошлого и советского настоящего». Никакой двери «приоткрывать» не приходилось, подконтрольное команде Горбачева идеологическое издательство просто внедряло в СССР эти «британские стереотипы», разрушающие один из символов национального сознания, образ одного из главных русских святых.
А в 1990 году, объявленном «Годом Александра Невского» (!), на торжественную международную научную конференцию в Петербурге уже съехалась целая куча профессоров с Запада (материалы конференции изданы в 1995 г. в книге «Князь Александр Невский и его эпоха»). Как они сами заявили, из задача – «перепроверка толкования событий прошлого» и «критическое переосмысление прежних оценочных критериев», а дальше – те же «стереотипы».
Вся программа «развенчания семисотлетнего мифа об Александре Невском» исходит из установки, согласно которой русским было бы предпочтительнее сдаться на милость тевтонских рыцарей и через них приобщиться к цивилизации. Один из самых активных российских участников этой кампании И.Н. Данилевский пишет в 1994 г.: «Как представители западноевропейской цивилизации, рыцари ордена несли с собой новую жизнь, несли новую идеологию – католическую религию… вместе с ними шел новый закон, новый городской быт, новые формы властвования». Всех этих благ лишил нас «освободитель от крестоносного ига» Александр Невский.
§ 11. Демонтаж центральной мировоззренческой матрицы
Кризис мировоззрения в советском обществе начался задолго до реформы 90-х годов, он явился ее предпосылкой. Его проявлением стало зарождение социалистического постмодернизма. Суть его, как и вообще постмодернизма, была в релятивизации, разрыхлении ядра системы ценностей, в ослаблении ее иммунитета против ценностей социальных патологий (признаком этого было, например, бурное развитие уголовной лирики, широкая популярность диссидентских воззрений в широком смысле слова).
Советское общество было идеократическим. В таком обществе достаточно, чтобы в массовом сознании возникла мысль «живем не по правде», и легитимность всего жизнеустройства резко ослабляется. Мысль «живем не по правде» может быть ложной, внедренной противником в ходе информационно-психологической войны, если внутри страны возникла влиятельная группа пособников противника. Так оно и было в СССР.
Но это – фактор второго порядка. Ведь всегда есть противник, почти всегда в обществе есть внутренние враги существующего строя, всегда ведется информационно-психологическая война. Однако она бессильна, если для разрушительных идей нет благоприятной почвы. Если же значительная часть образованного слоя жадно ловит эти идеи, слушая «Голос Америки», значит, защитные силы общественного организма ослабли и поражение в информационно-психологической войне возможно. Поскольку именно интеллигенция, восприняв разрушительные идеи, затем через личные контакты доведет их до массового сознания – инженер рабочим, врач пациентам, офицер солдатам.
Почему начиная с 60-х годов в советском обществе стало нарастать ощущение, что жизнь устроена неправильно? В чем суть противоречия? В 60—70-е годы советское общество изменилось кардинально. Объективно это заключалось в том, что произошла очень быстрая урбанизация, и 70 % населения стали жить в городах. В то же время основную активную часть общества стали составлять те, кто родился в 30—40-е годы. Это было принципиально новое для СССР поколение, во многих смыслах уникальное для всего мира. Это были люди, не только не испытавшие сами, но даже не видевшие зрелища массовых социальных страданий. Капиталистический Запад – «общество двух третей». Страдания бедной трети очень наглядны и сплачивают «средний класс». В этом смысле Запад поддерживает коллективную память о социальных страданиях, а СССР 70-х годов эту память утратил. Молодежь уже не верила, что такие страдания вообще существуют.
Возникло первое в истории, неизвестное по своим свойствам сытое общество. О том, как оно себя поведет, не могли сказать ни интуиция и опыт стариков, ни общественные науки. Кое-что верно подметил, наблюдая западный «средний класс», Ортега-и-Гассет в книге «Восстание масс», но мы тогда реакционных философов не читали. Вот урок: главные опасности ждут социализм не в периоды трудностей и нехватки, а именно тогда, когда сытое общество утрачивает память об этих трудностях. Абстрактное знание о них не действует. Здесь есть нерешенная теоретическая проблема.
Под новыми объективными характеристиками советского общества 70-х годов скрывалась главная, невидимая опасность – быстрое и резкое ослабление, почти исчезновение прежней мировоззренческой основы советского строя. В то время официальное советское обществоведение утверждало, что такой основой является марксизм, оформивший в рациональных (и даже научных) понятиях стихийные представления трудящихся о равенстве и справедливости. Эта установка была ошибочной.
Мировоззренческой основой советского строя был общинный крестьянский коммунизм. Западные философы иногда добавляли слово «архаический» и говорили, что он был «прикрыт тонкой пленкой европейских идей – марксизмом». Это понимал Ленин, но понимали и марксисты-западники (меньшевики), которые правильно видели в этом общинном коммунизме своего врага и пошли на гражданскую войну с ним в союзе с буржуазными либералами. Своим врагом его считали и большевики-космополиты (вождем которых был Троцкий). Это космополитическое течение внутри победившего большевизма было подавлено в последней битве гражданской войны – репрессиях 1937 г.
В 60-е годы оно вновь вышло на арену, и влияние его стало нарастать в среде интеллигенции и нового молодого поколения. Поэтому перестройка – этап большой русской революции ХХ века, которая лишь на время была «заморожена» единством народа ради индустриализации и войны. Сознательный авангард перестройки – наследники троцкизма и, в меньшей степени, либералов и меньшевиков.
Общинный крестьянский коммунизм – культурное явление с сильной религиозной компонентой, это поиск «царства Божия на земле». Он придал советскому проекту мессианские черты (что, в частности, предопределило и культ Сталина). Антисоветский проект также имеет мессианские черты (потому и ненависть к Сталину носит иррациональный характер). Философия крестьянского коммунизма к 60-м годам исчерпала свой потенциал, хотя важнейшие ее положения сохраняются и поныне на уровне коллективного бессознательного. Для консолидации советского общества и сохранения гегемонии политической системы требовалось строительство новой мировоззренческой базы, в которой советский проект был бы изложен на рациональном языке, без апелляции к подспудному мессианскому чувству. Однако старики этой проблемы не видели, т. к. в них бессознательный большевизм был еще жив. А новое поколение номенклатуры искало ответ на эту проблему (осознаваемую лишь интуитивно) в марксизме-ленинизме, где найти ответа не могло. Это вызвало идейный кризис в среде интеллигенции.
Руководство КПСС после разрушительных идейных метаний Хрущева приняло вынужденное решение – «заморозить» мировоззренческий кризис посредством отступления к «псевдосталинизму» с некоторым закручиванием гаек («период Суслова»). Это опять, как и в 30-е годы, давало отсрочку, но не разрешение фундаментального противоречия. Передышка не была использована. Видимо, в нормальном режиме руководство КПСС уже и не смогло бы справиться с ситуацией, если бы ослабило контроль – «второй эшелон» партийной интеллигенции (люди типа Бовина, Бурлацкого, Загладина) был уже проникнут идеями еврокоммунистов. В открытой дискуссии он бы занял антисоветскую позицию.
Пришедшая после Брежнева властная бригада (Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе), сформировавшаяся в условиях мировоззренческого вакуума и идеологического застоя, была уже проникнута антисоветизмом. Утверждение, что советский строй является «неправильным», стало с 1986 г. официальной установкой, и вскоре было заявлено даже, что перестройка является революцией, то есть ставит целью радикальное изменение общественного строя.
Перестройка нанесла по ослабленному культурному основанию народа мощный удар и в большой мере разрушила его (точнее, в достаточной мере, чтобы парализовать волю). Используя введенный в 70-х годах термин, можно сказать, что в 90-е годы мировоззренческая матрица народа Российской Федерации представляла собой ризому – размонтированную среду без матричной иерархии, среду «тотальной равнозначности», лишенную «образа истинности»[169]. Это утрата связной картины мира и способности к логическому мышлению, выявлению причинно-следственных связей.
Революции эпохи постмодерна, каковой была и перестройка, отличаются от революций эпохи модерна очень важным и трудно осознаваемым свойством. Они «включают» и в максимально возможной степени используют сплачивающий и разрушительный ресурс этничности. Революции индустриальной эпохи, даже будучи мотивированы задачами национального освобождения, сплачивали своих сторонников рациональными идеалами социальной справедливости. Они шли под лозунгами классовой борьбы, под знаменем интернационализма людей труда и, можно сказать, маскировали этничность социальной риторикой.
Постмодерн отверг эту рациональность, уходящую корнями в Просвещение и представленную в данном случае прежде всего марксизмом и близкими к нему идеологиями. Отвергая ясные и устойчивые структуры общества и общественных противоречий, постмодерн заменяет класс этносом, что и позволяет ставить насыщенные эмоциями политические спектакли, из которых исключается сама проблема истины. Какие части центральной мировоззренческой матрицы советского (прежде всего русского) народа понесли самый тяжелый урон?
Прежде всего, самосознание. Была проведена интенсивная кампания по представлению СССР (а на деле исторической России) как неправильной страны. В множестве вариантов была выражена старая формула Чаадаева, воспринятая западниками:
«Никаких чарующих воспоминаний, никаких прекрасных картин в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые нами века, все занятые пространства – и вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника… Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя… Явившись на свет, как незаконорожденные дети, лишенные наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существования… Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество…»
Жизнь в России как бы потеряла смысл. Прежний смысл и самоуважение советского человека были подорваны идеологической кампанией перестройки – гласностью. В 1991 г. в Институте социологии АН СССР выступил бывший сотрудник этого института, который эмигрировал в 1976 г., профессор Мичиганского университета В.Э. Шляпентох (специалист по России). Он сказал: «Гласность не имеет прецедентов в мировой истории. Нет такого примера, когда бы общество коренным образом изменило представление о себе. Даже в революцию 17-го года к знанию об обществе, которое свергалось, ничего не было добавлено. А сейчас происходит невероятно быстрое переосмысление прошлого. Люди вдруг почувствовали, что живут плохо, – только потому, что они об этом узнали…» [99].
На короткое время людей увлекли идеей «возврата в человеческую цивилизацию», но это идея, в которую было встроено устройство саморазрушения (как и во всю утопию Горбачева – о ней уже никто не вспоминает). Связная мировоззренческая база была заменена идеей беспочвенности, что вело к мировоззренческому хаосу и ослаблению всех общественных связей, включая национальные. В эпоху студенческих бунтов 1968 г. М. Мюллер писал: «Если в обществе исчезает «смысл», то возникают благоприятные условия для появления нигилизма, анархии, которые отвергают любые обязательства и обязанности перед обществом, а также уничтожают зависимость от всех норм. Ведь обязательства и нормы только тогда могут к чему-либо обязывать, когда признается их смысл» [100].
Изменение образа жизни при соответствующем идеологическом воздействии означает глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушает мировоззренческое ядро цивилизации. Крайне жесткое, во многих отношениях преступное, воздействие на массовое сознание имело целью непосредственное разрушение культурного ядра советского народа. Изменения в жизнеустройстве такого масштаба уже не подпадают под категорию реформ, речь идет именно о революции, когда, по выражению Шекспира, «развал в стране и все в разъединенье».
Операцией психологической войны было и целенаправленное разрушение нравственных норм. Конечно, ослабление этих норм – неизбежное следствие большого кризиса, однако есть много свидетельств того, что идеологические службы именно развращали молодежь.
Социологи из МВД пишут: «На начальном этапе содержание их материалов носило сенсационный характер. Отдельные авторы взахлеб, с определенной долей зависти и даже восхищения, взяв за объект своих сочинений наиболее элитарную часть – валютных проституток, живописали их доходы, наряды, косметику и парфюмерию, украшения и драгоценности, квартиры и автомобили и проч., а также места их «работы», каковыми являются перворазрядные отели, рестораны и бары. Эти публикации вкупе с известными художественными и документальными фильмами создали красочный образ «гетер любви» и сделали им яркую рекламу, оставив в тени трагичный исход жизни героинь.
Массированный натиск подобной рекламы не мог остаться без последствий. Самое печальное, что она непосредственным образом воздействовала на несовершеннолетних девочек и молодых женщин. Примечательны результаты опросов школьниц в Ленинграде и Риге в 1988 г., согласно которым профессия валютной проститутки попала в десятку наиболее престижных, точнее – доходных профессий» [101].
Слабые попытки противодействовать растлению общества пресекались мощным предпринимательским лобби и верховной властью (на закон об учреждении Совета по нравственности на телевидении, который был принят в Госдуме с большим перевесом голосов, Ельцин наложил вето без всяких объяснений). Даже принятие Доктрины об информационной безопасности изменило положение не принципиально. Теперь есть оправдание – глобализация.
Социологи пишут: «Одним из ярких проявлений глобальных тенденций в российских медиа стали трансляции лицензионных игровых шоу типа: «Слабое звено», «Алчность», а также программ в формате Reality TV – «За стеклом», «Последний герой». Показательно, что идейный стержень этих программ составляют социал-дарвинистские посылки о борьбе за существование как необходимом законе жизни общества, в которой неспособные уничтожаются, а выживают в ходе «естественного отбора» наиболее приспособленные. Характерно, что в игровых программах собственно знания и эрудиция участников все более уходят на второй план. Акцент делается на возможностях победы над противником через подкуп, сговор, активизацию темных, находящихся в глубине души инстинктов. Практически во всех программах прослеживается идея, что для обладания материальным выигрышем – т. е. деньгами, хороши любые средства. Таким образом, программы ориентируют зрителя на определенный вариант жизни, стиль и способ выживания» [102].
Нравственное чувство людей оскорбляла начатая во время перестройки интенсивная кампания по внедрению «ненормативной лексики» (мата) в литературу и прессу, на эстраде и телевидении. Появление мата в публичном информационном пространстве вызывало общее чувство неловкости, разъединяло людей. Опросы 2004 г. показали, что 80 % граждан считали использование мата на широкой аудитории недопустимым [103, с. 258]. Но ведь снятие запрета на использование мата было на деле частью культурной политики реформаторов! Это был акт войны, сознательная диверсия против одной из культурных норм, связывающих народ. Недаром 62 % граждан одобрило бы введение цензуры на телевидении [103, с. 80].
Специальной программой было внедрение в массовое сознание антропологической модели социал-дарвинизма – для вытеснения из мировоззренческой матрицы прежнего, идущего от Православия и стихийного общинного коммунизма представления о человеке. В разных вариациях во множестве сообщений давались клише из Ницше, Спенсера, Мальтуса такого типа: «Бедность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих «на мели и в нищете» – все это воля мудрого и всеблагого провидения».
Очень популярен среди интеллигенции был Н.М. Амосов (в рейтинге шел третьим после Сахарова и Солженицына). Он писал в своем кредо: «Человек есть стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству… За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу – ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых» [104].
Социал-дарвинистская модель не имела шансов укорениться как элемент русского мировоззрения, это была саморазрушающаяся конструкция. Но, создавая идейный хаос, она разделяла людей, разрывала их связи, стравливала поколения и подрывала многие структуры солидарности. Большинство народа было представлено «люмпенизированными толпами». Уже в 1990 г. газеты писали вещи, которые вызывали культурный шок, которых за два года до этого просто нельзя было себе вообразить. Так, «Литературная газета» в лице редактора раздела экономики дала такую программу: «В отличие от нынешней своей узкой роли… военные власти должны по приказу Президента гарантировать действие ключевых законов экономической реформы… Гражданская администрация, будь она трижды демократически избрана, все равно ситуацией не владеет и не сумеет противостоять классовой ненависти люмпенизированных толп. Армия, быть может, и сумеет».
Этот тяжелый удар по мировоззренческой системе, сопряженный с тяжелым кризисом, породившим страх перед лишением куска хлеба, парализовал совместную, продуктивную духовную деятельность людей. В России возникли новые виды массовых страхов, изолирующих людей друг от друга. Социолог-эмигрант В.Э. Шляпентох писал даже не о главных страхах: «Страх за свою жизнь влияет на многие решения россиян – обстоятельство, практически неизвестное в 1960–1980 годах… Судьи боятся, и не без основания, обвиняемых, налоговые инспекторы – своих подопечных, а милиционеры – преступников. Водители смертельно боятся даже случайно ударить другой автомобиль, ибо «жертва» может потребовать компенсации, равной стоимости новой машины или квартиры».
Повторилось то же самое, в чем сменовеховцы обвиняли либеральную часть эмиграции. Вот что говорит в 1926 г. «евразиец» Г.В. Флоровский об интеллигентах-западниках предыдущей формации: «Духовное углубление и изощрение им кажется не только не практичным, но и чрезвычайно вредным. Разрешение русской проблемы они видят в том, чтобы превратить самих себя и весь русский народ в обывателей и дельцов. Им кажется, что в годину испытаний надо все духовные, религиозные и метафизические проблемы на время оставить в стороне, как ненужную и никчемную роскошь. Они со странным спокойствием предсказывают и ожидают будущее понижение духовного уровня России, когда все силы будут уходить на восстановление материального благополучия. Они даже радуются такому прекращению беспочвенного идеализма» [105].
Из господствующих представлений о человеке вытекают и нормы социальных отношений, и обычаи межличностных отношений. И то, и другое порождается этнической культурой и одновременно служит механизмом ее воспроизводства. Уничтожение сложившихся в советском народе норм социальных отношений было одной из главных и актуальных задач «холодной» войны. Это, очевидно, совпадало и с задачей демонтажа народа как общего условия победы в «холодной» войне.
А.С. Панарин пишет, что тип этой войны не сводится к войне цивилизаций: «Перед лицом «конфликта цивилизаций» Запад как оспариваемая цивилизация может только консолидироваться. Перед лицом же вызова со стороны социальной идеи – а именно таким был советский вызов – Запад мог раскалываться, а народные низы Запада оказывались на подозрении как среда, восприимчивая к крамольной «социальной правде». Для симметричного ответа на этот вызов буржуазному Западу необходимо было найти на «коммунистическом Востоке» фигуру, способную стать пятой колонной буржуазности – подпольщика, аналогичного народному антибуржуазному подполью на Западе. Этим «подпольщиком либерализма» и стал носитель эгоистической индивидуальности, видящей на Западе свое тайное отечество» [6, с. 156].
Советский «подпольщик либерализма» уже в 60-е годы сделал индивидуализм своей социальной философией, превращение народа в собрание свободных индивидов (атомов) было декларировано как цель вполне определенно. Реализация таких доктрин неизбежно меняет тип человеческих отношений. Перестройка и затем реформа стали огромной программой по отмене традиционных устоявшихся норм человеческих отношений. Социальные ценности и нормы управляют поведением. Их разрушение дезорганизует общество, разрывает связи, соединяющие людей в народ. Э. Дюркгейм писал об этой ситуации в своей известной книге «Самоубийство»: «Общество оказывается временно неспособным проявить нужное воздействие на человека. Никто не знает в точности, что возможно и что невозможно, что справедливо и что несправедливо, нельзя указать границы между законными и чрезмерными требованиями и надеждами, а потому все считают себя вправе претендовать на все».
В таком положении распада людьми овладевает тревога, и это сразу проявляется в росте числа самоубийств (в РФ только число детских самоубийств достигает сейчас 2 тыс. в год). Другое проявление – рост агрессивности подростков и молодежи. За годы реформы темпы роста числа преступлений несовершеннолетних в 3 раза выше, чем у взрослых. В целом результатом этой программы стал беспрецедентный для России рост преступности, который в свою очередь привел к росту страхов и отчуждения людей. На вопрос «Чувствуете ли вы себя в вашем городе защищенным от преступных действий» весной 1993 г. ответили отрицательно 84 %, а 22 % опрошенных лично были жертвами преступных действий [106].
Признак кризиса человеческих отношений, стягивающих людей в народ – неожиданное для российской культуры явление геронтологического насилия. Традиционно старики были в России уважаемой частью общества, а в последние десятилетия советского периода и вполне обеспеченной частью, но в ходе реформы социальный статус престарелых людей резко изменился. Большинство их обеднели. Но главное, очень большая их часть оказались в положении изгоев, не нужных ни семье, ни обществу, ни государству, ни даже церкви. Отношение к старикам говорит об общей дегуманизации российского общества. Крайним ее проявлением стало насилие по отношению к старикам, которое приобрело масштабы социального явления.
Это явление наблюдается во всех социальных слоях, что и говорит о болезни народа. Изучение проблемы в Саратовской области показало, что «социальный портрет» тех, кто избивает и мучает стариков, отражает общество в целом. В составе «субъектов геронтологического насилия» 23,2 % имеют высшее образование (плюс студенты вуза – 3 %), 36,7 % – среднее, 13,5 % – среднее техническое, 4,9 % – начальное. у 13,4 % образовательный уровень неизвестен. 67 % насильников – родственники, 24 % – друзья и соседи, 9 % – «посторонние» [107].
Геронтологическое насилие в РФ было узаконено уже в самом начале реформы потому, что новый политический режим видел в старших поколениях советских людей своего главного и непримиримого противника. Поэтому к старикам сразу была применена демонстративная жестокость в самой примитивной форме – массового показательного избиения на улицах Москвы 23 февраля 1992 г.
Газета «Коммерсант» (1992, № 9) так описывает ту операцию: «В День Советской Армии 450 грузовиков, 12 тысяч милиционеров и 4 тысячи солдат дивизии имени Дзержинского заблокировали все улицы в центре города, включая площадь Маяковского, хотя накануне было объявлено, что перекроют лишь бульварное кольцо. Едва перед огражденной площадью начался митинг, как по толпе прошел слух, будто некий представитель мэрии сообщил, что Попов с Лужковым одумались и разрешили возложить цветы к Вечному огню. С победным криком «Разрешили! Разрешили!» толпа двинулась к Кремлю. Милицейские цепи тотчас рассеялись, а грузовики разъехались, образовав проходы. Однако вскоре цепи сомкнулись вновь, разделив колонну на несколько частей». Разделенные группы ветеранов были избиты дубинками, и это непрерывно показывали по центральному телевидению[170]. Сейчас к таким вещам привыкли, а тогда это вызвало культурный шок.
Одновременно ряд СМИ провели показательную кампанию глумления над избитыми. Обозреватель «Комсомольской правды» Л. Hикитинский писал в репортаже (25.02.1992): «Вот хромает дед, бренчит медалями, ему зачем-то надо на Манежную. Допустим, он несколько смешон и даже ископаем, допустим, его стариковская настырность никак не соответствует дряхлеющим мускулам – но тем более почему его надо теснить щитами и баррикадами?»
Уже во время перестройки ее активисты поражали необычным отрицанием самых обыденных норм. Так, одна из организаторов антисоветского Народного фронта Эстонии М. Лауристин, зав. кафедрой журналистики Тартусского университета, была дочерью известного революционера, первого председателя Совета Министров Эстонской ССР в 1940 г. Вот штрих, говорящий о типе сознания этих людей – она публично настаивала на уничтожении памятников ее отцу в Таллине, даже на территории завода, носящего его имя.
С. Франк писал в эмиграции о состоянии людей во время таких смут: «Время таково, что умные и живые люди склонны подлеть и отрекаться от всякого духовного содержания, а честные и духовно глубокие натуры склонны глупеть и терять живое отношение к действительности».
Говоря о «шоковой терапии» первых лет реформы, обычно обращают внимание на разрушение хозяйственных и связанных с ними социальных структур. Но едва ли не более важно для нашей темы «молекулярное» действие этого шока, уничтожавшее «слабые взаимодействия» между людьми, устранение связующего эффекта взаимного участия, элементарной честности и порядочности. А.С. Панарин, говоря о катастрофических изменениях в системе хозяйства, напоминает и об этой стороне дела: «Но сказанного все же слишком мало для того, чтобы передать реальную атмосферу нашей общественной жизни. Она характеризуется чудовищной инверсией: все то, что должно было бы существовать нелегально, скрывать свои постыдные и преступные практики, все чаще демонстративно занимает сцену, обретает форму «господствующего дискурса» и господствующей моды» [8, с. 297].
Людям было просто стыдно глядеть друг на друга из-за той лжи, которой был пропитан весь спектакль «инаугурации» новой национальной «элиты», которую порождала реформа. Ю. Козлов писал в «Независимой газете» (2.06.1992): «Ложь – в самом облике новых хозяев жизни (почему-то ни разу не видел среди них пожилого), миллионеров и миллиардеров. Один только что из тюрьмы, обижен, с бегающими глазами. Другой не из тюрьмы, не обижен, но в каком-то ужасающем тике. Третий с черными, как уголь (почему не вставит белые?) зубами и все время курит. Четвертый худ, желт, как доедаемый малокровием народоволец. Пятый мычит, не может связать двух слов (как заработал миллионы?). Шестой, напротив, изъясняется с нечеловеческой быстротой – ни слова не разобрать. И у всех в глазах страх и тоска. Хемингуэй, помнится, называл ее «тоской предателя».
Вызывало омерзение, что подбор и расстановка кадров в этой «элите» производились теневыми силами при помощи теневых процедур, с какой-то непонятной наглостью. То возникает Березовский, то Починок, то Кох. Кто, почему, как их выдвинул и вдруг дал огромные реальные полномочия в государстве? И так сверху донизу. В 1994 г. членом Комиссии по правам человека при Президенте России был назначен Владимир Податев, трижды судимый (за кражу, вооруженный грабеж, изнасилование) «вор в законе» по кличке «Пудель». Его кандидатуру подбирали и проверяли в Управлении кадров Администрации Президента [108]. Нравственная травма людям наносилась вполне сознательно, она имела функциональный смысл.
Все это заставляло людей замыкаться в себе, ослабляло дружеские и семейные связи. Мы достаточно много слышали о демографической катастрофе России, о резком сокращении рождаемости, которое произошло с начала реформы. Причины обычно сводят к экономическому кризису. Но оказывается, что примерно такая же катастрофа произошла и у народов, которые не переживали такого же социального бедствия и были «приняты в Запад», как, например, Литва. Распад советского народа и смена жизнеустройства вызвали внутренний кризис во всех его частях, в том числе и тех, которые мечтали об отделении. В Литве 20 лет до выхода из СССР поддерживался стабильный уровень рождаемости, а с 1991 г. резко упал: в 1990 г. родилось 57 тыс. детей, а в 2000 г. в 1,7 раз меньше – 34 тыс. Более того, в этой республике с сильными католическими традициями вдруг стало неудержимо расти число детей, родившихся вне брака. Оно стабильно удерживалось на уровне 7 %, а с 1991 г. стало линейно расти и в 2001 г. составило 25,4 % (без признаков торможения) [109].
Мировоззренческий смысл имело и возникновение в 90-е годы в России – развитой промышленной стране с высоким образовательным уровнем населения – антисоциального вандализма, выраженного чаще всего в хищении цветных металлов с разрушением больших ценностей и даже условий цивилизованной жизни. И это явление набирает силу. Вот несколько типичных примеров:
Красноярск, 5 июля 2002 г.: «Похитители заранее подпилили четыре стоявшие на пустыре деревянные опоры линии электропередачи (ЛЭП), а затем в ночное время повалили их и сняли почти 300 кг провода. В результате действий злоумышленников 30 тыс. человек остались без холодной и горячей воды… Как сообщила пресс-служба местных энергетиков, это уже 217-й с начала текущего года случай повреждения городских ЛЭП с целью хищения проводов, кабелей и прочих изделий из цветных металлов» (РИА Новости).
Кемеровская область: «В Центральных электрических сетях ОАО «Кузбассэнерго» неизвестные злоумышленники частично разобрали 7 опор на магистральной ЛЭП напряжением 220 тысяч вольт. Ремонтники сетей обнаружили, что расхитители, обычно крадущие алюминиевый провод, на этот раз срезали с металлических опор стальные уголки, придающие жесткость и устойчивость конструкции. Общая масса похищенных деталей составила 1,5 тонны» (IA Regnum).
Московская обл., 7 июня 2006 г.: «Минувшей ночью неизвестными вандалами на перегоне Тушино-Павшино был демонтирован и похищен кабель, обеспечивающий работу устройств сигнализации, централизации и блокировки, то есть стрелок и светофоров. В результате произошли сбои в движении пригородных поездов утренних рейсов. Прямые электропоезда с Рижского вокзала связывают Москву с такими городами, как Красногорск, Дедовск, Истра, Волоколамск» (rbc.ru).
Наконец, разрушению подверглась и та часть общественного сознания, которая скрепляет и придает действенность всем элементам мировоззренческой матрицы – рациональность. О технологиях этой операции и достигнутых результатах см. [110].
Пишут даже, что в России в результате реформ «произошло рождение удивительного явления – парадоксального человека» [111]. Для нынешнего состояния нашего общества «парадоксальных людей», согласно концепции Ж.Т. Тощенко, характерно возникновение фантомов, явлений-призраков, образы которых заполняют общественное сознание. Образуются страны, которые не отвечают признанным критериям государственности и международного права (Приднестровская республика, Нагорный Карабах), которые существуют много лет и занимают важное место в политике. Возникают и исчезают политические партии, назначение, программы и ресурсы которых неизвестны. В избирательных списках появляются двойники-однофамильцы, которые иной раз получают больше голосов, чем реальные кандидаты. Государственная дума принимает законы-фантомы, которые не могут быть выполнены ни при каких условиях и лишены содержания (но для чего-то кому-то нужны). Политический язык заполнен понятиями-фантомами, которые в российской реальности лишены смысла, но которые с помощью СМИ навязываются массовому сознанию. Роскошно изданные массовым тиражом книги пропагандируют теории-фантомы, опровергающие все накопленное человечеством знание в обширных областях (вроде «новой хронологии» академика Фоменко)» [112].
Главным инструментом разрушения рационального сознания стали в РФ СМИ, особенно телевидение. По сообщению агентства «Росбалт» (ноябрь 2006 г.), «Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился с письмом к гендиректору Первого канала К. Эрнсту с требованием «остановить производство телепередач, пропагандирующих оккультные антинаучные знания и методы оздоровления». Глава епархии констатировал, что в эфире канала изобилуют программы о магии, гадании, сглазе и порче… Архиепископ отметил, что в программах «практически отсутствует контр-мнение священнослужителей, медиков и психологов на представленную проблему, либо оно крайне коротко». Он упрекнул менеджеров Первого канала в лоббировании оккультного просвещения и призвал вспомнить, что главной функцией телеканала «является просветительская функция».
В своем обращении священнослужитель выразил даже изумление: «Это просто невероятно! XXI век на дворе, и я, архиерей Русской Православной Церкви, не раз ложно обвиняемой в противлении научному прогрессу, встаю на защиту науки и просвещения, в то время как «прогрессивная элита» масс-медиа тиражирует на многомиллионную аудиторию лженаучные знания, средневековое мракобесие и суеверия».
А вот заметка в прессе того же времени. Показанный в апреле 2006 г. по РТР фильм «Великая тайна воды» получил три премии ТЭФИ, в том числе за лучший документальный фильм. Как пишет автор заметки, была и реклама: «Это удивительный совершенно, интереснейший фильм», – захлебывалась Ирина Петровская в эфире «Эха Москвы», подводя слушателя к «научной изюминке» фильма: если с водой здороваться, читать над ней молитвы с частотой 8 Гц, давать слушать ей классическую музыку, то она приобретает чудодейственные свойства. Автор и спонсор фильма Эмомото Масару – создатель новой религиозной секты, продающий «намоленную воду» по $35 за пять унций. Получается, что канал «Россия» предоставил бесплатную (?) рекламу в прайм-тайм товару под названием «Indigo Water – геометрически совершенная вода с посланием вашему телу».
Критик продолжает: «На протяжении всего фильма демонстрируется незнание школьной программы. Например, фильм вопрошает: «Почему из всех жидкостей у воды самое высокое поверхностное натяжение?» Не торопитесь искать ответ у Масару: в любом справочнике написано, что поверхностное натяжение воды 73 мН/м, а ртути (тоже жидкость, если кто не в курсе) – целых 510. «До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода – единственное вещество на планете – может находиться в трех состояниях (жидком, твердом и газообразном)», – вопиют авторы. Это вообще бред: можно подумать, у других веществ нет трех агрегатных состояний» [113].
Смена властной верхушки в 2000 г. «подморозила» демонтаж мировоззренческой матрицы народа России, но не остановила его. Однако и замедление процесса оказало оздоровляющее воздействие – восстановление, регенерация мировоззренческих структур идет и на «молекулярном» уровне.
Д. Алексеев пишет: «При Путине предприняты усилия, чтобы выгнать из тела России постмодернистского червя. Это значит вернуть обществу привилегированную систему жизненных координат, ось исторического времени, ощущение непрерывности прошлого и настоящего. Опереться на присущие массовому человеку представления об одобряемых жизненных сценариях, о допустимых вариантах экономического успеха, соразмерных честной жизни, и так далее. По большому счету эти координаты массового сознания, если они воспринимаются людьми как твердые и справедливые, и есть лучшее средство против «пластилиновости» этого сознания» [78].
Однако ни «подмораживание» деструктивного процесса, ни «молекулярные» усилия не могут сравниться по своей эффективности с целенаправленной, хорошо организованной и хорошо оснащенной технологически программой. Требуется изменение самой структуры политической системы страны, чтобы возникла организационная основа равноценной по масштабам и ресурсам программы восстановления и модернизации центральной мировоззренческой матрицы прежде всего русского народа. Только тогда начнется и сборка российской гражданской нации – и выход России из кризиса, который превратился в историческую ловушку.
§ 12. Разрушение «естественного религиозного органа» населения
Сильнейший удар был нанесен по религиозной компоненте мировоззрения (при внешнем возвращении религии после краха атеистического государства). В мировоззренческой матрице русского народа содержалась одна тема, о которой думали, но совсем не говорили, – о религиозном смысле русской революции и советского проекта, о поиске возможности соединения правды-истины и правды-справедливости. Об этом говорили до Октябрьской революции и в эмиграции, но отсутствие гласного обсуждения этой проблемы в советском обществе вовсе не лишало ее значения как связующей силы. Толстой и Достоевский – два великих религиозных мыслителя. И о них Бердяев говорит: «И Толстой, и Достоевский по-разному, но оба отрицают европейский мир, цивилизованный и буржуазный, и они – предшественники революции» [115]. Но они и сами об этом пишут, и верно, что «Толстой – зеркало русской революции».
Бердяев продолжает: «Для русского сознания ХIХ века характерно, что русские безрелигиозные направления – социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм – имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом. Это отлично понимал Достоевский. Он говорит, что русский социализм есть вопрос о Боге и бессмертии. Для революционной интеллигенции революция была религиозной, она была тоталитарна, и отношение к ней было тоталитарное» [115].
Институционализированное в Православии религиозное сознание в годы перестройки понесло урон от той пошлости, с которой «возвращали религию» бывшие работники идеологических служб КПСС. Профанация религии и превращение церкви в идеологическое ведомство при государстве подрывают религиозное чувство гораздо сильнее, чем зажим или даже преследования. Американская журналистка М. Фенелли, которая наблюдала перестройку в СССР, подмечает: «По дороге в аэропорт Москва подарила мне прощальный, но впечатляющий образ лжи, которым проникнуто все их так называемое «обновление»: кумачовые плакаты с лозунгом «Христос воистину воскрес!» Сперва думаешь, что перед тобой какая-то новая форма атеистического богохульства…» [116].
«Прогрессивная» часть либеральной интеллигенции склонялась к богостроительству через рационализацию религиозных представлений, попытку их гибридизации с научными категориями – разные виды сайентологии («научной религии). Духовный лидер «демократов» академик Н. Амосов писал, например: «Бог – материя. Нельзя отказываться от Бога (даже если его нет). К сожалению, «материальность» Бога, пусть самая условная, служит основанием для мистики, приносящей обществу только вред. Без издержек, видимо, не обойтись… Точные науки поглотят психологию и теорию познания, этику и социологию, а следовательно, не останется места для рассуждений о духе, сознании, вселенском Разуме и даже о добре и зле. Все измеримо и управляемо» [104]. Это был внешне не оформленный, но большой инженерно-идеологический проект разрушения вошедших в подсознание религиозных структур огромного народа.
Еще важнее «молекулярный» отход от религии – к мистическим культам и суевериям, – который наблюдается в среде молодежи и «новых русских». Это следствие общего мировоззренческого кризиса, которое, однако, подкрепляется и акциями психологической войны.
В 1990, 1991 и 1992 гг. проводились обширные исследования взаимосвязи религиозных и политических взглядов. Было найдено, что распространение новой волны религиозности шло от интеллигенции к массе и от столиц на периферию. А главное, только 9 % опрошенных (1992) черпало религиозную информацию в церкви, а из СМИ 39 % и из художественной литературы 31 %. «Наиболее авторитетными в вопросах религии» фигурами были Солженицын, Лихачев, Амосов и… журналист В. Молчанов. За ним пятое место занял патриарх Алексий II (10 %)[171].
Очень расплывчатой была конфессиональная самоидентификация верующих. В Москве в 1992 г. назвали себя «христианином вообще» 52 %, православным (Московская патриархия) 12 %, православным (Российская свободная православная церковь) 5 %. Но главное – мировоззренческая эклектика, невозможность для большинства определить себя как верующего или атеиста, как верящего в Бога или в сверхъестественные силы. Это, по словам авторов, было особенно характерно для «перспективных» слоев населения, более молодых и образованных.
В отчете сказано: «Поразителен тот факт, что с «христианами вообще» самоидентифицируется более 1/3 людей, верящих не в Бога, а в сверхъестественные силы (в этой же категории наибольший процент людей называют себя и православными, и католиками, и мусульманами, и буддистами). И даже среди атеистов 20 % опрошенных относят себя к христианской конфессии, в том числе 16 % – к «христианам вообще». То есть люди могут верить в сверхъестественные силы, но не в Бога, могут не верить ни в Бога, ни в сверхъестественные силы и в то же время считать себя христианами! Поразительное представление о «христианстве вообще» как о своеобразной вере «без берегов». Такое «христианство без берегов» свидетельствует не только о мировоззренческой терпимости, но и уже о своего рода мировоззренческом эклектизме и лабильности отдельных компонентов мировоззрения, о принципиальной неспособности к догматически определенному мировоззрению» [79].
Мировоззрению большинства было присуще сочетание несовместимых элементов – православия с симпатией к буддизму, веры в Бога и в пара– и квазинаучные явления. Верующих в Бога – 43 %, а в «похищение биоэнергии» – 67 %. Даже среди верующих в храме привлекает «благолепие» (39 %) и «отстраненность» (28 %), а ради проповеди в церковь ходят только 9 % [117].
В полном отчете сказано: «Показателен повышенный интерес к нетрадиционным формам религиозности новой профессиональной группы нашего общества – коммерсантов. Судя по всему, среди них наиболее высока доля людей с ярко выраженным неопределенным, эклектичным паранаучным и парарелигиозным мировоззрением. Не случайно именно в этой, социально очень активной, профессиональной группе самое большое число верящих не в Бога, а в сверхъестественные силы – 20 %» [79].
В наибольшей степени расщепленное мировоззрение коррелировало в переломный момент начала 90-х годов с наибольшей приверженностью к реформе, разрушившей советский строй и советский народ. В отчете говорится: «Как и в исследовании 1991 г, наиболее прорыночной группой населения проявили себя «верящие в сверхъестественные силы». Но среди врагов рынка теперь впереди уже не атеисты, чья марксистская идеология порядком расшаталась, а традиционалисты – верующие… Верящие в сверхъестеcтвенные силы», оккультисты – основная мировоззренческая социальная база борцов с коммунистическим государством – и сейчас чаще других выступают за распад СНГ и РФ, в то время как верующие в Бога – нынешняя стихийная социальная база авторитаризма – не имеют четко выраженной позиции по этому вопросу, но скорее склонны поддерживать единство и целостность РФ, чем сохранение СССР – СНГ» [79].
Опросы студентов Красноярска в 1988 и 2000 гг. показали, что за 12 лет реформы в их среде произошло еще резкое усиление «квазирелигиозных» представлений и нарастание мировоззренческой неопределенности. При этом образованная молодежь вовсе не вернулась от атеизма к религии (и тем более к православию) – произошел дальнейший сдвиг к вере в паранормальные явления, к эклектике, религиозному синкретизму (например, к вере в реинкарнацию души после смерти). Если в 1988 г. в бессмертие души верило в той или иной степени 8 % студентов, то в 2000 г. 73 % [118]. В таблице дано соотношение крайних позиций.
«Квазирелигиозные» представления студентов в 1988 и 2000 г. (в % от числа опрошенных)
Важно отметить, что точно такие же сдвиги произошли и в других советских республиках, а также в странах СЭВ – слом жизнеустройства, основанного на принципах солидарности, радикальное внедрение ценностей конкуренции привели к кризису мировоззренческой основы общества. Большие опросы студентов и преподавателей украинских вузов (8 тыс. преподавателей и 55 тыс. студентов в 13 вузах), проведенные в 1993 и 1998 гг., показали ту же тенденцию, что и у российских студентов, – нарастание веры в оккультные явления и снижение религиозности. За указанный срок число верующих среди студентов сократилось у мужчин с 52,7 до 26,8 % и у женщин с 66,9 до 45,8 % (при том, что в среде старшего поколения, у педагогов, религиозность возросла) [119].
В странах Восточной Европы после 1989 г. церковь, казалось бы, смогла открыто выйти на общественную сцену, но ее реальное влияние на общественное сознание сократилось. Это относится и к Польше – стране с самым высоким в регионе уровнем религиозности. Авторитет церкви – особенно высокий в Польше в период коммунистического режима – падал даже в сфере религиозной, не говоря о нравственной или политической.
Крайней формой религиозной маргинальности стало распространение оккультных ориентаций. В 1998 г. к оккультизму отнесло себя примерно такое же количество чехов, как и к христианству. А чешская молодежь, образованные и городские слои населения отдают предпочтение оккультизму[172]. Индивидуализация веры, ее отрыв от церковной жизни и церковных учений, от ритуала, приобрели крайние выражения «приватизации веры» в Болгарии и Венгрии. Здесь, как и в Чехии, высок интерес к магии, предсказанию судьбы, астрологии, который перевешивает интерес к православию.
И вот важный для нашей темы вывод о состоянии народов Восточной Европы: «На этом фоне размывались различия, существующие между народами региона в уровне и характере религиозности. Вместе с этим исчезало и своеобразие самих национальных культур, столь отчетливое в период бархатных революций. Культурная унификация народов явилась одним из важнейших, если не главным, процессом второй великой трансформации Восточной Европы» [23, с. 210].
Расщепление религиозного сознания радикально проявилось в возникновении групп с взаимоисключающей символической идентичностью, то есть с перенесением конфликта в социальное пространство. В некоторых народах СССР и России это проложило исключительно глубокие трещины и расколы с тенденцией к нарастанию несовместимости. Внутри благополучной еще недавно общности образуются группы с несоизмеримыми ценностными и поведенческими представлениями – группы, взаимно неинтегрируемые. Раскол происходит так внезапно, что позиции становятся агрессивно иррациональными. Видение реальности мифологизируется. Самосознание группы становится эссенциалистским, ее взгляды на мир кажутся чем-то природным, «естественным», существовавшим вечно (примордиальным). Как выражаются политологи, такие группы не представляют из себя ни политических партий, ни социальных движений, ни церквей, они – все это вместе [120].
Примером и во многом модельным случаем такого развития событий является возникновение движения ваххабизма, вошедшего в конфликт с национальным исламом (ваххабизм – название условное, оно не является и самоназванием; от исторического арабского ваххабизма ХVIII в. это движение отличается, хотя есть и важное сходство). Приверженцы этого движения следуют идее джихада против мусульман, якобы «отступивших» от принципов ислама. Это приводит к необратимому расколу в национальной культуре и ставит власть в безвыходное положение, поскольку компромисса с ваххабитами достичь невозможно – ведь они ведут против большинства «изменников» священную войну. Ваххабиты «этнизируют» общность своих оппонентов также в примордиалистском плане, так что в глазах большинства ваххабиты становятся «фундаменталистами» и отщепенцами. Возникает конфликт между исламской и национальной идентичностями, и диалог часто стновится совершенно невозможным. Преодоление противостояния идет через сложный и постепенный синтез с созданием различных вариаций национально-религиозной идентичности.
Понимание структуры этого конфликта очень важно для всей проблематики демонтажа народов, поскольку те способы интерпретации реальности и механизмы самоосознания, которые возникли в расколе между ваххабитами и национальным исламом, в более или менее сходных формах проявляются и в других расколах, не имеющих отношения к исламу[173].
В случае ваххабизма несоизмеримость мировоззрения новой общности и большинства вызвана убежденностью в том, что национальное большинство изменило смыслу религии. Аналогичный разрывающий общность конфликт возникает, когда большинство обвиняется в том, что оно приняло «чужую веру». Так действовали общности неоязычников.
Этнологи Российской Академии наук довольно подробно изучали неоязыческую составляющую в национальном движении Чувашии, которое пользовалось в республике большим влиянием до середины 90-х годов (см. [121]). Известно, что миссионерская деятельность РПЦ началась в Чувашии с середины ХVI в., но широким христианским просветительством занималась уже чувашская интеллигенция со второй половины ХIХ в. Современная чувашская профессиональная культура вышла из этого просветительского проекта. Однако для мобилизации политизированной этничности во время перестройки группа гуманитарной интеллигенции взяла за основу неоязычество как инструмент радикального разрыва с советской историей и советским типом межнационального общежития. Нападкам был сразу подвергнут и основоположник просветительской традиции в Чувашии – за то, что он «переписал чувашскую книгу на новый, православный лад, уничтожив тем самым фундамент древней эры, языка и культуры вообще», что грозит «исчезновением с лица земли загадочного, реликтового почти этноса – чувашей» (отдельная часть доктрины состоит в том, что чуваши – это шумеры, а чувашский язык и является шумерским языком). Место язычества определялось так: «Это мета-идея нашего родового единства, нашей родовой памяти. Это голос булгаро-чувашской крови» [121, с. 11, 17].
Попытка реанимации язычества имела исключительно сепаратистские цели, была инструментом расчленения больших общностей и большой гражданской нации (советской, затем российской). Лидер Партии чувашского национального возрождения филолог А. Хузангай объяснял: «Любая народная вера по своему определению националистична, она формирует стержень духовного сопротивления нации»[174]. На горбачевско-ельцинской волне этот проект, казалось, был близок к реализации. В июне 1993 г. газета «Советская Чувашия» даже опубликовала проект строительства языческого храма, одобренный комиссией Верховного Совета республики: «Храм будет иметь кубическую форму. Этажи должны символизировать чувашское миропонимание: подземный, светлый и небесный миры… На первом этаже будут бытовые помещения и атрибутика подземного мира с семью помещениями для «отмывания грехов». На верхнем этаже – библиотека, в центральной части зал. Будут установлены 99 колонн – символы духов» [121, с. 19].
Видимо, по своему замыслу этот проект относился к этническому предпринимательству и определенного долговременного вектора не имел. Поначалу, на волне перестройки, он был, как ни странно, западническим. А. Хузангай высказывал такие претензии к России: «Оказавшись под прессом русского православия, чувашское общество не смогло воспринять европейской христианской и культурной традиции с ее неотъемлемыми демократическими «спутниками» – свободными выборами и парламентаризмом, правами человека и свободолюбивым индивидуализмом, здоровым европейским национализмом, свободой слова и т. д.» [121, с. 12]. Затем, по мере углубления вызванного реформой кризиса, риторика националистов стала более «почвенной» и антирыночной.
В данном случае культурные силы общества и здравый смысл основной массы населения Чувашии справились с растаскивающим народ проектом. Но если бы в нем были заинтересованы, как в случае Чечни, влиятельные внешние и внутренние силы, то культура и здравый смысл могли бы не справиться. При наличии ресурсов манипуляция даже языческими символами может быть эффективной.
§ 13. Демонтаж системы межнационального общежития
Разрушение связей, соединявших население СССР в советский народ, велось по двум направлениям – подрывалась связность ядра полиэтнической советской нации, русского народа; подрывалась система межэтнического общежития. Обе программы составляли системное целое, поскольку этническая связность ядра была необходимым условием прочности общежития всех народов страны – ценность пребывания для любого нерусского народа в составе России определялась наличием мощного и здорового ядра, через все системы которого этот народ подключался к общемировому процессу развития как часть большой и динамичной цивилизации. С другой стороны, для русских каждый этнос СССР был «братским народом», важным этнизирующим иным – не оппонентом и не противником, а соратником и сотрудником. Русский народ укреплялся этими связями, и их разрыв или трансформация оказывали на русских ослабляющее воздействие.
После трагедии в Беслане В.В. Путин сказал, что население РФ пожинает плоды «распада огромного и великого государства» (СССР). Этот «распад» В.В. Путин назвал самой большой геополитической катастрофой ХХ века. Здесь для нас важнее, что он был национальной катастрофой для народов СССР и прежде всего для русского народа как того ядра, вокруг которого собралась Российская империя, а затем СССР.
Но СССР не «распался» сам собой, а был уничтожен в ходе большой военной операции, проведенной совместно силами Запада и его союзников внутри страны. Вспомним ход этой операции, учитывая, что она продолжается. Философию и технологию развала Союза надо понять, поскольку РФ по своему национально-государственному типу – тот же Советский Союз, только поменьше. Никуда не делись ни философия развала, ни сами философы. Леонид Баткин, один из «прорабов» перестройки, сказал после ликвидации СССР, напоминая своим соратникам: «На кого сейчас рассчитана формула о единой и неделимой России? На неграмотную массу?..»
Если представить нынешнюю Россию как полиэтническую систему, то видно, как сверху вниз по иерархии ее элементов распространяется процесс распада связей системы. И.К. Лавровский пишет: «Кризис лояльности, разрушивший СССР, не прекратился с его распадом. Плавное соскальзывание уровня лояльности с национального на местный, клановый, семейный и индивидуальный продолжается. Назойливо подчеркиваемый сегодня элитизм верхушки с выставлением напоказ абсурдно высокого уровня потребления – от дизайнерских бутиков до сверхдорогой жилплощади – представляет собой не что иное, как пример сползания лояльности с национального на групповой уровень» [45].
Идея развала Российской империи через разрушение межэтнических связей была одной из ключевых идей западной геополитики с конца ХIХ века, а в начале ХХ в. она овладела и возрожденным под эгидой Запада российским масонством. К этому были и предпосылки – наступление капитализма, породившего национальную буржуазию. Дворянство России было многонациональным и было заинтересовано в сохранении монархии и империи, а буржуазия жаждала национального государства. Свергнув монархию, она растащила империю.
Примерно такие же предпосылки возникли в позднем СССР. Если поначалу номенклатура имела черты сословия и укрепляла империю – СССР, то в 80-е годы ее соблазнила идея оборотиться буржуазией и приватизировать достояние страны. Для этого надо было сначала «разрезать пирог». Декларации о суверенитете 1990 г. и были первым шагом по ликвидации общенародной собственности, разделом ее по национальным республикам. Захват ее влиятельным меньшинством после этого резко упростился.
Но предпосылки – это всего лишь предпосылки. Нужна была доктрина, организация и ударная сила. Интерес Запада в ликвидации СССР понятен, поговорим о «своих». Идея разрушения Советского Союза была выношенной частью всего проекта демократов, рупором ее стал А.Д. Сахаров. Предложенная им «Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии» (1989) означала расчленение СССР на полторы сотни независимых государств. Например, о нынешней РФ в ней сказано (с. 25): «Бывшая РСФСР образует республику Россия и ряд других республик. Россия разделена на четыре экономических района – Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Каждый экономический район имеет полную экономическую самостоятельность, а также самостоятельность в ряде других функций» [38, с. 272][175].
В «Предвыборной платформе», которую Сахаров опубликовал 5 февраля 1989 г., было выдвинуто требование: «Компактные национальные области должны иметь права союзных республик… Поддержка принципов, лежащих в основе программы народных фронтов Прибалтийских республик». Помимо полной (!) экономической самостоятельности эти «области» и даже части «республики Россия» должы были получить свои силовые структуры – предполагалась не только политизация этничности, но и ее вооружение.
Вот ст. 20 «конституции» Сахарова: «Вооруженные силы формируются на основе Союзного договора… республика может иметь республиканские Вооруженные силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на ее территории». А вот ст. 23: «Республика имеет собственную, независимую от Центрального Правительства систему правоохранительных органов (милиция, министерство внутренних дел, пенитенциарная система, прокуратура, судебная система)… На территории республики действуют союзные законы при условии утверждения Верховным законодательным органом республики [!], республиканские законы» [38, с. 270–271][176].
Реализация, в слегка замаскированной форме, этого проекта в области национальных отношений привела к массовым страданиям и большой крови. Этот опыт показал, что политизированная этничность может быть создана буквально «на голом месте» в кратчайшие сроки, причем одновременно с образом врага, которому разбуженный этнос обязан отомстить или от которого должен освободиться. Достигаемая таким образом сплоченность и готовность к самопожертвованию по своей интенсивности не идут ни в какое сравнение с тем, что обеспечивают мотивы социальной справедливости или повышения благосостояния. При этом большие массы образованных людей могут прямо на глазах сбросить оболочку цивилизованности и рациональности и превратиться в архаичную фанатичную толпу.
Дирижировал этой программой Горбачев, и он выступил как враг народа в самом простом смысле этого слова. Американский специалист по СССР А. Брумберг признал: «Ни один советолог не предсказал, что могильщиком Советского Союза и коммунистической империи будет генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев».
В информационно-психологической подготовке политических акций принял участие весь цвет либерально-демократической элиты. Вот несколько кратких утверждений из огромного потока программных сообщений в широком диапазоне авторов – от святого Сахарова до гротескной Новодворской:
Приближенный к Горбачеву номенклатурный историк Юрий Афанасьев: «СССР не является ни страной, ни государством… СССР как страна не имеет будущего». Советник президента Галина Старовойтова: «Советский Союз – последняя империя, которую охватил всемирный процесс деколонизации, идущий с конца II мировой войны… Не следует забывать, что наше государство развивалось искусственно и было основано на насилии»[177]. Историк М. Гефтер говорил в Фонде Аденауэра об СССР, «этом космополитическом монстре», что «связь, насквозь проникнутая историческим насилием, была обречена» и Беловежский вердикт, мол, был закономерным. В. Новодворская: «Может быть, мы сожжем наконец проклятую тоталитарную Спарту? Даже если при этом все сгорит дотла, в том числе и мы сами»[178]. Писатель А. Адамович заявляет на встрече в МГУ: «На окраинах Союза национальные и демократические идеи в основном смыкаются – особенно в Прибалтике… Происходит позитивный процесс: нет антирусских, антисемитских настроений»[179].
Даже сейчас, празднуя годовщину перестройки (в 2005 г.) в докладе Горбачев-фонда звучит тот же мотив: «Не секрет, что Советский Союз был построен на порочной сталинской идее автономизации, полностью подчиняющей национальные республики центру. Перестройка хотела покончить с такой национальной политикой». Какая позорная схоластика! При чем здесь «порочная идея» 1920 года – ко времени перестройки СССР пережил несколько исторических эпох, прошел самые тяжелые испытания. Перестройка изощренно и насильно стравила народы![180]
В 80-е годы были сознательно запущены процессы, разрушающие ту сложную систему национальных отношений, которая была создана за 200 лет. «Прораб» перестройки Нуйкин довольно вспоминал в связи с войной в Нагорном Карабахе: «Как политик и публицист, я еще совсем недавно поддерживал каждую акцию, которая подрывала имперскую власть. Я понимал, что это было правильно, пока действовала эта машина, соединившая в себе гигантскую армию, послушную единому приказу, КГБ, МВД, партию. Поэтому мы поддерживали все, что расшатывало ее… А без подключения очень мощных национальных рычагов, взаимных каких-то коллективных интересов ее было не свалить, эту махину» [122].
Очевидно, кстати, что, возбуждая агрессивную этничность, антисоветская интеллигенция заведомо жертвовала демократическим проектом – она открывала путь этнократическим режимам. В тот момент это ни для кого не было секретом. Видный публицист А. Латынина писала: «Стратегия русской демократической интеллигенции потерпела сокрушительное поражение. Она поддержала этнократические движения в республиках, квалифицировав их как национально-освободительные» [123].
Открытое стравливание народов велось с первых лет перестройки. В начале 1987 г. «Литературная газета» напечатала подстрекательскую статью специалиста по Ближнему Востоку И. Беляева «Ислам», где эта религия была представлена как враждебная и опасная, а мусульмане – как коварный и вероломный народ. Эта кампания была поддержана извне. В июне 1987 г. Европарламент учредил «День памяти жертв геноцида в Армении». Началась череда торжественных церемоний в Ереване. К этому были приурочены публикации писателей Зория Балаяна и Сильвы Капутикян, в которых ненависть к туркам неприкрыто переносилась на соседей-азербайджанцев, которых называли не иначе, как «турками» [124, с. 255]. Готовился кровавый конфликт – самое эффективное средство разрушения межнациональных отношений.
Генерал-майор КГБ В.С. Широнин, направленный в зону конфликта, пишет: «Первый сигнал к волнениям в Карабахе поступил к нам «из-за бугра». Академик Абел Аганбегян в середине ноября 1987 года во время приема, устроенного в его честь Армянским институтом Франции и Ассоциацией армянских ветеранов, выразил желание узнать о том, что Карабах стал армянским. «Как экономист, – сказал академик, – я считаю, что он больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном». Кроме того, в Москве широко распространились слухи о том, что Аганбегян сослался на свою беседу с Горбачевым, в которой всемогущий генсек ЦК КПСС якобы сказал, что Карабах будет передан Армении. Поразительно, несмотря на этот чрезвычайно устойчивый слух, ни тогда, ни позже, даже в разгар карабахской войны, Горбачев ни прямо, ни косвенно его не опроверг. А ведь тот слух был вполне «материальным», он сильно подогрел события в Карабахе.
Заявление Абела Аганбегяна мгновенно стало центральной темой для многих зарубежных армянских газет и журналов, для радиостанции «Айб» в Париже, а также армянских редакций радио «Свобода», «Голос Америки» и других… В результате прозвучавший в далеком Париже призыв к беззаконию стал по сути началом карабахского конфликта» [124, с. 256–257].
В Москве идею «исторической принадлежности Карабаха к Армении» сразу поддержал Сахаров. В письме Горбачеву он потребовал передачи НКАО в состав Армении. И начал кампанию в прессе. Одновременно были созданы условия для вооружения боевиков Народного фронта Азербайджана[181]. В Закавказье почти открыто действовали агенты иностранных разведок. Так, Широнин пишет, что в Нагорном Карабахе боевиками командовал американский офицер-армянин Монте Аво. Он координировал действия войск в Мартунинском районе, погиб и похоронен в Армении как национальный герой [124, с. 278].
О том, к какому состоянию вся эта программа довела людей всего за два года, говорит запись Широнина в самом начале 1990 г.: «13–14 января в Баку прошли массовые беспорядки. Когда мы прилетели туда, аэропорт был заблокирован толпами людей. Среди встречавших нас азербайджанских чекистов я с радостью увидел через иллюминатор двух моих близких друзей, с которыми нас свел Афганистан… С трудом преодолев многочисленные кордоны, мы въехали в город. На одной из улиц напротив дома, в котором проживало, как выяснилось, несколько армянских семей бакинского происхождения, бушевал митинг. Интеллигентного вида молодой человек в очках, с аккуратно подстриженной бородкой что-то кричал в мегафон. Толпа из 700–800 человек громко скандировала, улюлюкала, свистела. Странным показалось то, что вдоль стены дома стояла как будто тихая, словно чем-то приниженная очередь из мужчин и женщин, они чего-то терпеливо ждали. Вдруг наверху раздались выстрелы, затем истошные крики, звон разбитого стекла. Потом из окна третьего этажа выбросили металлическую вешалку. Обычную вешалку с крючками, какие привинчивали в коридорах лет эдак 15–20 назад. Она упала на газон, со звоном подпрыгнула. Из окна раздалась какая-то команда, и мужчина, стоявший в очереди первым, поднял вешалку, после чего присоединился к ликующей толпе. В очереди одобрительно захлопали.
– Это народнофронтовцы делят и раздают «еразам» имущество бакинских армян. Семьи из этого дома мы успели предупредить, – пояснил мне «афганец».
«Еразами» в Баку называли беженцев из Армении и расшифровывалось это слово так: «ереванские азербайджанцы». Они были изгнаны из своих домов, остались без крова и без имущества. Используя их негодование действиями армянских националистов, провокаторы решили «восстановить справедливость», расправившись с ни в чем неповинными бакинскими армянами и раздав крохи из разграбленного имущества беженцам. Да, это был классический вариант подстрекательства к погромам.
Мы медленно, не включая сигнальных огней, ехали по городу. Я видел, как по команде из окна от очереди отделился еще один мужчина, скомкал скатерть, упавшую на куст, запихнул ее под пиджак и тоже присоединился к неумолкающей толпе. Очередь снова зашлась в крике…
Я никогда не забуду рассказ своего коллеги-«афганца» о той ночной трагедии. Не скрывая слез, он говорил о том, что перед выездом в аэропорт стал свидетелем такого случая. Он видел, как из окна какого-то дома вместе с вещами выбросили старую армянку, которая была лежачей больной и потому осталась в квартире, надеясь, что ее пощадят. Однако те, кто ворвался в квартиру, были уже неспособны на милосердие. Старушка умерла прямо на тротуаре, к ней никто не подошел, а ошалелая толпа продолжала улюлюкать. Товарищ мой, коллега и друг плакал от своего бессилия, от стыда за своих соплеменников» [124, с. 263–264].
Провокационную работу вела московская пресса, подконтрольная верхушке КПСС. В ходе событий военным и КГБ удавалось несколько раз добиться прекращения огня и приступить к совместной работе азербайджанских и армянских советских и правоохранительных органов. Эти усилия срывались в Москве. Широнин приводит случай, когда армянскими боевиками было обстреляно из артиллерии азербайджанское село Садарак: «Одна из центральных газет, – кстати, газета проправительственная! – сообщая об этом обстреле Садарака, почему-то назвала его армянским селом. Получалось, что не армянские боевики обстреляли азербайджанское селение, а наоборот, азербайджанцы нанесли удар по армянам! Столь грубейшая ошибка в крупной центральной газете, казалось, должна была повлечь за собой немедленную поправку, а то и административные меры против путаников. Ведь эта ошибка привела к новой дестабилизации, она обернулась новыми жертвами и кровью. Можно ли было оставлять эту ошибку без последствий?
Однако, как ни парадоксально, «аппарат Горбачева» продолжал хранить гробовое молчание и по поводу наших предложений, и в связи с катастрофической ошибкой, допущенной в газете. На эту ошибку тоже никто наверху не отреагировал… Ну, а дальше события развивались словно по накатанной схеме. Провокационная «ошибка» в московской газете вызвала взрыв негодования нахичеванского народного фронта, да и всего населения» [124, с. 286].
При этом воздействие на этническое сознание обеих сторон в конфликте было непрерывным. Историк С. Лезов пишет о том, как интеллигенты, подобные А. Нуйкину, разжигали пожар на Кавказе: «По моим наблюдениям, «московские друзья» нередко добивались эффекта при помощи запрещенного приема: обращаясь к армянской аудитории, они использовали глубоко укорененные антитюркские и антиисламские чувства армян, то есть унижались до пропаганды национальной и религиозной вражды в чужой стране, относясь при этом к армянам как к «братьям нашим меньшим», с которыми можно и нужно говорить именно на расистском языке. «Московские друзья» укрепляют как раз те элементы армянского мифа, которые изолируют армян от соседних народов и обеспечивают их «антитурецкую» идентичность» [125].
В те же годы усилиями интеллектуалов и политиков кропотливо создавалась «чеченская бомба». Большую работу, чтобы направить мысли и чувства чеченцев к мести русским, произвели старовойтовы и бурбулисы, нуйкины и приставкины. Вместо «народа, отбывшего наказание», чеченцы вдруг были превращены в «репрессированный народ». Кто же их «репрессировал»? Россия! Так ставили вопрос антисоветские идеологи. Проталкивая Закон о репрессированных народах, они направляли мысли не в прошлое, а в настоящее – чтобы стравить (замалчивая историческую правду) потомков тех людей, которые пережили трудный момент полвека назад. Так был создан конфликт между ингушами и осетинами. Конфликты разжигались и с помощью выражений, приписывающих соседним народам якобы присущие им сущностные качества, типа: «грузины за демократию – осетины за империю», «тоталитарный Азербайджан против демократической Армении».
Деятельность по стравливанию народов не прекращалась и позже, в середине 90-х годов. Чего стоило одно только демонстративное выдвижение С.А. Ковалева на Нобелевскую премию! Послушаем, какие слова выбирает этот «миротворец», обосновавшись в бункере Дудаева и питаясь с его стола: «Русские танки давят чеченских женщин и детей! Русские самолеты бомбят мирные жилища!» Из горящего Грозного, что придавало слову Ковалева особый авторитет, он старательно представлял конфликт как этнический: русские против чеченцев!
Важным шагом после принятия закона о репрессированных народах стало оглашение 12 июня 1990 г. «Декларации о суверенитете РСФСР». Это была решающая акция по расчленению СССР – недаром вплоть до В.В.Путина ее праздновали как абсурдный «День независимости России». Одновременно в тех же кругах готовились декларации по отделению уже и частей РСФСР. 27 ноября 1990 г. такую декларацию приняла Чечено-Ингушетия. Она рассматривала себя уже как суверенное государство, в Декларации не содержалось прямых и даже косвенных упоминаний о ее принадлежности к РСФСР. Эти два акта – единая связка, они написаны, можно сказать, одной рукой.
Горбачев усиливал эту кампанию властью государства. В 1991 г. он устроил, преодолев возражения Верховного Совета, референдум с провокационным вопросом: надо ли сохранять СССР? До этого сама постановка такого вопроса казалась абсурдной и отвергалась массовым сознанием. Теперь всему обществу власть заявила, что целесообразность сохранения СССР вызывает сомнения и надо бы этот вопрос поставить на голосование. Как мы помним, 76 % населения высказалось за сохранение Советского Союза.
В республиках со сложным этническим составом ценность той системы межнационального общежития, созданного в СССР, ощущалась особенно остро. В голосовании на референдуме о судьбе СССР в Узбекистане приняли участие 95 % граждан, из них за сохранение Союза высказались 93,7 %, в Казахстане явка была 89 %, «да» сказали 94 %, в Таджикистане явка была 94 %, «да» сказали 96 %.
Но против СССР проголосовала элита двух привилегированных столиц. В западной прессе советник Ельцина, директор Центра этнополитических исследований Эмиль Паин в статье «Ждет ли Россию судьба СССР?» оправдывался: «Когда большинство в Москве и Ленинграде проголосовало против сохранения Советского Союза на референдуме 1991 года, оно выступало не против единства страны, а против политического режима, который был в тот момент. Считалось невозможным ликвидировать коммунизм, не разрушив империю» [126].
Что же это за коммунизм надо было ликвидировать, ради чего не жалко было уничтожить государство? Коммунизм Сталина? Нет – Горбачева и Яковлева. Знал и Паин, и его «интеллигенция», что от коммунизма у того «политического режима» осталось пустое название, которое он и так бы через пару лет сменил. Голосовали именно против Союза и против воли народа. Хотели Мирового правительства, которое взяло бы их в «золотой миллиард»[182].
Политика перестройки по отношению к воле и чувствам большинства народа носила демонстративно враждебный характер. В важной книге «Есть мнение» на основании многостороннего анализа опросов 1989–1990 гг. делается вывод: «Державное сознание в той или иной мере присуще подавляющей массе населения страны, и не только русскоязычного. Его установки или ценности разделяет значительное большинство украинского, белорусского, казахского, армянского населения». Далее говорится, что это «комплекс превосходства обитателей и обывателей великой державы, десятилетиями культивируемый и уходящий в глубь традиций Российской империи», что вместе с носителями «тоталитарного сознания» (30–35 % населения) державное сознание характерно для 82–90 % советских людей [127, с. 187, 191, 197]. Пропаганда ликвидации СССР была мощной операцией психологической войны против народа, разорвавшая множество связей национального сознания.
Эти же опросы показывают, что в тот момент уровень политизации этнического чувства был еще очень низок. Он оценивался по степени озабоченности «разрушением национальных традиций» и «забвением отечественной истории». Вывод таков: «Наибольшую значимость этих вопросов выразило население Прибалтийских республик (максимальное значение – 23 %, минимальное – Украина – 6 %)… [На Украине] кроме гуманитарной интеллигенции (писателей, журналистов, педагогов) этими вопросами мало кто встревожен… Проблематика «крови и почвы» волнует преимущественно националистические почвенные группы и носителей «фрустрированного» сознания. В целом это маргинальные группы, довольно оппозиционно настроенные к существующей официальной власти и ее планам… В целом их позиция мало значима для основной массы населения (особенно… на Украине: там этот пункт анкеты получил наименьшее число голосов – 1 %; близкие данные по Казахстану – 2 %)» [127, с. 198–199].
Имея доступ к рычагам власти и СМИ, начавшая раздел СССР элита подрывала все механизмы, воспроизводящие советский тип межнациональных отношений. Так, во многих республиках была начата борьба против русского языка и алфавита (кириллицы). Один наблюдатель так писал о первой фазе противостояния Приднестровья и Молдавии: «После того как в августе 1989 г. был напечатан проект «Закона о функционировании языков на территории Молдавской ССР», спокойная жизнь на левом берегу Днестра была взорвана. Многонациональный район кожей ощутил опасность… Молдавский язык объявлялся государственным. На его изучение давалось пять лет, после чего все основные взаимоотношения в республике планировалось перевести на язык так называемой коренной нации… Но взволновали не статьи закона, а само его появление на свет» [128].
Развал СССР был необходимым этапом в доктрине нового мироустройства (глобализации), которая созревала в неолиберальной философии с конца 70-х годов. Он был и этапом на пути к тому состоянию, что сегодня называют «Поминки по Просвещению». А.С. Панарин пишет: «Новейший либерализм не только совершил предательство по отношению к Просвещению, пойдя на потакание инстинкту в его борьбе с нравственным разумом; он предал Просвещение, пойдя на потакание этносепаратизму. Стратегический замысел понятен: оспаривать американский однополярный порядок на деле способны только крупные государства. Почти все крупные государства являются полиэтническими. Следовательно, спровоцировав племенного демона на бунт против «империи», можно дестабилизировать и в конце концов разложить крупные государства, оставив единственную сверхдержаву в окружении мира, представленного исключительно малыми и слабыми странами» [8, с. 166–167].
Наиболее антисоветская и «прорыночная» сила одновременно несла в себе и наибольший потенциал межнациональной вражды. Авторы отчета об изучении религиозности и культуры начала 90-х годов пишут (в 1992 г.): «В исследовании 1991 г мы отмечали, что «верящие не в Бога, а в сверхъестественные силы», несмотря на весь свой радикальный демократизм, были в отношении к большинству различных народов наименее толерантной группой. И эта их особенность за прошедший год лишь усилилась, но впервые введенная в 1992 г градация – «индифферентные» – намного обогнала оккультистов по уровню нетерпимости. Итак, самая толерантная группа – атеисты-интернационалисты, а вслед за ними идут верующие. Еще один пример того, как крайности сходятся» [79].
Но надо сказать, что одни только западники не могли бы легитимировать в глазах достаточно большой части интеллигенции развал страны, а значит, и поражение России в тяжелой холодной войне. Немалую роль тут сыграли и «патриоты», отвергавшие имперское устройство России. Исходя из представлений этнонационализма, они пытались доказать, что сплотившиеся вокруг русского ядра нерусские народы Российской империи, а затем СССР, истощают жизненные силы русского народа – грубо говоря, «объедают» его.
Д.Е. Фурман пишет: «Несомненно, стремясь к сохранению Союза, в котором они видели продолжение империи, великое русское государство, «правые» [ «патриоты»] тем не менее подготовили всю аргументацию, необходимую для его развала, и практически лишили себя возможности этому развалу сопротивляться. Для тех, кто хотел покончить с Союзом, нужно было только перехватить у них их лозунги и аргументы и довести их логику до конца и до практических действий.
Аргументация правых националистов сразу же была подхвачена литовскими, эстонскими и прочими сепаратистами… Но самое важное, что в конечном счете и решило судьбу Союза, эта аргументация и сама идея «отделения России» были подхвачены как раз теми, кто рассматривал националистов своим основным врагом, – российскими демократами» [114].
Это «правое» крыло разрушителей межнационального общежития в наибольшей полнотой было представлено И.Р. Шафаревичем. В кампании по подрыву национально-государственного устройства СССР он высказывал совершенно те же тезисы, что и крайняя западница Г. Старовойтова (иногда совпадение у них почти текстуальное)[183].
Сразу после роспуска СССР в Беловежской пуще И.Р. Шафаревич выступил с большой статьей «Россия наедине с собой» [129], где очень высоко оценил эту акцию, которая принесла народу такие беды. Кстати, само название статьи говорит о принципиальном отрицании имперской России – прежде ни монархисты, ни белые, ни красные не считали что Россия «наедине с собой» расположена на территории нынешней РФ.
Что же хорошего видит И.Р. Шафаревич в уничтожении СССР? Прежде всего, разрыв связей с большими нерусскими народами. Он пишет: «Мы освободились от ярма «интернационализма» и вернулись к нормальному существованию национального русского государства, традиционно включающего много национальных меньшинств». Тут он грешит против исторической правды. Мы ни к чему не «вернулись», а переброшены в новое для России качественное состояние. «Ярмо интернационализма» возникло вместе с появлением Киевской Руси, когда в государство изначально собирались этнически разные племена. Князь Игорь, герой русского эпоса – по крови на три четверти половец. Идея создания «нормального национального русского государства» просто скрывает в себе идею уничтожения исторической России.
Второе благо от дела Ельцина, Кравчука, Шушкевича и их хозяев И.Р. Шафаревич видит в смене общественного строя: «Другое несомненное благо происшедшего раскола в том, что он поможет окончательно стряхнуть мороку коммунизма. Еще с начала 70-х годов я начал писать о социализме и коммунизме как о пути к смерти (конечно, в самиздате, с переизданием на Западе)».
После этого всякая критика в адрес Ельцина и Чубайса, которые что-то сделали не так тонко, как хотелось бы И.Р. Шафаревичу, имеет ничтожное значение. В катастрофе уничтожения СССР И.Р. Шафаревич видит благо, он ее готовил с начала 70-х годов и при этом выступал в союзе с Западом. А это была война Запада против России, а вовсе не против «мороки коммунизма».
И.Р. Шафаревич отвергает сложившийся за многие века принцип построения российского государства и предлагает взять за образец «нормальные» государства Запада (ведь все же, наверное, не Заир): «На месте СССР, построенного по каким-то жутким, нечеловеческим принципам, должно возникнуть нормальное государство или государства – такие, как дореволюционная Россия и подавляющая часть государств мира».
Здесь опять явные подтасовки – дореволюционная Россия по своему устройству вовсе не была похожа ни на «подавляющую часть государств мира», ни на «нормальное национальное государство». Дореволюционная Россия была многонациональной империей, надо же это наконец-то признать. При этом она не была похожа на другие, колониальные империи. И вообще, ничего «нормального» в государственных устройствах нет ни в США, ни в Германии, ни в Монако – тип государства вырастает не логически, по какому-то правильному шаблону, а исторически. Каждый государственный организм имеет множество своих, уникальных черт.
И завершает И.Р. Шафаревич свою хвалу убийцам СССР крайней в своей антиисторичности мыслью: «Россия может считать себя преемником русской дореволюционной истории, но уж никак не преемником СССР, построенного на заклании русского народа. Иначе тот ужас, который внушает коммунистический монстр, будет переноситься на Россию». Отказаться от наследия СССР, это надо же такое посоветовать. От всего, что огромный народ строил и с огромными жертвами защищал 70 лет!
Антиимперский этнонационализм И.С. Шафаревича нисколько не ослаб и в ходе 90-х годов, когда стало очевидно, что разрушение СССР нанесло самый тяжелый удар именно по русскому народу. Перед выборами 1999 г. он опубликовал свой очередной труд, очерняющий советский тип межнационального общежития [130].
Главная его мысль состоит в том, что для советского строя была характерна «нерусскость». Для доказательства этого тезиса с никак не определенным понятием И.Р. Шафаревич выбрал тему образования: по его утверждению, русские подвергались дискриминации в сфере образования. Вот как он доказывает это на цифрах: «В 1973 г. на 100 научных работников имелось аспирантов: среди русских 9,7 человека, туркмен – 26,2, киргизов – 23,8. Таков же был и уровень жизни…».
Попробуйте растолковать этот странный показатель. Есть же попроще: в 1985 г. в РСФСР было 68 тысяч аспирантов, а в Туркмении 496 – в 130 раз меньше. Русских кандидатов наук в 1982 г. было 257265, а туркменов 1511 – в 170 раз меньше, чем русских. Среди докторов наук в 1982 г. русских было в 251 раз больше, чем туркменов, в 1987 г. в 223 раза больше[184].
Но главное, как из всего этого вывести идею о дискриминации русских? Всю науку в СССР заполонили туркмены? В 1970 г. русских среди научных работников было в 310 раз больше, чем туркменов. При чем здесь вообще аспиранты? И что значит «таков же был и уровень жизни»? У русских 9,7 на 100 человек?
Об уровне жизни Шафаревич приводит совершенно мифические данные: «В 50-е годы доходы колхозников Узбекистана были в 9 раз выше, чем в РСФСР». Откуда эти цифры, как их понимать? Не бывало таких разрывов в уровне дохода. В 1960 г. средняя зарплата рабочих и служащих была в РСФСР 83 руб., а в Узбекистане 70 руб. Значит, доходы горожан в РСФСР и узбеков были примерно равны. Официальные доходы на селе у русских и узбеков тоже были примерно равны. Значит, Шафаревич знает о каких-то скрытых, теневых доходах узбекских крестьян?
Могли ли теневые доходы узбекских колхозников быть столь непропорционально большими, как заявляет Шафаревич? Чтобы колхозники, хотя бы и в Узбекистане, жили в 10 раз богаче горожан – кто же в это поверит! Сбережений в сберкассе у одного городского жителя Узбекистана было в 8 раз больше, чем у сельского. И вообще сбережений в 1975 г. у одного жителя РСФСР в среднем было 410 руб., а у жителя Узбекистана 128. Откуда эти «9 раз»?
А главное – что хочет доказать Шафаревич всеми этими цифрами? Видимо, что советская власть создавала резкое неравенство республик в ущерб русским. Но ведь это не так. Основные капиталовложения делались в России – достаточно упомянуть разведку и освоение запасов нефти и газа в Сибири, на которых мы до сих пор живем. Или взять выплаты из общественных фондов: в РСФСР в 1975 г. они составляли на душу 392 руб., в 1989 г. 760 руб., а в Узбекистане 258 и 429 руб. А это, прежде всего, расходы на образование, здравоохранение, жилье – вложения в человека.
Да, установкой советской политики было именно выравнивание уровня развития всех частей страны. Ибо СССР (да и Российская империя) строился именно как страна, а не как колониальная система! Это можно видеть на длинных временных рядах, сравнивая множество показателей. Шафаревич считает принципиально неправильной политику развития всей страны как целого? Тогда лучше бы сказать прямо. Прямо не говорят, потому что тогда станет очевидной антирусская направленность всей этой философии.
Говоря о «нерусскости» советского строя, Шафаревич замалчивает фундаментальный показатель состояния народа – продолжительность жизни. Это – обобщенный показатель, отражающий положение той или иной этнической общности людей (условия труда, питания, быта, здравоохранения).
Согласно данным переписи 1897 г., в европейской части России ожидаемая при рождении продолжительность жизни была у русских мужчин 27,5 лет, у латышей 43,1, у молдаван 40,5 лет – в благоприятное время России. Именно советский строй (и только он!) резко сократил этносоциальное неравенство русских. Уже в 1926–1927 гг. ожидаемая продолжительность жизни у русских мужчин повысилась до 42,2 лет, а к началу 70-х годов до 64,6 лет. В 1988–1989 гг. она составляла у русских мужчин 64,6 года, а у латышей 65,9 лет и у молдаван 65,1 года. Почти сравнялась. В 2000 г. она составила у русских мужчин 59,8 лет. Так что русские жили долго только при советском строе [131].
Более того, не только продолжительность жизни, но и само существование русских как большого народа зависит от того взаимодействия с другими народами России, которое сложилось в Российской империи, а затем было достроено в СССР. Дело в том, что стать одним из десятка больших народов русские не смогли бы только за счет расширенного биологического воспроизводства. Вспомним, что в момент нашествия Наполеона русских было меньше, чем французов. Русский народ быстро вырос именно потому, что выстроил такую систему межэтнического общежития, в которой часть каждого народа России охотно и без принуждения становилась русскими.
Это происходило потому, что русские были открыты – они делились с другими народами тем, что имели. Это не только привлекало других, но и позволяло быстро устранить экономические и культурные барьеры, мешавшие представителям других народов влиться в число русских. Тот факт, что при этом «материнский» народ не подвергался ассимиляции, в большой мере способствовал этому процессу. Становясь русским, человек не оставлял свой народ в беде, не переживал трагедии его исчезновения, даже сохранял многое из своей этнической памяти. И при этом он через себя подключал свой народ к русской культуре, а через нее – к культуре универсальной.
Именно благодаря созданному в СССР типу межнационального общежития кооптация в русский народ близких по культуре «этнически иных» стала процессом молекулярным, идущим непрерывно. Он стал выгоден всем. А значит, шел самопроизвольно, потому что в обыденной практике, как говорил Ленин, «все мы материалисты». Усиление русского этнонационализма сразу блокирует этот процесс и даже может обратить его вспять – те, кто уже осознавал себя русским, может просто из чувства собственного достоинства отказаться от этого звания. Начавшееся в ходе реформы сокращение численности русских в РФ в какой-то мере вызвано и наступлением русского этнонационализма.
На мой взгляд, вся концепция И.Р. Шафаревича и всего течения русских этнических националистов, которых он представляет, губительна для России как цивилизации и государства. На своем сложном историческом пути национально-государственного строительства Россия сумела найти исключительно богатый по своим творческим возможностям способ жизнеустройства множества народов, сплоченных русским ядром. Это был тип жизнеустройства, прекрасный своей справедливостью и даже красотой. Он порождал мощный кооперативный эффект культур и социальных сил. Это и было источником чудесного Преображения России, появлением Пушкина, всей русской литературы и музыки. Отказываться от этого открытия, чтобы стать как «подавляющая часть государств мира» – какое падение!
Нет, лучше вспомнить слова другого патриота (причем критика СССР), А.С. Панарина, из его последней книги: «Только теперь, после наступления этого момента истины [реформы 90-х годов], все мы можем оценить, чем в действительности был для всех нас Советский Союз. Он был уникальной, не предусмотренной Западом для других народов перспективой самостоятельного прогресса и приобщения к стандартам развитости. Западная цивилизационная дихотомия: Запад и остальной мир, Запад и варварство, Запад и колониальная периферия – была впервые в истории нарушена для гигантского региона Евразии» [8, с. 173].
Красноречив тот факт, что вот уже в течение 15 лет большая часть СМИ в РФ очень недоброжелательно освещает борьбу тех государственных образований и регионов, которые сопротивлялись разделу СССР, а после раздела – отрыву их от России. Это Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия. Во всех случаях возникли конфликты населения этих областей с этнократическими властями тех союзных республик, в которых они оказались после раздела СССР.
Масла в огонь подливали и определения, которые давались народам в зоне конфликта, поскольку эти определения часто настолько противоречили здравому смыслу, что возмущали разум людей и наводили на мысль о заговоре тайных врагов. Например, был введен в оборот термин «самопровозглашенные республики» – как дефиниция, косвенно отвергающая право на их существование. Что за бессмыслица! Разве бывают какие-то другие республики? Разве республика, рожденная Великой Французской революцией, не была самопровозглашенной? А Соединенные Штаты Америки, которые решили отделиться от Королевства? Само слово «республика» как раз и предполагает возникновение государства в результате волеизъявления граждан, то есть самопровозглашения – в отличие от монархии с властью помазанника Божьего. Мы имеем случай введения в политический лексикон провокационного выражения[185].
Столь же провокационной является квалификация жителей Приднестровья или Южной Осетии как сепаратистов. Совсем наоборот, они сопротивляются именно попытке их отделения (то есть сепарации) от тела того большого народа, частью которого они себя осознают, и помещению в совершенно иную общность, цивилизационный вектор которой они не принимают. В случае Южной Осетии эта попытка отделения принимает просто скандальные формы – осетин отделяют не только от российской нации, частью которой они себя издавна считают, но даже и от своего этноса. При этом пытаются заставить их жить в государстве, которое приобретает все более ярко выраженную антироссийскую позицию.
Разделение СССР как государства советского народа резко ослабило связность и тех осколков, которые возникли после его развала. По ряду этих новых государств прошли войны – или между разными этносами, или даже между частями уже, казалось бы, единого народа (как в Таджикистане), или между региональными общностями (как в Приднестровье). В центре РФ мы не так чувствуем, какая принципиальная разница для небольшого народа – быть частью СССР (или Российской империи) – или быть частью их осколка. Абхазия вошла в Российскую империю (потом была частью СССР, пусть и формально в Грузии), но абхазам трудно было примириться с пребыванием в этнократической Грузии, «освободившейся от иностранной оккупации)»[186]. Связность Грузии вообще резко ослабла – в ней возникли доселе неизвестные этносы, возмущающие националистов («темные апсуйцы», «дикие кударцы»). А жители центральных областей Грузии «не хотят завоевывать Абхазию для мегрелов» [128].
Трещины пошли и по Российской Федерации. Например, конституция Татарстана определила его как «суверенное государство, субъект международного права», а «Закон о недрах» объявил недра Татарстана исключительной собственностью республики. Более того, как и после Февраля 1917 г., проявились сепаратистские поползновения местных элит и в областях, населенных русскими. Выше говорилось о течении «сибирских сепаратистов», которое возникло в конце ХIХ в. почти одновременно с украинским национализмом. И вот, как сообщает С.Е. Кургинян, в 1990 г. один народный депутат с трибуны процитировал такие стихи:
Не упрекай сибиряка, Что держит он в кармане нож. Ведь он на русского похож, Как барс похож на барсука.Были и практические попытки. Так, в октябре 1993 г. Свердловская область приняла конституцию Уральской республики. Такое же намерение высказывалось в Вологодской области. Это были пробные шары – поддержки населения эти маневры не получили, и о них предпочли забыть.
Второй раз подобные попытки были предприняты на волне кризиса 1998 г. – в сентябре, почти сразу после дефолта, 79 регионов запретили вывоз продуктов питания за пределы региона. Ряд политиков и СМИ заговорили о распаде РФ. В противовес им было выдвинуто предложение укрепить «вертикаль власти» и разделить РФ на восемь крупных «региональных ассоциаций». Эту программу выполнял уже В.В. Путин, только РФ была разделена на 7 округов (совпадающих с военными округами) – в соответствии с опытом, накопленным и в Российской империи, и в СССР. Прокуратура стала приводить местные законы в согласие с федеральными[187].
Кризис породил процесс демонтажа не только «большого народа» (СССР и России), но и крупных этнических общностей – таких народов, как, например, мордва или чуваши. Так, мордовское национальное движение раскололось на эрзянское и мокшанское. Поначалу, в середине 90-х годов, это приняли как «политическое недоразумение». Но радикальные националисты заявили, что мордвы как этноса не существует и надо создать эрзяно-мокшанскую республику из двух округов. При переписях многие стали записывать свою национальную принадлежность посредством субэтнических названий.
Чуть позже похожие процессы начались среди марийцев – при переписи 2002 г. 56 тыс. назвали себя «луговыми марийцами», а 19 тыс. – «горными». Горные были лояльны властям Республики Марий Эл, а остальные ушли в оппозицию. В том же году одно из движений призвало северных коми при переписи записаться не как «коми», а как «коми-ижемцы». Половина жителей Ижемского района последовала этому призыву (это трактуют как попытку получить статус «коренного малочисленного народа Севера» с положенными льготами).
Четкого идеологического объяснения этих явлений пока нет. Некоторые специалисты считают это признаком перехода к «постнационализму», то есть признаком кризиса крупных национальных движений [133].
Вслед за дележом страны между этническими элитами республик и регионов («суверенизация») наступила «рыночная реформа», которая позволила этим элитам распоряжаться кусками национального достояния советского народа. Это означало страшный регресс в жизнеустройстве всех народов, составлявших ранее единую семью.
А.С. Панарин пишет об этом как закономерном следствии разрушения больших многонациональных государств: «В былых крупных государственных суперэтнических образованиях коллективные интересы были защищены от купли-продажи, выпадали из меновой сферы. Образование на месте единых крупных суверенных государств множества этносуверенитетов означает поставку на рынок того, что прежде не обменивалось и не продавалось, – национальных интересов… Национальные (точнее в данном случае было бы сказать – антинациональные) элиты получают возможность попасть в разряд мировой финансовой элиты, пользующейся всеми возможностями, открытыми глобализацией, только выступив в роли продавцов важнейшего стратегического товара – национальных территорий и ресурсов. История свидетельствует, что подкуп племенных вождей, способных угрожать империи, практиковался уже древним Римом и Византией» [8, с. 27–28].
Огромный регресс в государственном строительстве постсоветских народов означало установление этнократических режимов. Они сразу разорвали множество связей, скреплявших межэтническое общежитие, культурные и хозяйственные отношения между народами, саму систему информационных каналов, соединявших этносы в нацию. Ж.Т. Тощенко приводит в качестве признака этнократии сверхпредставительство народов, давших название республике, на ключевых позициях в управлении. Так, в Адыгее, где адыги составляют 20 % населения, они занимают 70 % руководящих постов. В Татарстане до перестройки только 2 % предприятий возглавлялись татарами, а в конце 1990-х годов – 65 %. Это ведет к заведомому снижению уровня управления в экономике [31].
Проявления этнократических тенденций многообразны. Иногда дело доходит до территориальных претензий к соседним народам. Для этого используются исторические (часто «удревненные») источники, обвинения в адрес советской власти, даже риторика социального и этнического расизма. С этнократических позиций иногда выступают политические деятели национальных территорий, богатых нефтью и газом, пытаясь под лозунгами защиты народов Севера получить какие-то преимущества в своих групповых интересах. Этническая окраска часто лишь маскирует эти интересы, но при этом усиливает их деструктивный характер.
Связность России ослабевает в результате этнократических манипуляций с языком. Вот аномалия: в РФ, где государственным языком служит русский, на отдельных территориях он таковым не признается (например, в Туве государственным признан «язык коренного населения»). В Татарстане чиновникам полагается материальное поощрение за знание языка «титульной нации». Все это может показаться мелкими проявлениями дискриминации, но эти мелочи подтачивают межнациональные связи.
Этнократия ведет к архаизации государственной системы, возрождает клановость властных полномочий, претензии на власть родоплеменных образований (тейпов, джузов и др.). Как пишет Тощенко, родоплеменное противостояние часто составляет основу противоречий между разными этнополитическими группами во многих регионах РФ [31].
Реформа привела к реэтнизации культуры постсоветских народов, к снижению гражданственности общей культуры и усилению ее этно-националистической составляющей. В этом направлении прилагаются целенаправленные усилия этнократических элит «титульных» наций. Результаты наглядны. Так, резко сократилась доля положительных установок на заключение межэтнических браков (например, у грузин с 17 % в 70—80-е годы до 10 % в 1990-е годы) [134]. А.С. Панарин пишет: «Этноцентристский стиль ретро, который для новых племенных вождей был составляющей политических технологий самостийности, а для обслуживающей эту политику гуманитарной интеллигенции – специфической формой самоутверждения, неожиданно обернулся не стилизованной, а настоящей, драматической архаизацией и деградацией» [8, с. 173].
Очевидно, что этноцентризм нерусских народов, а тем более этнократические установки в национальных республиках и округах, опираются на примордиалистские представления об этничности и становятся важнейшим препятствием в формировании российской гражданской нации. В качестве примера, иллюстрирующего этноцентрический подход, А.Н. Смирнов приводит некоторые высказывания на конференции 1998 г., организованной Советом Федерации. Так, советник президента республики Татарстан Р. Хакимов заявил: «В Конституции Российской Федерации записано, что она провозглашалась от имени многонационального народа России. Я думаю, что недостаток не в том, что существует этот тезис, а в том, что он не реализуется. Если мы исследуем природу России, что она из себя представляет и как надо ее обустраивать, то помимо регионов, еще не устоявшихся и не ставших до конца субъектами исторического процесса, есть народы, которые уже как субъекты истории состоялись, причем состоялись давно. Это не просто народы, но это коренные народы, стало быть, государствообразующие народы, потому что им больше негде жить, они живут на своей территории. Живут тысячи лет. Они – субъекты истории. Если есть народ, он народ, независимо от численности. И нужно считаться именно с этим. Интересы России – это и есть интересы регионов и народов. Вне этого нет других интересов».
А.Н. Смирнов пишет: «Как видим, в приведенном пассаже статусы «коренного» и «государствообразующего» народов фактически отождествляются, а сами народы наделяются субъектностью. При этом полностью игнорируется гражданская общность, которая не рассматривается в качестве носителя интересов и суверенных прав» [135].
При этноцентричном видении новой системы межнациональных отношений русские становятся той «гражданской» средой, которая связывает сплоченные «коренные народы», которые, по словам Р. Хакимова, «живут на своей территории. Живут тысячи лет». Но если «интересы России – это интересы регионов и народов», то есть сумма изолированных интересов частей, то статус связующей «гражданской» среды резко снижается. Этноцентризм частей России оказывается направлен против ее ядра. И теперь братские в прошлом народы этнизируют русских тоже в направлении этноцентризма. Большая программа сталкивания русских в коридор этнонационализма понемногу наращивает обороты.
Сдвиг самосознания русских в сторону этнонационализма усилит и тенденции к усилению региональной этничности, что запустит еще один механизм демонтажа русского народа. Усилия в этом направлении не прекращаются. Так, в октябре 2006 г. в Ростове-на-Дону, в Ростовском государственном университете прошла совместная конференция, посвященная проблеме «формирования южнороссийской идентичности». Она была организована Американским советом научных сообществ и Международной гуманитарной школой. Спонсорами выступали организации США. Докладчики с Украины и из Польши обсуждали способы расколоть единое русское сознание [136]. В данном случае объектом было население юга России, но «региональная идея» обсуждается и в других местах.
Глава 30. Экономическая война: разрушение институциональных матриц народа
Гражданская война в социально-экономической сфере, которая пронеслась по СССР и РФ в конце 80-х и 90-х годах ХХ в., завершилась, как принято говорить, сменой общественного строя.
Привычное выражение «общественный строй» в условиях идеологической борьбы постепенно утратило свой исходный глубокий смысл и сузилось до ярлыка, обозначающего «общественно-экономическую формацию». В русском языке есть близкий по смыслу термин – жизнеустройство. Под ним подразумевают не название формации, а набор наглядных (или даже измеримых) признаков, которые в совокупности и создают картину того, как устроена жизнь в данном обществе.
Признаки, описывающие жизнь народа, обладают достаточной устойчивостью, чтобы служить для идентификации жизнеустройства в более или менее длительный период времени. Ядро из наиболее устойчивых признаков служит для описания типа культуры или цивилизации, для выражения этнической и национальной идентичности. Так, например, жизнеустройство русского крестьянства («великорусского пахаря») мало менялось вплоть до перехода от трехпольного к многопольному севообороту в ХХ веке.
Человеческое общество живет в искусственно созданном мире, через который взаимодействует с природой, – техносфере. Каждое общество строит свою техносферу под воздействием и природных, и социальных условий. Части техносферы существуют как технико-социальные системы – техника создается и используется в процессе общественной деятельности людьми с определенной культурой, иногда с высоким уровнем обучения и специализации. Речь идет, таким образом, о больших технических системах, которые тесно связаны с определенными общественными институтами, устойчивыми структурами общественных отношений[188]. Одно из направлений обществоведения развивает представление о таких системах как институциональных матрицах общества. История формирования и нынешнее состояние институциональных матриц России рассмотрены в книге С.Г. Кирдиной [137].
Сложившись в зависимости от природной среды, культуры данного общества и доступности ресурсов, большие технические системы в свою очередь действительно становятся матрицами, на которых воспроизводится данное общество. Как говорилось в гл. 20, эти матрицы «держат» страну и соединяют людей в народ. Некоторые из них соединяют народ и страну буквально – своими технологическими сетями (как, например, Единая энергетическая система, Единая сеть железных дорог, теплосети, государственная пенсионная система). Другие соединяют информационными потоками и общей культурой (например, школа, печать, связь).
Русский (советский) коммунизм решил фундаментальную общенациональную задачу – спроектировал и построил большие технико-социальные системы России, которые позволили ей вырваться из исторической ловушки периферийного капитализма начала ХХ века, стать индустриальной и научной державой и в исторически невероятно короткий срок подтянуть тип быта всего населения к уровню развитых стран. Мы не понимали масштабов и сложности этой задачи, потому что жили «внутри нее» – как не думаем о воздухе, которым дышим (пока нас не взяла за горло чья-то мерзкая рука). На деле все эти большие системы «советского типа» – замечательное творческое достижение нашего народа, в их создании было много блестящих открытий и прозрений.
В 1991 г. в СССР одержали верх антисоветские силы, и была провозглашена программа радикальной смены всех институциональных матриц страны – от детских садов до энергетики и армии (иногда говорилось, несколько торжественно, что эти матрицы «несут в себе ген коммунизма»). До этого в течение трех лет эти преобразования проводились под прикрытием социалистической фразеологии (т. н. «перестройка»). Вот уже 15 лет мы живем в «переходный период» – в процессе демонтажа тех технико-социальных систем, которые сложились и существовали в Российской империи и СССР. Наблюдаются и попытки создать новые системы, соответствующие рыночной экономике западного образца, – пока что в основном безуспешные.
Пятнадцать лет – большой срок, и сегодня, по истечении этого срока, можно определенно утверждать, что перестройка институциональных матриц России сопровождалась уничтожением именно тех составляющих в каждой матрице, которые выражали ее этническую (национальную) особенность и служили тем «генетическим аппаратом», который обеспечивал ее воспроизводство.
Систематический обзор практически всех шагов реформы заставляет сделать предположение, в которое трудно поверить, – что главным ее смыслом и была ликвидация населения России как народа, превращение народа России в массу озлобленных и грызущихся между собой группировок. При этом каждая из таких группировок должна быть тоже разорвана в других «плоскостях», так что в пределе Россия должна превратиться в арену войны всех против всех.
В каждом частном изменении видна изощренная изобретательность, как будто умный советник наших реформаторов указывал им ту невидимую точку в организме народа, куда они должны были кольнуть шилом. Вот, например, сущий пустяк – уничтожение государственной системы обслуживания жилищного фонда, ЖЭКов и ДЕЗов. Теперь сами жильцы должны учреждать ТСЖ («товарищества собственников жилья», ячейки пресловутого «гражданского общества»), а предприниматели – создать мириады частных фирм, готовых жилье обслужить.
Конечно, государство вынуждено сбросить с себя ответственность за изношенный жилищный фонд, из которого за 15 лет были изъяты амортизационные отчисления, так что стоимость срочного ремонта в 2003 г. была оценена в 5 триллионов руб. Но за этой операцией стоит и программа большого воровства, можно будет даже назвать ее Третьей «молекулярной» аферой реформы (если считать первой «банковские пирамиды», а второй – махинации со строительством жилья). Если первые две аферы охватили все же небольшую часть населения, то жертвой ТСЖ станет уже не менее половины – все жильцы многоквартирных домов. Государственная бюрократия – необходимый соучастник всех трех афер, но в первых случаях граждане несли свои деньги жуликам добровольно, желая немного улучшить свое положение, а теперь их бросают в лапы «управляющих компаний» насильно. Проблема обирания граждан прямо к нашей теме не относится. Для нас важна другая сторона дела: и учреждение ТСЖ, и выбор частной управляющей домом компании, и судебные тяжбы с ней – все это сразу превращает мирную жизнь обывателей в непрерывную склоку. Это видно с самых первых шагов, когда дело еще не дошло до «оплаты услуг» и мошенничества. Ликвидация маленькой институциональной матрицы (системы обслуживания жилья), которая позволяла людям спокойно жить, почти не замечая важную сторону быта, сразу погружает обывателей в пространство конфликтов. В ткани человеческих отношений рвется целая категория нитей.
Таким образом, реформирование систем жизнеустройства было средством демонтажа механизмов, воспроизводящих народ России (в начале 90-х годов – советский народ). Это было едва ли не главным объективным результатом переделки самых различных систем.
Начнем с главной программы реформ – превращения российской экономики в рыночную. «Рынок» – большая институциональная матрица, которая в той или иной форме существует в любом обществе с самых ранних стадий развития человечества и в каждом обществе окрашена его культурными особенностями. Механизмы рыночной экономики западного типа успешно переносились в разные культуры в ходе их модернизации, приспосабливались к культуре и традициям Японии, Китая, Индии и т. д.
Так же шла в прошлом и модернизация хозяйства России – и в царское, и в советское время. Уже маркиз де Кюстин в своем весьма недобром описании России (1839) признавал: «С первых шагов в стране русских замечается, что такое общество, какое они устроили для себя, может служить только их потребностям; нужно быть русским, чтобы жить в России, а между тем с виду все здесь делается так же, как и в других странах. Разница только в основе явлений» [138].
И в России увеличение веса рыночных отношений в нашем жизнеустройстве могло быть успешно осуществлено не в конфронтации, а в согласии с культурой и исторической траекторией России. Однако реформа с самого начала декларировала принцип насильственного переноса в Россию «чистой» англосаксонской модели – уничтожая именно «основу явлений» отечественного хозяйства.
Здесь надо подчеркнуть тот факт, что реформаторы отдавали себе отчет в несовместимости их рыночной доктрины с мировоззрением народов России. Обозреватель «Независимой газеты» Ю. Буйда писал: «Антирыночность есть атрибут традиционного менталитета, связанного с «соборной» экономикой, о чем особенно убедительно свидетельствуют послесмутный кризис православия и драматические коллизии великих реформ Александра Второго – Столыпина… Наша экономическая ублюдочность все еще позволяет более или менее эффективно эксплуатировать миф о неких общностях, объединенных кровью, почвой и судьбой, ибо единственно реальные связи пока в зачатке и обретут силу лишь в расслоенном, атомизированном обществе. Отвечая на вопрос итальянского журналиста о характере этих связей, этой чаемой силы, поэт Иосиф Бродский обошелся одним словом: «Деньги» [139].
Здесь прекрасно сказано, что «рыночность» реформаторов направлена на то, чтобы уничтожить «соборность» экономики, а тем самым и «общности, объединенные кровью, почвой и судьбой». И напротив, «антирыночность» населения России есть средство (видимо, недостаточно эффективное), чтобы эти общности, то есть народы, сохранить. Автор закона о приватизации Е.Г. Ясин так выразил смысл этой акции: «Надо сломать нечто социалистическое в поведении людей». Так что демонтаж советского хозяйства был в то же время способом демонтировать и центральную мировоззренческую матрицу народа.
Экономист В.А. Найшуль писал в 1989 г.: «Рыночный механизм управления экономикой – достояние общемировой цивилизации – возник на иной, нежели в нашей стране, культурной почве… Чтобы не потерять важных для нас деталей рыночного механизма, рынку следует учиться у США, точно так же, как классическому пению – в Италии, а праву – в Англии» [140]. Вот выбор реформаторов – найти «чистый образец» и перенять его.
Эту ложную установку, противоречащую знанию о межнациональном взаимодействии культур, надо было бы считать элементом мракобесия, если бы за этой ширмой не виднелся замысел разрушительной экономической войны. «По плодам судите их!»
При освоении достижений иных культур необходим синтез, создание новой структуры, выращенной на собственной культурной почве. Утверждение, что «рынку следует учиться у США, а праву – в Англии», – глупость. И рынок, и право – большие подсистемы культуры, в огромной степени сотканные особенностями конкретного народа или нации. Они настолько переплетены со всеми человеческими связями, что идея «научиться» им у какого-то одного народа находится на грани абсурда. Почему, например, праву надо учиться у англичан – разве у французов не было права? А разве рынок в США лучше или «умнее» рынка в Японии или в Сирии?
Что касается рынка, надо послушать самих либералов. Видный современный философ либерализма Джон Грей пишет: «В матрицах рыночных институтов заключены особые для каждого общества культурные традиции, без поддержки со стороны которых система законов, очерчивающих границы этих институтов, была бы фикцией. Такие культурные традиции исторически чрезвычайно разнообразны: в англосаксонских культурах они преимущественно индивидуалистические, в Восточной Азии – коллективистские или ориентированные на нормы большой семьи и так далее. Идея какой-то особой или универсальной связи между успешно функционирующими рыночными институтами и индивидуалистической культурной традицией является историческим мифом, элементом фольклора, созданного неоконсерваторами, прежде всего американскими, а не результатом сколько-нибудь тщательного исторического или социологического исследования» [141][189].
Вот частная операция этой войны – моментальное уничтожение механизмов планирования хозяйства. Развитие этих механизмов – длительный процесс, предопределенный природными и культурными условиями России, «национальная особенность» отечественного хозяйства, влияющая, в свою очередь, на все стороны нашего жизнеустройства. Можно ли считать «ампутацию» этой особенности просто глупостью Горбачева и Ельцина? Ни в коем случае. Глупость или даже безумие таких деятелей и их советников – маска. Это – военная операция против хозяйства России.
Укажу на один только фактор. На внутреннем рынке России торговля всегда была торговлей на «дальние расстояния», что резко повышало транспортные издержки. В 1896 г. средние пробеги важнейших массовых грузов по внутренним водным путям превышали 1000 км. Средний пробег по железной дороге в тот год составил: по зерну 638 км, по углю 360 и по керосину 945 км [142, с. 317]. Понятно, что уже один этот фактор требовал иной организации национального хозяйства России по сравнению с Западной Европой (условия пространства, расстояний, транспортной сети и плотности населения на Западе, подробно описанные Ф. Броделем [143][190], отличаются от условий России просто разительно).
В частности, поэтому потребность в крупномасштабном народнохозяйственном планировании была осознана в царской России в начале ХХ в. и правительством, и предпринимателями. Эту функцию и стали выполнять в Российской империи, с одной стороны, Министерство промышленности и торговли, а с другой стороны, периодические торгово-промышленные съезды и их постоянные органы. За основу планирования тогда была взята транспортная сеть, как позже, в плане ГОЭЛРО, энергетическая база.
В 1907 г. Министерство путей сообщения составило первый пятилетний план, а деловые круги «горячо приветствовали этот почин». Более широкие комплексные планы стала вырабатывать «Междуведомственная комиссия для составления плана работ по улучшению и развитию водяных сообщений Империи», которая работала в 1909–1912 гг. Приоритетом в этой плановой работе были внутренние потребности государства. Так был составлен пятилетний план капитальных работ на 1912–1916 гг. [144]. Продолжились эти работы уже после Мировой и Гражданской войн – при выработке комплексного народнохозяйственного плана ГОЭЛРО. Комиссия разработчиков и была преобразована в феврале 1921 г. в Госплан.
Устранение планового начала оказало мощное воздействие, ослабляющее связность народа России, в том числе и русского народа. Например, в любой стране государство должно следить за таким критическим плановым показателем, как региональное расслоение по «образу жизни», выражающееся прежде всего в уровне душевого дохода. Есть пороговые уровни, которых это расслоение не должно превышать, ибо нация распадается на общности, живущие в разных цивилизационных нишах. В советской системе через экономические механизмы поддерживалось достаточное сходство регионов по главным показателям благосостояния. Связность страны и народа по образу жизни была высокой.
В 1990 г. максимальная разница в среднедушевом доходе между регионами РСФСР составляла 3,5 раза. В 1995 г. она выросла до 14,2 раза, в 1997 г. была равна 16,2 раза. Например, если в 1990 г. средний доход жителей Горьковской области составлял 72,4 % от среднего дохода жителей Москвы, то в 1999 г. средний доход жителей Нижегородской области составлял всего 16,9 % от среднего дохода москвичей, а в 2004 г. 22,9 %. Таким образом, в ходе реформы региональная дифференциация резко усилилась. Резко нарушились устоявшиеся, стабильные соотношения в социальных индикаторах разных регионов страны. Это – одно из средств демонтажа народа.
Был разрушен и комплекс институциональных матриц, которые обеспечивали социальную связность народа. Расслоение общества по доходам и, шире, по доступу к фундаментальным благам удерживалось в пределах, в которых все население по образу жизни относилось к одной национальной культуре. Это был важный, критический показатель, поддержание которого в заданных пределах обеспечивалось системой механизмов. Уничтожение этих механизмов в ходе реформы привело к дикому, аномальному социальному расслоению.
Экономическая война внешне выразилась в лишении народа его общественной собственности («приватизация» земли и промышленности), а также личных сбережений. Это привело к кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников села. Резкое обеднение привело к изменению образа жизни (типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характера жизненных планов). Это означало глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушало его мировоззренческое ядро – рассыпало народ.
А.С. Панарин пишет: «Наверное, ни разу во всей культурной истории человечества с народом и с самой идеей народа не происходили столь зловещие приключения в собственном государстве, как сегодня. Либеральная политика в России, понятая как полный отказ от всяких социальных идей и обязательств в пользу «естественного рыночного отбора», поставила народ в условия вымирания» [8, с. 210].
Соглашаясь с констатацией факта, нельзя согласиться с трактовкой. Не было ни «либеральной политики», ни «естественного рыночного отбора». Имела место гражданская война на уничтожение – при исчезающе малой величине одной воюющей стороны. Но размеры временно победившего меньшинства значения не имеют, т. к. за ними стоят большие силы вне России. Это меньшинство было аналогом ничтожной по величине генетической матрицы вируса, которая внедряется в клетку и подчиняет ее процессы своей управляющей программе.
Насколько ничтожной по величине была эта «головка вируса», видно из хроники начала реформы. В сентябре 1991 г. в Москву прибыл Джеффри Сакс, и Верховный Совет РСФСР сразу потребовал от Ельцина представить к 1 октября программу стабилизации экономики (при том, что такая программа уже был представлена правительством в июне того же года и была одобрена Съездом народных депутатов). 28 октября 1991 г. Ельцин выступил на V Съезде народных депутатов и объявил о грядущей «шоковой терапии» и либерализации цен. Это обращение писали на правительственной даче № 15 («Сосенки») Е. Гайдар, А. Нечаев, В. Машиц, К. Кагаловский, А. Шохин и Н. Федоров. Но при них находились и экономические советники из США во главе с Дж. Саксом.
Программа этого будущего «правительства реформаторов» никогда не публиковалась, ее не утверждал Верховный Совет, ее не видели экономисты из научной среды. Ее положения не излагались даже в устных выступлениях разработчиков. Для российского общества это была тайная программа, а на деле она была разработана в США для СССР и стран Восточной Европы группой экономистов-неолибералов на деньги фонда Дж. Сороса и обсуждалась в сенате США в августе 1989 г. История эта уже изложена в ряде научных и популярных книг, краткое ее изложение см. в [145].
Здесь для нас важно, что связи этничности и социальные связи переплетены. Разрыв социальных связей ведет к появлению расходящихся общностей, которые становятся взаимно чуждыми и в этническом плане. Вот один из механизмов, связывающих народ «во времени», то есть поколение с поколением, – пенсионная система. В конце 90-х годов правительство даже посчитало реорганизацию пенсионного обеспечения «важнейшей национальной задачей» в России.
Народ вечен, пока в нем есть взаимные обязательства поколений. Одно из них в том, что трудоспособное поколение в целом кредитует потомков – оно трудится, не беря всю плату за свой труд. Иногда эта его лепта в благополучие потомков очень велика. Так это было, например, у поколений, которые создавали советское хозяйство в период индустриализации и защищали страну в Отечественной войне. Обязательство потомков – обеспечить достойный кусок хлеба тем людям из предыдущего поколения, кто дожил до старости.
В СССР это воплощалось в государственной пенсионной системе, которая была одной из важных институциональных матриц страны. В этой системе часть данного предыдущим трудоспособным поколением кредита возвращалась ему в виде пенсий. Эта часть распределялась, в общем, на уравнительной основе. Доля тех граждан, кто до пенсии не дожил, оставалась в общем котле.
В тех культурах, где человек считает себя обособленным индивидом, в этой сфере сложилась другая институциональная матрица – накопительные пенсионные фонды. Она рациональна в рамках культуры и экономической реальности Запада, но перенесение ее в иную экономическую и культурную среду практически наверняка лишает ее рациональности. Это – очевидное и элементарное правило. Необходимые критерии подобия между Западом и Россией в этой сфере не выполняются.
При советском строе пенсии были государственными, и выплачивались они из госбюджета. Выплата пенсий представляла собой отдельный раздел бюджета, ничем в принципе не отличающийся от любого другого раздела. На обеспечение пенсий шли все доходы и все достояние государства. Верховный Совет СССР горбачевского созыва в 1990 г. внес в пенсионную систему фундаментальное изменение – учредил Пенсионный фонд, что-то среднее между налоговым ведомством и банком.
Таким образом, обязанность формировать денежный фонд для выплаты пенсий возложили только на малую частицу народа – ныне работающую часть населения. Отстранив народ от этой обязанности, власти тем самым лишили пенсионеров права ожидать пенсии от всего народа, представленного государством. Когда эту обязанность несло государство, то деньги старикам на пенсию собирали все поколения народа, включая предков и потомков. Это было «общее дело», соединяющее нас в народ. Формирование пенсий старикам – это тип бытия народа и отношений между поколениями, адекватный индустриальному этапу нашего общества.
Следующим шагом реформы становится отстранение от этого дела уже и нынешнего поколения как части народа – теперь каждый индивид копит себе на часть пенсии сам. Он не должен надеяться на своего товарища по поколению и поддерживать его из своих накоплений. В этом плане народ полностью расчленяется на «атомы», в чем и заключается доктрина реформы[191].
Другой механизм расчленения народа – социальное расслоение. Аномальная, не поддающаяся рациональным и морально приемлемым объяснениям массовая бедность разрывает соединяющие народ связи. Усредненным, «мягким» показателем расслоения служит фондовый коэффициент дифференциации (отношение суммарных доходов 10 % высокооплачиваемых граждан к доходам 10 % низкооплачиваемых). В СССР в 1956–1986 гг. он поддерживался на уровне 2,9–3,9, в 1991 г. стал равен 4,5, но уже к 1994 г., по данным Госкомстата РФ, подскочил до 15,1. Официальные данные не учитывают теневых доходов, и в какой-то степени этот пробел восполняют исследования социологов. По данным ВЦИОМ, в январе 1994 г. он был равен 24,4 по суммарному заработку и 18,9 по фактическому доходу (с учетом теневых заработков). А группа экспертов Мирового банка, Института социологии РАН и Университета Северной Каролины (США), которая ведет длительное наблюдение за бюджетом 4 тысяч домашних хозяйств (большой исследовательский проект Russia longitudinal monitoring survey), считает коэффициент фондов за 1996 г. равным 36,3 [146].
В РФ возникла уникальная категория «новых бедных» – те группы работающего населения, которые по своем образовательному уровню и квалификации, социальному статусу и демографическим характеристикам никогда ранее не были малообеспеченными. Из возрастных категорий сильнее всего обеднели дети в возрасте от 7 до 16 лет. В 1992 г. за чертой бедности оказалось 45,9 % этой части народа, а в 1997 г. эта доля сократилась до 31,2 %. В последнее время обеднение детей опять усилилось – до 37,2 % в 2000 г. В 2003 г. этот показатель составил 36,3 %, причем более половины из этой категории детей относятся к «крайне бедному населению» – к тем, кто имеет уровень дохода в два и более раз ниже прожиточного минимума. Таким образом, половина народа «проходит через бедность» в детском возрасте, что оставляет тяжелый след на всю жизнь, разделяет народ на две разные общности.
По меркам последних советских лет в РФ ниже уровня бедности оказалось 80 % населения. Как пишет директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Н.М. Римашевская, «проблема бедности как самостоятельная исчезает, замещаясь проблемой экономической разрухи… Бедной становится как бы страна в целом» [147]. Но такая «дифференцированная» разруха с массовой маргинализацией части населения вырывает из народа целые группы – путем резкого изменения их мировоззрения и стереотипов поведения. Эти группы превращаются в иные народы и племена.
Назовем две таких группы. По данным социологов (Н.М. Римашевская), к 1996 г. в результате реформ в РФ сформировалось «социальное дно», составляющее по минимальным оценкам 10 % городского населения или 10,8 млн. человек. В состав его входят: нищие (3,4 млн.), бездомные (3,3 млн.), беспризорные дети (2,8 млн.) и уличные проститутки (1,3 млн.)[192]. Большинство нищих и бездомных имеют среднее и среднее специальное образование, а 6 % – высшее.
Сложился и равновесный слой «придонья» (зона доминирования социальной депрессии и социальных катастроф), размеры которого оцениваются в 5 % населения. Как сказано в отчете социологов, находящиеся в нем люди испытывают панику: «Этим психоэмоциональным наполнением беднейших социально-профессиональных слоев определяется положение «придонья»: они еще в обществе, но с отчаянием видят, что им не удержаться в нем. Постоянно испытывают чувство тревоги 83 % неимущих россиян и 80 % бедных». По оценкам экспертов, угроза обнищания реальна для 29 % крестьян, 44 % неквалифицированных рабочих, 26 % инженерно-технических работников, 25 % учителей, 22 % творческой интеллигенции. Общий вывод таков: «В обществе действует эффективный механизм «всасывания» людей на «дно», главными составляющими которого являются методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан» [147].
Почти одна пятая часть населения России сброшена на «дно» и «придонье» в результате разрушения институциональных матриц, на которых был собран и воспроизводился советский народ. Это разрушение было произведено посредством войны, а не является следствием «плохих методов», «неспособности государства» или «ошибок». Это надо понимать тем, кто думает о сохранении и возрождении России. Надо видеть и актуальную угрозу – «дно» все более и более этнизируется как иная, причем враждебная «благополучным» общность. Иначе и быть не может, поскольку война против пятой части «бывших россиян» ведется при молчаливом согласии «благополучных».
Отказ общества считать отверженных своими приобретает демонстративный характер. Так, де факто им отказано в конституционном праве на медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). Это при том, что практически все бездомные больны, а среди беспризорников больны 70 %. Половина бездомных – бывшие заключенные и беженцы – находятся в постоянном конфликте с властью, т. к. не могут легализоваться и нарушают правила регистрации. Государственная помощь оскорбительно ничтожна по масштабам, что также стало символом отношения к отверженным. К концу 2003 г. в Москве действовало 2 «социальных гостиницы» и 6 «домов ночного пребывания», всего на 1600 мест – при наличии 30 тыс. официально учтенных бездомных. Зимой 2003 г. в Москве замерзло насмерть более 800 человек[193] [148].
В ответ в установках отверженных происходят важные и быстрые сдвиги. Они утратили надежды, которые у них были в середине 90-х годов, а с ними во многом и желание «вернуться» в общество. В 1995 г. и 1999 г. было проведено сравнительное исследование беспризорников. В 1995 г. они все считали, что им можно помочь, а подавляющее большинство желали помощи, надеялись на нее и имели представления о том, как им можно помочь. «Пессимистов» было 22 %. В 1999 г. доля тех, кто дал отрицательные ответы по этим позициям, составила 79 %. В 1995 г. 27 % беспризорников доверчиво сообщили о своей мечте «сытно питаться», а многие и о желании иметь «игрушки и красивую одежду», а в 1999 г. таких уже не было вообще, как не нужна была и «помощь с жильем» (в 1995 г. – 15 %). Автор пишет: «Во многих отношениях это дети совершенно другие… Беспризорные дети все меньше нуждаются в помощи общества и все больше рассчитывают на самих себя. «Вернуть» их в общество становится все тяжелее» [149].
Другая группа ставших иными – сброшенные реформой в тяжелый алкоголизм. С 1994 по 2003 г. в РФ велся российский мониторинг экономического положения и здоровья населения, включающий в себя сбор сведений о потреблении алкогольных напитков. Он охватывал 4 тыс. домохозяйств и около 11 тыс. членов домохозяйств. Он показал, что уровень потребления алкоголя коррелирует с уровнем социального неблагополучия. Если потребление чистого алкоголя на одного потребителя в областных центрах выросло за 1994–2002 гг. с 13,0 до 16,3 л, то на селе – с 18,5 до 28,8 л.
Обзор данных мониторинга завершается таким выводом: «В 1994–2002 гг. устойчивый рост рискованного уровня потребления наблюдался, кроме женщин, у экономически неактивного населения трудоспособного возраста, у пенсионеров, самозанятых; у бедных, у сельских жителей; в многодетных семьях; у разнорабочих. Иными словами, пить стали чаще и больше в социальных средах, в наибольшей степени испытавших социально-экономические и психологические травмы переходного периода: падение уровня жизни, депрессии, страх, потерю уверенности в себе и в своем будущем, суицидные мысли» [150].
Назовем еще одну общность граждан России, для которой реформа имела катастрофические последствия в результате разрушения институциональных матриц их жизнеустройства – коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). Строго говоря, их судьба – это доведенный до крайности образ того, что происходит со всеми народами РФ.
Даже такой явно антисоветски настроенный человек, как В.А. Тишков, пишет: «В начале 90-х гг., с распадом СССР и развитием рыночных отношений, КМНС оказались без опеки государства и материальной поддержки, лишились гарантированной системы здравоохранения, образования и снабжения, а также других мер социальной защиты, к которым они привыкли за годы советской власти» [151].
Действительное положение этих народов, суть их нынешней драмы объясняет Ф.С. Донской. Он пишет: «На всех этапах исторического развития России после ХVI в. коренные малочисленные народы Сибирского Севера и Дальнего Востока выживали благодаря интеграции, то есть достижению единства и целостности каждого этноса, основанной на национальной взаимопомощи, взаимозависимости с пришлым населением, преимущественно европейского происхождения. Как показывают исследования, постсоветский период характеризуется началом активного процесса дезинтеграции аборигенного населения, то есть сворачивания на государственном уровне достигнутых за столетия реалий вплоть до непредоставления ему конституционных прав на этническое самоуправление и саморазвитие, резким снижением господдержки здравоохранения, образования и т. д. Подорвана материальная основа существования аборигенов – традиционные отрасли хозяйства. Их численность занятых в сельском и промысловом хозяйстве по сравнению с 1990 г. сократилась в 2 раза и более. Северные села превратились в очаги хронической безработицы. В районах проживания коренных малочисленных народов произошел обвальный спад промышленного производства, строительства, транспорта и связи. Абсолютное большинство этого населения отброшено далеко за черту бедности» [152].
Конкретные показатели социального положения этих народов, о котором никогда не говорят центральные СМИ, позволяют говорить об античеловеческом характере рыночной реформы. В 2000 г. среднее ежесуточное потребление продуктов питания в районах проживания этих народов составляло в Камчатской обл. 50,4 % от норматива, в Корякском АО 51,3 % и в Таймырском АО 43,5 %. Речь идет о тотальном хроническом недоедании. Даже в 2003 г. валовой месячный доход на душу населения в районах проживания этих народов был намного ниже (иногда в 2 и более раза) стоимости нормативного рациона питания. Мы – свидетели небывалой программы по хладнокровному уничтожению всех матриц жизнеустройства 14 народов Российской Федерации.
Вернемся в «благополучные» регионы. Важной частью всех институциональных матриц хозяйства являются отношения в процессе труда. Они формируют один из важнейших пучков связей, соединяющих людей в народ. Труд был одним из важнейших символов, скреплявших советское общество. Для нашего народа он представлял деятельность, исполненную высокого духовно-нравственного (литургического) смысла, воплощением идеи Общего дела. Латинское выражение Laborare est orare («трудиться значит молиться») в течение длительного времени имело для советских людей глубокий смысл.
Такое представление труда стало в годы перестройки объектом очень интенсивной атаки. Множество экономистов, публицистов и поэтов требовали устранить из категории труда его духовную компоненту, представить его чисто экономическим процессом купли-продажи рабочей силы. На время эта кампания достигла успеха. В 1993 г. 63,6 % несовершеннолетних, уволившихся с предприятий, мотивировали это тем, что «любой труд в тягость, можно прожить и не работая» [153].
Разрушение символа укреплялось практикой производственных отношений. В организации труда реформа привела к господству неправовых методов. В «рыночном» хозяйстве РФ практически не действует Трудовой кодекс. Так, согласно его нормам, «продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». На деле за первые 8 лет реформ фактическая месячная трудовая нагрузка в РФ выросла на 18 час. У 46 % работников трудовая нагрузка превышает разрешенную КЗОТом, а 18 % трудящихся работают более 11 часов в день или без выходных. При этом переработки вовсе не вызваны интересом к творческой работе, как это бывало раньше, они являются вынужденными. Для большинства работников дополнительная работа – жизненная необходимость. Из-за нее угасают многие другие жизненные функции людей [154].
Большие усилия были предприняты для снятия символического значения образа земли, важного элемента институциональных матриц, сложившихся в сельском хозяйстве. Ради дегенерации этого образа до уровня обычного товара (как известно, «не может иметь святости то, что имеет цену») была создана целая антиобщинная мифология («миф о фермере»). Вот что пишет по этому поводу один из адептов реформ: «Либеральный проект предполагает полное снятие всех ограничений на право собственности на землю. Земля может неограниченно продаваться, покупаться, передаваться в аренду, подлежать любому употреблению вплоть до злоупотребления. Она становится таким же абстрактным товаром, как и любой другой товар… Два типа отношения к земле как собственности отражаются и в отношении «либерала» и «консерватора» к земле как территории» [155].
Разрыв важных человеческих связей произошел при перестройке институциональных матриц в сфере недвижимости. Когда говорят об обеднении, обычно внимание концентрируется на расслоении народа по доходам и уровню потребления. Однако на деле социальный апартеид создается множеством разных способов. Вот, например, в самом начале реформ в РФ была учреждена частная собственность и рынок недвижимости. Соответствующей правовой защиты имущественных прав создано не было, и возник хаос, от которого понесла ущерб значительная часть населения. Затем были созданы ведомства государственной регистрации недвижимости (строений и земельных участков) и введены новые, очень сложные правила регистрации. Возможность понять эти правила и действовать в соответствии с ними сразу стала фильтром, разделяющим население примерно на две равные части – тех, кто получал доступ к легальной недвижимости, и тех, кто этого доступа лишался.
Проведенное в 2003 г. исследование привело к такому выводу: «Для почти половины населения новые имущественные отношения остаются закрытой сферой, о которой они не имеют представления (или имеют весьма смутное)… Большей частью населения система государственной регистрации имущественных прав воспринимается либо как совершенно чужая, не имеющая никакого отношения к их жизни, либо как враждебная, способная привести к новым жизненным трудностям… Выявленные тенденции ведут к сужению социальной базы этого нового для нашего общества института, соответственно, к снижению его легитимности. Институт, за пределами которого остается более половины населения, не может претендовать на легитимность» [156].
Надо сказать, что введение в России регистрации недвижимости «западного типа» представляет собой удар вовсе не только по советским привычкам. Это – важное потрясение русской этнической культуры. Вестернизация этой части имущественных отношений не успела охватить существенной части населения и в дореволюционной России. Вот одна из последних повестей Н.С. Лескова, знатока русской национальной культуры центральных областей – «Несмертельный Голован» (1880).
Речь идет о предреформенном времени. Молодой Лесков, юрист, заехал в родной Орел, где недавно был большой пожар. Его дядюшка, совестной судья, жаловался на то, что «народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ азият, который может удивить кого угодно своею дикостью». Как пример он привел тот факт, что после пожара люди построили новые дома и лачуги, но ни у кого нет прав на участки.
Лесков поясняет: «Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, – умер; а с тем и все следы их владенных прав кончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых».
Затем Лесков излагает разговор его дяди судьи с тремя купцами, которые как раз и пришли удостоверить куплю-продажу участка, на который ни у кого не было никаких документов («и никогда не было»). Это – в крупном городе, в купеческой среде.
С самого начала реформ была поставлена задача перестроить одну из крупнейших по масштабу институциональных матриц – жилищно-коммунальное хозяйство страны (ЖКХ). Это – ключевая система жизнеобеспечения, и ее влияние на все жизнеустройство народа очевидно. О размерах ЖКХ можно судить по тому, что его основные фонды составляют треть всех основных фондов страны. Крупные изменения в этой матрице прямо касаются и быта, и даже бытия подавляющего большинства граждан и их семей.
В СССР право на жилье было введено в Конституцию, стало одним из главных, конституционных прав. И это было величайшим социальным завоеванием, которое было одной из сплачивающих народ сил. Между гражданским правом на жилье и правом покупателя на рынке – разница фундаментальная. Пока человек имеет жилье – он личность. Бездомность – совершенно иное качество, аномальное состояние выброшенного из общества изгоя. Потеря жилья сразу вызывает, по выражению социологов, «вызывающую отчаяние проблематизацию абсолютно всех сторон жизни». Бездомные очень быстро умирают. Ликвидация права на жилье – сильнейший удар по связности народа. Бездомные – иной народ.
В 1989 г. в РСФСР 63,7 % семей проживали в отдельных квартирах и 24 % в отдельных домах. 87,7 % населения РСФСР проживало в отдельных квартирах или отдельных домах, а вовсе не в «коммуналках»! В коммунальных квартирах проживали 6,1 % семей, а 2,7 % занимали часть отдельного дома. 3,6 % жили в общежитиях, причем 97,1 % семей, проживавших в общежитиях, занимали одну и более комнат[194].
Сейчас в РФ насчитывается 3,3 млн. бездомных, а к «низшим слоям», не владеющим жильем, относятся не менее 10 % населения. Как сказано в Российской энциклопедии социальной работы, «бездомный – обездоленный, депривированный, т. е. лишенный гражданских прав, жилья, работы, медицинского обслуживания, страхования жизни, ютящийся на чердаках и в подвалах» [148]. Основная масса бездомных – люди 35–54 лет. Большинство бездомных – бывшие рабочие, но каждый следующий год дает заметное приращение бывших служащих. Более половины бездомных имеют среднее образование, 22 % – среднее специальное, около 9 % – высшее. Самые главные причины потери жилья (в порядке убывания значимости) – выселения за неуплату, жилищные аферы и обманы, выписка с жилплощади в связи с пребыванием в местах лишения свободы, добровольно-принудительное оставление жилья по семейным обстоятельствам.
И вот важные выводы: «Всплеск бездомности – прямое следствие разгула рыночной стихии, «дикого» капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг… Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронический. Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного «класса» людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной «возможностью» для прекращения бездомного существования становится, как правило, смерть или убийство» [148].
Надо только заметить, что ничего «стихийного» в разгуле «дикого» капитализма или в нехватке средств для оплаты коммунальных услуг нет. Это – результат реализации глубоко продуманной, досконально обсчитанной учеными и экспериментально проверенной в ряде стран программы. В благополучной России эта программа была применена как орудие экономической и психологической войны.
Но вернемся к тому большинству, которое имеет жилье. В России жильем является только отапливаемое помещение. Об этой подсистеме ЖКХ и скажем коротко (подробнее см. [157]). В настоящее время состояние теплоснабжения, как и всего ЖКХ, подошло к критическому, пороговому моменту. Это превратилось в один из главных, хотя и не афишируемых, политических вопросов. В нем высветились кардинальные принципы рыночной реформы.
Теплоснабжение, как и любая другая «институциональная матрица», зависит не только от состояния экономики и программных установок власти. На его сохранность или деградацию влияет и общий социально-психологический климат в обществе. Связи солидарности и сотрудничества укрепляют коммунальный характер систем жизнеобеспечения, а поворот к индивидуализму и конкуренции – ослабляет. Нынешнее ослабление этнических связей – одно из важных условий кризиса теплоснабжения. Очень многие питают ложную иллюзию, что можно пережить этот кризис в одиночку (например, потратившись на устройство автономного теплоснабжения).
О предприятии какого масштаба идет речь? Потребление тепловой энергии в ЖКХ составляет половину суммарного потребления в стране. На обогрев жилищ и их горячее водоснабжение используется более 25 % топлива, расходуемого в хозяйстве страны (эквивалентное 300 млн. т нефти в год). Здесь занято два миллиона работников, они производят продукции (тепла) в количестве 2520 млрд. кВт-ч, что по западноевропейским ценам (8 центов за 1 кВт-ч тепловой энергии в 2005 г.) стоит 200 млрд. долл. в год.
Эта система предприятий – производителей и поставщиков тепла – была спроектирована и построена в советское время применительно к природным условиям России и сложившимся в ней за тысячелетие культурным нормам, как система общего (даже общинного) пользования. Современное теплоснабжение России – порождение и в то же время элемент «генотипа» нашего народа и нашей цивилизации, отопление РФ спроектировано и построено для уравнительного распределения тепла[195]. В СССР содержание ЖКХ было делом государства – таким же, как содержание армии, милиции и т. п. Государство финансировало ЖКХ как целое, как большую техническую систему, определяющую жизнеспособность страны.
Исторически, начиная с 1920 г., теплоснабжение в городах России сложилось как централизованное, с выработкой большей части тепла на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) как побочного продукта при производстве электроэнергии. Этот принципиальный технологический выбор позволил надежно снабжать жилища теплом, получить большую экономическую выгоду, резко сократить число работников и оздоровить экологическую обстановку в городах. Технология теплофикации позволяет даже сегодня отпускать населению тепло по цене в 5 раз более низкой, чем на Западе.
При централизованном теплоснабжении большинство жителей России оказались буквально скованы одной цепью. Общие, не поддающиеся расчленению и приватизации теплосети стали наглядным проявлением связности народа. Сегодня какую-то часть населения тяготит эта вынужденная национальная солидарность, но и они начинают понимать ее неизбежность. На Западе потребление тепла в большой степени автономно, сосед от соседа не зависит. В России же разорвать инфраструктуру отопления путем расслоения по доходам не удается. Даже те богатые, что купили квартиры в новых домах, постепенно осознают, что все эти дома присоединены к старым, проложенным в 70—80-е годы теплосетям. Поэтому свеженький вид «элитных» домов и итальянская сантехника в квартирах – это всего лишь косметическая надстройка над невидимой сетью подземных коммуникаций, которая одновременно откажет подавать тепло и в дома бедняков, и в дома богатых. Неразумные «богатые», предполагая, что бедные пойдут на дно, а они выплывут и за свои деньги всегда получат тепло, в своих расчетах ошиблись[196].
Реформа, которая ставила целью демонтаж народа, сразу же нанесла тяжелые удары по теплоснабжению. Отрасль была расчленена на множество независимых организаций (акционерных обществ, муниципальных предприятий и т. д.), было ликвидировано Министерство коммунального хозяйства, бывшее ранее единым органом управления и технической политики. Созданные фирмы были пущены в «свободное плавание» почти в буквальном смысле голыми – они получили основные фонды по балансовой стоимости, без амортизационных отчислений, по своим размерам сравнимых со стоимостью основных фондов.
«Жесткая» часть системы теплоснабжения, ее материально-техническая база, рыночным изменениям поддавалась с трудом. Для ее переделки по западным образцам требовалось строить новые технические системы, а для этого у реформаторов не было и не будет средств. Главным изменением в техническом плане стало прекращение работ по содержанию и плановому ремонту теплоснабжения – ТЭЦ, котельных и теплосетей. Плановая замена изношенных труб с 1991 г. почти не проводилась, прокладка новых теплосетей почти прекратилась. Назвав себя правопреемником СССР и приняв в наследство от него теплосети протяженностью 183,3 тыс. км, государство РФ негласно прекратило выделение средств для содержания этой системы.
За 15 лет износ теплосетей достиг критического уровня, число отказов и аварий стало нарастать в геометрической прогрессии. В 1990 г. было 3 аварии на 100 км теплосетей, в 1995 г. 15 аварий, а в 2000 г. 200 аварий. Деградация системы приобрела характер цепного процесса, затраты стали огромными – аварийный ремонт обходится примерно в 10 раз дороже, чем плановая замена той же трубы. К настоящему моменту, как сказано в официальном документе, речь идет о техносферной катастрофе, приобретающей характер национального бедствия.
Зимой 2003 г. после крупных аварий теплоснабжения был обнародован план действий правительства, который сводился к следующему:
1. Полное разгосударствление теплоснабжения и его перевод на рыночную основу – передача ЖКХ в ведение местных властей, установка счетчиков тепла, прекращение дотаций ЖКХ как отрасли, полная оплата тепла потребителями (с дотациями неимущим гражданам).
2. Реформа РАО ЕЭС с приватизацией генерирующих тепло предприятий (ТЭЦ); либерализация цен на энергоносители с доведением их до мирового уровня.
3. Переход от централизованного теплоснабжения к индивидуальному (домовым или поквартирным котельным).
Таким образом, правительство пока что отказывается от восстановления и содержания той единственной системы теплоснабжения, которой располагает Россия и которая находится при последнем издыхании. Взамен жителям предлагается покупать и устанавливать в своих жилищах индивидуальные отопительные устройства – согласно толщине кошелька. В экономическом и техническом плане это полная нелепость и служит лишь отговоркой, чтобы уйти от объяснения с обществом по существу проблемы.
Из всего этого следуют такие выводы относительно теплоснабжения и как абсолютно необходимой системы жизнеобеспечения, и как институциональной матрицы России:
– Система хозяйства, созданная в ходе реформы, не позволяет собрать достаточные ресурсы, чтобы построить новую систему теплоснабжения, альтернативную советской. Создание рыночной институциональной матрицы в теплоснабжении оказалось невозможным.
– Система хозяйства, созданная в ходе реформы, не позволяет содержать и стабильно эксплуатировать систему теплоснабжения, унаследованную от советского строя. Сохранение нерыночной институциональной матрицы в теплоснабжении в условиях рынка оказалось невозможным.
Общий вывод: Система хозяйства, созданная в ходе реформы, несовместима с жизнью народа и страны.
На основании достаточно широкого изучения того, что произошло за последние 15 лет, можно утверждать, что попытка реформирования всех больших технических систем привела к результатам, поразительно похожим на те, которые имели место в теплоснабжении. Судьба теплоснабжения – совершенно типичный пример, и причины того, что с ним произошло, носят фундаментальный характер.
Рассмотрим кратко еще одну производственную систему, которая служила важной институциональной матрицей советского народа, а сейчас продолжает выполнять эту роль в РФ, – военно-промышленный комплекс (ВПК). Роль его как матрицы определяется тем, что ВПК особым образом соединяет промышленность, науку и армию, которые в свою очередь сами являются большими институциональными матрицами. Более того, историческая память народов России, и особенно русского народа, превратила оружие в один из важных символов национального сознания. Танк Т-34, Ил-2 и «Катюша», ядерная ракета и автомат Калашникова – все это наши национальные символы, по отношению к которым мы проводим различение «свой-чужой». В гл. 19 говорилось именно о советском оружии, что даже в его облике ярко проявляются черты нашей этнической культуры. Таким образом, ВПК, разрабатывая и производя наше оружие, непрерывно воспроизводит и обновляет нашу мировоззренческую матрицу. Представим, что мы вдруг лишились нашего оружия – ракетно-ядерного, авиации и флота, «Калашникова». Каким потрясением это было бы для нашего народа!
Демонтаж советского ВПК, который был начат с первого дня реформы (а до этого готовился в сознании общества), вел именно к такому потрясению, не говоря уже о подрыве «жестких» механизмов соединения народа. История ВПК для нас важна как учебный материал – это та большая система, которая не просто несет черты нашей национальной культуры, но обладает уникальными, неповторимыми этническими особенностями. Советский народ на пике своего национального самосознания создал систему, которая затем долгое время «воссоздавала» его самое. И сегодня борьба вокруг российского ВПК есть борьба между силами, которые продолжают демонтаж нашего народа и теми, которые этому противодействуют.
В качестве иллюстрации приведем выдержки из статьи авторитетного эксперта, бывшего зампредседателя Госкомитета РФ по оборонным вопросам В.В. Шлыкова [158]. Его первый важный для нас тезис показывает, что вся советская экономика имела уникальную, присущую только нашему национальному хозяйству структуру. Она была просто непонятна для лучших экономистов и разведчиков США (впрочем, как и для нашей интеллигенции).
Шлыков пишет, на основании заявлений руководства ЦРУ США: «Только на решение сравнительно узкой задачи – определения реальной величины советских военных расходов и их доли в валовом национальном продукте (ВНП) – США, по оценке американских экспертов, затратили с середины 50-х годов до 1991 года от 5 до 10 млрд. долларов (в ценах 1990 года), в среднем от 200 до 500 млн. долларов в год». Один видный деятель США заявил недавно, что «попытка правительства США оценить советскую экономику является, возможно, самым крупным исследовательским проектом из всех, которые когда-либо осуществлялись в социальной области». Мыслимое ли дело – исследование в обществоведении, которое обошлось в такую сумму! Из одного этого видно, что речь идет о необычной, своеобразной системе.
Шлыков объясняет, как работало ЦРУ в 1960–1975 гг.: «Ввиду нерыночного характера экономики СССР какие-либо реальные цены на советскую военную продукцию ЦРУ получить, естественно, не могло (их не было в природе). Поэтому оно синтезировало эти цены путем выражения в долларах стоимости разработки или производства в США того или иного образца вооружения с аналогичными тактико-техническими характеристиками. Затем уже эти цены в долларах переводились в рубли по паритету покупательной способности валют, также определявшемуся ЦРУ».
ЦРУ считало, что военные расходы СССР составляли 6–7% от ВНП, при этом их доля в ВНП постоянно снижалась. Так, если в начале 50-х годов СССР тратил на военные цели 15 % ВНП, в 1960 г. – 10 %, то в 1975 г. всего 6 %. Это – второй важный тезис статьи Шлыкова. Советский ВПК был исключительно эффективен экономически, он снабжал свой народ хорошим и дешевым оружием.
В 1976 г. военно-промышленное лобби США добилось пересмотра оценок военных расходов СССР в сторону увеличения – до 12–13 % ВНП. Это было прежде всего следствием коррупции в США. После краха СССР Р. Перл, бывший замминистра обороны США, писал: «Остается загадкой, почему была допущена столь огромная ошибка, и почему она приобрела хронический характер. Возможно, мы так и не узнаем истину «. А сенатор Д. Мойнихен даже требовал роспуска ЦРУ за завышение советских военных расходов, в результате чего США выбросили на ветер через гонку вооружений триллионы долларов.
ЦРУ при этом ссылалось на данные некоего перебежчика из СССР, «научного сотрудника». Шлыков пишет: «Никаких достоверных данных о советских военных расходах эмигрировавший научный сотрудник не мог предоставить по той простой причине, что ими не располагало даже само высшее руководство СССР. Ибо их не существовало в природе. Подавляющая часть советских военных затрат растворялась в статьях расходов на народнохозяйственные нужды. Со своей стороны, все оборонные предприятия списывали свои социальные и другие расходы (жилищное строительство, содержание детских садов, пансионатов, охотничьих домиков для начальства и т. п.) по статьям затрат на военную продукцию, к тому же «продававшуюся» государству по смехотворно низким искусственным ценам. Именно поэтому никакая иностранная разведка не могла вскрыть «тайну» советского военного бюджета, так же как сейчас было бы бесполезно пытаться установить истинные советские военные расходы через изучение сверхсекретных архивов и документов».
Это – третий важный тезис. Производство оружия в СССР было неразрывно связано с остальной частью народного хозяйства и даже с бытом. Это – тип хозяйства и жизнеустройства, который был выработан в русской крестьянской общине и таит в себе огромный потенциал эффективности. Это – великое экономическое открытие русского народа, которое могло быть сделано только благодаря особенностям его центральной мировоззренческой матрицы.
Этот тип хозяйства с самого начала перестройки стал объектом разрушительной идеологической кампании и даже ненависти, которая тогда казалась необъяснимой. Шлыков пишет об этом в 2000 г.: «Сейчас уже трудно поверить, что немногим более десяти лет назад и политики, и экономисты, и средства массовой информации СССР объясняли все беды нашего хозяйствования непомерным бременем милитаризации советской экономики. 1989–1991 годы были периодом настоящего ажиотажа по поводу масштабов советских военных расходов. Печать и телевидение были переполнены высказываниями сотен экспертов, торопившихся дать свою количественную оценку реального, по их мнению, бремени советской экономики…
Министр иностранных дел Шеварднадзе заявил в мае 1988 года, что военные расходы СССР составляют 19 % от ВНП, в апреле 1990 г. Горбачев округлил эту цифру до 20 %. В конце 1991 г. начальник Генерального штаба Лобов объявил, что военные расходы СССР составляют одну треть и даже более от ВНП (260 млрд. рублей в ценах 1988 года, то есть свыше 300 млрд. долларов). Хотя ни один из авторов вышеприведенных оценок никак их не обосновывал, эти оценки охотно принимались на веру общественностью»[197].
В обзоре подобных публикаций сказано: «Начиная с 1990 г. в печати стали появляться данные о феноменальном уровне милитаризации экономики СССР. Проскальзывают цифры (обычно со ссылкой на западные источники), что доля военной продукции в индустрии более 70 %, а военные расходы в общем экономическом балансе бывшего СССР 35–40 %… В статье 1997 г. утверждается, что в 1989 году текущие военные расходы СССР совместно с «оборонной» частью капитальных вложений «достигли умопомрачительных цифр… 73,1 % от произведенного национального дохода» [160].
Ради этой истории сделаем маленькое отступление. Сподвижник А.Д. Сахарова Б. Альтшулер пишет об «научном работнике», который помогал ЦРУ: «В подготовленном в 1989-90 гг. для Конгресса США Докладе (см. [161]) бывший советский экономист Игорь Бирман приходит к выводу, что военные расходы Советского Союза составляли примерно 25 % национального дохода, но подчеркивает «чудовищную сложность задачи» расчета истинных военных затрат СССР.
Бирман рассказал [мне] много интересного, в частности, что все годы после эмиграции в США в 1974 году он «воевал» с экспертами ЦРУ, доказывая, что советские военные затраты составляют не 7 % национального дохода СССР – именно на этой переписанной советской официальной цифре всегда настаивали американские пинкертоны, – а существенно выше и абсолютно и относительно» [162]. Сам же Сахаров по-отечески поддерживал эти изыскания[198].
Как только была изменена политическая система, и армия, и отечественный ВПК стали просто объектом уничтожения. В самой армии эти действия оценивались единодушно. Вот маленький штрих: «Летом 1994 г. был проведен массовый анонимный опрос офицеров главных и центральных управлений, академий и московских частей. Ни один из них не предложил кандидатуру Бориса Ельцина на пост президента на выборах 1996 года» [163]. Главный удар был нанесен по производству наукоемких материалов и компонентов вооружения. Выпуск электронной техники военного назначения в 1992–1994 г. сократился более чем в 10 раз. Был прекращен выпуск более 300 типов интегральных схем для новых ракетных комплексов наземного и морского базирования. В 1992 г. были прекращены закупки новых эффективных средств электронной защиты самолетов. Были прекращены важные исследования и разработки в области вооружений (высокоточного ракетного оружия, обнаружения малоразмерных целей. Список свернутых работ очень обширен [144].
Шлыков пишет: «В 1992 г. объем закупок вооружения и военной техники [был сокращен] сразу на 67 %… И тем не менее, несмотря на столь, казалось бы, радикальное уменьшение, употребляя терминологию Е. Гайдара, «оборонной нагрузки на экономику», никакого заметного улучшения жизненного уровня населения, как известно, не наступило. Наоборот, произошло его резкое падение по сравнению с советским периодом. Более того, в глубокую депрессию впал и так называемый гражданский сектор российской экономики, особенно промышленность и сельское хозяйство… Советский период по мере удаления от него все более начинает рассматриваться как время, когда страна имела и «пушки и масло», если понимать под «маслом» социальные гарантии. Уже не вызывают протеста в СМИ и среди экспертов и политиков утверждения представителей ВПК, что Советский Союз поддерживал военный паритет с США прежде всего за счет эффективности и экономичности своего ВПК».
Это – важный четвертый тезис. В народном хозяйстве СССР ВПК был не «нагрузкой», а необходимым элементом целостной экономической системы. При его подавлении вся система погрузилась в кризис. Отличие советского хозяйства от того, что мы видим сегодня, составляет как бы загадку, которую в интеллигентной среде избегают даже формулировать. Сейчас все, кроме денег, у нас оказалось «лишним» – рабочие руки и даже само население, пашня и удобрения, скот и электрическая энергия, металл и квартиры. Все это или простаивает, или продается по дешевке за рубеж, или уничтожается.
В заключение Шлыков объясняет, почему ЦРУ не могло, даже затратив миллиарды долларов, установить реальную величину советского ВПК. Смысл этого настолько важен для нашей темы, что стоит привести обширную выдержку. Шлыков пишет: «За пределами внимания американского аналитического сообщества и гигантского арсенала технических средств разведки осталась огромная «мертвая зона», не увидев и не изучив которую невозможно разобраться в особенностях функционирования советской экономики на различных этапах развития СССР. В этой «мертвой зоне» оказалась уникальная советская система мобилизационной подготовки страны к войне. Эта система, созданная Сталиным в конце 20-х – начале 30-х годов, оказалась настолько живучей, что ее влияние и сейчас сказывается на развитии российской экономики сильнее, чем пресловутая «невидимая рука рынка» Адама Смита…
Начавшаяся в конце 20-х годов индустриализация с самых первых шагов осуществлялась таким образом, чтобы вся промышленность, без разделения на гражданскую и военную, была в состоянии перейти к выпуску вооружения по единому мобилизационному плану, тесно сопряженному с графиком мобилизационного развертывания Красной Армии.
В отличие от царской России, опиравшейся при оснащении своей армии преимущественно на специализированные государственные «казенные» заводы, не связанные технологически с находившейся в частной собственности гражданской промышленностью, советское руководство сделало ставку на оснащение Красной Армии таким вооружением (прежде всего авиацией и бронетанковой техникой), производство которого базировалось бы на использовании двойных технологий, пригодных для выпуска как военной, так и гражданской продукции.
Были построены огромные, самые современные для того времени тракторные и автомобильные заводы, а производимые на них тракторы и автомобили конструировались таким образом, чтобы их основные узлы и детали можно было использовать при выпуске танков и авиационной техники. Равным образом химические заводы и предприятия по выпуску удобрений ориентировались с самого начала на производство в случае необходимости взрывчатых и отравляющих веществ… Создание же чисто военных предприятий с резервированием мощностей на случай войны многие специалисты Госплана считали расточительным омертвлением капитала…
Основные усилия советского руководства в эти [30-е] годы направлялись не на развертывание военного производства и ускоренное переоснащение армии на новую технику, а на развитие базовых отраслей экономики (металлургия, топливная промышленность, электроэнергетика и т. д.) как основы развертывания военного производства в случае войны…
Именно созданная в 30-х годах система мобилизационной подготовки обеспечила победу СССР в годы Второй мировой войны… На захваченной немцами к ноябрю 1941 г. территории СССР до войны добывалось 63 % угля, производилось 58 % стали и 60 % алюминия. Находившиеся на этой территории перед войной 303 боеприпасных завода были или полностью потеряны, или эвакуированы на Восток. Производство стали в СССР с июня по декабрь 1941 г. сократилось в 3,1 раза, проката цветных металлов в 430 раз. За этот же период страна потеряла 41 % своей железнодорожной сети.
В 1943 г. СССР производил только 8,5 млн. тонн стали (по сравнению с 18,3 млн. тонн в 1940 г.), в то время как германская промышленность в этом году выплавляла более 35 млн. тонн (включая захваченные в Европе металлургические заводы).
И тем не менее, несмотря на колоссальный урон от немецкого вторжения, промышленность СССР смогла произвести намного больше вооружения, чем германская. Так, в 1941 г. СССР выпустил на 4 тысячи, а в 1942 г. на 10 тыс. самолетов больше, чем Германия. В 1941 г. производство танков в СССР составило 6590 единиц против 3256 в Германии, а в 1942 г. соответственно 24 688 единиц против 4098 единиц…
После Второй мировой войны довоенная мобилизационная система, столь эффективно проявившая себя в годы войны, была воссоздана практически в неизменном виде. Многие военные предприятия вернулись к выпуску гражданской продукции, однако экономика в целом по-прежнему оставалась нацеленной на подготовку к войне.
При этом, как и в 30-е годы, основные усилия направлялись на развитие общеэкономической базы военных приготовлений… Это позволяло правительству при жестко регулируемой заработной плате не только практически бесплатно снабжать население теплом, газом, электричеством, взимать чисто символическую плату на всех видах городского транспорта, но и регулярно, начиная с 1947 г. и вплоть до 1953 г., снижать цены на потребительские товары и реально повышать жизненный уровень населения… Совершенно очевидно, что капитализм с его рыночной экономикой не мог, не отказываясь от своей сущности, создать и поддерживать в мирное время подобную систему мобилизационной готовности».
Наконец, упомянем еще одну институциональную матрицу, которой этнологи придают особое значение в процессе формирования гражданских наций, – общенациональную печать. В силу своей величины нация может быть только «воображаемым сообществом», то есть граждане соединяются в ней через потоки общей для всей территории информации. Нации стали складываться в Западной Европе именно благодаря появлению печати. Эта роль не утрачена ею и после установления господства телевидения – в силу ряда причин телевидение действует скорее как фактор, изолирующий людей (чтение печатного текста обладает способностью порождать мысленный диалог, а чтение знаков с телеэкрана такого диалога не порождает).
Выше говорилось о том, какой острой была потребность в газетах даже среди крестьян в период формирования российской нации в начале ХХ в. В советское время десяток «центральных» газет одновременно задавал всему населению СССР общую «повестку дня», понятийный язык и методологическую канву для осмысления реальности. Эта функция советской печати страдала рядом недостатков, но не вызывает сомнения в том, что все ее читатели соединялись полученной информацией.
В ходе перестройки и реформы система советской печати была ликвидирована таким образом, что сразу была подавлена ее соединяющая функция. «Центральные» газеты перестали существовать под предлогом «демократизации». Появилось огромное множество газет, в совокупности создающих хаос и подрывающих традиционные культурные устои. Но даже и такое печатное слово перестало достигать большинства граждан. Например, в нынешней РФ население получает газет в 7,3 раза меньше, чем в РСФСР в 1986 г. (в 2000 г. приходилось 129 экземпляров газет на 1 тыс. населения). Это – большой откат.
И все же это регресс иного типа, нежели в других частях бывшего советского народа. Например, в Грузии охват населения газетами сократился в 137 раз! В 1986 г. разовый ежедневный тираж газет составлял в Грузинской ССР 3,55 млн. экз. (в том числе на грузинском языке 3,04 млн. экз.). При населении 5,2 млн. человек это составляло на 1 тыс. человек населения 683 экземпляра газет ежедневно. 683 экземпляра! После разрушения СССР и превращения Грузии в независимое этнократическое государство грузинский народ переместился в совершенно иную информационную среду. В 2000 г. на 1 тыс. населения Грузии приходилось 5 экземпляров ежедневного тиража газет.
Таким образом, если в советское время плотность информационных связей грузин через каналы печатной информации имела параметры, соответствующие развитой современной нации, то в результате реформ их информационное пространство приобрело тип, характерный для племени, обитающего в самых слаборазвитых районах мира. Достаточно сказать, что в том же 2000 г. на 1 тыс. человек населения в Румынии имелось 298 экземпляров газет, а в Мексике 94 экземпляра. Информационное пространство грузин отличается от этих величин не количественно, речь идет о разных типах, разных структурах пространства. Видимо, сейчас обмен информацией между грузинами идет через телевидение и через низовые неформальные каналы – слухи. Движение к созреванию грузинского народа как гражданской нации прервано, этот народ теперь разделяется на региональные и родоплеменные этнические общности.
Нации и народы – большие системы. Они подчиняются общему для больших систем закону, согласно которому такие системы могут или развиваться, или деградировать. Они не могут пребывать в «спокойном» состоянии, не имея программы развития. Ликвидация СССР и демонтаж советского народа испортили, подорвали или даже уничтожили те институциональные матрицы, которые в совокупности и несли в себе такую программу.
Об этом так сказал А.С. Панарин: «Народы бывшего Советского Союза, подстрекаемые своими западническими элитами, отказываясь от большой советской традиции и универсалий прогресса, в ней заложенных, еще не знали, что другой большой традиции у них не будет… И никто тогда не отдавал себе отчета в том, что советская программа развития останется для всех последней программой развития; впереди их ожидали программы управляемой деградации в виде деиндустриализации, обязательного свертывания массового среднего и высшего образования, науки и культуры» [8, с. 171].
Литература
1. Ф. Энгельс. Революционное восстание в Пфальце и Бадене. Соч., т. 6.
2. Ю. Бокарев. «Открытое общество» и его друзья. – «Россия – ХХI». 1996, № 5–6.
3. D.F. Fleming. The cold war and its origins. Doubleday, 1961, vol. 1. Cit. in [4].
4. B. Easlea. La liberación social y los objetivos de la ciencia. Madrid: Siglo XXI Eds. 1977.
5. В. Соловей. Русские и Запад. – «Независимая газета», 30.11.1999.
6. А.С. Панарин. Стратегическая нестабильность в ХХI веке. М.: Алгоритм. 2003.
7. А. Празаускас – «Независимая газета», 7.02.1992.
8. А.С. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006.
9. А. Плахов. – «Независимая газета», 10.01.1992.
10. «Век ХХ и мир». 1991, № 7.
11. А. Аронов. – «Московский комсомолец», 12.02.1992.
12. А.В. Рубцов. В кн. «Этос глобального мира». М.: Восточная литература. 1999.
13. В.А. Тишков. О российском народе. – «Восточноевропейские исследования». 2006, № 3.
14. Д. Драгунский, В. Цымбурский. Рынок и государственная идея. – «Век ХХ и мир». 1991, № 5.
15. Д. Драгунский. Законная или настоящая? – «Век ХХ и мир». 1991, № 7.
16. Д. Драгунский. Имперская судьба России: финал или пауза? – «Век ХХ и мир». 1992, № 1.
17. Г. Павловский. Война так война. – «Век ХХ и мир». 1991, № 6.
18. Г. Померанц. Враг народа. – «Век ХХ и мир». 1991, № 6.
19. В.А. Кулинченко, А.В. Кулинченко. О духовно-культурных основаниях модернизации России. – ПОЛИС. 2003, № 2.]
20. Цит в: С.Ю. Шенин. Начало холодной войны: анатомия «великого поворота». – «США». 1994, № 12.
21. Р. Шайхутдинов. Демократия в условиях «спецоперации»: как убить государство. – «Главная тема». 2004, № 2.
22. Е.Н. Данилова, В.А. Ядов. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ. – «СОЦИС». 2004, № 10.
23. Н. Коровицына. С Россией и без нее: восточноевропейский путь развития. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
24. П. Штомпка. Социальное изменение как травма. – «СОЦИС». 2001, № 1–2.
25. Ю. Крижанич. Политика. М.: Политиздат. 1965.
26. Л.А. Беляева. Социальный портрет возрастных когорт в постсоветской России. – «СОЦИС». 2004, № 10.
27. А.И. Фурсов. Мифы перестройки и мифы о перестройке. – СОЦИС. 2006, № 1.
28. Б.Т.Величковский. Реформы и здоровье населения страны. М., 2001.
29. К. Нагенгаст. Права человека и защита меньшинств. Этничность, гражданство, национализм и государство. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
30. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
31. Ж.Т. Тощенко. Этнократия: история и современность (социологические очерки). М.: Росспэн. 2003; Ж.Т. Тощенко. Формы и методы политической трансформации в России. – «Восточноевропейские исследования». 2005, № 1.
32. ПОЛИС. 2002, № 5, с. 140.
33. Психологическая война (сборник статей). М.: Прогресс, 1972; В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. Третья мировая информационно-психологическая война. М., 1999; С.П. Расторгуев. Информационная война. М.: Радио и связь, 1998; С.П. Расторгуев. Философия информационной войны. М.: Вузовская книга. 2001; С.П. Расторгуев. Введение в формальную теорию информационной войны. М.: Вузовская книга. 2002; С.Г. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2000.
34. Э.А. Баграмов. Национальный вопрос в борьбе идей. М.: Политиздат. 1982.
35. К.Н. Леонтьев. О всемирной любви. – в кн. «О великом инквизиторе. Достоевский и последующие». М.: Молодая гвардия. 1991, с. 55.
36. В.О. Ключевский. Тетрадь с афоризмами. М.: ЭКСМО. 2001, с. 426.
37. С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество. – В кн.: С.Н. Булгаков. Христианский социализм. Новосибирск: Наука. 1991.
38. А. Сахаров. Тревога и надежда. М.: Интер-Версо. 1991.
39. А. Сахаров. Воспоминания. М.: Права человека. 1996, т. 2.
40. С. Обогуев. – httр://.
41. В. Малахов. Преодолимо ли этноцентричное мышление? – В кн. «Расизм в языке социальных наук». СПб: Алетейя, 2002 (httр://).
42. M. Gorbachov. El ataque contra Irak. “El Рaís”, 9 de julio, 1993.
43. Л. Седов. Запад внутри нас. – «Независимая газета», 22.12.2006.
44. Историческая память: преемственность и трансформации. – СОЦИС. 2002, № 8.
45. И.К. Лавровский. Странострой. – «Главная тема». 2005, № 4.
46. В.И. Мильдон. «Земля» и «небо» исторического сознания. – «Вопросы философии». 1992, № 5.
47. Д. Глинский-Васильев. Между утопизмом и фатализмом: российская элита как субъект евроатлантической экспансии. – «Россия – ХХI». 2000, № 1.
48. Г.С. Померанц. Культ этики или диалог культур. – В кн. «Этос глобального мира». М.: Восточная литература. 1999, с. 132.
49. И.А Латышев. Япония, японцы и японоведы. М.: Алгоритм. 2001.
50. А.И. Ракитов. Цивилизация, культура, технология и рынок. – «Вопросы философии». 1992, № 5.
51. ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. (Под ред. акад. А.Н.Яковлева; сост. А.И.Кокурин, Н.В.Петров). М.: МФД, 2000.
52. G. Rittersрorn. Stalinist Simрlifications and Soviet Comрlications. Social Tensions and Рolitical Conflicts in the USSR 1933–1953. – Harwood Academic Рublishers, 1991; J. Arch Getty, G.T. Rittersрorn, and Viktor N. Zemskov. Victims of the Soviet Рenal System in the Рre-War Years: A First Aррroach on the Basis of Archival Evidence». – «American Historical Review». 1993 (October), Vol. 98, No. 4.
53. А.И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Т. 3. М., 1989, с. 45.
54. Н.И. Ульянов. Басманный философ. – «Вопросы философии». 1990, № 8.
55. М.К. Мамардашвили. Мысль под запретом (Беседы с А. Эпельбаун). – «Вопросы философии». 1992, № 5.
56. Русская идея и евреи: шанс диалога. М.: Наука. 1994.
57. Д. Фурман. Круглый стол «Трудовая этика как проблема отечественной культуры». – «Вопросы философии». 1992, № 1.
58. И.Л. Солоневич. Народная монархия. М.: ЭКСМО – Алгоритм. 2003.
59. И. Смирнов. Полумглисты. – «Россия – ХХI». 2006, № 2.
60. Н. Петров. К унижениям в своем отечестве нам не привыкать. – «Независимая газета». 13.07.1993.
61. Л. Аннинский. Что делать интеллигенции? – «Российская газета», 2.04.1992.
62. М. Руденко. Мелкие неприятности в ночь перед страшным судом. – «Знамя». 1992, № 1.
63. В. Шубкин. Трудное прощание. – «Новый мир». 1989, № 4.
64. В. Д. Соловей. Русская история: новое прочтение. М.: АИРО-XXI, 2005.
65. Аб Мише. Нельзя дразнить антисемитов. – «Свободная мысль». 1992, № 1.
66. Д. Фурман. Массовое сознание российских евреев и антисемитизм. – «Свободная мысль». 1994, № 9.
67. С.Г. Кара-Мурза. Евреи, диссиденты и еврокоммунизм. М.: ЭКСМО – Алгоритм. 2002.
68. Р. Рывкина. Евреи в постсоветской России: кто они? М.: УРСС. 1996.
69. Свет двуединый. Евреи и Россия в современной поэзии. М.: Х.Г.С. 1996.
70. Э.Ю. Соловьев. – «Вопросы философии». 1992, № 6.
71. С. Тамбиа. Национальное государство, демократия и этнонационалистический конфликт. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
72. Ю.П. Шабаев. Территориальное сообщество и этнические воззрения населения коми. – СОЦИС. 2004, № 11.
73. В.Я. Гельман. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике. – ПОЛИС. 2003, № 4.
74. В.Н. Кузнецов. Общенациональная цель как фундаментальная проблема социологии. – СОЦИС. 2005, № 4.
75. Армия России сегодня и завтра. М.: Клуб «Реалисты». 1995.
76. К. Маркс. Соч., т. 17.
77. Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. Соч., т. 21.
78. Д. Алексеев. Государство и манипуляция. – «Главная тема». 2005, № 7.
79. С. Б. Филатов, Л. М. Воронцова. Мировоззрение населения России после перестройки: религиозность, политические, культурные и моральные установки. (Отчет). – М.: Аналитический центр РАН. 1992.
80. В.В. Шульгин. Опыт Ленина. – «Наш современник». 1997, № 11.
81. Г. Померанц. – «Независимая газета», 5.06.1992.
82. С. Московичи. Наука о массах. – К кн. «Психология масс». Самара: Бахрах. 1998, с. 506.
83. И. Пыхалов. Великая оболганная война. М.: Яуза-ЭКСМО. 2005.
84. Историческая память: преемственность и трансформации. – СОЦИС. 2002, № 8.
85. В. Богомолов. Срам имут и живые, и мертвые, и Россия… – «Свободная мысль». 1995, № 7.
86. А. Тарасов. Еще раз о компетентности. – «Первое сентября». 2005, № 22 (sceрsis.ru/library/id_175.html).
87. Я. Бутаков. Обыкновенный подлог. Ложь о «беспрецедентных» людских потерях как средство деморализации России. – Русский Журнал /Обзоры/. 7 Мая 2005. .
88. Новая и новейшая история. 1992, № 3, с. 221.
89. Л. Радзиховский. Фашисты/антифашисты. – «Еврейское слово». 2005, № 18. (httр://www.e-slovo.ru).
90. Л. Гудков. «Память» о войне и массовая идентичность россиян. – «Неприкосновенный запас». 2005, № 2–3. httр://www.nz-online.ru.
91. С.Г. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2000.
92. С. Ямщиков. – «Независимая газета», 2.06.1992.
93. А. Иголкин. Историческая память как объект манипулирования (1925–1934 гг.). – «Век ХХ и мир», 1996, № 3–4.
94. А. Иголкин. Пресса как оружие власти. – «Век ХХ и мир», 1995, № 11–12.
95. «Вестник РАН», 2000, № 6.
96. С.Г. Кара-Мурза, И.С. Пыхалов. Открытое письмо президенту РАН Ю.С. Осипову. – «Советская Россия». 15.03.2004.
97. А. Ужанков. Меж двух зол (исторический выбор Александра Невского). – Россия – ХХI. 1999, № 2.
98. А.М. Столяров. Запад и Восток: новая «эпоха пророков». – «Россия ХХI», 2004, № 4.
99. В.Э. Шляпентох. Запись выступления (в изложении Н.Карцевой). – CОЦИС. 1991, № 1.
100. М. Мюллер. Смысловые толкования истории. – В кн. «Философия истории. Антология». М., 1995. С. 275.
101. Ю.Г. Карпухин, Ю.Г. Торбин. Проституция: закон и реальность. – СОЦИС. 1992, № 5.
102. В.Н. Иванов, М.М. Назаров. Массовая коммуникация в условиях глобализации. – СОЦИС. 2003, № 10.
103. Как мы думали в 2004 году: Россия на перепутье. М.: Алгоритм – ЭКСМО. 2005.
104. Н.М. Амосов. Мое мировоззрение. – «Вопросы философии». 1992, № 6.
105. Г.В. Флоровский. Метафизические предпосылки утопизма. – «Вопросы философии». 1990, № 10.
106. В.О. Рукавишников. Социология переходного периода. – СОЦИС. 1994, № 8–9.
107. П.В. Пучков. Вы чье, старичье? – СОЦИС. 2005, № 10.
108. О.В. Крыштановская. Нелегальные структуры в России. – СОЦИС. 1995, № 8.
109. В. Станкунене. К современной модели семьи в Литве. – СОЦИС. 2004, № 5.
110. С.Г. Кара-Мурза. Потерянный разум. М.: Алгоритм. 2005.
111. Ж.Т. Тощенко. Парадоксальный человек. М., 2001.
112. Ж.Т. Тощенко. Фантомы общественного сознания и поведения. – СОЦИС. 2004, № 12.
113. А. Паевский. Пипл хлебает. – «Газета. Ru», 20.11.2006.
114. Д.Е. Фурман. Великое русское государство – идея-ловушка. – «Свободная мысль». 1992, № 1.
115. Н. Бердяев. Русская идея. – «Вопросы философии». 1990, № 2.
116. М. Фенелли. – «Век ХХ и мир». 1991, № 6.
117. Л.М. Воронцова, С.Б. Филатов, Д.Е. Фурман. Религия в современном массовом сознании. – СОЦИС. 1995, № 11.
118. В.Г. Немировский, П.А. Стариков. Тенденция «квазирелигиозности» в среде красноярского студенчества. – СОЦИС. 2003, № 10.
119. М.Е. Добрускин. Новая религиозная ситуация в вузах Украины. – СОЦИС. 2003, № 10.
120. А.А. Казанцев. «Ваххабизм»: опыт когнитивного анализа институтов в ситуации социокультурного кризиса. – ПОЛИС. 2002, № 5.
121. Бунтующая этничность (ред. В.Р. Филиппов). М.: Центр цивилизационных и региональных исследований РАН. 1999.
122. А. Нуйкин. Считайте меня китайцем. – «Российская газета», 2.04.1992.
123. А. Латынина. – «Независимая газета», 6.06.1992.
124. В. Широнин. Под колпаком контрразведки. М.: Палея. 1996.
125. С. Лезов. – «Российская газета», 28.03.1992.
126. E. Рáin. Correrá Rusia el destino de la URSS? «El Рeriódico», julio de 1993.
127. «Есть мнение» (ред. Ю.А. Левада). М.: Прогресс. 1990.
128. М. Глобачев. Утомленные связью – «Космополис». 2003, № 1.
129. И.Р. Шафаревич. Россия наедине с собой. – «Наш современник». 1992, № 1.
130. И.С. Шафаревич. Зачем нам сейчас об этом думать. – «Завтра». 1999, № 29.
131. Е.М.Андреев, В.М.Добровольская, К.Ю.Шабуров. Этническая дифференциация смертности. – СОЦИС, 1992, № 7.
132. Э. Паин. Федерализм и сепаратизм в России. – «Космополис». 2003, № 1.
133. В.А. Ковалев, Ю.П.Шабаев. Этничность и гражданство. Национальные движения в финно-угорских регионах РФ. – ПОЛИС. 2004, № 4.
134. Ю.В. Арутюнян. Трансформация постсоветских наций: по материалам этносоциологических исследований. М.: Наука, 2003.
135. А.Н. Смирнов. Этничность и культурный плюрализм в контексте государственной политики. – ПОЛИС. 2005, № 4.
136. Э. Попов. – httр:///рole.
137. С.Г. Кирдина. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 2001.
138. А. Де Кюстин. Записки о России. М.: Интерпринт. 1990.
139. Ю. Буйда. – «Независимая газета», 10.06.1992.
140. В.А. Найшуль. Проблема создания рынка в СССР. – В кн.: «Постижение. Перестройка: гласность, демократия, социализм». М.: Прогресс. 1989. С. 441–454.
141. Дж. Грей. Поминки по Просвещению. М.: Праксис. 2003. С. 113–114.
142. В.Т. Рязанов. Экономическое развитие России. XIX–XX вв. СПб.: Наука. 1998.
143. Ф. Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры. Часть 2. 2003.
144. А.А. Беляков. План ГОЭЛРО в технико-экономическом контексте эпохи. – Альманах Центра общественных наук (МГУ). 1998, № 7.
145. Ю. Бокарев. Скачок в рынок. Рецепты экономической кухни Джеффри Сакса. – Россия – ХХI. 1996, № 9-10.
146. T. Mroz, B. Рoрkin et al. Monitoring Economic Condition in Russian Federation: The Russian Longitudinal Monitoring Survey 1992–1996 (Univ. of North Carolina. Carolina Рoрulation Center. Agency for Nation Develoрment). Chaрen Hill. 1997.
147. Н.М. Римашевская. Бедность и маргинализация населения. – СОЦИС. 2004, № 4.
148. Л.С. Алексеева. Бездомные как объект социальной дискредитации. – СОЦИС. 2003, № 9.
149. Е.Б. Бреева. Социальное сиротство. Опыт социологического обследования. – СОЦИС. 2004, № 4.
150. В.С. Тапилина. Сколько пьет Россия? Объем, динамика и дифференциация потребления алкоголя. – СОЦИС. 2006, № 2.
151. В.В. Степанов, В.А. Тишков. Россия в этническом измерении (по результатам переписи 2002 г.). – СОЦИС. 2005, № 9.
152. Ф.С. Донской. Интеграционные процессы в жизни северян: проблемы и перспективы. – СОЦИС. 2005, № 5.
153. И.А. Двойменный. Социально-психологические особенности несовершеннолетних преступников. СОЦИС. 1994, № 8–9.
154. Ю.С. Денисова. Трудовые перегрузки как тенденция в рабочем процессе. – СОЦИС. 2004, № 5.
155. Л.Г. Ионин. Консервативная геополитика и прогрессивная глобалистика. – СОЦИС. 1998, № 10.
156. Л.Г. Судас, И.А. Румянцев. Регистрация прав на недвижимость как социальная проблема. – СОЦИС. 2005, № 12.
157. С.Г. Кара-Мурза, С.А. Телегин. Царь-Холод: почему вымерзают русские. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2004.
158. В.В. Шлыков. Что погубило Советский Союз? Американская разведка о советских военных расходах». – Военный вестник МФИТ. 2001, № 8.
159. А.Р. Белоусов. Становление советской индустриальной системы. – «Россия– ХХI». 2000, № 2.
160. И.В. Быстрова, Г.Е. Рябов. Военно-промышленный комплекс СССР. – В кн. «Советское общество». М.: Изд. РГГУ, т 2. 1997, с. 206.
161. И. Бирман. Советские военные расходы. – «Октябрь». 1991, № 9.
162. Б. Альтшулер. К 30-летию работы А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». – В кн. «30 лет «Размышлений…» Андрея Сахарова». М.: «Права человека». 1998.
163. В.В. Серебрянников. Армия и политический режим. – В кн. «Армия России сегодня и завтра». М.: Клуб «Реалисты». 1995.
164. Г.П. Воронин. Проблемы сохранения оборонного комплекса страны. – Там же.
Раздел 7. Современный момент
Глава 31. Представления об этничности: инерция ошибочной парадигмы
На завершающем этапе существования СССР советское обществоведение оказалось несостоятельным. В своих рассуждениях, обобщениях и выводах накануне и во время перестройки гуманитарная элита допустила целый ряд фундаментальных ошибок. В результате этих ошибок были приняты неверные практические решения или замаскированы антинародные установки и намерения.
Причиной этих ошибок были чрезвычайно низкий методологический уровень и нарушение важнейших норм рациональности. Однако вместо рефлексии, анализа этих ошибок и «починки» инструментов разумного мышления, произошел срыв и возник порочный круг: эти ошибки побудили к дальнейшему и радикальному отходу от норм рациональности, в результате чего общество погрузилось в тяжелейший кризис (см. [1]).
Печально было видеть, что это отступление от рациональности, от норм Просвещения, сопровождалось в среде интеллигенции наступлением поразительного примитивизма в рассуждениях и оценках. Американская журналистка М. Фенелли, которая наблюдала перестройку в СССР, пишет: «Побывавший в этой стране десять лет назад не узнает, в первую очередь, интеллектуалов – то, что казалось духовной глубиной, таящейся под тоталитарным прессом, вышло на поверхность и превратилось в сумму общих мест, позаимствованных, надо полагать, их кумирами из прилежного слушания нашей пропаганды (я и не подозревала, что деятельность мистера Уика во главе ЮСИА была столь эффективна)» [2].
Кризис официального марксизма, который оказался беспомощным как основание советского обществоведения, плавно, без заминки перешел в кризис «либерализма» как основания уже антисоветского обществоведения. В результате и советское, и антисоветское обществоведение, в которое вложили большое количество людских, финансовых и информационных ресурсов, за последние 15 лет не дало почти никакого «продукта», который окупил бы хоть малую часть этих ресурсов, оказав обществу помощь в осмыслении нашего кризиса. Что написали тысячи обществоведов? Что внятного они сказали как профессиональное сообщество, а не как отдельные блестящие личности?
Целая рать экспертов-обществоведов, которая снабжает государственную власть РФ идеологическими метафорами, афоризмами и формулами, не может встроить их в реальный контекст и как будто просто не может додумать их. Вот, некоторое время на всех уровнях власти, вплоть до президента, делалось ставшее почти официальным утверждение, будто «террористы не имеют национальности». Понятно, что оно вызвало замешательство: куда же у них делась национальность? Каким образом они от нее избавились? Это заявление было тем более странным, что вся российская и мировая пресса была полна выражениями типа «палестинские террористы» (баскские, чеченские и пр.). Какой эксперт предложил эту формулу, какие доводы при этом приводились, почему образованные люди на высоких постах ее приняли?
В научной литературе выдвигалось даже такое оригинальное предположение. На одном всемирном конгрессе в сентябре 2003 г. В.В.Путин сообщил, что террор – это «подавление политических противников насильственными средствами» (это он якобы нашел в «отечественных и иностранных словарях»). Это определение терроризма вызвало удивление, ибо оно «позволяет считать террористами Кутузова, Матросова и вообще всех участников обеих Отечественных войн». Так не была ли идея лишить террористов национальности попыткой разрешить это противоречие? [3, с. 43].
Таково положение с интеллектуальным «сопровождением» переживаемой нами социальной катастрофы, но едва ли не хуже дело с осмыслением того, что происходит в сфере этничности. Окуклившаяся в истмате советская этнология «шла своим путем». Она выпала из мирового сообщества, которое в послевоенный период быстро набирало эмпирический материал и наращивало методологическое оснащение. Эта изоляция в малой степени была преодолена и во время перестройки. О.Г. Буховец замечает: «Весьма показательно в этом плане, что в вышедшей уже в разгар перестройки солидной и фундированной монографии «Этнические процессы в современном мире», аккумулировавшей наиболее значимые теоретические и эмпирические достижения советской этнографической школы, не было ни одной ссылки на ведущих западных специалистов по теории и истории наций и национализма» [4].
Переходя на язык науковедения, можно сказать, что когнитивная структура нашего обществоведения (то есть система понятий, фактов, теорий и методов), в приложении к проблемам этничности и национальности, кардинально разошлась с когнитивной структурой мирового сообщества. Российская этнология выпала из науки. Это как если бы наши астрономы сегодня утверждали, что Земля имеет форму чемодана и стоит на трех слонах.
За 90-е годы в РФ возникло небольшое сообщество ученых, которое работает в новой парадигме этнологии, в когнитивной структуре конструктивизма. Независимо от их политических установок, они дают ценные в познавательном смысле объяснения тех процессов, которые идут в нынешней России в сфере этнических отношений. Но это сообщество практически не имеет доступа к тем средствам, которые могли бы оказать заметное влияние на массовое сознание и мышление политиков. Книги серии «Бунтующая этничность», которые готовит Центр цивилизационных и региональных исследований Российской Академии наук, издаются тиражом 250 (!) экземпляров. На телеэкране этих ученых не приходилось видеть ни разу.
И сегодня, через 15 лет после начала реформ и ликвидации СССР, система взглядов на этничность в массе российских обществоведов (а за ними и политиков) поражает своей устойчивостью и инерцией. Почти ничего не изменилось – вопреки всему тому, что происходит за окнами кабинетов и аудиторий. И это – наша национальная беда, она поразила и правых, и левых.
Вот философ-либерал, энтузиаст рыночной реформы, пишет в духе дремучего биологического примордиализма: «Национальность дана человеку от рождения и останется неизменной всю его жизнь. Она так же прочна в нем, как, например, пол» [5].
Вот левый патриот, один из руководителей НПСР А. Уваров беспредельно удревняет русский народ: «Целое тысячелетие после крещения Руси, сожжения волхвов и ведунов скрывали от нашего народа, что Русь была не языческой, а арийской, т. е. ведической. Напомним для тех, кто мало знаком с древней историей и этнографией, что в Х – III тысячелетиях до н. э. многоплеменная Арийская (т. е. Ведическая) империя занимала территорию широкой полосой от Северного Ледовитого океана до Индии и от Оби до Германии… Наши арийские корни легко прослеживаются в словаре, если сравнивать с санскритом (язык йогов – ариев) даже не древний, а современный русский язык» [6].
Вот книга идеолога неоязычества В.А. Истархова «Удар русских богов», четвертое издание в 2005 г. Читать ее в ХХI веке кажется чем-то невероятным – но она пользуется популярностью в кругах математиков и физиков ведущих институтов РАН.
Вот руководитель Международной ассоциации «Русская культура» проф. Дм. Ивашинцов дает образчик радикального примордиализма: «При возникновении нации работают, по крайней мере, два мощных источника. Прежде всего, «почва», географический фактор: климат, продолжительность светового дня, флора, фауна, набор микроэлементов данной местности. Они, в свою очередь, формируют состав тканей, костей, особенности биохимического обмена. Так возникает формат подсознания, то сочетание архетипов, которое Леви-Брюль называет первобытным менталитетом. Человек, рожденный в горах, имеет одни социокультурные склонности, рожденный в степях – другие, рожденный в лесах – третьи. Это – природа, и против нее не пойдешь. А уже на этот субстрат наслаивается метафизика: конфуцианство, буддизм, ислам, христианство… Нацию создает резонанс «почвы» и «метафизики». Это процесс стихийный» [7].
Но дело не в приверженности примордиализму, а в том, что это приверженность бессознательная, «стихийная», не позволяющая не то что сделать четкие умозаключения, но и сформулировать саму проблему. В. Малахов пишет об этом свойстве именно в связи с представлениями об этничности: «Бросается в глаза методологическая рыхлость отечественного обществознания советского времени… [Пример] – использование такого выражения, как «системный подход» (отечественный аналог парсоновской «теории систем»). Достаточно было оговориться, что это наш марксистский историзм или наша марксистская теория систем, чтобы все подозрения в некогерентности были сняты… Эта практика породила на свет привычку ничего не продумывать до конца, специфическую половинчатость мыслительных процедур. И отсюда специфический шок, который мы все пережили в конце 1980-х, когда стало можно сказать все, что ты думаешь. И оказалось, что сказать-то особенно нечего» [8].
Когнитивная структура бытующих в среде нашей гуманитарной интеллигенции представлений об этничности законсервировала догмы примордиализма ХIХ века, подкрепленные истматом с его верой в незыблемые «объективные законы». Это приучило обществоведов сводить любую реальность к простым, но «всемогущим» моделям, что создавало иллюзию простоты и прозрачности происходящих в реальности процессов. Поэтому Малахов и говорит о необходимости «обратиться к методологическим основаниям российского обществознания в целом».
Он видит дело так: «Главнейшим из таких оснований служит позитивизм, а также неотъемлемые от него объективизм, эволюционизм и эклектизм. Другое основание здесь составляет спекулятивный историцизм, причудливым образом соединяющийся с позитивизмом… как вера в историческую необходимость, в железные законы истории, в поступь прогресса и т. д. С историцизмом связан телеологизм и то, что Луи Альтюссер удачно назвал «ретроспективной телеологией»: когда нечто произошедшее объясняется задним числом как на самом деле предрешенное, когда люди совершившееся событие – для них самих, кстати, явившееся полнейшим сюрпризом, – объясняют так, как если бы изначально существовали рациональные основания такого поворота дела, некая логика развертывания, которая не могла не привести к данному результату» [8].
Объективизм и эклектизм и приводят к тому, что даже вроде бы признавая этничность продуктом культуры, рассуждения гуманитариев чаще всего незаметно скатываются к признанию наличия в явлениях этничности какой-то объективной сущности, которая и предопределяет ход этнических процессов. Когда речь заходит о том, где же таится эта сущность этничности, то рассуждения становятся очень туманными. Ю.В. Бромлей пишет об этническом характере: «Хотя черты характера не только проявляются через культуру, но и прежде всего ею детерминируются, все же в «интериорном» состоянии они находятся за пределами объективируемой культуры, отличаясь у каждой этнической общности своей спецификой» [9, с. 152]. Слово «интериорный» (внутренний) ничего не объясняет. Вопрос остается: что находится там, «за пределами объективируемой культуры», где скрывается специфика этнического характера? Разве за пределами культуры находится не природа (для человека – биология)? Или речь идет о душе?
Такие представления очень легко переводили рассуждения об этничности в сферу мифотворчества, что во многом и определяло развитие кризиса сознания 90-х годов. В.А. Шнирельман писал об этом периоде: «Опросы общественного мнения, проведенные ВЦИОМом в 1990-х годах, показали, что в этот период коллективные представления о прошлом занимали все более значимое место в идентичности россиян. При этом такой их компонент, как «древность, старина», имел наибольшее значение, во-первых, для людей моложе 40 лет с высоким уровнем образования, а во-вторых, для тех, кто был ориентирован на демократию и реформы… Это сопровождалось необычайно интенсивным процессом мифотворчества. В 1990-х годах романтизированные представления о предках и далеком прошлом активно создавались как в русских, так и в нерусских регионах» [10].
Легкость соскальзывания к мифотворчеству иллюстрируется тем, что и в среде части этнологов, и в широких кругах интеллигенции широко используется понятие национальный характер, которое не имеет ни эмпирических, ни логических оснований и является метафорой, не обладающей познавательной силой. Малахов так характеризует широко распространенное использование этого понятия: «Операционализация понятий и концептуальных схем, которые именно по причине их неоперационализируемости оставлены международной наукой в прошлом. К таким понятиям принадлежит «национальный характер». Это понятие сначала подвергалось жесткой критике, а потом его просто перестали использовать как социологически бессмысленное» [8].
Но этим «социологически бессмысленным» понятием полны выступления ученых, политиков, публицистов. Действительно, издавна это понятие применялось очень широко – о национальном характере писали Чаадаев, Розанов, С. Булгаков, Франк, Бердяев, Карсавин и др. Были и противники – П.Н. Милюков считал это понятие ненаучным, а Л.Н. Гумилев называл мифом.
Г. Федотов писал: «Нет ничего труднее национальных характеристик. Они легко даются чужому и всегда оказываются вульгарностью для «своего», имеющего хотя бы смутный образ глубины и сложности национальной жизни» [11]. Напротив, Н.А. Бердяев и «своим» легко давал характеристики: «Русский народ можно характеризовать как народ государственно-деспотический и анархически свободолюбивый, как народ, склонный к национализму и к национальному самомнению, и народ универсального духа, более всех способный к всечеловечности» [12, с. 15].
И.Л. Солоневич возмущался расхожими описаниями русского национального характера: «Достоевский рисует людей, каких я лично никогда в своей жизни не видал и не слыхал, чтобы кто-нибудь видал, а Зощенко рисует советский быт, какого в реальности никогда не существовало. В первые годы советско-германской войны немцы старательно переводили и издавали Зощенко: вот вам, посмотрите, какие наследники родились у лишних и босых людей» [13, с. 188]. Но при этом и сам он был не прочь дать свою, «верную» формулу, например: «Настоящая реальность таинственной русской души, ее доминанта заключается в государственном инстинкте русского народа или, что почти одно и то же, в его инстинкте общежития» [13, с. 167].
Ряд советских обществоведов возражали против введения в науку понятия национальный характер. На это Ю.В. Бромлей отвечал, ссылаясь на авторитет Маркса: «Представляется важным сразу же обратить внимание на то, что основоположники марксизма рассматривали национальный (этнический) характер как реальность. Например, Ф. Энгельс… К. Маркс в одном из своих писем (1870 г.) отметил более страстный и более революционный характер ирландцев в сравнении с англичанами. Число подобных примеров можно легко умножить» [9, с. 148][199].
Как только пытались определить национальный характер какого-либо народа, напускался туман, шли метафоры и оговорки. Д.С. Лихачев, например, отступал так: «Правильнее говорить не о национальном характере народа, а о сочетании в нем различных характеров, каждый из которых в той или иной мере национален» (см. [9, с. 150]). Тем самым он просто передвинул проблему определения на другой уровень – ведь в каждом из множества характеров народа опять надо установить, что же в нем «в той или иной мере национально» и почему.
Аргументы в пользу существования национального характера как устойчивой сущности внутренне противоречивы. Ю.В. Бромлей пишет: «Отрицание национального характера, общности психического склада у буржуазных наций обычно сопровождается сетованиями на их неуловимость. Подобные сетования в значительной мере обусловлены трудностями, стоящими на пути выявления такого рода социально-психологических явлений». Но если явление не удается выявить, то это – весомое основание, чтобы не использовать его как научное понятие, а вовсе не довод в пользу его применения.
Пояснения Ю.В. Бромлея, на мой взгляд, лишь ослабляют его позицию. Он пишет: «На тезис о неуловимости этнического характера несомненно наложила свою печать и склонность обыденного сознания к искажению его черт… Но особенно существенна в рассматриваемой связи тенденция обыденного сознания к абсолютизации отдельных черт характера этнических общностей… Дискредитации представления о существовании психического склада у этнических общностей (национального характера) немало способствовала и гиперболизация этих свойств» [9, с. 160–161].
Из всех этих оговорок видно, что эмпирической базы и надежных методов для того, чтобы использовать понятие национальный характер как научный инструмент, не существует. Этот термин годится лишь как художественный образ, обретающий в разных контекстах самые разные смыслы. Тем не менее Ю.В. Бромлей заключает: «Разумеется, указанные трудности в выявлении отличительных особенностей психического склада отдельных этнических общностей не могут служить основанием для отрицания таких особенностей. Необходимо лишь усовершенствовать методы научного изучения данного компонента психики этнических общностей». Этот вывод мне кажется нелогичным.
Практика показывает, что уверенность в том, что мы обладаем реальным образом национального характера какого-то народа, приводит к ошибкам, когда мы выбираем способ нашего поведения исходя из этого образа. Ошибки эти могут быть вполне поправимыми или даже курьезными (например, когда мы планируем наши действия исходя из «присущего национальному характеру кавказских народов гостеприимства»), но могут иметь фатальное значение, если кладутся в основу государственной политики.
Такой случай описал Солоневич. Прежде чем начать войну с СССР, в Германии большое число ученых скрупулезно изучали русский национальный характер. Они анализировали русскую литературу (особенно напирали на Достоевского и Чехова), суждения русских философов (вроде теории Бердяева о «женской» сущности национального характера русских – мол, Россия невеста, ждет сильного и властного жениха). Ради точного знания о характере русских сталинского периода старательно переводили и издавали Зощенко. По всему выходило, что СССР – колосс на глиняных ногах.
Солоневич, сам хлебнувший русского характера сталинского времени, пишет: «В медовые месяцы моего пребывания в Германии – перед самой войной – и в несколько менее медовые перед самой советско-германской войной мне приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским делам. Оглядываясь на эти дискуссии теперь, я должен сказать честно: я делал все, что мог. И меня били, как хотели – цитатами, статистикой, литературой и философией. И один из очередных профессоров в конце спора иронически развел руками и сказал:
– Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой: или поверить всей русской литературе – и художественной, и политической, или поверить герру Золоневичу. Позвольте нам все-таки предположить, что вся эта русская литература не наполнена одним только вздором.
Я сказал:
– Ну, что ж – подождем конца войны.
И профессор сказал:
– Конечно, подождем конца войны.
Мы подождали» [13, с. 225].
Мы видим, что и на Западе увлекались мифотворчеством. В 1960 г. библиографический список западных трудов, посвященных проблеме национального характера, насчитывал около тысячи названий. Но потом все эти труды были отодвинуты на обочину как продукт ошибочной парадигмы, а у нас эта парадигма действует до сих пор.
Часть российских этнологов до сих пор трактует это понятие в рамках биологического примордиализма. Так, П.И. Смирнов в книге «Социология личности» (СПб., 2001) пишет, что «основу национального характера составляют психофизиологические особенности нации… обусловленные ее генофондом… Национальный характер есть комбинация природного и социального начал». Выражая согласие с этой трактовкой, авторы академического журнала СОЦИС в своих рассуждениях о русском национальном характере опираются на «пеленочную» гипотезу, которую выдвинул английский антрополог Д. Горер, а другие развили и популяризировали.
Российские философы, которые распространяют это «научное» знание, пишут, что русские – сильные и сдержанные потому, что на Руси туго пеленают младенцев, а значит, «русская душа – спеленутая душа». Авторы пишут о русских детях: «На короткое время их освобождают от пеленок, моют и активно с ними играют. Д. Горер связал альтернативу между длительным периодом неподвижности и коротким периодом мускульной активности и интенсивного социального взаимодействия с определенными аспектами русского национального характера и внешней политики России. Многие русские, по его мнению, испытывают сильные душевные порывы и короткие всплески социальной активности в промежутках долгих периодов депрессии». От этого, по мнению современных российских ученых, русские очень любят устраивать «яркие периоды интенсивной революционной деятельности» [18].
Вот с такой научной базой мы и наблюдаем, в состоянии интеллектуального паралича, как владеющие знанием и технологиями люди «разбирают», демонтируют наш народ.
Глава 32. Учебный материал: постсоветский примордиализм
В 2005 г. историк и политолог В. Д. Соловей опубликовал книгу «Русская история: новое прочтение» [15]. В ней содержатся радикальные и далеко ведущие утверждения о природе этничности, о русском народе, его истории и его будущем.
Автор – человек образованный, историк, доктор наук, сотрудник Российской Академии наук и эксперт «Горбачев-фонда», известный в кругах современных политологов. Значит, к книге его следует отнестись серьезно и рассмотреть ее главные положения. Они разделяются на две группы, первую составляют рассуждения о том, что такое этничность и как она связана со средой обитания этноса и культурой. Глава 1 так и называется – «Природа этноса/этничности». Представления об этничности излагаются в связи со свойствами и историей русского народа, но носят общий характер.
Вторая группа утверждений посвящена теме «русские и Империя» (или «русские и СССР»), из которой делается вывод, что именно русский народ уничтожил Российскую империю, а затем и ее восстановленную большевиками версию – СССР. Уничтожил потому, что устал нести бремя державности, рассердился сначала на православие, а потом и на коммунизм.
Рассмотрим представления об этничности. С рядом общих положений можно согласиться, например, с таким: «Главный субъект, «движитель» истории – народ. Не институты, включая государство, не социальные, политические или культурные агенты (элиты, классы, партии, религиозные общины и т. д.), не анонимные социологические универсалии (модернизация, индустриализация, глобализация и т. д.), а народ, который понимается… как способная к коллективному волеизъявлению и обладающая общей волей группа людей» (с. 19)[200]. Это положение, несмотря на официальную монархическую, церковную или классовую риторику, было укоренено в русской культуре и в массовом сознании. Из него исходили и практические политики, и создатели больших социологических теорий (например, евразийства или даже марксизма).
Расхождения начинаются на следующем, более фундаментальном уровне – при трактовке природы того механизма, который соединяет людей в народы. Речь идет о явлении этничности. Автор так оценивает тот уровень, на который претендует его труд: «Книга, которую держит в руках читатель, предлагает новую парадигму в понимании отечественной истории. Как свойственно парадигмам, она основывается на небольшом числе утверждений дотеоретического характера – считающихся самоочевидными аксиом, научная истинность которых не может быть доказана» (с. 303).
Итак, новая парадигма, ни более, ни менее. Типа парадигмы Ньютона в представлении о мироздании. Мнение, будто свойство парадигм заключается в том, что «научная истинность их аксиом не может быть доказана», есть новое слово в философии науки. С опытом оно не согласуется. Ведь для того Галилей и шлифовал линзы своего телескопа, чтобы доказывать основания парадигмы Коперника с помощью наблюдения. О Ньютоне и говорить нечего – его законы доказаны и математически, и опытным путем. При этом аксиомы ньютонианства как раз не были самоочевидными – очевидными казались аксиомы Аристотеля (вроде того, что камень падает быстрее перышка).
К чему же сводится главная аксиома новой парадигмы отечественной истории, которую предлагает Соловей? К тому, что этничность есть биологическое свойство человека, зафиксированное в материальных структурах его генетического аппарата. Но что же тут нового? Эта проблема обсуждается давным-давно. В обзоре начала 90-х годов ХХ века читаем: «В основе представлений о нации может лежать расовый или генетический принцип. В своей пророческой лекции 1882 г. о национализме Эрнест Ренан предупреждал европейцев об опасности расовых и генетических иллюзий по этому поводу, указывая на факт генетической смешанности всех народов континента» (см. [16, с. 145]).
В приложении к русскому народу эта парадигма, по словам автора, означает следующее: «Новое понимание этничности дает недвусмысленный и шокирующий ответ на сакраментальный вопрос русского национального дискурса: что значит быть русским, что такое русскость. Русскость – не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость – это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости» (с. 306).
И это утверждение («Русскость – это кровь!») он называет самоочевидной аксиомой! Дожили мы в ХХI веке!
Соловей несколько раз напоминает на протяжении книги, что его концепция – научная, а та критика, которую она наверняка вызовет – ненаучная, идеологическая. Он пишет: «Утверждение об этничности как биологической данности, во многом предопределяющей социальные процессы, составляет кошмар ревнителей политической корректности и либерально ангажированной науки: если этничность носит врожденный характер, ее нельзя сменить подобно перчаткам; судьба народов в истории в значительной мере есть реализация их врожденных этнических качеств» (с. 57). Мол, религию люди, конечно же, меняют подобно перчаткам, а вот, скажем, обрусеть немцу или татарину – никак не выйдет. Кровь себя покажет хоть в десятом поколении.
Страницей позже Соловей снова предупреждает читателя: «Еще раз повторю: главные аргументы против биосоциального понимания этничности носят не научный, а культурно-идеологический и моральный характер. Однако эти табу настолько влиятельны, что деформируют логику научного поиска и даже здравый смысл» (с. 58).
Строго говоря, автор, делая такого рода предупреждения, сразу выводит разговор за рамки науки. Ученый, предлагающий «новую парадигму» и заранее обвиняющий ее критиков в недобросовестности и глупости (деформации логики и даже здравого смысла) – с точки зрения науки нонсенс. Но все же сначала применим логику и здравый смысл. Суждения, носящие «культурно-идеологический и моральный характер», – под конец.
Начнем с определения предмета. Что такое этничность? Все мы знаем, что, например, русский, киргиз и француз принадлежат к разным этносам. У каждого этноса есть некоторый набор характерных признаков, которые проявляются в сравнении одного этноса с другими. Без появления фигуры другого, хотя бы мысленного, вопрос об этнической принадлежности вообще не встает. Таким образом, этничность – это продукт отношений между людьми. Можно, конечно, предположить, что когда русский видит киргиза или хотя бы думает о нем, у него в крови выделяется какая-то специфическая молекула, которая возбуждает соответствующий участок мозга – и человек осознает свою «русскость». Но это предположение очень неправдоподобное, не говоря уж о том, что для него нет никаких доказательств научного типа.
Сравнивая представителей разных этносов (точнее, их сложившиеся в нашем сознании образы), мы можем перечислять их характерные в данный исторический момент признаки, постепенно создавая обобщенный «портрет» того или иного этноса. Иными словами, мы создаем этот портрет из довольно большого числа внешних признаков (этнических маркеров), которые обнаруживаются в общественном поведении и деятельности людей. Они известны нам из опыта, и в их описании можно прийти к соглашению, несмотря на споры и размытость образов.
Соловей утверждает, что все эти внешние признаки не связаны с этничностью, она кроется в «биологии». В том, чего мы не видим! И эта аксиома кажется ему самоочевидной. Природа этничности – биологическая, какая же еще!
Действительно, за множеством видимых признаков может скрываться нечто невидимое, кроющееся в крови. Точно так же, как под черной чугунной поверхностью двухпудовой гири, которую перепиливал Шура Балаганов, мог скрываться золотой слиток. Но мог и не скрываться! В отношении этничности утверждение Соловея есть экстравагантная гипотеза, которую надо обосновать. То, что накопила «либерально ангажированная» наука этнология (и даже ее диссидент Л.Н. Гумилев), Соловей отвергает сходу – она, мол, не дала нам определения этничности в трех словах!
Он пишет: «Этнология (и оперирующие ее категориями науки) оказалась перед крайне неприятной дилеммой: оценить собственную теоретическую неспособность ухватить суть этничности как следствие отсутствия самого объекта исследования – этноса… или же признать неадекватность преобладающей теоретической концептуализации природы изучаемого явления… На противоположном полюсе оказывается предположение, что дело не в отсутствии самого исследовательского объекта, а в том, что природа этнического вовсе не социальная, а биологическая» (с. 32–33).
Соловей приводит в качестве аргумента фразу С.В. Чешко, пишет: «Провал всех социологических попыток теоретического осмысления этноса/этничности побудил современного российского этнолога С. Чешко к мрачной констатации: «Все существующие теории оказываются неспособными выявить этническую «самость». Перед исследователями – явление, которое, безусловно, существует, но неизменно ускользает сквозь пальцы, несмотря на любые методологические ухищрения» (с. 31).
Это прием негодный, опереться на Чешко Соловей в действительности не может. Чешко говорит о трудностях дефиниции, выявления этнической «самости» – при том, что явление «безусловно, существует». Из этих слов никак не вытекает вывод об «отсутствии самого объекта исследования». Не вытекает также и вывод о «неадекватности преобладающей концептуализации природы явления». Слово «теоретической» тут вообще надо убрать. Почему «осмысление» должно быть непременно теоретическим? Множество явлений успешно изучается научными методами, которые пока что не достигли уровня теории – ну и что? Например, нет хороших теорий метеорологических процессов. Жаль, конечно. Приходится вести дорогостоящие наблюдения, корпеть синоптикам над картами, обмениваться информацией со спутников. Но разве из-за этого надо все накопленные в науке сведения о погодных явлениях выбросить на свалку?
В современных представлениях об этничности вообще ставится под сомнение сама возможность выработать теорию этого явления, поскольку она есть лишь частный срез общего явления – формирования структуры отношений людей. Дж. Комарофф пишет: «Этническое самосознание вовсе не есть «вещь», но всегда – отношения, суть которых выражается через особенности (развивающегося в каждый данный момент времени) процесса их исторического формирования. Именно по этой причине я говорю о невозможности как какого-либо субстантивированного определения «этого», так и существования «теории» этничности как таковой, но только лишь о реальности теории истории и сознания, способных объяснить формирование различных форм самоосознания» [17, с. 58–59].
Соловей приписывает Чешко мысль, согласно которой этнология как наука якобы оказалась несостоятельной. Это неверно. Разве Чешко призывает отказаться от тех знаний, что накопила этнология? Нет, конечно. И из его слов никак нельзя вывести признания о «провале всех социологических попыток». Его работы как раз и ценны тем, что он скрупулезно собирает данные всех социологических попыток описать явления этничности и высказывает осторожные суждения, допускающие различные трактовки этих данных. Трудности дефиниции явления сами по себе никак не порочат применяемых для его изучения научных подходов.
Но даже если бы негативные утверждения в адрес этнологии были справедливы, из этого никак не следует справедливости положительного утверждения о том, что этническая «самость» зашифрована в биологии. Вот это утверждение и должен доказывать Соловей, предлагающий новую парадигму, – независимо от того, как обстоят дела в несчастной этнологии. Но он в основном стремится склонить читателя на свою сторону с помощью умножения негативных утверждений.
Он пишет: «Никакая комбинация неэтнических признаков не способна привести к возникновению этнической оппозиции: почему, каким образом половая, демографическая, социальная или культурная группа вдруг превращается в этническую?» (с. 31).
Это странная мысль. Почему же «никакая комбинация не может»? Мы же видим, что может – потому и отличается киргиз от француза. Почему же в случае такого явления, как жизнь, «комбинация неживых по отдельности признаков» может привести к явлению жизни, а к этничности ничто не может привести, кроме как сама этничность, вдруг возникшая в крови? На каком этапе эволюции в кровь закладывается этничность? В крови кого она впервые появляется? В крови динозавра, каракатицы, обезьяны? Из русской обезьяны возникли русские, а из чукотской – чукчи?
Соловей пишет вещи, которые подрывают его собственную идею. Ведь представить себе, что какая-то уникальная комбинация молекул белка в крови «вдруг превращается в этническую самость», гораздо труднее, чем представить это себе как социальный и культурный процесс. Вот летописцы нам сообщили, что на Куликово поле отправились дружины славянских племен, а вернулось войско русского народа. Есть даже соответствующее изречение князя Дмитрия на похоронах павших ратников. Возможно, эти изречения присочинили позже – неважно, важен факт, что при восприятии населением Руси этой битвы в массовом сознании произошел качественный скачок. Буквально, выражаясь словами Соловея, «демографические, социальные и культурные группы вдруг превратились в этническую», люди осознали себя русскими. Может быть, Соловей считает, что у них всех вдруг белковые молекулы в крови скрючились по-русски?
Со ссылками на надежные эмпирические данные о «биологии» дело в книге Соловея обстоит неважно. Стараясь уязвить «ревнителей политической корректности», он заявляет: «Наиболее полное, основательное и систематизированное собрание фактов и аргументов (причем почерпнутых в «серьезной» науке!) в подтверждение биологической природы этнической дифференциации автор этих строк обнаружил в откровенно расистской книге В. Б. Авдеева» (с. 34)[201]. Что понимается под словами «серьезная наука», на которой основывается «откровенный расизм» ХХI века, Соловей не объясняет. Отнесемся к расизму «политически корректно» и будем выискивать в книге жесткие, однозначно трактуемые свидетельства в пользу биологической природы этничности.
Итак, Соловей дает такое определение этносу: «Этнос (этническая группа) – это группа людей, отличающаяся от других групп людей совокупностью антропологических и биогенетических параметров и присущих только этой группе архетипов, члены которой разделяют интуитивное чувство родства и сходства. Этнос отличается от социальных групп именно биологической передачей своих отличительных (пусть даже это социальные инстинкты) признаков, а этничность – такая же данность, как раса и пол. Короче говоря, этнос – сущностно биологическая группа социальных существ» (с. 52).
Выделим ключевые слова. Что такое антропологические параметры, понять трудно. Видимо, это форма скул, раскосые глаза и пигментация кожи, глаз и волос – признаки, в разных комбинациях сходные для больших групп этносов. Раса и этнос – явления разных порядков. В контексте всей доктрины Соловея понять смысл антропологических параметров вообще невозможно, потому что речь у него идет как раз о социальных и культурных особенностях этносов – «социальных» инстинктах и архетипах.
Во всяком случае явной связи с биологией тут нет, антропологическими параметрами у Соловея выглядят как раз свойства, определяемые этнической принадлежностью, а не наоборот. Раз казах, значит, скуластый. Но если скуластый, это еще не значит, что казах. Биогенетические параметры – вообще термин из лексикона Глобы и Кашпировского, вроде биополя и телекинеза. Соловей даже и не пытается назвать эти «параметры». Архетипы дела не спасают, т. к. еще предстоит доказывать биологичность их самих.
Известно, что этнические различия очень ярко проявляются в запретах на употребление различных видов пищи. Это как раз то, что можно назвать социальными инстинктами. Русские не едят конину (когда это случается по недоразумению, у них, особенно у женщин, осознание случившегося иной раз даже вызывает приступы рвоты). Не едят свинину арабы-мусульмане, а говядину индусы. Есть ли у этих проявлений этничности биологическая основа? Никакой нет. Если русский не знает, что он съел конину, его организм на это никак не реагирует. Физиологическая реакция на конину, свинину и говядину у всех этих народов одна и та же. Перед нами чисто культурное явление.
У Соловея остаются в запасе как раз недоказуемые аксиомы о «биологической передаче отличительных признаков» этноса и о том, что «этничность – такая же данность, как раса и пол». Доказательство сводится к повторению того, что требуется доказать. Ничего себе научный метод!
Сказать, что «этнос – сущностно биологическая группа социальных существ», мне кажется насмешкой над здравым смыслом. Разумеется, всякая группа живых существ является сущностно биологической, потому что био это жизнь, а существа, как видно из самого этого слова, сущностны. Но при чем здесь этнос? Наверное, Соловей часто вставляет в свои утверждения слово «сущностный», чтобы подчеркнуть свою приверженность сущностному (essentialist) подходу к этничности, согласно которому принадлежность к этнической группе является прирожденной, изначально данной человеку сущностью. Этот подход к этничности, как было сказано выше, иначе называется примордиалистским. О нем говорилось в гл. 6, а здесь отметим только, что это никакая не новая парадигма, а как раз самая старая, уже сданная на «историческую свалку научных идей».
Очевидно, что младенец, родившись, сразу попадает в лоно культуры, насыщенной этническими символами и знаками, и становится человеком именно под воздействием этой культуры. Поэтому этническое самоосознание кажется ему естественным, сущностным и присущим ему изначально. Для Пушкина, например, естественным, сущностным и присущим ему изначально казалось русское самоосознание, а не эфиопское. А если верить Соловею, то именно эфиопские инстинкты и архетипы должны были быть у Пушкина такой же данностью, как его мужской пол.
Книге Соловея присуща наивная натурализация культуры. Автору, видимо, кажется, что слова естественный, спонтанный, стихийный обладают магическим смыслом и должны восприниматься не как метафоры, а как строгое определение качеств социального действия разумного человека. Дважды повторяется, в начале и в конце книги: «Народ реализует свое этническое тождество в истории спонтанно, стихийно, естественноисторическим образом» (с. 19, 304).
Что это такое, как это понимать? Приведите пример! Была ли Куликовская битва спонтанным, стихийным, естественным явлением? Дмитрия Донского и Сергия Радонежского принесло на крыльях ветра? Что стихийного и спонтанного нашел автор в обороне Брестской крепости или в методе работы Алексея Стаханова? Как тут можно пристегнуть биологию? Почему так по-разному проявлял свое этническое тождество (!) русский народ в I Мировой и в Великой Отечественной войнах? Поголовная мутация биогенетических параметров произошла?
Соловей, видимо, считает, что повторение одних и тех же утверждений заменяет эмпирические данные или логические аргументы. Он пишет: «Народ как целостность изначально существует в этническом качестве, и это внутреннее единство сохраняется под социальными, политическими, религиозно-культурными, идеологическими и иными барьерами и размежеваниями. Этничность не только онтологична, она более фундаментальный фактор истории, чем экономика, культура и политика» (с. 19).
Тут два ключевых положения: целостность и неизменность внутреннего единства народа; изначальность его этнического качества. Оба эти положения ошибочны. Опыт говорит совершенно противоположное. Народ как целостность не существует в этническом качестве изначально, он складывается как целостность. Складывается под влиянием экономики, культуры и политики. Меняются эти условия – и народ «раскладывается», размонтируется. В нем все время идет процесс этногенеза. Этничность – результат действия всех этих условий, а значит, как раз они фундаментальны.
Когда, например, возник, по мнению В. Д. Соловея, немецкий народ? В каком году произошло это «изначальное» событие? Очень недавно. Ведь вплоть до объединения Германии жители разных «земель» и множества небольших германских государств считали себя самостоятельными народами. Как известно, для образования народа требуется «национализация масс» – возникновение представлений об общей исторической судьбе, составление, в устной или письменной форме, истории народа. Первая попытка создания общей германской истории была предпринята Г. фон Трейчке только после государственного объединения Германии при Бисмарке – когда немцы как народ обрели свои единые границы.
Этничность вовсе не сохраняет свое внутреннее единство «под социальными, политическими, религиозно-культурными и иными барьерами». Вот был один почти зрелый и целостный народ – союз южно-славянских племен (сербов). Часть его, в Боснии, исламизировали турки, в другой части, Хорватии, утвердилось католичество. Разве под этими барьерами сохранилась изначальная этническая целостность? Неужели Соловей считает, что сербы, хорваты и мусульмане Боснии как были, так и остались одним народом?
Соловей в этом вопросе сам себе противоречит и, похоже, не замечает этого. Действительно ли русский народ «как целостность изначально существует в этническом качестве, и это внутреннее единство сохраняется под социальными и иными барьерами и размежеваниями»? Что мы читаем в его же книге? Что социальные и иные барьеры это единство разрушают. Например, у крестьян и дворянства возникают разные этнические качества, происходит этническое размежевание. Соловей пишет: «Социополитическое и культурное отчуждение между верхами и низами наложилось на этническое размежевание, придав вызревавшему конфликту дополнительный драматизм и, главное, характер национально-освободительной борьбы русского народа против чуждого ему (в социальном, культурном и этническом смыслах) правящего слоя» (с. 127).
Тут ясно сказано, что происходит этническое размежевание людей изначально одного этноса – вследствие социальной и культурной дифференциации. Из дружины князя возникли дворяне («правящий слой»), из смердов – крепостные крестьяне. Или предки Дмитрия Донского и Александра Невского изначально имели иную кровь, чем предки русских крестьян?
Переходя к нынешней ситуации и стремясь доказать, что разбогатевшие во время реформы люди отличаются от остального населения биологически, Соловей усиливает степень размежевания, сравнивая две расходящиеся группы уже не с разными этносами, а с разными видами: «Непредвзятый наблюдатель нравов и этоса правящего сословия России без труда обнаружит, что в отношении отечественного общества оно осуществляет (осознанную или бессознательную) операцию антропологической минимизации и релятивизации. Проще говоря, не добившиеся успеха – а таких в России подавляющее большинство – для элиты не вполне люди, а возможно, даже и совсем не люди. Отношения между богатыми и остальными в России не могут быть описаны и поняты в категориях социального и культурного отчуждения и вражды, речь идет о большем – отношениях, имеющих общий антропоморфный облик, но фактически двух различных видов живых существ наподобие уэллсовских элоев и морлоков. Это различие глубоко и экзистенциально укоренено. В смягченном варианте речь идет об отношениях «цивилизованных» людей (элиты) и «варваров» (остальных)» (с. 295).
Сказано красиво, но неверно. Откуда видно, что «отношения между богатыми и остальными в России не могут быть описаны и поняты в категориях социального и культурного отчуждения и вражды»? Как раз могут быть и описаны, и поняты. Обычное дело, тем более что и особой вражды не наблюдается. А вот сказать, что «речь идет об отношениях, имеющих общий антропоморфный облик, но фактически (!) двух различных видов живых существ», можно только в качестве гротеска. Как говорится, приехали! Начнем охоту на морлоков?
Теперь о втором ключевом положении, согласно которому этническое качество присуще каждому народу изначально. Соловей признает, что он исходит из примордиалистской концепции этничности. Но нельзя же было в этом вопросе ограничиться этим сказанным вскользь словом! Надо было предупредить читателя, как трактуют эту концепцию сегодня, – а потом и разбивать ее критиков в пух и прах.
Примордиалистская концепции этногенеза представляет этничность как нечто изначально (примордиально) данное и естественное, порожденное «почвой и кровью». Этому взгляду противостоит «конструктивистский» (или «реалистический») подход, в котором этничность рассматривается не как данность и «фиксированная суть», а как исторически возникающее и изменяющееся явление, результат творческого созидания. Да, марксизм тяготел к примордиализму, но ведь это было более 150 лет назад!
Соловей пишет, начисто отрицая сам процесс этногенеза: «Этнические архетипы не тождественны ценностным ориентациям, культурным и социальным моделям и не могут быть усвоены в процессе социализации… Архетипы неизменны и неуничтожимы, пока существует человеческий род» (с. 53).
Заданную в этих утверждениях парадигму невозможно себе представить, даже перескочив из науки в религиозный тип сознания. Если этнические архетипы неизменны и неуничтожимы, то как от Адама и Евы смогло произойти множество разных народов? Что значит, что русскому народу в кровь были изначально заложены его неизменные и неуничтожимые этнические качества (архетипы)? Назовите, когда и в какой точке Земли пробил этот изначальный для нас час?
А когда пробил этот час для азербайджанского народа? Чешко пишет: «Азербайджанский этнос, отличный от других тюркских народов Закавказья и Передней Азии, стал формироваться сравнительно поздно – уже в составе России». Соловей в это не верит? Так пусть даст свою версию появления народов, их начала, но с указанием изначального момента в понятных временных координатах. Без этого сам термин «изначально» принят быть не может.
Чешко очень мягко и политкорректно указывает на то, к каким нелепостям приводили примордиалистские представления об этничности, оживленные в момент перестройки с вполне определенными политическими целями: «Вызывает большие сомнения оправданность прямого отождествления древних и архаичных этносов с одноименными современными этносами, что очень характерно для возрожденческих лозунгов национальных движений. Если Р. Кионка утверждает, что эстонцы живут на своей территории в течение 5 тыс. лет, то это очевидная экстраполяция современности на очень далекое прошлое. Если депутат Государственной Думы заявляет, что он печенег и государство должно заботиться о печенегах, то этот курьез в принципе того же порядка, что и многие исторические изыскания, имеющие целью вывести свои народы чуть ли не от сотворения мира» [18, с. 156–157].
Научное сознание отличается от религиозного тем, что оно прилагает к любой изучаемой сущности меру. Причем мера эта выражается в однозначно трактуемых уговоренных единицах (соответственно, с приемлемой и тоже вполне определенной точностью). Соловей от этой нормы отказывается категорически и принципиально. Если речь идет о времени, то он оперирует эсхатологическими понятиями – изначально, пока существует человеческий род. Да, тут аршином общим не измерить!
То же самое в приложении к материи, к массе. Вот главный тезис его книги: «С научной точки зрения, русские – это те, в чьих венах течет русская кровь» (с. 64).
Ну, если это «с научной точки зрения», то сразу встает вопрос о мере – сколько нужно русской крови, чтобы паспортный стол МВД шлепнул человеку в паспорте отметку «русский»? Этот простой и вполне разумный вопрос автора оскорбляет: «Предвижу возмущенный вопрос: какой процент русской крови должен течь в венах, чтобы считать человека русским? Честно признаюсь, меня это не занимало, да и сам вопрос в контексте отечественной истории довольно бессмыслен» (с. 306).
Вот тебе на! Заинтриговал, а на самом интересном месте замолчал. Его это не занимает… Да еще обругал читателя – какие, мол, бессмысленные вопросы задаете в контексте отечественной истории. А ведь вопрос этот абсолютно неизбежен. Мышление человека диалогично. Человек слышит необычное утверждение, которое, действительно превратясь в парадигму, угрожает перевернуть всю его жизнь, прилагает это утверждение к реальности – и у него тут же возникает этот вопрос. Если мама русская, а папа юрист, то какова этничность сына? У него в венах 50 % русской крови, а 50 % крови юриста. Он русский? А согласится ли с этим кровь юриста? Этот вопрос возникает без всякого возмущения. А вот ответ как раз вызывает возмущение – меня это не занимает.
И как тогда вообще понимать всю эту книгу, если как раз вопрос о том, как определяется принадлежность человека к русскому народу, автор в заключении называет «бессмысленным в контексте отечественной истории»? Ведь книга называется «Русская история: новое прочтение»! Читаешь, читаешь про кровь, архетипы и русскую «самость», а под конец тебе под нос суют кукиш.
Если продолжить мысль Соловея, то выходит, что народов не существует. Наличие в венах каждого человека капелек разной крови, которые несут в себе разные «неизменные и неуничтожимые» этнические архетипы – при том, что число капелек каждого типа несущественно, – означает, что всякие этнические различия стираются. Каждый человек биологически представляет собой помесь множества народов, он ничей. А его религия, культура, идеалы и ценности – это все якобы наносное, к этничности отношения не имеет.
Соловей пишет: «В новой парадигме философской антропологии «тело», «телесность» оказываются основой экзистенции. Тело – та предельная точка, вокруг которой выстраивается система познания, оно обеспечивает человека опытом, превосходящим вербальный (известно, что 90 % получаемой человеком эмоционально значимой информации обрабатывается на невербальном уровне). Тело творит и выращивает язык и систему понятий, проектирует вокруг себя мир культуры и социальности» (с. 41).
Тело выращивает язык – вот еще одна самоочевидная аксиома новой парадигмы философской антропологии!
«Социогуманитарные науки» пришли к выводу, что этничность создается под влиянием всей совокупности факторов окружающей среды и культуры, и в этом смысле «русскость» – плод трудовых, военных, духовных усилий многих поколений русских людей (русские создали «общность, воображенную русскими людьми»). Но такие общности Соловей реальностью не считает, реальна для него лишь материя («кровь»): «Обобщая, можно сказать: то, что отечественные и западные гуманитарии считают «воображенной общностью», результатом конструирования, совокупностью культурных и языковых характеристик, для антропологов, медиков, биологов и генетиков – биологическая реальность» (с. 36).
Ссылка на «антропологов, медиков, биологов и генетиков» тут совершенно незаконна. Выводов представителей этих наук, которые бы определенно утверждали, что этничность «записана» в биологических структурах, Соловей не приводит. Его трактовка косвенных данных является очень вольной, а то и явно неадекватной. Вот несколько примеров.
Соловей пишет: «Уж на что чуралась биологизации этнической проблематики советская наука, но и та с подачи «главы» советской этнологии Ю. В. Бромлея вынуждена была ввести в советскую концепцию этноса биологический критерий – эндогамию. «Оказалось, что подавляющее большинство современных этнических общностей – наций обладает не меньшей (чем первобытнообщинные племена. – В. С.) степенью эндогамности: обычно более 90 % их членов заключает гомогенные в этническом отношении браки» (с. 38).
Ну при чем здесь эндогамия? Никакого отношения к биологии она не имеет, это явление культуры, как и сам институт семьи и брака. Даже странно, как такая мысль могла прийти автору в голову. Создание семьи, рода, племени как раз стало одной из первых сфер, которые регулировались культурными нормами и запретами. У животных, поведение которых регулируется инстинктами («кровью»), культурных норм нет или они имеются в зачаточном состоянии.
Соловей верит в то, что мозг у русских и у французов устроен по-разному. Он пишет: «Научно зафиксированную этническую (и расовую) изменчивость нервной системы и строения головного мозга невозможно отнести к безразличным для исторического творчества биологическим параметрам, ведь речь идет о степени и самой возможности интеллектуального и культурного. Считается доказанной и наследственная детерминированность интеллекта: обсуждается соотношение, баланс, взаимодействие наследственных (в том числе этнических и расовых) и средовых факторов, но не кардинальная важность наследственности. Но моя мысль идет гораздо дальше и носит откровенно «еретический» характер. Суть ее в предположении о существовании наследственных этнических ментальных качеств, задающих вектор культуры и социальности» (с. 39–40).
«Научно зафиксированная», «считается доказанной» – это тоже выражения из арсенала Кашпировского. Надо же, «речь идет о самой возможности интеллектуального и культурного развития» разных народов, а в доказательство – только собственная мысль, да и то откровенно «еретическая». По нынешним временам этого мало. Небольшую секту собрать еще можно, но ни науки, ни религии на этом не установить.
Какие странные вещи приходится читать «в контексте отечественной истории»: «Этнически дифференцированные врожденные различия наблюдаются в восприятии цвета, пластических форм, ландшафтов, пространства и времени… Такое капитальное различие в восприятии живущих в одном природном окружении людей не могло определяться только культурными факторами… Исследование геногеографии Восточной Европы выяснило, что в ходе исторического развития российский природный ландшафт был включен в русский генофонд: из фактора внешней среды он превратился в фактор внутренней, генотипической среды организма человека» (с. 42–43).
Вещи невероятные, так разъясните! Какие наблюдаются врожденные этнические различия в восприятии времени? У Пушкина, как эфиопа, время шло из будущего в прошлое? И перешибить этот его неизменяемый этнический архетип культурой так и не удалось? И каким образом «российский природный ландшафт был включен в русский генофонд»? Какое тело вырастило этот язык? Где вообще находится этот ландшафт? Видимо, не в Сибири и не на Курилах.
Соловей легко переходит от генетики особи к генетике популяции, от личности к этносу. Разницы между этими уровнями он, похоже, не видит и пишет: «Гипотеза генетической детерминированности культуры и социальности уже не игнорируется «серьезной» наукой. Она приобрела влиятельных сторонников не только среди биологов, которых можно при некоторой интеллектуальной натяжке упрекнуть в «социал-дарвинизме» (к слову, это понятие – чистой воды интеллектуальная фикция, концептуальный фантом) и непонимании гуманитарной специфики, но и среди гуманитариев. К числу оных, в частности, принадлежит известный американский лингвист и философ Н. Хомский: согласно его теории генеративной грамматики логическое мышление и язык составляют часть генетического наследия личности» (с. 41).
В генетическом наследии личности много чего есть, включая психические заболевания и нарушения в восприятии цвета – но при чем здесь этничность? Да и не мог Хомский утверждать, будто в «генетическое наследство» от папы с мамой личность получает логическое мышление и язык. Обезьяна Чита спасла в джунглях младенца, из него вырос Тарзан – и заговорил на чистом английском языке? Какие все-таки в Голливуде «социал-дарвинисты» сидят, у них бедная Джейн была вынуждена поначалу разговаривать с Тарзаном жестами. Хорошо хоть, эндогамия помогла, а попади туда вместо Джейн француженка – никак бы не сговорились, и жесты бы не помогли.
Биологически человек наследует лишь структуры мозга, гортани и языка, позволяющие младенцу обучаться у окружающих его людей логическому мышлению и членораздельной речи. Именно в этом смысле Хомский писал, что в человеке (в отличие от обезьян) есть «врожденная грамматика». Но она вовсе не этническая, а именно «универсальная» для всего человеческого рода, т. е. рассчитана на все языки.
Когда ребенок рождается и слышит, как говорят окружающие его люди его народа, то его мозг уже в первые несколько месяцев жизни настраивается на структуры этого языка, и он становится для него родным. Ст. Пинкер даже ввел метафору «джамперы» (самый близкий к контексту смысл слова jumрer – появляющаяся мишень). Эти «джамперы» в мозгу ребенка ставятся в положения, соответствующие языку окружения [19]. Но эта настройка мозга на определенный язык есть процесс освоения культуры, а вовсе не «голос крови». Ребенок, попавший в стаю волков и выросший в этой стае, не проявляет потом никаких этнических архетипов и никакой прирожденной способности к языку своих родителей.
Вообще, парадигма Соловея находится в неразрешимом противоречии с множеством хорошо документированных фактов, согласно которым дети, с ранних лет воспитанные в среде иных народов, приобретают свойственные им этнические черты, и «голос крови» долго не дает о себе знать даже после возвращения их в «родную по рождению» среду. Культура их биологических родителей «стирается» очень быстро. Об этом говорит опыт воспитания детей корейцев и японцев в семьях американцев. Корейские дети, выросшие в американских семьях, полностью перенимают американскую культуру, а не воспроизводят корейскую, хотя их физические отличия (форма глаз, цвет кожи и пр.) могут оказыватъ влияние на адаптацию к обществу белых американцев. Во времена покорения Америки англосаксами было много случаев воспитания детей колонистов в индейских семьях. Даже после возвращения в среду белых колонистов эти дети сохраняли обычаи индейцев и хотели вернуться в их среду.
Неотразимый удар критикам Соловей наносит ссылкой на психоделические изыскания. Он пишет: «По словам одного из крупнейших мировых психологов, основателя такого ее революционного направления как трансперсональная психология, С. Грофа: «Материалы, полученные в психоделических изысканиях и при глубинной эмпирической работе, явно свидетельствуют о существовании коллективного бессознательного…» Более того, в ходе экспериментов Грофу удалось достоверно установить филогенетические переживания человека, то есть память о его дочеловеческом существовании! Отождествление человека с предшествовавшими ему эволюционно доисторическими животными включало верифицируемую информацию (ощущение веса, размера, чувства тела, разнообразия физиологических ощущений и т. д.), адекватность которой была подтверждена зоологами-палеонтологами» (с. 48).
На это возразить нечего… Хотелось бы только полюбопытствовать, как ощущает Соловей вес и размер предшествовавшего ему лично эволюционно доисторического животного. Что это за зверюшка?
Биологическую основу этничности Соловей описывает в понятиях, которые не имеют определенного смысла и воспринимаются как художественные метафоры, передающие лишь настрой мысли. Кровь… почва… русский жизнеродный потенциал… русский витальный инстинкт… русская биологическая сила. И с этим понятийным аппаратом нам предлагается строить рациональную отечественную историю и вылезать из культурного кризиса?
Откуда прет весь этот примордиализм и эссенциализм, которым так чужда была наша культура, не говоря уж о православном представлении о человеке? Могу предположить, что это интеллектуальный продукт, импортированный из стихийной антропологии того «рыночного» западного общества, которое возникло на обломках средневековой христианской Европы. Об этом писал американский антрополог М. Салинс (см. гл. 6).
Не помогает обоснованию «новой парадигмы» Соловея и введение биологической метафоры этнического инстинкта. Что это за новые сущности, зачем они плодятся? Соловей пишет: «В контексте моей темы сопряжение биологического и социологического ракурсов принципиально важно указанием на возможность врожденных этнических инстинктов восприятия и действия. Речь идет именно об инстинктах, то есть моделях, составляющих самоочевидное (не осознаваемое и не рефлектируемое) изначальное основание специфического восприятия и поведения этнических групп» (с. 41).
Ни на что это «сопряжение ракурсов» не указывает, да и сопряжения никакого нет, как нет и ракурсов, одни метафоры. Ну что «биологического» в том, как Соловей понимает слово «кровь»? Это не более чем художественный образ, нагруженный идеологическими смыслами. То же самое и здесь. Читаем: этнические инстинкты – это модели, составляющие самоочевидное, то есть не осознаваемое и не рефлектируемое, изначальное основание восприятия и поведения.
Где в этом определении биология – гены, кровь? Разве большинство продуктов культуры, ставших стереотипами нашего восприятия и поведения, требуют их осознания и рефлексии? Вот вы пожимаете знакомому руку. Это ритуал, культурная норма, ставшая самоочевидным, не осознаваемым и не рефлектируемым основанием поведения. Ничего изначального и инстинктивного в рукопожатии нет. Никакой биологии, это изобретенный, кажется, рыцарями, дружественный жест, обозначающий, что рука не держит оружия.
Уж на что, кажется, инстинкт, зов крови и пр. – целовать женщину. И то, оказывается, сугубо культурное достижение, ничего биологического и изначального. Европейцы это раньше изобрели, тут мы им поаплодируем. А у японцев, когда впервые увидели у европейцев поцелуи, они вызвали отвращение. Потом ничего, привыкли.
Еще больше туману напускают «архетипы». Хорошая это вещь, но тут она зачем, непонятно. Ведь Соловей применяет это слово как синоним инстинктов: «Архетипы представляют собой самые общие инстинкты представления и действия» (с. 45). Но теперь смысл вообще исчезает. Ведь выше было сказано, что «инстинкт – основание поведения». Человек, восприняв какое-то изменение в окружающем его мире, автоматически совершает действие, предписанное ему инстинктом. Например, увидев улыбку и протянутую руку знакомого, пожимает ему руку. Это полезная модель. Другое дело – архетипы. Они, оказывается, ничего конкретного не предписывают, точнее, являются пустой формой, в которой может оказаться любое содержание. Тебе улыбаются и протягивают руку, а архетип тебя вдруг побуждает дать приятелю по физиономии. Без всякого осознания и рефлексии.
Вот как это объясняет Соловей: «Юнговские архетипы – это именно мыслеформы… пустые формы осознания, требующие своего наполнения конкретным материалом. Другими словами, это матрицы. Конкретный материал наполняет их в зависимости от переживаемой людьми исторической ситуации, то есть формы остаются неизменными при меняющемся содержании… Будучи врожденными, не имеющими собственного содержания мыслеформами, этнические архетипы не тождественны ценностным ориентациям, культурным и социальным моделям и не могут быть усвоены в процессе социализации. Архетип вмещает самые различные, в том числе диаметрально противоположные, ценности и культурные стереотипы, не будучи сам ни ценностью, ни культурным стереотипом… Архетипы неизменны и неуничтожимы, пока существует человеческий род» (с. 45, 53).
Просто страшно становится – как жить с такими «изначальными основаниями восприятия и поведения»? И ведь все это приписывается русским! Был у них, мол, этнический архетип – православие. Но это была пустая мыслеформа. Изменилась историческая ситуация, заполнили русские люди эту мыслеформу диаметрально противоположными ценностями – и тут же взорвали церкви и расстреляли священников. Что ж поделаешь, такие уж у русских архетипы, они даны изначально и неуничтожимы.
Читаем о месте православия в структуре русской этнической идентичности и о злодеяниях проклятых большевиков: «Сокрушительный удар был нанесен по олицетворявшему русский этнический принцип православию… Фактическое разрушение главного дореволюционного русского идентитета – православия…» (с. 129, 153).
Действительно ужасно – главный русский идентитет сокрушили. Ищем место, где об этом идентитете сказано подробнее. Читаем: «Русское общество так и не стало христианским… Христианско-языческий синкретизм так называемого «народного православия» представлял не более чем тонкую ментальную амальгаму христианства на мощном, преобладающем языческом пласте народной психологии… Погром православной церкви стал отсроченной местью русского народа за насильственную христианизацию, за государственное принуждение к православию… Насильственная и форсированная социокультурная инженерия со стороны государства привела к мощной антихристианской, в своей основе языческой, реакции» (с. 15–17).
Вот тебе на! «Тонкая ментальная амальгама», которую государство насильственно и форсированно нацепило на русские этнические архетипы и инстинкты и которая отвергалась «языческим пластом народной психологии», оказывается, одновременно была главным «русским этническим принципом»! Да что же это за народ такой, совсем без принципов? Был у русских «идентитет», искусственно навязанный царским режимом, да и тот они выкинули в припадке «отсроченной мести русского народа за насильственную христианизацию».
Примерно так же трактуется отношение русских к государству: «Поскольку государство представляет собой довольно позднее историческое образование, то говорить о государстве как русском этническом архетипе было бы по меньшей мере странно» (с. 76). Дальше читаем: «Государство для русских – не парадигма сознания, а бессознательная структура – русский этнический стереотип» (с. 124). Чем «бессознательный русский этнический стереотип» отличается от «русского этнического архетипа»? В контексте отечественной истории ничем не отличается. А вот поди ж ты!
Зачем все это? Куда нас должна вывести вся эта «новая парадигма»? Кому и какой знак хочет подать Соловей, соблазняя психоделическими дочеловеческими воспоминаниями?
Главный смысл, видимо, находится во второй части книги, где доказывается несовместимость русских этнических архетипов и инстинктов, мыслеформ и крови с бытием большого многонационального государства – что Российской империи, что Советского Союза. Русские, мол, эти государства создали, русские их и уничтожили. Такой уж народ – поди угадай, что он еще выкинет. Язычники антихристианские. Трепещи, наша маленькая планета!
А эту первую часть Соловей завершает жуткой картиной нынешнего сдвига в этнических инстинктах русского народа после учиненного им погрома империи и православия, СССР и коммунизма. Как в фильме ужасов, где симпатичный юноша вдруг на глазах превращается в вампира – сужается лоб, удлиняются клыки, на губах пена…
Тут автор дал волю своему красноречию и не пожалел красок: «Происходит без преувеличения исторический переход русского народа к новой для него парадигме понимания и освоения мира – этнической. Кардинально меняется устройство русского взгляда на самое себя и на окружающий мир. Дополнительный драматизм этой революции придает то обстоятельство, что в структуре самой этнической идентичности биологической принцип (кровь) начинает играть все более весомую роль и конкурирует с культурной компонентой (почвой)…
В молодежной среде отчетливо наметилась тенденция перехода от традиционной для России этнокультурной к биологической, расовой матрице. И это значит, что внутри радикальной революции – этнизации русского сознания – таится еще более радикальное начало. В общем – традиционная русская матрешка, образы которой, правда, зловещи, а не жизнерадостны…
Радикализм и расизм – лишь элементы происходящих в России фундаментальных, поистине тектонических социокультурных и ценностных сдвигов. Радикально меняется смысл самого национального бытия, происходит рождение новой русской традиции. Ее вектор и содержание не внушают гуманитарного оптимизма, поскольку эта традиция – неоварварская, связанная с архаизацией ментальности и общества, опусканием их вглубь самих себя и человеческой истории. В контексте архаизации неизбежно происходит актуализация принципа крови, заменяющего более сложные и рафинированные, но неэффективные в деградирующей стране социальные связи и идентичности» (с. 288).
Эти рассуждения полностью противоречат нормам научной рациональности. Соловей утверждает, что в России происходит мировоззренческая революция – кардинально меняется русский взгляд на мир. Революция эта драматична – присущий русской культуре взгляд на этничность якобы замещается на расовый, биологический принцип (кровь). Возникает новый, зловещий образ мировоззрения русских – радикальный и расистский. Происходит архаизация ментальности и общества. Иными словами, налицо глубокий духовный регресс, реакционный поворот в сознании.
Но ведь вся книга Соловея как раз и посвящена утверждению биологического принципа этничности! Русскость – это кровь! Именно это Соловей и считает истиной, а представление об этничности как продукте культуры он считает заблуждением. Но истина не может быть реакционной и причиной регресса, это с точки зрения научного метода нонсенс. Познанная истина, будучи сама по себе нейтральной относительно моральных оценок, в то же время расширяет возможности общества для разрешения противоречий. Поэтому истина – положительная ценность. Выходит, у русских даже истина, открытая Соловеем, превращается в орудие реакции и мракобесия. Ну и ну!
Заключение книги не только противоречит логике. Оно попросту провокационно: сначала читателей убеждают в том, что их русскость определяется кровью, а в конце пугают мировое сообщество тем, что у русских «происходит актуализация принципа крови». Вот тебе и зловещая русская матрешка в сказке Соловея, творца парадигм. Наверное, по этому сценарию Швыдкой с Горбачевым уже фильм снимают о «русском фашизме». «Оскара» получат или еще какие-нибудь материальные ценности.
Глава 33. Антисоветский конструктивизм
Эту главу начнем с воспоминаний об одном поучительном законопроекте в сфере национальной политики. Он хорошо демонстрирует установки и тип мышления влиятельной и в 90-е годы, и сегодня группы этнологов «демократического» направления.
История такова. В 1992 г. Государственный комитет по национальным отношениям России представил в Верховный совет РСФСР проект Концепции национальной политики. Председателем Комитета был директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков, лидер той части российских специалистов в области этнологии, которая работала в русле конструктивизма. Он же был и руководителем разработки проекта Концепции.
Палата Национальностей Верховного Совета РСФСР (в лице ее председателя Р.Г. Абдулатипова) поручила Аналитическому центру РАН по научной и промышленной политике провести экспертизу проекта Концепции. Эту работу мы и проделали, дав, в общем, отрицательное заключение[202]. На наш взгляд, смысл Концепции сводился к тому, чтобы произвести в Российской Федерации радикальный демонтаж реально сложившегося способа межнационального общежития и перейти к модели, которая была выработана в Западной Европе в ХVIII – ХIХ вв. В ситуации кризиса начала 90-х годов этот проект представлялся не просто утопией, но и политической авантюрой, разрушительные последствия которой было трудно предсказать.
Палата Национальностей этот проект Концепции отвергла. Экспертное заключение нашего Аналитического центра представляет собой объемистый документ, но на его основе тогда была написана журнальная статья. Думаю, она имеет отношение к теме этой книги и отражает тот уровень, на котором находилось наше сознание в тот момент. Сегодня многие положения и выражения этой статьи кажутся наивными, наши знания о предмете были в тот момент скудными. Однако отношение к главным установкам Концепции, которое было сформулировано исходя из здравого смысла и общей оценки ситуации, в главном кажется верным и сегодня. Это – иллюстрация к тезису о том, что верная научная концепция (конструктивизм) под давлением идеологических пристрастий и политического интереса может вести к разрушительным практическим выводам. Как говорится, «знание – сила»… и ничего больше. В одних руках конструктивизм – инструмент укрепления страны и народа, в других – инструмент их демонтажа.
Итак, ниже следует текст той статьи 1992 года.
О Концепции национальной политики России (1992 г.)
Граждане СССР пытаются сегодня осмыслить катастрофические последствия разрушения их огромной страны. Кое-кто ликует, мародерствует и пляшет на могилах. Огромное большинство поднимается через трагедию на новый уровень духа и мысли. Когда общество вовлекается в столь глубокие потрясения, политический и идеологический вектор радикальных сил оказывается почти несущественным – разрушению и трансформации подвергаются гораздо более глубокие основания.
Слом цивилизации требует замены хозяйственных, культурных и даже метафизических матриц человека. В 1917 г. такую трансформацию России пытались произвести под знаменем марксизма – одной из ветвей идеологии западноевропейской индустриальной цивилизации, сегодня под знаменем либерализма – другой ветви той же идеологии, выросшей на общей с марксизмом картине мира и антропологической модели.
После 1917 г. Россия, получив тяжелейшие травмы, выжила. Почвенная компонента большевизма сожрала тонкий слой «европейски образованных коммунистов» (что, конечно, также было большой потерей для нации). Сегодня, разумеется, дело обстоит куда сложнее: Международный валютный фонд и совещания лидеров «семерки» – это не Бухарин с печальными глазами. В конце ХХ в. назревающее столкновение цивилизаций может стать фатальным. И все большую тревогу вызывает тот факт, что социологи-западники со своими диагностическими средствами, пригодными лишь для детерминированного гражданского общества, успокоили политиков как раз тогда, когда следовало бы бить тревогу. «Все в порядке, – заявили они. – Социального и этнического взрыва в России не произошло. Можно продолжать реформы в том же духе».
А надо было бы убавить свою научную самонадеянность и хотя бы рассмотреть иные модели объяснения происходящих в России процессов. Давайте попытаемся это сделать в связи с теми представлениями, которые бытуют в среде демократической интеллигенции относительно национальной политики России. Помимо прессы, эти представления в концентрированном виде были изложены в проекте новой Концепции национальной политики.
Отметим прежде всего удивительный факт – обсуждение этой концепции в Верховном Совете не вызвало резонанса. А ведь очевидно, что в такой многонациональной стране, как Россия, сама жизнь людей в буквальном смысле этого слова зависит от стабильного мира при совместном проживании. Если этот мир нарушить – теряют смысл все понятия демократии, экономической эффективности, рыночной или плановой экономики. Как держава (и даже как страна) Россия и затем СССР существовали лишь постольку, поскольку выработали механизмы поддержания стабильного национального мира. Тот, кто допускал разрушение этих механизмов, замахивался не на коммунизм, а на страну, для которой и Ленин, и Брежнев – лишь эпизоды истории.
Заметим также не слишком, на первый взгляд, существенный, но общий для концептуальных документов нашего демократического режима момент: они отталкиваются не от фундаментальных, «жестких» понятий и ценностей, а от идеологем. Причем идеологем производных – тех, которые отвергают «проклятое прошлое» (СССР, плановое хозяйство, уравниловку и т. д.). Так и здесь, концепция устройства совместной жизни народов – ценности абсолютной – представляет собой совокупность декларативных высказываний, чрезвычайно густо насыщенных сугубо идеологическими положениями полемического характера. Вместо того, чтобы дать краткий теоретический анализ понятий, проблем и противоречий, предложить альтернативы национальной политики при разных сценариях развития событий и установить критерии выбора альтернатив, авторы непрерывно спорят с незримо присутствующим политическим противником – «тоталитарным режимом СССР» – и доказывают превосходство «демократического режима». Документ весь обращен назад.
Более того, вся идеологическая часть концепции исключительно конфронтационна. В выражениях, недопустимых не только для государственного документа, но и для солидной прессы, квалифицируется СССР. Нельзя же не учитывать, что за сохранение СССР проголосовало подавляющее большинство граждан и последние опросы показали, что позитивное отношение к СССР сохранилось. Совершенно непонятно, зачем нужно строить обновленную национальную политику не на преемственности с СССР, не через компромисс мнений и интересов, а через столкновение с большинством населения[203].
Несмотря на чрезмерный «антитоталитарный» и антисоветский пафос документа, в основных своих положениях он следует ранним идеологическим клише ленинской национальной политики в отношении России, ее истории и роли русского народа. Когда же речь идет о действиях государства, оно представлено в документе обычным централизованным СССР, только немного уменьшенным в масштабах. Вплоть до того, что почему-то Российская Федерация должна устраивать переселение на историческую родину крымских татар (из Казахстана на Украину!) или турок-месхетинцев (из Узбекистана в Грузию!).
В целом структура мышления авторов концепции и поддерживающих ее выступлений в прессе совершенно не изменилась по сравнению с брежневскими временами – эти выступления лишь припудрены антикоммунистической косметикой[204]. А по сути, отрицается вовсе не национальное устройство СССР, а именно тот тип межэтнического взаимодействия, который сложился в России за много веков.
Вот суждение ученого. Как выражается в «Независимой газете» доктор исторических наук из Института востоковедения АН СССР Альгис Празаускас, Россия и СССР – это «своеобразный евразийский паноптикум народов, не имевших между собой ничего общего, кроме родовых свойств Homo saрiens и искусственно созданных бедствий». Примем на минуту, что в России, а затем в СССР не было ничего общего между армянами, азербайджанцами и русскими, и их совместное проживание было не более чем паноптикум. Но вот факты: в России проживали в начале ХХ века 1,5 млн. армян, и они благополучно дожили до перестройки, создав сильное, вполне современное общество. В Турции жили 2,5 млн. армян – они почти все были уничтожены и изгнаны или ассимилированы. Сегодня там их 100 тысяч, и они настолько утеряли национальное самосознание, что многие даже отрицали геноцид 1915 года. Совершенно ясно, что лишь «имперское» устройство России и СССР, именно присутствие русского народа как неявного арбитра («старшего брата») позволяло поддерживать равновесие между соседями на Кавказе – при всех неизбежных в столь сложной системе трениях. Сказать, что части этой системы не имели между собой ничего общего, мало-мальски образованный человек (а тем более доктор наук, да еще литовец) мог только при полном отсутствии интеллектуальной совести. Уже древние греки отличали систему от конгломерата.
И политики, и пресса демонстративно уходят от какой бы то ни было теоретической разработки или хотя бы систематизации проблемы. В концепции, поданной в парламент, не дано определения основным понятиям (даже таким, как нация, народ, национальность), они даже трактуются по-разному в разных местах одного документа. После его прочтения оказывается невозможным ответить, в соответствии с изложенными положениями, на самые элементарные вопросы национальной политики. Особенно это касается причин резкого обострения межнациональных противоречий в ходе перестройки. Констатация в преамбуле того факта, что «в последние годы имели место серьезные теоретические просчеты в проведении государственной политики» вызывает лишь недоумение, ибо эти просчеты не названы.
Тут мы подходим к главной проблеме национальной политики будущей России, от которой авторы уходят с помощью идеологических штампов. А проблема, весьма хорошо разработанная и в западной, и в отечественной социальной философии, состоит в следующем: Российская империя и СССР эволюционировали как традиционное, не «атомизированное» общество, в котором права индивидуума не имеют приоритета над правами солидарных образований – в том числе этнических. Поэтому здесь не возникало «этнического тигля», и этносы не растворялись, а сохранялись (при всех трениях, обидах и даже преступлениях режима)[205]. Контраст – гражданское общество западноевропейского типа в США или Германии, создавших мощные «этнические тигли».
В основе всех «моделей цивилизации» лежит определенное представление о мире, человеке и обществе. Современная западная цивилизация возникла через разрушение традиционного общества Средневековья, восприняв механистическую картину мира и атомизм – учение, приложенное сначала к человечеству, а затем уже к неживой природе. Оковы патриархального общества были сброшены под лозунгом: «человек – свободный атом человечества!» Индивидуализм стал основой мироощущения человека, и производными из него стали экономические («свободная продажа рабочей силы») и политические («один человек – один голос») представления. Отсюда права индивида, которые в национальной сфере оправдали возникновение этнических тиглей для переплавки малых народов в нации, отсюда конкуренция и «война всех против всех» в социальной сфере.
В России, в том числе за последние 75 лет, атомизации не произошло. Человек продолжает ощущать себя частью солидарных структур того или иного типа – трудового коллектива, колхоза, даже банды. И важнейшей для большинства населения России категорией (отвергаемой нашими западниками) является народ. В 1927 г. Комитет Евразийцев в СССР объявил: «Кто такие евразийцы? Чего они добиваются? Евразийцы – это те, которым раскрылась Россия как особый культурно-исторический мир, это те, для которых Россия не просто государство, а шестая часть света, не Европа и не Азия, а срединный особый континент – Евразия со своей самостоятельной культурой и исторической судьбой. Всякое копирование западных форм жизни для России-Евразии противоестественно. Оно влекло за собой и будет влечь ряд потрясений…
Исходя из своеобразия евразийской культуры евразийство и установило принципы своей социально-политической и экономической программы. Наилучшей государственной формой признается советский строй, освобожденный от коммунистической диктатуры. Советская система в ее действительном виде будет наилучшим образом обеспечивать народность власти, ее силу и выдвижение нужных людей. Сохраняется федеративное начало союза. СССР – братский союз народов, населяющих Евразию. Принципом его является наднациональный строй на национальной основе».
Атомизированный индивид Запада, будучи носителем «прав человека», соединялся в гражданское общество, подконтрольным слугой которого было либеральное государство с весьма ограниченными функциями. Старые империи распались на «государства-нации», которые сегодня интегрируются через экономические связи. Совершенно иной путь прошла Евразия с ее особым континентальным ландшафтом. Государству здесь придавался священный смысл, оно было «отцом» (пусть излишне суровым или даже тираном), а не «приказчиком».
«Не случайна связь народа с государством, которое этот народ образует, и с пространством, которое он себе усвояет, с его месторазвитием», – писал евразиец Г.В. Вернадский. Географ П. Савицкий объясняет: «Своеобразная, предельно четкая и в то же время простая географическая структура России-Евразии связывается с рядом важнейших геополитических обстоятельств. Природа евразийского мира минимально благоприятна для разного рода «сепаратизмов» – будь то политических, культурных или экономических… Этнические и культурные элементы пребывали [здесь] в интенсивном взаимодействии, скрещивании и перемешивании. В Европе и Азии временами бывало возможно жить только интересами своей колокольни. В Евразии это, если и удается, то в историческом смысле на чрезвычайно короткий срок… Недаром над Евразией веет дух своеобразного «братства народов», имеющий свои корни в вековых соприкосновениях и культурных слияниях народов… Здесь легко просыпается «воля к общему делу».
Так образовались Российская империя и СССР, а раньше – скифская, гуннская и монгольская империи. При этом никогда не возникало «этнического тигля», а тот особый способ сосуществования культур, который евразийцы называют термином «радужность» или «симфония».
Скажем больше: именно евразийский характер СССР делал каждую его часть «ни Европой, ни Азией», но синтезировал, соединял их культурные генотипы. Таджик и казах в СССР были и европейцами. Быть может, охваченные «демократическим» угаром таджикские студенты в 1991 г. и не предполагали, что означает в реальности «слом евразийства» – но их советники из АН СССР знали прекрасно. Средняя Азия – сложный этнический мир, сильное влияние клановых и родовых отношений всегда приводило к столкновениям и даже локальным войнам. Это прекратилось, когда среднеазиатские народы перешли «под руку» русского царя.
В этнический реактор были введены «охлаждающие стержни». Был выработан – совместными усилиями – изощренный механизм гашения конфликтов. Враждующие роды разъединялись русскими крепостями и гарнизонами, спорные участки отбирались в казну, слишком непримиримым князьям не продавали муку и т. д. В СССР это дополнилось посредничеством обкомов, премиями и орденами. Что произошло, когда все эти «стержни» были внезапно выдернуты, а армейские гарнизоны стали, соблюдая нейтралитет и суверенитет, безучастно взирать на уничтожение детей и стариков? Целые области оказались выброшенными из цивилизации и поставлены на грань уничтожения.
Авторы Концепции избегают анализа национального устройства СССР, а без понимания того, что разрушается, невозможно избежать катастрофы – это все равно что разрушать бомбу ударами молотка. Ругань не только не заменяет анализа, но и обостряет противостояние, ибо всем очевидно, что в СССР народы жили, а в результате разрушения союза начали переживать бедствие, а иногда и воевать.
Отказываясь признать этот факт и извлечь из него урок, политики делают себя заложниками развитого в ходе перестройки цепного процесса распада и конфликтов, который Россия вполне могла бы остановить. Из сугубо конъюнктурных (и уже устаревших) соображений документ одобряет выбор революционного разрушения вместо эволюционного реформирования государства В документе говорится: «Национальные движения сыграли позитивную роль в разрушении тоталитарных структур и в демократических преобразованиях». То есть никакого стремления хоть в будущем дистанцироваться от разрушительных сил и перейти к собиранию Концепция не обнаруживает. Внутренне противоречивые призывы «найти формулу демократии на языке культурной традиции» абсолютно фальшивы, ибо разрушение СССР с использованием радикальных националистических движений означало полный разрыв с культурной традицией.
И весь текст документа показывает, что никакого «наведения мостов» и восстановления традиций не предполагается. Это видно хотя бы из того, что в качестве механизма предотвращения конфликтов предлагается гласность и использование «журналистского корпуса» – именно тех механизмов и субъектов, которые сознательно использовали межэтнические конфликты как средство борьбы с «советским тоталитаризмом».
Сегодня этот проект разрушения евразийской целостности переносится в Российскую Федерацию. Реанимируется идея А.Д. Сахарова о «Евразийской конфедерации независимых государств», числом 40 или 50 (слово «евразийская» здесь такой же камуфляж, как «демократия» или «правовое государство» в перестроечном новоязе). С разной степенью жесткости утверждается вульгарный евроцентризм, который даже в советском истмате был изжит в 30-е годы. В.И. Мильдон в «Вопросах философии» просто угрожает: «Для России как части Европы, части человечества следование прежним, своим историческим путем, определившимся стихийно, в условиях неблагоприятной географической широты, самоубийственно. Жизнь требует отказаться от него – нужно отказываться, даже если в ее и других народов прошлом не было образцов подобного отказа». Почему же другим народам Мильдон разрешает не отказываться от следования «своим историческим путем», а русским запрещает – хотя иной «географической широты» он нам не подарит?
Концепция национальной политики провозглашает создание современного демократического общества с рыночной экономикой, и весь ее смысл таков, что в ней прямо предусмотрено возникновение «этнического тигля». Поскольку в Концепции ничего не говорится о том, как предполагается компенсировать «растворяющее» действие демократии и рынка на этносы, приходится прийти к выводу, что это – доктрина ликвидации этнического разнообразия России. Это – сугубо техноморфная, антиэкологичная концепция, по своим философским основаниям соответствующая среднему этапу развития европейского капитализма (вторая половина XIX в.). Появление такой концепции в конце ХХ в. и тем более в России с ее колоссальной культурой межэтнических отношений вызывает недоумение.
Главная «конструктивная» мысль документа – снятие национальной окраски субъектов федерации. Для этого предлагается использовать два механизма: растворение автономных республик в большом числе территориальных субъектов равноценного статуса; приоритет демократических прав личности, независимо от национальности, на каждой территории[206]. Помимо того, что весь пафос этого предложения состоит в атомизации и униформизации российского общества, на нынешнем этапе кризиса и «детской болезни» национализма само это предложение (даже не его реализация, а всего лишь декларация) ведет к обострению межнациональных противоречий и к центробежным тенденциям. Услышав о таких планах, самое разумное для национально-территориальных образований – заключать горизонтальные объединения и альянсы для максимальной автономизации от Центра. Реализация этой концепции силой будет означать превращение всей России в арену тлеющих или открытых войн.
Совершенно неприемлема аргументация путем отсылок к зарубежному опыту. В качестве «наиболее оптимальной формулы» России предлагается использовать «опыт развития схожих по типу стран – Индии и Нигерии». Иначе как издевательством над Россией, нашедшей уникальный тип стабильного совместного проживания народов, не назовешь предложение взять пример с Нигерии, только что пережившей одну из самых истребительных в истории гражданских войн на этнической почве, или опыт Индии с ее спиралью межэтнического насилия.
Приведенная также ссылка на Испанию – вообще подтасовка. О каком же «снижении статуса национальной государственности» в федеративном устройстве можно говорить, если наиболее развитые автономные области Испании называются Каталония (с государственным каталонским языком) и Страна басков (с восстановленным забытым языком басков)? Или авторы считают, что баски – не национальность? А ведь баски имеют свой парламент, свое правительство, свой флаг и даже свою полицию. И при этом в Стране басков действует этническое террористическое движение, держащее в страхе всю Испанию.
Совершенно неудовлетворителен раздел Концепции о межнациональных конфликтах – здесь практически все существенные утверждения неверны и противоречат самым элементарным представлениям конфликтологии и тому опыту, который уже накоплен с 1987 года. Из идеологических соображений приватизация представлена механизмом разрешения конфликтов, хотя именно приватизация уже стала и неизбежно будет далее важнейшим дестабилизирующим фактором, ибо она предусматривает расслоение по национальному признаку при дележе собственности. Концепция должна была бы признать эту очевидность и предложить нейтрализующие механизмы, но она лишь славословит приватизацию и наивно призывает к «инвестициям в конфликтогенные районы» (хотя все возможности инвестиций ограничены отправкой в такие районы вагона с наличными деньгами).
Национальная политика России не может строиться без ясного отношения к русскому народу. Однако и смысл, и фразеология всех утверждений Концепции, касающихся русского народа, воспроизводят едва прикрытые штампы, свойственные западническому крылу большевизма 20-х годов. Это и тезис о «насильственной русификации», и квалификация русских не как нации, а как этнической группы, и повторение формулы о «новой исторической общности» – теперь уже «российский народ». Поразительно, но в разделе «Проблемы русского народа» не названо других конкретных проблем, кроме как проблем «потомков казаческого населения» и «шовинизма и антисемитизма части русского населения».
Непонятно, на какую реакцию рассчитано упоминание антисемитизма русских как единственного названного в документе проявления национализма? И почему это говорится именно в отношении русских – являются ли они монопольным носителем этого зла? И почему ничего не сказано об очевидном, надежно демонстрируемом разжигании русофобии? Такая «асимметрия» государственного документа никак не может способствовать не только гражданскому согласию, на даже и миру.
Концепция, как и очень многие другие декларации демократических идеологов, игнорирует очевидную неоднородность трех предстоящих десятилетий. России еще предстоит пройти через тяжелый кризис, а затем выйти в режим стабильного существования. Эти два этапа кардинально различны и представляют собой две системы совершенно разных процессов. И цели, и ограничения, и механизмы национальной политики на этих этапах также различны. Документ же предлагает набор абстрактных пожеланий. В нем постоянно подчеркивается, что Россия переживает «политическую либерализацию и утверждение общедемократических норм». Но это – явное искажение реальности, которое в национальной политике просто недопустимо. Многие вещи, полезные или нейтральные на стабильном этапе, оказывают разрушительный эффект в фазе кризиса.
Можно ли совместить глубокую демократизацию с сохранением полиэтнической российской цивилизации? Да, можно – но Концепция от самой этой мысли отказывается. Да и не только в политиках дело. Болезненное преодоление евроцентризма и противопоставление демократии национальному чувству – задача всей интеллектуальной элиты России.
Итак, в мышлении «прогрессивных» российских этнологов, ставших активными политическими и интеллектуальными деятелями перестройки и реформы, знание современной концепции этничности (конструктивизм) удивительным образом сопряжено с универсалистской утопией Просвещения. Казалось, эта утопия сдана в архив после того, как мир во второй половине ХХ века пережил взрыв «бунтующей этничности». Но нет, ее пытаются внедрить в политическую практику и где – в РФ, осколке страны, разорванной в ходе операции, в которой тараном служила как раз бунтующая этничность.
В.А. Тишков, будучи министром по национальным отношениям, предлагал политическими средствами «отменить этничность». При этом сам он прекрасно знал слова, что высказал в руководимом Тишковым институте его американский коллега Дж. Комарофф: «Практически нет сомнений, что история нашего времени в полном смысле слова переписывается под воздействием этнических и националистических форм борьбы» (см. гл. 1). К каким же последствиям могло привести в РФ 90-х годов предлагаемое Тишковым лобовое столкновение с политизированной этничностью, которую политический режим сам же мобилизовал для разрушения СССР? Только к дальнейшему разрушению уже и РФ.
На мой взгляд, политизация этничности идет бок о бок с политизацией этнологии.
За этими установками, видимо, стоит и определенная интеллектуальная традиция, которая придает им устойчивость – традиция либеральная. О.Ю. Малинова пишет: «Авторы либеральных концепций середины XIX – начала XX в. либо вообще не считали национальность важным элементом персональной идентичности, либо не придавали этому аспекту существенного значения, будучи озабочены обеспечением единства и самостоятельности «больших» наций. То, что меньшинство может оказаться ассимилированным, не казалось в XIX в. трагедией. Напротив, ассимиляция воспринималась как позитивное явление, если вследствие нее индивид вливался в более «высокую» культуру… Отсюда – огромная роль концепции прогресса в либеральной теории XIX в. Это воистину стержень всей конструкции… Поскольку привлекательность либеральных принципов обусловлена именно их универсальностью, об ограничениях либералы предпочитают говорить уклончиво, избегая четких формулировок. Просто удивительно, сколь многих «неудобных» вопросов не задавали себе либеральные мыслители, рассматривавшие проблему наций» [20].
В неолиберализме эта интеллектуальная традиция приобрела черты фундаментализма. В частности, эти черты воплощены в концепции «общечеловеческих ценностей», которая занимала важное место в идеологии перестройки. На деле это понятие маскировало расизм, направленный против незападных культур, а в перестройке и реформе – против советского народа, а затем народов России. Один из основателей современной американской антропологии Ф. Боас, предупреждая о ложности концепции «общечеловеческих ценностей», писал в 1928 г. в книге «Антропология и современная жизнь»: «Социальные идеалы негров Центральной Африки, австралийцев, эскимосов, китайцев настолько отличаются от наших, что оценки, даваемые ими поведению человека, несравнимы. То, что одни считают добром, другие считают злом» (см. [21]).
В 1990 г. Тишков патетически восклицал: «Есть надежда, что раздавшийся недавно призыв: «Дело политиков и экспертов – освобождение грядущего правового государства от великой лжи национальной идеи» – получит заинтересованную и глубокую оценку философов, этнологов и историков» [22][207]. В той же статье Тишков пишет: «Думаю, было бы разумным отказаться от определения этноса как некоей эпохальной социальной формы». И это в тот момент, когда этнос становится ведущей формой социальной мобилизации!
Можно ли представить себе, чтобы министром по делам национальностей назначили человека, который называет национальную идею великой ложью! Уже этот факт указывает на то, что политический режим РФ в 90-е годы был нацелен на демонтаж национально-государственной системы России. Надо сказать, что «демократические» российские СМИ, выполнявшие доктрину этого демонтажа, применяли и применяют связанные с этничностью термины как атрибут какого-то зла, противопоставляемого позитивному целому. «Чеченским боевикам» противостоит внеэтническая сила – «федералы». Если грабитель отнял у прохожего кошелек, то в прессе скажут о грабителе «гастарбайтер-молдаванин», а этничность жертвы вообще не будет упомянута, он – гражданин.
Изменились ли взгляды Тишкова за последующее десятилетие под влиянием российской реальности? Нет, ни в коей мере. В 2003 г. в издательстве «Наука» он выпустил книгу, которая называется «Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии». В книге проводится мысль, что в результате глобализации исчезают нации и вообще этносы. А значит, исчезает и объект этнологии – она превращается в изучение остающихся на месте этносов социально-культурных групп. Соответственно, из функции государства устраняется национальная политика.
В. А. Тишков принял активное участие в полемике, вызванной введением новой формы гражданского паспорта РФ. В ней отсутствует графа «национальность». Отмена «национальности» в новых российских паспортах вызвала споры в обществе. Речь идет о политическом решении, которое имеет свои плюсы и минусы, смягчает одни проблемы и порождает другие. Мы здесь не вдаемся в политическую дискуссию, нам важна логика аргументов обеих сторон.
Тишков обосновывает отмену графы «национальность» следующим образом: «Такой практики в Европе не существует, нет ее и нигде в мире… Заполняя бланки на визу в зарубежных посольствах, также пишут в графе «национальность» слово «Россия», а не «татарин» или «башкир» [24].
Этот аргумент противоречит логике. В Европе нет вообще гражданских паспортов, не с чем и сравнивать. Сказать, что этого «нет нигде в мире» – художественная метафора, ибо речь явно идет о Западе. Но главное, что это вообще аргумент бессмысленный, потому что состояние России в данный исторический момент имеет мало подобия состоянию Бельгии или Танзании, и ссылаться надо именно на обстоятельства России[208]. Никакого отношения гражданский паспорт РФ не имеет и к «бланкам на визу в зарубежных посольствах». Там башкир записывает «Россия», а у себя в сельсовете, возможно, ему важна была бы запись «башкир».
Столь же нелогичен и другой довод Тишкова: «Во-вторых, запись в паспорте этнической (национальной) принадлежности не может быть реализована практически. Это только советских граждан, начиная с 1934 г., приучили послушно выбирать национальность одного из родителей».
Посудите сами: много лет запись в паспорте именно «была реализована практически», это бесспорный факт. Но Тишков пытается нас убедить, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. И что неразумного видит он в том, что советских граждан «приучили послушно (!) выбирать национальность одного из родителей»? А чью национальность надо было выбирать? На мой взгляд, эта фраза ученого-конструктивиста просто глупа. Тишкову не нравится, что люди себя идентифицируют в терминах национальности – ну так объясни внятно, что в этом плохого, а не наводи тень на плетень.
К сути дела Тишков подбирается сквозь густой туман: «На самом деле этническое самосознание от рождения никому не дается. Оно приобретается в процессе социализации, включая образование… Оно не всегда четко выражено и может меняться на протяжении жизни человека».
Прекрасно! Но ведь и паспорт дается не от рождения, а в 16 лет, когда человек достаточно социализировался (а в советское время даже получал к этому возрасту неплохое образование). У подавляющего большинства этническое самосознание выражено достаточно четко и не меняется на протяжении жизни. Да, это бывает «не всегда», существуют этнические маргиналы, кое-кто желает сменить национальность. Ну так и надо говорить о маргинальных явлениях и о том, какую лазейку надо для них оставить в бюрократических нормах (лазейки и в царское, и в советское время были). Но ведь разумно сначала определиться в отношении большинства!
Дальше идет ругань и презрительная риторика в адрес тех, кто желал бы сохранить в своем паспорте запись о его национальности: «Идеологи этнонационализма преподносят свое требование как заботу о сохранении этноса… [Они] продолжают верить в «чистоту этносов», и если вдруг в Башкирии 50—100 тыс. человек запишутся как «тептяри», то они будут доказывать, что таковых на самом деле нет, а есть или башкиры, или татары… Единственная, на наш взгляд, возможная уступка очень озабоченным гражданам – это «особая отметка» на соответствующей странице паспорта, причем в любой форме, как пожелает сам гражданин: «булгар», «кряшен», «мишарь», «тептярь», «нагайбак» и даже «мусульманин», если он таковым прежде всего себя считает по самосознанию. Гражданин в любой момент может поменять эту отметку или вообще от нее отказаться.
В любом случае представляется абсурдным, что давно отпечатанные по утвержденному правительством образцу паспорта не выдаются гражданам страны. Если власти, включая Конституционный Суд, до сих пор робеют перед аргументами патологических националистов, то тогда уж лучше выдать эти паспорта желающим стать россиянами жителям Азербайджана, Армении, Грузии и других постсоветских государств. От этого будет стране огромная польза, и демографическая ситуация заметно поправится… «Беспаспортным» не следует выдавать и заграничные паспорта: там ведь тоже нет графы о национальности».
Вся эта риторика, на мой взгляд, просто неприемлема. Люди высказывают, вполне корректно, свои сомнения относительно важного политического изменения, таких людей – едва ли не половина населения, но ученый из Российской Академии наук публично называет их «патологическими националистами». Вот тебе и демократ! И еще издевается над «демографической ситуацией» России. И почему «уступка очень озабоченным гражданам» предлагается в виде какого-то клейма, как «особой отметки» вроде судимости? Если такую уступку можно делать, то почему ее не сделать без истерики? Где тут разумные аргументы по сути дела?
Эта агрессивная радикальная позиция либеральных конструктивистов сыграла, думаю, немаловажную роль в том, что необходимое нам методологическое знание конструктивизма отторгается патриотическим сознанием. Тишков декларирует необходимость становления в нынешней России гражданской нации как надэтнической общности, но его доктрина загоняет этот процесс в тупик. Любая нация формируется вокруг какого-то этнического ядра – народа, культура которого служит матрицей для собирания нации. Это ядро может даже стать меньшинством в населении страны (как, например, потомки португальцев в Бразилии и, возможно, даже потомки англичан в США), но заложенная им матрица остается механизмом воспроизводства нации. Но если народ, ставший ядром нации, не был в свое время сплочен этническими связями и не обладал национальным самосознанием, он этой матрицы создать бы не смог.
Тишков же предлагает доктрину, которая едва ли не в первую очередь разрушает этническое и национальное самосознание именно русского народа. Именно в нем либерально-демократическая часть политической элиты РФ видит средоточие «патологических националистов», очаг ксенофобии и «русского фашизма». Доктрину Тишкова надо считать инструментом дальнейшего демонтажа русского народа, миной, заложенной под собираемую в России гражданскую нацию.
Глава 34. Возрождение России и русского народа: проект этнонационализма
Главный тезис этой книги заключается в том, что фундаментальной причиной нынешнего кризиса России является демонтаж ее народа. Народы и народности России, собравшиеся вокруг русского ядра, уже складывались в большую полиэтническую гражданскую нацию. Но этот процесс дважды был пресечен – в начале и в конце ХХ века. Кризис конца ХХ в. загнал Россию в историческую ловушку, выбраться из которой можно только вновь «собрав» ее народ как дееспособный субъект истории, обладающий политической волей.
Подобные кризисы постигали и другие большие народы, ставя их на грань исчезновения. Чтобы преодолеть такую беду, рассыпанный народ должен, по выражению Сунь Ятсена, вновь обрести «сокровище национализма» – общее самосознание людей как частиц целого, связанного общей судьбой. Чтобы отвести угрозу, население должно вновь превратиться в граждан, сплоченных национальной солидарностью.
Такая задача стоит сегодня перед всеми обитателями России. И все они поставлены перед выбором – какой национализм им предпочтительно обрести, на какой матрице формировать их общее самосознание В разделе 4 говорилось, что существуют два вида национализма, кардинально различные и даже враждующие между собой. Значит, речь идет об очень непростом выборе, направляющем людей по двум расходящимся траекториям.
Кратко, я вижу нынешнюю ситуацию так. Есть национализм «гражданский», собирающий племена и народы в большие нации, и национализм «этнический», разделяющий большие нации и народы на менее крупные этнические общности («племена»).
Запад, захватывая колонии или полуколонии, везде стремился прежде всего подавить местный гражданский национализм и навязать этнический (этнонационализм). Например, трайбализм, система враждующих племен – творение колониальных администраций. Они так стравливали население Америки, Азии и Африки, что ему приходилось поддерживать власть колонизаторов, регулирующих племенной раздор, иначе жизнь становилась невыносимой.
При построении Российской империи церковь и государство целенаправленно усиливали в мировоззренческой матрице русских специфический гражданский национализм – и в этом преуспели. Благодаря этому удалось создать сложную конструкцию полиэтнического государства с русским ядром. Эта конструкция имела большие достоинства, но и была очень хрупкой – этничность сохраненных (а не ассимилированных) народов могла «взбунтоваться» и выйти из-под контроля, разрушая империю и государство. Поэтому новые народы и земли включались в империю всегда после долгих колебаний, под давлением всего комплекса обстоятельств. Каждый раз правители России понимали, что в систему включается новый источник риска и на русское ядро ложилась дополнительная нагрузка.
Советская власть приняла эту конструкцию и положила ее в основу новой государственности – при полном понимании рисков. Изменить ее уже было невозможно. Этничность многих народов России за полвека капитализма (пусть и периферийного) уже дозрела до этнического национализма, и его можно было погасить только предложением строить СССР как «семью народов», причем даже с огосударствлением этничности.
Это компенсировалось достоинствами социального устройства, высоко оцененными массой нерусского населения (но не «элитой»), а также интенсивным укреплением гражданского советского национализма. С опорой на массовую социальную и культурную лояльность власть могла жестко подавлять все проявления этнического национализма, вплоть до репрессий против элиты и даже целых народов, тип этничности которых заставлял их подчиняться элите (как, например, у чеченцев во время войны). Кроме того, плановая система хозяйства и тип администрации позволяли не допускать стихийной миграции и внедрения больших иноэтнических масс в стабильную среду.
При этом жизнеустройстве этнический национализм русских продолжал атрофироваться в том же темпе и в том же порядке, что и в течение предыдущих двух веков. Русский народ как «старший брат» ощущал себя держателем всей империи (СССР). Это, как и раньше, накладывало на русских дополнительные тяготы, но давало огромное преимущество в «большом времени». Только при этом своем статусе русские смогли стать одним из десятка больших народов мира и создать большую культуру (литературу, музыку, науку и пр.). Этнический национализм ограничил бы развитие во всех этих направлениях.
После краха СССР были ликвидированы социальные и культурные механизмы, которые раньше дезактивировали этнические «бомбы замедленного действия». Началась их сознательная активация – в идеологии, праве, экономике. Создавались условия для этнических конфликтов в русских областях. Большой операцией в этой кампании стала организация режимом Горбачева и Ельцина войны в Чечне. В 90-е годы были запущены долговременные «холодные» военные кампании против РФ и России в целом.
Опыт последних лет приводит к выводу, что одной из главных задач «холодной» гражданской войны на этом этапе является подрыв гражданского национализма русских и разжигание в них этнического национализма. Подрыв этот должен быть проведен в «кипящем слое» – среди молодежи и в среде интеллигенции. При слабости государства этого достаточно, чтобы подавить волю массы граждан, не способной к самоорганизации. Господствовать на улице и в прессе будут при этом марионетки, действующие по командам «конструктивистов из ЦРУ».
В этой кампании активно участвует ушедшая в тень горбачевско-ельцинская рать и существенная часть интеллектуальной команды нынешней власти, служащая «двум господам». Госаппарат, в общем, пытается этому противодействовать, но очень слабо и боязливо. Сдвига в мировоззрении большинства русских к этнонационализму пока не произошло, но к этому перелому их подталкивают непрерывно, и сейчас именно на это направлены основные усилия «оранжевых» политтехнологов.
В наиболее радикальной форме проект этнонационализма «от Горбачева» предполагает отказ от всякой имперской русской идеи – как царской самодержавной, так и советской. Он в новой форме и обращаясь к новой аудитории воспроизводит ключевые установки перестройки в дискредитации «империи зла». Как было сказано выше, эти установки почти дословно совпадали у Старовойтовой и Шафаревича, у Распутина и эстонских сепаратистов. Главный смысл их состоял в том, что русским невмоготу нести имперскую ношу, и эту ношу с них должен снять политический союз демократов и националистов – ликвидировать Советский Союз.
Сегодня эксперт «Горбачев-фонда» В. Соловей снова развивает эту мысль, опираясь уже на примордиалистскую концепцию этничности как «крови». С помощью этого философского камня он проникает в мистическую сущность русской души и так трактует происходящее в России: «Державная ноша сломала русских… Отказ от детей и массовое детоубийство (аборт, говоря без обиняков, есть узаконенное детоубийство) в России свидетельствовали о капитальном и всеобъемлющем морально-психологическом и экзистенциальном кризисе народа… Другими словами, кризис русской биологической силы был взаимоувязан с морально-психологическим кризисом… Вероятно, то были различные аспекты ослабления русского витального инстинкта – воли к экспансии и воли к доминированию» [15, с. 174–175].
Буквально насилуя совсем недавнюю историю и весь корпус документальных свидетельств, В. Соловей утверждает, что именно основная масса русских людей и стала движущей силой горбачевской перестройки, целенаправленно разрушая государство и следуя своим якобы либеральным архетипам: «Требования «российского суверенитета» и «российского равноправия», оказавшись созвучными массовым настроениям и глубинным, экзистенциальным ощущениям русских, вызвали мощную политическую динамику, стали стержнем политического процесса 1989–1991 гг… Разве идеи «суверенитета» и «равенства» России не были культурно-историческим, контекстуальным выражением архетипических человеческих устремлений справедливости и свободы?.. Русские люди поддержали демократическое движение… Либеральная утопия была созвучна русскому этническому архетипу» [15, с. 184, 187][209].
Эти экстравагантные рассуждения могли бы сойти за мистификацию, если бы за ними не стояла чисто политическая задача не доказать, а внушить новому поколению русской молодежи мысль, будто строительство многонациональной евразийской России всегда было невыгодно русскому народу. Место русских – в междуречье Клязьмы и Оки.
Соловей пишет: «В протяженной ретроспективе, включающей дореволюционную и советскую историю, очевидно, что континентальная полиэтничная полития могла существовать только за счет эксплуатации русских этнических ресурсов» [15, с. 109]. Это – крайний антиимперский этнонационализм левого толка. Судя по всему, его шансы расширить свое влияние невелики[210]. Каковы же главные установки в сознании интеллигенции и каковы тенденции их изменения?
В гл. 31 говорилось, что в сознании широких кругов интеллигенции и в массовом сознании по инерции господствуют представления примордиализма. Они способствуют укреплению этноцентристского сознания и этнического национализма. Противодействующей силой является державное (имперское) сознание, которое сильно в мировоззрении русских и удерживает свои позиции в большинстве нерусских народов. Точно установить «баланс сил» сейчас невозможно.
Есть тревожные сведения, которые, впрочем, могут быть преувеличенными именно в целях содействия сдвигу русских в сторону этнонационализма. По данным ВЦИОМ, осенью 2001 г. лозунг «Россия для русских» поддерживало 58 % опрошенных [26]. Это – лозунг этнонационализма, хотя его смысл и логика людьми еще не осознается. Важным надо считать и тот факт, что изменился уровень этнической нетерпимости в среде молодежи: в 90-е годы молодежь была более терпима к иным этническим группам, чем люди старших поколений, а к 2003 г. произошла инверсия [27].
Как говорят, русский этнонационализм еще не стал институциональным, не возникло националистических русских партий. Но он набирает популярность в массах и, вероятно, по мере этого будет происходить и его формальная организация. Скорее всего, однако, тяготение к этническому и гражданскому национализму находится в неустойчивом равновесии. В ближайшие годы, вероятно, произойдет сдвиг в ту или иную сторону.
Этнонационализм как идеология начал свое наступление в СССР в годы перестройки. Как уже говорилось, тогда удалось произвести важное изменение во всей конструкции межнационального общежития СССР и России – сдвинуть массовое сознание нерусских народов от русоцентричного к этноцентричному. В некоторых республиках (как в Прибалтике и на Украине) тогда же был начат проект мобилизации этничности на базе русофобии, то есть агрессивного этнонационализма.
Этот процесс начался и на окраинах РФ. В.А. Тишков пишет об этом: «Идеологи этнонационализма проводят линию, что татарский, башкирский, марийский, мордовский и другие культурные компоненты не есть часть российского культурного ареала, а это часть полумифических и политизированных «тюркского мира», «финно-угорского мира» и прочих «татарских миров». Следом за этим принимаются государственные программы поддержки избранной категории россиян, родные языки которых лингвисты поместили в одну языковую семью, например, финно-угорскую. А уже за ними следом, только с противоположным смыслом, эстонские политики вносят в ПАСЕ проект резолюции о нарушении прав финно-угорских народов в России. Обе эти позиции спонсирования этнического партикуляризма есть по сути отрицание российского народа, а значит, и России» [28].
Много говорилось и о всплеске этнического мифотворчества на основе примордиалистских представлений. В. Шнирельман пишет: «Этноисторические мифы полностью соответствуют программам местных этнонационалистических движений. Содержащиеся в них политические проекты прививаются учащимся в виде примордиалистских представлений, которые школьное образование легко превращает в «коллективную память». Это служит одним из важнейших механизмов, используемых мультикультурализмом для политизации культуры. В том-то и состоит трагедия современного мультикультурализма, что, выдвинутый либеральной демократией в надежде на «праздник разнообразия», он со временем стал превращаться в нечто прямо противоположное. Теперь лозунг мультикультурализма нередко служит для оправдания доминирования и дискриминации ссылками на «культурные особенности» и «исторические права». Соответственно, такой «мультикультурализм» предлагает объяснять современные этноконфликты некими исконными «культурными различиями» и «архетипами», доставшимися от первобытных предков. Именно в этом контексте на смену старому биологическому расизму приходит новый «культурный» расизм» [10].
Структура этнонационализма народов разных регионов России обладает своими особенностями, но в целом соответствует той, что была представлена в разделе 3. Везде господствуют идеи примордиализма и вырабатываются этноисторические мифы, повествующие о золотом веке и удревняющие происхождение народа. Так, в Бурятии есть историки, считающие предками бурят шумеров и гуннов. В 2004 г. в статье «Потомки гуннов – объединяйтесь!» сообщалось: «Гуннский международный фонд – общественно-культурная организация, действующая в Бурятии, выступила с инициативой создания Союза гуннских родов Забайкалья. Члены фонда… считают, что только в Бурятии насчитывается 24 рода, которые ведут свою историю с эпохи гуннского царства» (см. [29]).
Понятно, что и этнонационализм нерусского населения («снизу»), и этнонационализм элиты «титульной нации» («сверху») не мог не породить ответной этнической мобилизации русских. Этнологи довольно единодушно признают сугубо компенсаторную природу всплеска русского этнонационализма в 90-е годы. Сдвиг к этноцентризму нерусских сограждан соответственным образом «этнизировал» русских.
Но еще важнее влияние общего кризиса и нарастания социального хаоса, для противостояния которому люди обращались к простому («естественному») и почти единственному в рамках доктрины рыночной реформы способу сплочения – на основе этнической солидарности. Быстрее всего она мобилизуется через образ враждебного иного. По данным ВЦИОМ, с 1989 по 1993 г. уровень «этнонационального негативизма» у русских вырос в 2–3 раза (с 27 до 56–75 %). Это объясняют стремлением гарантировать минимум социальной стабильности и защищенности [4].
Здесь мы не будем затрагивать программу искусственного разжигания этнонационального чувства русских с помощью непрерывных оскорблений в адрес и самих русских в целом, и русских националистов. Отдельным большим блоком в эту программу входит тема «русского фашизма». Эти оскорбления не могут быть следствием низкой квалификации ученых и журналистов, которые их применяют, даже в элементарных руководствах говорится, что это – заведомое провоцирование конфликта. Социологи отмечают: «Весьма показательна в этом смысле лексика исследователей, пишущих о русском национализме. Практически в каждой статье на данную тему можно найти арсенал психиатрических терминов типа «шизофрения», «паранойя», «бред», «комплексы» и т. п. … В действительности нет никаких эмпирических данных, свидетельствующих о том, что среди русских националистов преобладают индивиды паранойяльного психологического типа. Таких данных нет и в отношении прочих социальных движений. Напротив, существует множество исследований, опровергающих наличие однозначных соответствий между идеологией группы и личностным типом входящих в нее людей» [30].
Конечно, чувство оскорбленного этнонационализма разжигается и непреднамеренно, в том числе властями. Вот, например, как было на короткое время мобилизовано этническое чувство в связи с устранением из паспортов графы национальность. В полемике с Тишковым выступила Т.Л. Борисова со статьей под заглавием «Изъятие национальности из паспорта имеет целью разрушение России». Она пишет: «Трагичный и заранее просчитанный результат имеет изъятие из паспорта нашего национального имени – русский. Наше родовое имя «русские» последовательно и методично вытравливается из русского национального сознания… У русских их национальное имя отнимают, так появляются в прессе абсурдные фигуры – татарстанец Иванов, башкортостанец Петров, карелец Сидоров, а все они именуются Россияне – будто подкидыши из никому неведомого племени… Тут не простая игра слов в суете геополитических перемен. Ведь племенное имя для нации есть залог будущего воссоединения. Именно оно дало возможность евреям тысячелетиями сохраняться в рассеянии, оно помогло соединиться немцам. Но смогут ли узнать друг в друге родную кровь казахстанцы и россияне, прибалтийцы и приднестровцы? Нет, не смогут! И потому у разделенных сегодня русских не останется даже надежды на будущее воссоединение» [24].
В. Малахов указывает на опасность того, что примордиализм как культурная предпосылка этнонационализма запускает автокаталитический, самоускоряющийся процесс, создающий порочный круг. Возникает взаимная этнизация всех групп населения, ведущая к нарастанию напряженности. Он так видит эту порочную обратную связь: «Русские националисты хотели бы видеть Россию русской. По их представлениям, нерусские должны либо стать русскими, ассимилировавшись, либо уехать. Активисты меньшинств, в социологии зачастую называемые «этническими предпринимателями», видят в отрыве этничности от территории угрозу национальной идентичности тех групп, которые они претендуют представлять. Единственная гарантия сохранения этничности в их логике – это сохранение этнически определенного (квази)государства. Укрепление суверенитета там, где он уже есть (в так называемых «национально-территориальных образованиях»), или обретение такового, если его еще нет. Иными словами, всякому этносу нужна «своя» территория.
До тех пор, пока обсуждение проблематики дискриминации будет вестись в этноцентристских терминах – то есть не в терминах прав человека, а в терминах прав этноса, – жертвы дискриминации будут говорить на языке тех, кто их дискриминирует. До тех пор, пока защитники прав этнических меньшинств не преодолеют эссенциалистских представлений об этничности, они будут невольно служить воспроизводству того языка, который к нарушению этих прав как раз и ведет» [31].
Этнологи признают, что русский народ действительно находится перед историческим выбором – ход развития России будет в большой мере зависеть от того, возобладает ли в сознании и политической практике русский гражданский национализм или этнонационализм.
О. Неменский пытается провести беспристрастное сравнение двух альтернатив: «Перед носителями русского самосознания сейчас стоит выбор: либо строить свой национальный проект, постепенно отвоевывая у власти равноправие с народами, уже имеющими в составе РФ свои национальные образования и легальные возможности для национальной жизни, либо побороться за «изгнание Запада с Равнины», за то, чтобы убрать из сознания людей «националистическую заразу» и отстроить вновь великую Равнинную (Евразийскую) империю на старых принципах. Этот путь имеет солидную идейную традицию и активно предлагается в наши дни. Его адепты, признавая «цветущую сложность» «основным принципом евразийской философии», весьма резонно утверждают его традиционность для России. Но традиционность – не значит адекватность эпохе и тем более – билет в будущее» [32].
Таким образом, суть выбора видится как продолжение строительства, в новых условиях, гражданской нации с государственно-национальным устройством по типу Российской империи или СССР (то есть без ассимиляции и апартеида) – или построение национального русского государства («Россия для русских»), легитимированного идеологией русского этнонационализма[211].
Здесь надо сделать одну оговорку. Некоторые этнологи рассматривают еще один вариант развития России как полиэтнической системы, не сводящийся к сформулированным выше альтернативам, – мультикультурализм. Они считают возможность построения общества в духе новой доктрины США – как конгломерата разных этнических (этно-культурных) сообществ, не «сплавляемых» уже в единую нацию с помощью «плавильного тигля», но лояльных государству. В среде российских этнологов отношение к такой возможности скорее скептическое – исходя из общих соображений и, в особенности, в приложении к России. Господствующий в сознании примордиализм оставляет мало шансов удержать необходимый для соблюдения норм мультикультурализма уровень толерантности (точнее, безразличия). Он будет сдвигать все взаимодействующие группы к этнонационализму.
На это указывает в приведенной выше цитате В. Шнирельман, об этом говорит и В. Малахов: «Мультикультуралисты исходят из представления об этно-культурных различиях как всегда-уже-данных. Этничность для них – антропологическое свойство. Маркеры различия они принимают за его источник. Вот почему социальные противоречия выглядят в рамках этого дискурса как культурные» [31]. В реальных условиях кризиса России это означало бы худший вариант представления нарастающих социальных противоречий как этнических, с раскручиванием спирали межэтнической вражды[212].
О. Неменский использует в анализе «чистую» модель национального государства как абстракцию, которая не реализуется нигде, в том числе и на Западе. Но на первой стадии анализа абстракция полезна. Он пишет: «Придание Российскому государству национально-русского характера, способного сделать его «политическим органом русского народа» – это революция, это принципиальный поворот во всей истории Восточноевропейской равнины и нашего народа. Это в значительной степени разрыв с традицией. Сама по себе националистическая позиция является в корне своем западной. Она по логике своей западная – она предполагает необходимость подвести русскую жизнь под некоторые западные стандарты, под изобретенные на Западе структуры «нации»… Но сделать это нужно не для того, чтобы «стать Европой», но чтобы выжить и сохранить русскость. Вот здесь для русского националиста уже естествен принципиальный разрыв с западнической (не западной) традицией, которая как раз предполагает в отличие от западного подхода принесение русскости в жертву «европейскости» [32].
В действительности подобного национально-русского государства создано быть не может и при высоком уровне этнонационализма. Даже если отказаться от идеи России как державы и попытаться «закрыться в своем русском доме», удалив из него всех «иных», это невозможно и на деле явилось бы радикально антирусским проектом. Начав с 15 века строить именно державу (империю), русские уже не могут нигде «закрыться», даже в одном княжестве. Изначально в России возникла этническая чересполосица, и попытки в 20-30-е годы ХХ в. выделить моноэтнические даже не области, а районы, провалились.
В тех случаях, когда присоединение к России новых земель сопровождалось войной, раскрытие всей территории России присоединенному народу было непременным условием. Обратной силы это условие не имеет. Более того, это – проклятье даже колониальных держав, где никаких равных прав изначально не признавалось, а колонии находились за морями. Не может Франция «закрыться» от арабов Магриба, а Великобритания на своих островах от индусов.
Идеологи русского этнонационализма, «работающие на публику», часто ссылаются на большое численное преобладание русских в населении РФ (согласно переписи 2002 г., 79,82 %). Но между этим фактом и выводом о возможности и желательности «России для русских» – логический провал. Численность – всего лишь измеримая величина, параметр. Она сама по себе не является показателем чего бы то ни было. Чтобы параметр стал показателем (индикатором), требуется «теория» – объяснение того механизма, посредством которого данный параметр обеспечит желаемое состояние системы.
В таких сложных динамических системах, как этническое взаимодействие, показателем дееспособности этноса в достижении некоторых целей является не численность сама по себе, а численность, умноженная на ряд коэффициентов (как в химии важна не масса вещества в растворе, а активность – масса, умноженная на коэффициент активности). Всем известный пример – влияние евреев на общественную жизнь России. Очевидно, что оно определяется отнюдь не их численностью. Другой очевидный пример – тот урон, который нанесла России война в Чечне, которой заинтересованные силы сумели придать характер этнической[213].
Этнонационалистические настроения у нерусских народов РФ усиливаются гораздо быстрее, чем у русских, и нет никаких признаков, что эти народы согласятся на устройство в России государства, основанное на русском этнонационализме. С. Маркедонов указывает на очевидную вещь: «Вопрос не в абсолютных цифрах, а в степени готовности этнического меньшинства принять «русскую идею» в ее этнонационалистическом обличии. Сегодня к такому повороту не готов Кавказ, не готово Среднее Поволжье и даже Сибирь (если вести речь о Туве)…
У России сегодня нет инструментов для русификации. Из регионов Кавказа русские либо уже уехали, либо стремительно уезжают. Даже по официальным данным, в Ингушетии осталось всего 2 % русских! Вопрос: «Кто будет русифицировать окраины?»
На одном из совещаний в аппарате Южного федерального округа (еще во времена Виктора Казанцева) главным вопросом повестки дня был «русский вопрос» на Кавказе. На этом совещании чрезвычайную активность проявлял атаман Всекубанского казачьего войска Владимир Громов, который апеллировал к полпреду по поводу различных эксцессов, связанных с этническими меньшинствами. И эти апелляции исходили от представителя краевой власти Кубани, где русские являются этническим большинством (более 80 %)!» [33].
В целом, хотя русский этнонационализм жестко критикуется в основном либеральными политиками и публицистами, Маркедонов считает «русский этнонационалистический проект политически опасным для Российского государства». И главный аргумент его критики заключается в том, что «русская идея (в ее этнонационалистическом исполнении) ничем не отличается от чеченской идеи (в ее ичкерийском варианте). И в первом, и во втором случаях речь идет о приоритете «крови», а не согражданства. Следовательно, практическая реализация такой идеи не будет способствовать задаче разделения политики и этничности». Следовательно, русский этнонационализм будет не сплачивать Россию, а продолжать ее расчленение.
Тем более будет он препятствовать новому «собиранию» земель и народов, образованию союзов и других конфигураций сотрудничества народов на постсоветской пространстве. Маркедонов пишет: «В этом случае «русский этнонационализм» тем более не может быть привлекательным. Русскими вряд ли захотят стать осетины и абхазы. Да и приднестровские молдаване и украинцы готовы к получению российского гражданства, а не к смене этнической идентичности. Совершая бегство от грузинского (равно как и от румынского) этнонационализма, жители de facto государств вовсе не горят желанием принять другой этнонационализм – русский» [33].
Против скептиков выступает ряд философов и публицистов, в том числе блестящих. Они вырабатывают сильные художественные метафоры, которые обладают магическим свойством «раскрывать глаза» на причины нынешних бед нашего народа, в том числе русского. Многократно описанная этнологами высокая эффективность дискурса этнонационализма в мобилизации этничности через образ врага в какой-то мере подтверждается и опытом РФ.
Примером может служить метафора, разработанная и введенная в оборот К. Крыловым – нерусь[214]. Старое слово «нерусь», в негативном смысле означавшее нерусских людей, построено по типу слова «нечисть», обозначавшего нечистую силу. В советское время слово «нерусь» исчезло из употребления – не было такого объекта. В 2005 г. вышла книга О. Платонова «Святая Русь и окаянная нерусь. Русская цивилизация против мирового зла», где этим словом обозначается «совокупность деятельных врагов русского народа и России». К. Крылов в статье «Русь и Нерусь» [34] определил это понятие как «совокупность народов, классов, социальных групп, а также профессиональных, конфессиональных и иных сообществ, стремящихся подчинить, подавить или даже уничтожить русских как народ и Россию как самостоятельное государство». Видно, что познавательной силой это понятие не обладает, но благодаря своей размытости и эмоциональному заряду может служить эффективным инструментом в агитации.
Среди системных, концептуальных работ наиболее определенной я считаю «апологию национализма» М.В. Ремизова. Приведу здесь главные положения его текстов.
Ремизов исходит из того, что Россия – цивилизация, и в настоящий момент речь идет о задаче чрезвычайной, о способе сохранить, а затем развить цивилизационное ядро России. Из двух типов возможного для русских национализма он выбирает этнонационализм. Он пишет: «Если «открытая» цивилизационная идентичность должна стать нашим способом воспроизводить себя в пространстве, то тем с большей необходимостью этнонациональный миф о происхождении должен остаться нашим способом воспроизводить себя во времени. Я полагаю, где-то на пути сопряжения обеих осей – можно назвать их соответственно «цивилизационным фундаментализмом» и «этническим национализмом» – мы и получим жизнеспособную конструкцию «русскости» [35].
Рисуя картину распада нынешнего российского общества, Ремизов делает на этнонационализм исключительную ставку, оценивая его консолидирующий эффект несравненно выше, чем всех других «сил созидания». Для него этничность – единственный ресурс: «Я готов утверждать, что единственным ресурсом идентичности для распадающегося общества является этничность. Она имеет досовременную природу, она остается живой при крушении структур современности, которое с нами произошло, и является необходимым фундаментом для их восстановления. Поэтому в нашей ситуации никакого другого национализма, кроме этнического, не существует» [36].
Доводы, на которые опирается Ремизов в своем выборе, не кажутся убедительными. Он не проводит сравнительного структурного анализа ресурсов, которые могут мобилизовать два вида национализма в современной России. Вера в магическую силу именно этнонационализма по своему типу относится к гипостазированию – восприятию сложного понятия как реальной сущности. Из этого не следует, что такая вера не может зажечь людей и мобилизовать политизированную этничность, но очень маловероятно, чтобы возбужденная таким образом этничность стала конструктивной силой. Между тем именно в этом – суть проекта Ремизова в отличие от большинства проектов этнонационалистической мобилизации. Он надеется, что этнонационализм позволит русским создать плацдарм для дальнейшего построения уже гражданской нации.
Ремизов пишет: «Никто не отрицает, что в конечном счете нация должна состояться именно как сообщество граждан. Но сегодня мы не можем определять себя через отсутствующий элемент. Пока у нас нет такого государства, о котором можно было бы сказать «государство – это мы». Нам только предстоит его создать, и материалом, из которого оно будет строиться, являются этнические узы. Иными словами, «гражданский национализм» хорош как фиксация уже созданного национального государства, а не как программа его создания» [там же][215].
Таким образом, предлагается следующая модель процесса: просвещенная националистическая русская элита вырабатывает идеологию этнонационализма и собирает русский народ «этническими узами»; народ под руководством этой элиты строит «свое» государство взамен нынешнего; созданное на основе этнонационализма национальное русское государство принимает в качестве своей идеологии иной национализм – гражданский; на этой основе оно и собирает российскую гражданскую нацию, кооптируя в нее нерусское население.
На мой взгляд, эта модель содержит столь сильные внутренние напряжения и потребует преодоления столь высоких потенциальных барьеров при переходе от одного этапа к другому, что ее приходится считать утопической. Невыполнимым представляется уже нулевой цикл программы – институционализация организованной этнонационалистической элиты в конфронтации и со всеми другими элитами, и с государством. Сама эта «элита» сегодня – не социальное, а маргинальное явление, образ которого многократно преувеличен в масштабах при помощи СМИ. Скудость ее собственных реальных возможностей видна уже из того, что организованные этнонационалистические русские движения присутствуют на политической арене лишь до того момента, когда их теневые покровители решают «закрыть кран», чтобы положить начало другому подобному, но обновленному движению.
Почему же Ремизов идет на включение в свою модель таких рискованных переходов? Я вижу причину в ошибочной мере, приложенной для оценки состояния главных систем России, и в обедненной структуре тех связей, из которых предлагается плести «этнические узы». Ремизов считает, что у России уже нет «материала», из которого можно создать не просто этнические, но и полноценные гражданские связи русского народа – непосредственно в процессе формирования полиэтнической нации.
Он пишет: «Русский национализм обычно обсуждают как угрозу. Прежде всего, угрозу целостности нашей страны… Дело в том, что наряду с проблемой территориальной целостности, есть проблема социальной целостности. Прежде чем пугать друг друга катастрофами, нужно осознать, что катастрофа уже произошла. Наше общество распадается, и распадается так давно и неуклонно, что это уже нельзя считать временным «переходным» явлением… Симптомы социального распада в целом хорошо известны… Хозяйственная и психологическая дезинтеграция страны. На фоне реальной потери связности между коренными регионами России, их вынужденной переориентации на внешние центры развития, проблема сепаратизма этнических окраин выглядит мелкой» [там же].
С этим невозможно согласиться. Что значит «катастрофа уже произошла»? Это не более чем метафора. Катастрофа – процесс, и равнодушно относиться к назревающим в ходе этого процесса новым угрозам никак нельзя. Как можно считать «проблему территориальной целостности» мелкой из-за того, что происходит деградация социальной целостности? Ведь это неразрывно связанные между собой стороны одного процесса. Открытие в нашем кризисе еще одного «фронта» (сепаратизма этнических окраин) вовсе не поможет сборке русского народа, а резко усложнит ее.
Слишком катастрофическим, на мой взгляд, представляет Ремизов и состояние социальных отношений: «Взаимное отторжение между «элитами» и народом, напоминающее уже не вражду разных этносов, а несовместимость разных биологических видов. Так называемое «социальное расслоение», фиксируемое социологами, – лишь слабое статистическое отражение этого процесса».
Какая там «несовместимость разных биологических видов»! Это тоже художественная метафора. В России пока еще нет даже нормальной классовой ненависти, которую так ждали наши либералы. Русские люди пока что с интересом рассматривают «новых русских» как странное явление, как болезненный реванш париев, части советского «дна». Люди («народ») озабочены именно катастрофой хозяйства, природа которой пока что им неясна. Ненависти к «элите», заполучившей это хозяйство в собственность, в массовом сознании не наблюдается, потому что не видно, каким образом положение выправится, если эту «элиту» повесить на фонарных столбах. Более того, по своему видению ситуации эта «элита» не слишком сильно отличается от «народа», поэтому она не воспринимается даже как «иной этнос», не говоря уже об «ином виде». Зачем же включать в программу сборки народа идею открытия еще одного фронта – народа против элиты?
Я считаю, что апология национализма у Ремизова «не технологична». Он не анализирует альтернативы и не конструирует программу, а ограничивается именно апологией, представляя альтернативы в слегка карикатурном виде. Он пишет: «Наиболее широко пропагандируемой является концепция «гражданского национализма», противопоставляемого «этническому». Ее сторонники, как правило, признают проблему социальной дезинтеграции, с которой мы столкнулись. Но они считают, что в этой ситуации не следует делать ставку на этнические чувства, достаточно просто воссоздать эффективные современные институты. Достаточно «отремонтировать» сломанные машины социализации – школу, армию, политическую партию, наконец, сам институт гражданства – и тогда мы преодолеем катастрофу распада. Эта позиция кажется разумной. Но дело в том, что все названные институты – это именно машины, которые не создают идентичность, а тиражируют ее» [там же].
Эта важная мысль Ремизова представляется методологически неверной. Он пишет: «Геллнер говорил о том, что современные нации созданы «печатным станком», т. е. как раз машиной для тиражирования. Но печатный станок создал нации лишь потому, что на нем было, что печатать».
С этим нельзя согласиться. Печатный станок в большой мере создал то, что на нем стало печататься. Печатная книга породила новый тип чтения – как мысленного диалога читателя с автором. Книга создала читателя, человека современного общества. Так Запад стал цивилизацией книги. Нация – этническое сообщество нового типа, это сообщество людей, связанных мысленным диалогом («каждодневным плебисцитом»). Племена – сообщества людей, воображающих себя «родственными по крови», не превращаются в нацию, как бы вдохновенно не пели их Баяны.
Современный русский народ в большой мере создан печатным станком, и в советское время достраивался до нации с помощью связующей силы русской литературы, учебников, прессы. Чтобы демонтировать наш народ, в самом начале 90-х годов сразу был разрушен «русский печатный станок» (как общественный институт) – пресса, условия литературно-издательской деятельности, система распространения. Восстановление или новое строительство системы русского печатного слова – необходимая часть работы по собиранию русского народа.
По мнению Ремизова, сегодня русским необходима «мобилизующая идентичность, которую можно тиражировать», а гражданский национализм таковой не вырабатывает. Это неверно. Все «машины социализации», перечисленные Ремизовым, как раз и служат механизмами созидания этнических связей. Без их ремонта, одними только блестящими выступлениями в Интернете и на митингах, этничность не возродить. Именно в ходе «ремонта» нашей школы, культуры, армии, хозяйства и других матриц России и может сплачиваться народ – через причастность к Общему делу.
С этим и связано главное возражение всей концепции Ремизова. Он представляет этничность единственным ресурсом идентичности российского общества – но сам же признает, что это общество расколото реформой едва ли не на враждебные биологические виды. Но это его признание и означает, что связность народа (то есть его этническая идентичность) не может быть достигнута в рамках созданных реформой общественных институтов. Невозможна общая идентичность социальных групп, доходы которых разнятся в тысячи раз. Социальные противоречия в России углубились настолько, что никакой «миф о происхождении» не может связать этническими связями разошедшиеся части в прошлом единого народа.
Для восстановления таких связей необходимо изменение общественных институтов (например, отношений собственности и распределения национального богатства). Этничность и социальные отношения автономны лишь в определенной ограниченной степени, и собрать русских на платформе этнического национализма – без того, чтобы «воссоздать эффективные современные институты» – в принципе невозможно. Попытка решить национальные проблемы как чисто национальные – утопия. Нынешняя «рыночная» реформа непрерывно воспроизводит этническую ненависть и раскалывает всякие большие общности.
Еще более радикально отвергает проект восстановления главных матриц России другой идеолог этнонационализма – В. Соловей. Он считает ликвидацию в России «развитых социальных институтов Модерна» закономерной и видит в архаизации общества признак возрождения жизнестойкой этнической общности. Он пишет: «Если нам не удалось сберечь и сохранить великую страну под названием СССР, если мы пребываем на ее пепелище и на обочине мировой истории, это значит, что наши ценностные устои, старые социальные институты и культурные формы оказались нежизнеспособными и неэффективными, что они не смогли ответить на вызовы, брошенные историей. Поэтому на смену сложной и цветущей культуре закономерно пришли простые и примитивные развлечения, развитые социальные институты эпохи Модерна заменяются отношениями господства/подчинения, происходит возвращение к категориям власти и крови, взятым в их предельных, обнаженных смыслах. Слой за слоем снимается огромный пласт культуры и социальности, накопившийся со времен Просвещения. Пришедшие варвары примитивны, но и лучше приспособлены для жизни на развалинах великого Третьего Рима, они более жизнестойки» [15, с. 300–301].
Вся эта идеологическая конструкция – почти пародия на утопию «возврата к истокам», она не согласуется ни с эмпирической реальностью, ни с логикой. Сброшенные в варварство люди, живущие на развалинах, – не только не жизнестойки, но просто нежизнеспособны. Об этом прямо говорит статистика смертности и заболеваний. Сложная и цветущая культура вовсе не стала источником слабости СССР и признаком неэффективности его ценностных устоев. Да, отказали некоторые защитные системы, но в сложном дифференцированном обществе из этого никак нельзя сделать вывода о качестве всех остальных систем и институтов. Это просто глупо.
Антиимперский пафос В. Соловея логично вытекает из всей горбачевской доктрины перестройки как проекта уничтожения советского «государства-монстра». Новым в его конструкции является лишь гибридизация либерально-демократической риторики с радикальным этнонационализмом. Возможно, за этим стоит инструментализм – использование этничности как социального инструмента, средства для достижения групповых целей (см. гл. 7).
Другое дело – дискурс этнонационализма, который стали применять некоторые деятели КПРФ. Для этой партии он означает разрыв с ее философскими корнями (а значит, в большой степени и с рациональностью). Это, скорее всего, попытка укрепить свою социальную базу путем апелляции к массовому сознанию, претерпевающему некоторый сдвиг к этнонационализму. Думаю, для коммунистов попытка ошибочная.
Г.А. Зюганов, как и М.В. Ремизов, видит возможность решения национальных проблем русского народа в рамках существующего порядка – за счет вытеснения конкурирующих с ним других этносов России и постсоветских республик. Он говорит: «В кратчайшие сроки должен быть создан русский капитал – средний и малый. Русский предприниматель должен иметь возможность создавать свои малые предприятия, свои торговые места, участвовать в банковской деятельности, в эксплуатации природных недр. Разве гоже, что вся торговля в крупных городах передана в руки заезжих «гостей», которые продают ту же русскую картошку или русскую рыбу втридорога, вытеснив с рынков исконных хозяев земель» [37][216].
Представьте, лидер коммунистов требует срочно создать русский капитал, чтобы русские капиталисты могли «участвовать в банковской деятельности, в эксплуатации природных недр» (и, видимо, также и в эксплуатации трудящихся). Это можно даже понимать как возврат к марксизму, как отказ от народнической ереси Ленина. Но тогда как увязать это с этнонационализмом такого требования из того же интервью: «Русским надо вернуть по всей территории России их исконную работу, занятия. Они должны вернуться на свои заводы, продолжить выпуск умных машин, огромных турбин, гигантских агрегатов»? Но если каждый этнос должен выполнять свою исконную работу, а исконная работа русских выпуск умных машин, то зачем же им давать еще и банковскую деятельность? И какой вообще исконной работой предлагает Зюганов заняться всем остальным народам России – где им найти нерусскую рыбу «по всей территории России»?
Качество этих рассуждений неудовлетворительно во всех отношениях. Что же касается сути поднятой Зюгановым проблемы, то, ратуя за создание русского капитала, он автоматически соглашается на превращение основной массы русских в эксплуатируемую этническую общность. Это – общее правило периферийного капитализма (а также ранних стадий капитализма вообще, о чем писали уже Вебер и Зомбарт). На Филиппинах китайцы составляют 1 % населения, но они являются собственниками более половины национального богатства страны. Как правило, в развивающихся странах «экономическая власть в огромной степени сконцентрирована в руках «рыночно-доминирующего» этнического меньшинства» (см. [3, с. 57]). Иллюзия возможности преодоления социального бедствия русских путем вытеснения мигрантов – идеологическая диверсия российских «прорыночных» СМИ. Неужели интеллектуальной элите КПРФ это не известно?
А претензии этнонационализма на то, что он лучше других доктрин отвечает этническим интересам русских, ни на чем не основана. Отличие гражданского национализма от этнонационализма не в том, что он недооценивает этничность и нацелен только на воссоздание институциональных матриц. Разница в том, какие блоки закладываются в ядро мировоззренческой матрицы. Этнонационализм консолидирует народ образом врага и воспаленной коллективной памятью о нестерпимой обиде или травме, нанесенной народу этим врагом. Он обращен в прошлое. А гражданский национализм выстраивает этничность на иной мировоззренческой матрице, на общем проекте будущего. Ему, как правило, даже приходится вести борьбу против тех националистов, которые продолжают эксплуатировать черный образ «проклятого прошлого» (как это и произошло в 30-е годы в СССР).
Мы имеем перед собой программу этнонационализма, разработанную при участии специалистов высшего класса на Украине. Да, внешне она успешна и сплачивает украинцев вокруг их национального государства русофобией и памятью «голодомора». Но за этим успехом проглядывает тупик, в который втягиваются украинцы как народ. Так же в прошлом не смогли устоять против соблазна применить простое консолидирующее средство этнонационализма многие народы Африки, которые боролись против колонизаторов – и до сих пор остаются в тупике, разрываемые трайбализмом. Здесь успех технологов-конструктивистов из колониальной администрации налицо.
Понятно, что и Российская империя, и СССР исходили из иного выбора. В двух больших Отечественных войнах это позволяло сразу после завершения боевых действий демонтировать этнический образ врага и строить с народом, который был противником в войне, отношения не просто сотрудничества, но даже и дружбы. У русских в 1812 г. не культивировалась этническая ненависть к французам, а в 1941–1945 гг. – к немцам. Это сразу придавало их войнам более высокий уровень, нежели у войны между государствами.
Но нет пророков в своем отечестве, и приведем другой пример – борьбу вьетнамцев за независимость против французов, а затем войну за объединение против США. Здесь была выполнена сознательная большая программа по вытеснению этнонационализма национализмом гражданским. Вьетнамцы, ведя тяжелую войну с колонизаторами, договорились не допускать антифранцузской ксенофобии. Это был редкий случай. Когда в 1956 г. в МГУ прибыла первая большая группа вьетнамцев (500 человек) и мы, студенты, с ними общались, нас поражало именно отсутствие этнической ненависти к французам. Более того, симпатия и уважение к ним – при всех жестокостях колониальной войны. Нам объясняли, как Хо Ши Мин буквально уговаривал всех занять такую позицию. Этим вьетнамцы не только заполучили поддержку во Франции, еще важнее было их собственное чувство национального достоинства. Потом поражало и мышление следующей волны вьетнамцев, уже аспирантов, в 70-е годы – не было ксенофобии по отношению к американцам. Это помогло и в войне, и в создании в США большой вьетнамской диаспоры. Такое же решение приняли в борьбе против англичан индусы – и смогли подключиться к английской культуре, науке, языку.
С нынешнего распутья перед нами два пути. Хотим мы в программе русского этнонационализма пройти по лезвию ножа? Какие основания надеяться на успех?
Глава 35. Проблема этнической миграции и этнонационализм
Проект будущего национально-государственного устройства России и тип межэтнического общежития зависит от выбора той мировоззренческой матрицы, на которой будет происходить «сборка» русского народа и российской нации. Дилемма, перед которой стоит российское общество, более или менее четко оформилась как выбор между гражданским и этническим национализмом. В этом выборе установилось неустойчивое равновесие.
Судя по многим признакам, влиятельные силы заинтересованы в том, чтобы сдвинуть это равновесие в сторону усиления этнонационализма и ослабления национализма гражданского. В этих целях используются болезненные явления в этнической сфере, порожденные кризисом. С помощью СМИ средствами манипуляции сознанием мобилизуются политизированные этнические чувства, которые идеологически оформляются в понятиях этнонационализма.
Одним из таких кризисных явлений стала в РФ трудовая этническая миграция. Для мобилизации этнонационализма она создает исключительно благоприятные возможности потому, что связанные с нею социальные проблемы легко, почти самопроизвольно, представляются и воспринимаются как этнические.
Хорошо известно, что любой конфликт, которому удается придать форму этнического, по достижении некоторых критических точек (особенно гибели людей или актов насилия) входит в режим самовоспроизводства и автокатализа (самоускорения)[217]. Создание таких конфликтов требует очень небольших ресурсов, и эта технология отработана на огромном числе экспериментов в десятках стран. В базе данных «Dissertation Abstracts», где собрано полтора миллиона авторефератов диссертаций, защищенных в университетах США, аккумулирован огромный по масштабу исследовательский материал, посвященный этническим конфликтам. Его ядро – работы очень высокого качества.
Как развивается и интерпретируется проблема этнической миграции в РФ? Определенным этапом в развитии и понимании проблемы стали тяжелые события в конце августа – начале сентября 2006 г. в Кондопоге (Карелия).
С небольшими вариациями СМИ дали тогда такую информацию о событиях: «Серьезные беспорядки на национальной почве произошли в минувшие выходные в Кондопоге после поминок по молодым людям, убитым в драке с чеченцами в минувшую среду. Местные жители разгромили и сожгли ресторан, рынок, магазины и палатки, принадлежавшие выходцам с Северного Кавказа. Порядок в городе был наведен лишь через сутки прибывшим из Петрозаводска ОМОНом. Более ста участников погромов были задержаны. Практически все кавказцы, находившиеся в Кондопоге, эвакуировались в Петрозаводск. В субботу в Кондопоге состоялся стихийный митинг, участники которого потребовали от властей выселить всех нелегальных мигрантов из Кондопоги. Собравшиеся на митинг также потребовали взять под особый контроль и проверить причастность к различным криминальным происшествиям выходцев с Кавказа. Кроме того, митингующие приняли решение закрыть городской рынок и передать его лицам «славянской национальности» (РИА-Новости).
После этих событий довольно долгое время разные политические силы вели свою пропаганду в СМИ, интенсивные дискуссии шли в Интернете. События в Кондопоге были использованы одновременно и для усиления тезиса о наступлении «русского фашизма» (нацизма, ксенофобии и т. д.), и для пропаганды этнонационализма – как русского, так и антирусского. В целом эта идеологическая кампания усилила позиции этнонационализма и обнаружила некоторый рост его популярности, но принципиального сдвига в общественном настроении, видимо, не произошло. Полезно было то, что разные течения выложили свои аргументы и более четко определили свою риторику.
Как видятся перспективы этнонационалистического русского проекта в свете событий в Кондопоге, которые стали модельными? Не будем заострять внимание на деталях, они затемняют суть дела. Были или не были приезжие с Кавказа в Карелии «незаконными» мигрантами? Это формальность, не в ней дело. Кто начал драку в кафе «Чайка»? Это важно для следствия, но тоже не меняет сути дела. Ведь в стабильном обществе речь бы шла о драке со смертельным исходом между гражданами, о преступлении, которое совершили такие-то и такие-то лица. Теперь же речь идет о конфликте межнациональном, на митингах требуют выселения «кавказцев», то есть коллективного наказания по этническому признаку. Кафе «Чайка» подожгли не потому, что его хозяин сам совершил преступление, а потому, что это «кавказское» кафе, а «кавказцы» соединены круговой порукой. Эти конфликты «окрашены» национальной неприязнью. Откуда она и как ее будут использовать?
Главная социальная, массивная причина, которая прямо затронула более половины населения РФ, порождена реформой. Она подорвала хозяйство страны и ту плановую систему, которая не допускала региональных социальных катастроф. Она сломала и ту административную систему, которая регулировала перемещение больших масс людей по территории страны, не допускала внезапного и неорганизованного межэтнического смешения. Известно, что такое смешение неизбежно ведет к конфликтам, это определено самой природой этноса как типа человеческой общности. Вторжение в пространство такой общности большой массы «иных», не успевающих (или не желающих) следовать нормам местной культуры, неизбежно вызывает кризис, всплеск национального чувства.
Это прекрасно знали в царской России и в советское время, но это игнорировала власть реформаторов 90-х годов. Более того, эта власть все сделала для того, чтобы отвлечь людей от разумного понимания причин тех болезненных проблем, которые породила миграция. Причины эти имеют социальный характер, и любая мало-мальски патриотическая власть должна была бы объяснить гражданам, что в рамках нынешней социально-экономической системы эти болезненные проблемы людям придется терпеть. Если терпеть невмоготу, то есть два выхода – или добиться изменения социально-экономической системы, порождающей эти проблемы, или начать «молекулярную» войну всех против всех – как вариант коллективного самоубийства.
До этого выбора дело пока не дошло, и за оставшееся время надо сделать усилия для осмысления ситуации. Этнологи резонно замечают, что мигранты в России – не настолько иные, чтобы представлять социальный конфликт с ними как этнический. Приведем большую выдержку В. Малахова на этот счет.
Он пишет: «Российские борцы с этнической дискриминацией разделяют со своими западными коллегами убеждение, что основная причина ксенофобии – в неумении и нежелании слышать «другого». Корень проблемы защитники меньшинств усматривают в непризнании социокультурной «другости», «инакости». Но ирония, если не сказать – трагизм, ситуации заключается в том, что эта инакость в российском случае в значительной мере надуманна. Если иммигранты в странах Запада во многих случаях действительно глубоко отличны от местного населения (являются гражданами других государств, не владеют языком принимающей страны, имеют навыки поведения, противоречащие правилам и нормам принимающей страны), то иммигранты в сегодняшней России в массе своей – по крайней мере, взрослая их часть – бывшие «советские люди».
Они прошли социализацию в той же школе и сформировали свои ментальные и поведенческие привычки в тех же общественных институтах (армия, профсоюзы, комсомол), что и остальные россияне. Они в большинстве своем свободно владеют русским языком. Наконец, огромная их доля (выходцы с Северного Кавказа, более половины азербайджанцев, значительная часть армян и грузин, некоторая часть таджиков) – такие же граждане РФ, как и жители тех мест, куда иммигранты прибывают. Таким образом, те, кого предлагают считать «другими» у нас, «другими» в строгом смысле слова не являются (хотя известная культурная дистанция между иммигрантами и основным населением имеет место).
Другими их делает прежде всего милиция и региональные чиновники, которые специальными мероприятиями, нацеленными на сдерживание экспансии «черных», добиваются увеличения социальной и культурной дистанции между иммигрантами и обществом. И чем менее проходимы препятствия на пути интеграции иммигрантов, тем больше эта дистанция. Население же лишь фиксирует это обстоятельство как некую естественную, само собой разумеющуюся данность. Де, иначе и быть не может, «мы» и «они» – изначально другие, стало быть, обречены на противостояние… Мероприятия, осуществляемые властями по отношению к мигрантам, не могут не способствовать самоизоляции последних, а значит – их консолидации по принципу происхождения…
Так что правозащитники, сосредоточенные на правах этнических меньшинств, сами того не желая, делают одно дело с властями: способствуют распространению мифа о принципиальной «инакости» различных групп российского населения. Они начинают верить – и транслируют эту веру на массовое сознание, – что между «нами» («славянами» и «православными») и «ими» («мусульманами» и «кавказцами») существует фундаментальное «цивилизационное» отличие. В глазах москвичей и петербуржцев выходцы с Северного Кавказа начинают выглядеть приблизительно так, как выглядят выходцы из Индокитая в Нью-Йорке или в Гамбурге. Вопрос о социальной интеграции подменяется в итоге вопросом о культурной совместимости» [31].
Это верно, но не меняет дела. И милиция, и население определяют свое поведение исходя из обстоятельств кризисной ситуации и господствующих в их сознании представлений. Теоретическое знание современной этнологии на это совершенно не влияет. Группы идеологов интерпретируют реальность исходя из своих «партийных» интересов. Конечно, было бы лучше, если бы они еще и понимали, что делают и не верили в свои же идеологические мифы, поскольку большой ущерб наносится и по незнанию. Однако само по себе просвещение тоже не изменило бы ход событий кардинально – ради решения срочных задач политики применяют аргументы эффективные, а не истинные.
Беда в том, что даже преувеличивая степень «инакости» мигрантов и ошибочно принимая социальный конфликт за этнический, люди могли бы и не втягиваться в коридор этнонационализма, а сделать иной выбор и в стратегии, и в тактике. Но политические силы, даже заинтересованные в преодолении кризиса, не имеют хорошей модели объяснения процессов, представления причинно-следственных связей и предвидения хода событий при том или ином выборе.
Вот первый сбой рациональности: участники митинга в Кондопоге, а затем и все интерпретаторы событий в СМИ тщательно избегали соединения конкретного инцидента с широким контекстом массивных и долговременных процессов, идущих в стране. Отдать рынок лицам «славянской национальности»! На деле мы живем в особой системе жизнеустройства – глубоком кризисе социальных и межнациональных отношений, который в самом благоприятном случае придется еще преодолевать не менее десятка лет. Это надо понимать и в своих действиях по разрешению сиюминутной проблемы стараться не подорвать возможности разрешения проблем фундаментальных.
Часть кризиса состоит в том, что ряд регионов РФ погрузился в социальное бедствие, которое вытолкнуло оттуда массы людей в поисках заработка. Когда в русской среде оказываются приезжие русские или похожие на них чуваши, этого почти не замечают. Появление общины с Кавказа, людей с иными культурными особенностями и стилем поведения, вызывает болезненную реакцию даже независимо от сопутствующих факторов – таких, как экономическая конкуренция с местными, преступная деятельность «чужого типа» и пр. Возникает общая почва для конфликтов, и достаточно искры, чтобы он вспыхнул.
Уподобив общество организму, надо вспомнить, что даже ткани одного организма, все одинаково родные и необходимые, не должны «неорганизованно» проникать друг в друга. Когда это происходит при травме, возникает воспаление, их взаимное отторжение, чреватое гибелью организма. Даже несильный удар, вызвав излияние из лопнувших сосудов ничтожного количества собственной крови в соседние ткани, вызывает местную болезнь и ее видимое проявление – синяк. А реформа просто разорвала ткани страны, перекрутила ее сосуды и сухожилия. Мы сейчас тяжелобольная страна, и пытаться облегчить нашу боль, создавая образ врага из наших же регионов и частей нашего же большого народа – значит помогать прикончить Россию.
Социологи указывают на связь «роста ксенофобий в период «травматической трансформации» общества с разрастающимся комплексом социальных обид, принимающих, тем не менее, форму не социального, а этнически окрашенного протеста. Недоверие обществу компенсируется преданностью «своим», что нередко сопровождается ксенофобиями и враждебностью к «чужакам» [27].
Вторжение «иных» сверх критической массы всегда вызывает болезненную реакцию. Но она многократно усиливается, если и местная общность переживает кризис. Когда в доме беда, не до посторонних, их присутствие ранит. Даже благодушных иностранных туристов не хочется видеть. А ведь из районов бедствия (особенно с Кавказа) приезжают люди в далеко не лучшем состоянии – настороженные, взвинченные, озлобленные страхом и, у большинства, зверской эксплуатацией со стороны своих же хозяев. Многие из них ушиблены той антирусской пропагандой, которой промывают им мозги уже двадцать лет.
Их самосознание определяют словом «гиперэтнизм», то есть перевозбужденная этничность. Она отличается от традиционного этнического сознания в местах постоянного проживания в своей этнической среде. Это – особый культурный продукт рыночной реформы, и раз уж русский народ этой реформе не стал или не смог сопротивляться, приходится этот ядовитый продукт глотать (как и многие другие подобные продукты).
О явлении супер– и гиперэтнизма пишут, что оно связано «с культурой нового типа – плюралистичной, информационно-виртуальной, освобожденной от жесткого социального контроля, ориентированной на индивидуальное самовыражение… Подчеркиваются упрощенность, единообразие и делокализация новых проявлений этничности, конструирование и реконструирование новых традиций и образов этнического, только напоминающих старые, трансформация переработанной соответствующим образом этничности в один из продуктов массового потребления, который может быстро распространяться на рынке поп-культуры… Изобретенная традиция способна быстро снабжать человека суррогатом мировоззрения и групповой идентичностью, предоставлять свободу самовыражения, но одновременно удерживать человека под властью идеологических фантомов» [38, с. 13].
Перед нами – описание массовой душевной болезни, нового, непривычного и плохо изученного состояния целых социальных групп. Такова наша реальная обстановка – горючий и взрывчатый материал с обеих сторон. И множество бесов прыгает наготове, с запалами и керосином.
Как же в целом ведут себя в этой обстановке наши люди, вышедшие из советского строя? Они проявляют такой уровень терпимости, разумности и достоинства, какой и не снился «цивилизованным» обществам Запада. СМИ, которые раздувают миф о ксенофобии русских (а тем более преступный миф о «русском фашизме»), ведут сознательную информационную войну против России. Те интеллигенты и политики из кавказских республик, которые этот миф поддерживают, ведут войну против своих народов. Если бы русские восприняли хотя бы ничтожную долю расизма и ненависти к «мигрантам», которые пылают в сознании западного среднего класса, Россия уже была бы взорвана и забрызгана кровью и малых народов, и самих русских. Эту ценность, которой мы живы и только с которой сможем вылезти из этой ямы, надо лелеять.
Будучи в командировке на Западе (в 1993 г.), я прочитал в двух номерах подряд одной и той же газеты два таких сообщения. Первое: в Лондоне полицейские задержали и повезли в иммиграционную службу для депортации девушку из Ямайки с просроченной визой (мать ее постоянно живет в Лондоне). Рот ей заклеили пластырем, а в машине сели ей на живот и раздавили почки. Споры шли о том, отчего она умерла, – просто ли задохнулась от кляпа, или к этому добавился болевой шок. Мать склонялась ко второй версии, а полиция отвергала это обвинение и настаивала на том, что все дело в кляпе, девушка просто задохнулась. Никаких претензий к погибшей полиция не высказывала.
Через день – вторая заметка, из Голландии. В центральном парке две девочки-марокканки катались на лодке, и девятилетняя девочка выпала в воду, недалеко от берега. Ее подружка двенадцати лет прыгнула за ней и пыталась вытащить, но сил не хватало, и она стала кричать и просить помощи. На берегу собралось около двухсот любопытных граждан, кое-кто с видеокамерами. Никто не шелохнулся, и девчонка оставила подругу в воде, вылезла и побежала искать полицейского. Ребенок пробыл в воде больше часа, спасти его не удалось. Голландские законы обязывают оказывать помощь людям, терпящим бедствие, и полицейский стал требовать объяснений у зевак. Ответ был: «Эти девочки – нелегальные иммигранты» (хотя, разумеется, никто у них визу не проверял). А те, кто снимал эту сцену на видеопленку, отказались предоставить ее судье, так как в этой ситуации они были «солидарны с соотечественниками».
Подобные сообщения в 90-е годы появлялись в западных газетах регулярно. Во всех этих случаях речь шла о благополучных обществах, которые нам ставятся в пример как образец межэтнической толерантности.
В отношениях местного населения и мигрантов всегда возникает выбор: способствовать интеграции двух общностей – или их взаимной изоляции («геттоизации» мигрантов). На это и указывает В. Малахов: «Конечно, культурные различия между иммигрантами и местными жителями нельзя сбрасывать со счетов. Но эти различия для самих иммигрантов не являются основанием различения. Границы между ними и основным сообществом вовсе не определяются неким набором «объективных» маркеров (язык, религия, манера одеваться и пр.), а тем, как эти (или иные) маркеры воспринимаются, тем, какое значение им приписывается в социальной коммуникации. «Культурно далеких» переселенцев, удачно вписавшихся в экономическую структуру принимающей страны, перестают замечать, и наоборот: «культурно близкие», не интегрированные в жизнь основного сообщества, мозолят глаза большинству, воспринимаются как чужие. Этническая граница не существует сама по себе. Она всякий раз проводится заново, ибо зависит от конкретных условий того или иного общества в то или иное время» [31].
Но интеграция не идет самопроизвольно, по доброму желанию сторон. Это – «строительство», требующее творчества, усилий и ресурсов. Самопроизвольно возникает как раз «закрытость, сходная с осознанной самосегрегацией, [которая] невольно провоцирует повышенное и далеко не доброжелательное внимание окружающего общества к иммигрантам, создает потенциально опасную конфликтогенную среду» [39][218].
В Кондопоге процесс пошел по пути изоляции. В этом промышленно развитом городе есть, очевидно, структуры т. н. гражданского общества – организации политических партий (в том числе «Единой России»), профессиональные ассоциации (например, учителей), неформальные сообщества (предпринимателей и пр.). В ходе событий они никаким образом себя не проявили, не попытались вовлечь в действия по контролю за развитием конфликта умеренную часть самих этнических мигрантов. События осени 2006 г. – итог довольно длительного развития[219].
Изоляции и враждебности способствует создание негативной репутации мигрантских сообществ (независимо от того, насколько она оправдана). Поскольку это – необходимый для людей в условиях социального стресса компенсаторный механизм, устранить его «разъяснительной работой» или запретами невозможно, нужна системная программно-целевая деятельность. О том, как формируется негативная репутация, сказано: «Особую роль играет неадекватная информация о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами. Наслаиваясь в сознании на множество других факторов, она приобретает резонансный характер, интенсивно конструирует слухи и миражи о масштабах преступности, о всепроникающей силе этнокриминальных группировок и т. д. Подобные миражи устойчивы и базируются на вере людей в свою правоту» [39][220].
Ксенофобия выражается и в появлении фантастических представлений о масштабах присутствия мигрантов. Интервью («фокус-группы») с московскими студентами, черпающими информацию из СМИ (2003 г.), показали, что их оценки количества мигрантов в Москве колеблются в диапазоне от 17 до 60 % населения Москвы, причем основную часть мигрантов, по мнению студентов, составляют «кавказцы». Между тем, по данным Всероссийской переписи, население Москвы имело в тот момент такой национальный состав: 85 % – русские, 2,4 % – украинцы, 1,6 % – татары, 1,2 % – армяне, менее 1 % – азербайджанцы и т. д. по убывающей [26]. Даже если считать, что существенная часть мигрантов уклонилась от переписи, речь идет о реально небольших величинах (даже на рынках число торговцев составляет очень небольшую величину по сравнению с числом посетителей, а число посетителей рынков – лишь небольшая часть населения Москвы).
Исследования миграции и сопряженных с ней проблем ведутся интенсивно и отличаются системностью. В основном публикации исследователей приводят к выводу, что речь идет о возникновении в России нового узла противоречий и порочных кругов, причем тенденции запущенных и уже самовоспроизводящихся процессов неблагоприятны.
Вот некоторые выводы: «Анклавные рынки [труда] создают возможность быстрого накопления капитала и выступают привлекательными, высоко криминализованными социальными пространствами, действующими преимущественно в городах России, вокруг и внутри которых сталкиваются интересы многих противоборствующих субъектов… Характер конфликтов создает редкостную по своей напряженности атмосферу, в которой довольно высоки риски столкновений на межэтнической, расовой, религиозной основе. Это предопределено экономической моделью анклавного рынка, его «идеологией», которые создают «монополизацию» шансов для мигрантов, позволяют им преуспевать, эффективно защищаться от нетолерантного окружения и претендовать на статус, не соответствующий их нынешнему месту в иерархической лестнице… У тенденции нарастающего насилия есть своя экономическая, ценностная, политическая, организационная, социально-психологическая и криминальная составляющие» [39][221].
Пока что российское общество и государство не имеют ни экономических, ни культурных, ни политических ресурсов, чтобы быстро и эффективно разрешить эту созданную реформой проблему. Нет даже политической воли для того, чтобы ограничить или компенсировать контрпропагандой явно разрушительные действия значительной части СМИ и их заказчиков.
Вот вывод социологов: «В масс-медиа доминирует «язык вражды». Массированную пропаганду нетерпимости, агрессивности и ксенофобии, осуществляемую СМИ, назвали фактором проявления нетерпимости в России 40,9 % опрошенных в пяти городах России» [27]. Напряженность создается и влиятельными «интеллектуальными» передачами, например, передачей В. Познера «Времена» на 1 канале телевидения. Здесь более или менее явно звучит лейтмотивом мысль, что русскому массовому сознанию присуща ксенофобия и чуть ли не расизм[222].
Провокационный характер пропаганды проявляется уже в том, что СМИ гипертрофируют в массовом сознании уровень нетерпимости и масштабы конфликтов между мигрантами и местным населением, навязывая массовому сознанию эту тему чуть ли не как главную в нашей национальной «повестке дня», и таким образом возбуждают этноцентричную сторону этого сознания. И те же самые СМИ настойчиво представляют практически все конфликты и случаи насилия, большинство которых происходит на экономической и бытовой почве, как следствие ксенофобии и этнической нетерпимости – создавая абсолютно ложный образ «русского национализма» и даже «русского фашизма», якобы поднимающегося из недр России.
На роли СМИ надо остановиться подробнее. Вот общий вывод, в разной форме повторяющийся во многих работах социологов и этнологов: «Масс-медиа становятся едва ли не самым заметным системным фактором, провоцирующим межэтнические противостояния… Конфликтогенные публикации в печатных изданиях и соответствующие передачи в электронных масс-медиа становятся неизбежным спутником, а порой и причиной практически всех крупных межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве» [38, с. 17].
Причина в том, что новый тип информационной среды как части всей созданной в ходе реформы социальной системы России моментально делает любой локальный конфликт предметом внимания почти всей совокупности людей, которые идентифицируют себя с вовлеченными в конфликт группами. Рыночные СМИ устроены так, что они раскручивают спираль конфликта. Они многократно усиливают этническую солидарность с конфликтующими группами и подавляют солидарность гражданскую. В результате огромные массы людей превращаются в «виртуальных» участников конфликта – вне зависимости от расстояния до зоны конфликта. Ксенофобия охватывает целые регионы и придает локальному конфликту, который без этого уже был бы разрешен, широкий характер.
Осенью 2003 г. был проведен детальный анализ публикаций за три месяца десяти самых многотиражных центральных изданий – пяти ежедневных и пяти еженедельных газет (понятно, что это – ведущие «демократические» издания). Все статьи, как-то связанные с этнической темой, оценивались по степени конфликтогенности согласно классификации и индикаторам, принятым в уголовном и гражданском праве. Беспристрастный отчет об этом исследовании [42] рисует картину преступной деятельности по стравливанию народов России. Одно дело, когда на глаза тебе попалась возмутившая тебя статья, и другое дело – увидеть подборку из десяти главных изданий. Впечатление исключительно тяжелое.
Поражает подлость журналистов – не могут они не понимать, что делают. А редакторы ухитряются даже к безобидному информационному материалу придумать подлый заголовок и набрать его крупным жирным шрифтом – как в «Комсомольской правде» (4.06.2003) к статье М. Борисовой «Проституток и азиатов выгонят из Москвы». Примечательна изощренность, с которой негативные высказывания о каком-то народе вставляются в материал, никаким боком не связанный с этническими проблемами, – есть, значит, «социальный заказ».
По словам автора, «Московская правда» побила все рекорды среди десяти изученных изданий по числу публикаций, явно провоцирующих этническую вражду и ксенофобию»[223]. И качество, похоже, на уровне. Корреспондент этой газеты Э. Котляр так пишет о трудовых мигрантах: «Москва буквально переполнена людскими отбросами со всего бывшего Союза. По большей части это масса отчаявшихся, изголодавшихся, доведенных до неистовства людей, способных за ничтожную добычу перерезать горло первому прохожему… «Басмачи» буквально наводнили Москву, пользуясь ее демократическим либерализмом, и отвечают на гостеприимство лютой средневековой ненавистью и завистью к ее жителям» (цит. в [42, с. 154]). Начинаешь думать, что москвичей ждет какое-то возмездие за то, что вскормили таких «демократических либералов», как этот журналист.
И какой бред несут эти «либералы», когда начинают философствовать, какое дремучее невежество и мракобесие брызжут из-под их пера. Вот, в той же «МП» пишет И. Ефимов: «Активность приезжих парализует экономическую деятельность коренных жителей России и Москвы… То, что происходит сегодня, похоже уже на некое нашествие… вполне сравнимое с захватом и разрушением Рима варварами… И речь вовсе не о криминальном нашествии, хотя и оно очевидно, речь о столкновении с иной цивилизацией, которая сегодня пытается просто подмять и Москву, и Россию» (цит. в [42, с. 144]). При этом носителями ксенофобии те же газеты объявляют каких-то подростков!
Свою работу, разрушающую межнациональные отношения в России, многотиражные СМИ ведут упорно, не реагируя на разъяснения. После терактов, совершенных женщинами-самоубийцами, «Московский комсомолец» поучал: «А чтоб знать, кого бояться, необходимо запомнить, что шахиды это скорее всего мусульмане, молодые, одинокие, получившие религиозное образование, скорее всего женщины, лишившиеся близких родственников» (цит. в [42, с. 138]).
Приметы эти ложные. Данных о конфессиональной принадлежности смертниц газеты не имели, религиозного образования, по данным МВД, у них не было (было неполное среднее и среднее). Все они служили орудием в руках бандитов, многие были в состоянии наркотического опьянения. А главное, они действовали вопреки нормам ислама и не могли бать названы «шахидами» («борцами за веру»). На этот счет были многократные объяснения специалистов-исламоведов, а также официальные заявления духовных лидеров мусульман России.
Вот Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин опубликовал обращение, в котором призвал прекратить употреблять в отношении чеченских экстремистов религиозные термины «шахид» и «воин Аллаха», поскольку «использование этих понятий по отношению к террористам направлено на дискредитацию ислама, а эта тенденция очень опасна для нашего многоконфессионального светского государства». Спрашивается, из каких соображений многотиражные СМИ игнорировали этот призыв? Ведь это не шутки, за этим стоит важное политическое решение. На чьей стороне находятся владельцы и менеджеры этих СМИ в информационно-психологической войне, которая ведется против России?
Муфтий Чечни Ахмад Шамаев сказал о террористках-смертницах: «Коран категорически запрещает совершать подобные поступки мусульманам и тем более мусульманкам. Запрещены они и чеченскими обычаями и традициями… Те, кто посылает мусульманок совершать подобные преступления, и род их будут прокляты Всевышним до скончания века» (цит. в [42, с. 138–139]).
Газеты не могли не опубликовать эти обращения – один раз. А потом ежедневно писали, даже в тех же самых номерах, – шахиды, мусульмане…
Мониторинг десяти главных изданий показал, что не выполняются ни Федеральный Закон «О средствах массовой информации», ни законы, запрещающие пропаганду межнациональной розни, ни «Кодекс профессиональной этики российского журналиста». Объяснения, которые дают руководители СМИ, или откровенно циничны, или имитируют наивность. Когда главного редактора «Московской правды» Ш. Муладжанова спросили, несут ли, на его взгляд, журналисты ответственность за то, что они публикуют, он ответил, что журналисты «вообще немного безбашенные. Это нормальное качество, которое необходимо журналисту, иначе от него толку мало будет» [42, с. 131].
Это и есть политическая технология, поскольку Муладжанов сформулировал критерий отбора кадров для нынешних СМИ – они должны быть «безбашенными», то есть людьми, не имеющими ни знаний, ни совести, ни убеждений. «Иначе от них толку мало будет»! Из этого и видно, какой «толк» нужен хозяевам СМИ. Именно таким людям начальство может задать самую подлую и антинациональную трактовку событий. Сегодня такой журналист подстрекает подростков к убийству «кавказцев», завтра с таким же пылом требует казни этих подростков как «русских фашистов», а послезавтра обвиняет чуть ли не в фашизме и саму власть, которая приговаривает этих подростков к «слишком мягкому наказанию».
В качестве оправдания говорится о невежестве журналистов в вопросах этнических отношений. В.Р. Филиппов пишет: «Очень часто интолерантные интерпретации проистекают не из желания возмутить этноконтактную ситуацию или выплеснуть на печатные страницы собственные фобии, а из элементарного этнологического невежества, из имплицитной приверженности примордиалистской доктрине. (Чаще всего журналисты и сами не ведают о том, что они примордиалисты, как известный мольеровский герой не догадывался о том, что он говорит прозой» [43 с. 119].
Казалось бы, невежество в таких вопросах, особенно в момент острого кризиса межнациональных отношений в стране, должно было бы считаться признаком полного служебного несоответствия журналистов. Ведь они работают с опасными материалами. Представьте себе, что профессиональное сообщество врачей вдруг признается невежественным в вопросах медицины. Ведь это катастрофа для общества и государства, власть должна сразу объявлять чрезвычайное положение – ведь она выдает врачам дипломы и лицензии. Этот факт должен стать предметом политических дебатов и общественного диалога. В отношении сообщества журналистов – никакой реакции! Ни власти, ни профессионального сообщества, ни руководства самих СМИ.
Когда об этом спрашивают управляющих, они дают издевательские ответы. Вот интервью Филиппова с тем же Муладжановым, который сразу объявляет, что он противник обучения журналистов азам этнологии. Филиппов говорит: «Правительство Москвы готово (если, конечно, редакции наиболее влиятельных газет и журналов поддержали бы такого рода инициативу) обучать журналистов основам этнологии на курсах повышения квалификации. Вы бы послали своего сотрудника на такие курсы, будь они организованы за счет Правительства Москвы?» Муладжанов: «Нет. Если бы меня очень сильно попросили, может и послал бы. Но потом человек, которого я послал, приходил бы ко мне и жаловался на то, что у него нет времени… Кроме того, профессионалов-журналистов очень сложно заставить учиться, у большинства из них есть убеждение, что они знают все. В этом смысле журналисты – одни из самых невменяемых» [43, с. 117–118].
Муладжанов, возглавляя газету, которая ведет подрывную работу против России, валяет дурака. У него, видите ли, журналисты «безбашенные» и невменяемые – ну что с ними поделать! Но других он не желает, а этих на курсы ликвидации безграмотности не пошлет. Но за его наигранной наивностью – страшная для всех нас проблема. Страна отдана во власть невежественной, но злобной профессиональной группы, которая охотно выполняет роль поджигателей «молекулярной» этнической гражданской войны. Эта группа владеет мощным информационным оружием и обращает его против всего общества. А государство обеспечивает этой группе режим наибольшего благоприятствования. Положение очень сложное, и силы, которые стремятся сохранить национальный мир, должны создавать новые, нетрадиционные способы противодействия поджигателям. Пока что эти силы в отступлении.
Этнологи пишут: «Общество должно искать эффективные рычаги воздействия на те средства массовой информации, которые, руководствуясь желанием расширить читательскую аудиторию и увеличить тиражи, объективно выполняют роль катализатора межэтнической розни и этнического экстремизма» [38, с. 18]. Без помощи государства создать такие «рычаги» очень трудно, но это надо делать, учитывая опыт перестройки, когда такие попытки захлебнулись[224].
Конечно, СМИ – лишь один винтик в машине, которая блокирует процесс собирания гражданской нации в России. Но винтик важный – когда людям непрерывно «капают на мозги», это незаметно действует на сознание практически каждого человека. В целом некоторые социологи оценивают ситуацию так: «На основании анализа результатов различных исследований можно было бы заключить, что общественное мнение в России отдает приоритет ассимиляционной модели, закладывая таким образом своеобразную мину замедленного действия» [26]. Другие считают, что нет достаточных оснований видеть в «мигрантофобии» какой-то скрытый националистический проект, она может быть следствием вызванного кризисом стремления к «социальной и национальной изоляции», то есть выражать изоляционистские настроения [41]. Иными словами, в последние годы возникло неустойчивое равновесие.
Его стараются сдвинуть в сторону русского этнонационализма, как это и произошло наглядно во время событий в Кондопоге. В те дни дискуссии в Интернете в основном шли под лозунгом: «Поддержим Кондопогу!» Имелось в виду поддержать тот тип реакции, которая была проявлена в Кондопоге в ответ на инцидент со смертельным исходом, имевший этнический компонент (драка в чеченском ресторане и ее продолжение, в ответ – «символический» поджог и погром, затем митинг). Компромиссом была поддержка не погрома, а митинга с требованием «выселить мигрантов кавказской национальности из района».
По сути, митинг требовал от власти провести маленькую этническую чистку конкретного района. Это требование предполагало наказание на коллективной этнической основе, введение норм «прямой демократии» (принятия правовых решений на митингах), дискриминацию по национальному признаку («выселить незаконных мигрантов кавказской национальности», а «рынок передать лицам славянской национальности»).
В целом власти смогли перевести конфликт в спокойное русло, хотя иногда допускали в своей риторике неопределенность. Так, в какой-то момент власти Кондопоги признали допустимость рассмотрения незаконных требований митинга, а глава республики С. Катанандов говорил о «нашем народе» и «чужом народе». В свою очередь, Рамзан Кадыров в Чечне заявил о намерении защищать «своих граждан». ГУВД Иркутской области сообщило, что ОМОН проверил «частопосещаемые места Ленинского района Иркутска на предмет выявления выходцев из Северо-Кавказского региона, незаконно находящихся на территории России». Но все это были точечные сбои на фоне проявленной государственной властью медлительной устойчивости.
Поддержка требования депортации «мигрантов» означала неосознанную легитимацию расчленения РФ. Ясно, что если населению ряда регионов страны запрещается по этническому признаку передвигаться по территории государства – при том, что созданный в государстве экономический порядок не дает возможности вести хозяйство в своем регионе, – то эти регионы вынуждены и имеют право отделиться. Требование о депортации «мигрантов» надо принимать в контексте кризиса. Как уже говорилось, в 1990 г. максимальная разница в среднедушевом доходе между регионами РСФСР составляла 3,5 раза. И сейчас эта разница остается запредельно высокой (11,7 раза в 2004 г.). Запретить в этих условиях миграцию – значит вообще подорвать в ряде регионов возможность ведения того образа жизни, который принят в стране, а это и есть шаг к ее расчленению. Уже сейчас происходит быстрая архаизация жизни населения многих регионов. За время с 1990 по 2004 г. разница между регионами в розничном товарообороте на душу населения выросла от 3,1 до 27 раз и в объеме платных услуг от 3 до 53,1 раза[225].
Выполнение государством подобных митинговых требований означало бы переход от власти коррумпированной к власти криминальной, поскольку требование о депортации (граждан РФ!) и этнической чистке находится в таком конфликте с законами РФ и международным правом, что его выполнение немыслимо без сращивания властной верхушки с криминальными силами или без подчинения им.
Требования митинга и их поддержка означали важный шаг в отказе от общего языка, на котором можно вести диалог о кризисе. Очевидно, что требование депортации «кавказцев» по признаку «незаконности их миграции» есть требование демагогическое. По конституции РФ ее граждане могут проживать и вести хозяйственную деятельность на всей территории страны. Незаконно проживают в каком-то населенном пункте только те, кто пожалел денег на регистрацию (или на взятку). Кризис – состояние аномальное, и требование «выполнить все законы» в этих условиях есть демагогия по причине внутренней противоречивости законов во время кризиса. Переходя на такой язык, общество узаконивает отказ от языка, выражающего реальную суть проблем и угрозы, перед которыми мы оказались. Это – фактор углубления кризиса.
Требование этнической чистки в нынешних условиях – шаг к возникновению «молекулярной» этнической войны почти на всей территории РФ. При этом все знают, что именно в русских этнический национализм развит слабо (точнее сказать, отсутствует). Но это значит, что в молекулярной этнической войне русские будут нести неприемлемый урон. Если они и начнут мобилизоваться для такой войны, то под командованием организованной преступности, которая сама является не русской, а наднациональной. Значит, воодушевленная всплеском раскрученного этнонационализма русская молодежь будет использована в качестве пушечного мяса бандитов, ведя войну по большей части против русских и способствуя расчленению России.
После событий в Кондопоге много говорилось о том, что государство действует принципиально ошибочно – вместо закручивания гаек «потакает» преступникам. Этот вопрос надо изучать и обсуждать, с учетом того, что каждое решение здесь сопряжено с большой неопределенностью. Система противоречий, о которой идет речь, – взрывчатый материал, с которым государственная власть (даже без учета коррупции части аппарата) вынуждена обращаться очень осторожно. Требовать от нее «решительных» действий может только провокатор – сознательный или по наивности. Кроме того, нынешняя власть, связанная обязательствами «реформы», не имеет для решительных действий ни социальных, ни культурных ресурсов. Наполовину демонтированные государство и русский народ могут вылезать из этой ловушки только осторожно.
Если оценивать действия государства в целом, а не в частностях (которые всегда спорны и часто ошибочны или неэффективны), то я бы считал, что в узких рамках рыночной реформы оно действует верно. Точнее, государство действует именно по той схеме, по которой в таких случаях действуют все государства, независимо от идеологии. Первый шаг, который тоже требует времени – деполитизация возбужденной этничности. Например, в отношении большого числа чеченцев это означает вытеснение молодежи из политизированного вооруженного подполья в криминальное. Это лишает легитимности самые радикальные формы этнического подполья. Второй этап – расширение ниш для легальной хозяйственной деятельности и сужение пространства для экономической преступности, лишение подполья социальной базы. Третий этап – ликвидация остаточных очагов криминальной деятельности.
В целом и сейчас государство проходит все эти этапы. Радикализация ситуации при обсуждении событий в Кондопоге объективно была попыткой сорвать этот процесс. Пробный шар в виде погрома означал предъявление государству ультиматума: закрути гайки, а иначе мы вырвем у тебя лицензию на насилие. Но это означало бы сделать членов экономических преступных групп снова боевиками политизированных преступных групп.
Сдвиг к этнонационализму толкнул бы ход событий именно в этот коридор. Но, скорее всего, этого не произойдет.
Глава 36. Возрождение России и русского народа: проект гражданского национализма
Выше говорилось, что в выборе между этническим и гражданским национализмом как компонента идеологии всей программы новой сборки русского народа и российской нации ситуация в РФ пришла к состоянию неустойчивого равновесия. Как видятся перспективы сдвига этого равновесия в сторону гражданского национализма? Каковы в России ресурсы этой мировоззренческой концепции? Каковы у нее шансы получить активную поддержку со стороны нерусских народов?
Надежного прогноза в момент неустойчивого равновесия дать в принципе невозможно – любая талантливая провокация может привести к срыву в этнонационализм, в то время как гражданский национализм надо строить кропотливо, эмоциональные всплески его не укрепляют. Учитывая, какие интеллектуальные и творческие силы мобилизованы сегодня для срыва восстановительного процесса в России, осуществление талантливых провокаций надо считать неизбежным.
Процессы, происходящие в сфере этничности, легко складываются в системы с сильными кооперативными эффектами. В них возникает автокатализ – процесс самоускоряется под воздействием событий, становится необратимым даже если устранены причины, положившие начало процессу. Это и произошло в СССР, когда уже в начале перестройки были ликвидированы созданные в советской системе механизмы, автоматически блокирующие такой автокатализ.
Насколько трудно предсказать ход развития цепных процессов такого типа, говорит тот факт, что при постоянном и квалифицированном изучении СССР сообществом западных советологов даже ведущие этнологи, создатели конструктивистских концепций этничности, ошиблись в своих прогнозах. Автор фундаментального труда Б. Андерсон в предисловии к его изданию 2001 г. признал, что в момент первого издания (1983) он не мог даже помыслить, какая катастрофа в сфере этничности постигнет СССР.
Из этого следует, что судьба России зависит от выявления, собирания и организации всех ресурсов, которые могут направлять ход событий в тот или иной коридор. Предоставлять событиям следовать в русле «объективных законов развития» или неких «общечеловеческих ценностей» – значит заведомо позволить противнику или конкуренту добиться его целей.
На что же могут опереться сторонники гражданского национализма? Каков потенциал этого идеологического вектора в нынешней России?
Сначала – о фактической стороне дела. Судя по результатам многих исследований, проведенных в разных ракурсах, в массовом сознании первый план устойчиво занимают общегражданские, социальные проблемы. Люди в массе своей мыслят достаточно рационально, и им не требуется для размышлений об этих проблемах прибегать к понятиям этнонационализма – трактовка социальных проблем может вестись на языке гражданского национализма.
Исследователи утверждают о месте этнических (этнонациональных) проблем в иерархии вопросов «повестки дня» населения России: «Практически во всех мировоззренческих и конфессиональных группах они уступают место общегражданским, связанным с укреплением государства, защитой обездоленных слоев населения, отстаиванием гражданских прав и свобод. Данная ориентация отчетливо проявляется и в ответах на вопрос о том, кто виноват в бедах и неурядицах, постигших как страну в целом, так и лично респондентов.
Во всех мировоззренческих и конфессиональных группах опрошенные склонны связывать свое тяжелое положение, прежде всего, с конкретными политическими деятелями, находившимися у власти в течение двух последних десятилетий – М.С. Горбачевым (37 %) и Б.Н. Ельциным ((39 %), либо обвиняют самих себя (28 %). Это вполне согласуется с результатами предыдущих социологических опросов, в частности, проведенных нашим Институтом в 1995 г., в которых Горбачев и Ельцин получили самые низкие оценки своей общественно-политической деятельности среди отечественных политиков ХХ века у представителей всех мировоззренческих и конфессиональных групп» [44].
Важные результаты были получены в исследованиях В.В. Коротеевой в Татарстане и Якутии – двух республиках с «повышенным фоном этнополитической напряженности» – в 1997 г. Как сказано в выводах, большинство опрошенных, вне зависимости от их этнической принадлежности, вообще не включили национальные вопросы в «состав первоочередных» и «самым распространенным сочетанием ответов» стало «преобладание общегражданских ценностей при учете национальных» [4].
Восстановление благополучного жизнеустройства большинство видит через укрепление межэтнических гражданских сообществ, а не через этнонационализм. Этот вывод тем более важен, что именно в тот период (1997 г.), как пишут социологи, «национальная упаковка» политических процессов была «доминантой в повседневном поведении политических элит». Иными словами, массовое сознание было более гражданским, нежели сознание элиты времен реформы 90-х годов. Но за последние 8-10 лет установки и большинства элиты сдвинулись от этнонационализма в сторону гражданской лояльности.
На что опирается гражданская компонента массового сознания? Насколько устойчива эта опора? Укрепляется ли она со временем или подтачивается?
На мой взгляд, опорой является та часть советской мировоззренческой матрицы, которая сохранилась после краха СССР и программы демонтажа его народа. Именно она пока еще «держит» страну и народ, как и сохранившиеся социально-технические системы (институциональные матрицы). Конечно, под устойчивыми ядрами всех этих матриц лежат структуры, заложенные еще при формировании российской имперской нации. Но это не означает незыблемости матриц – в советское время они целенаправленно укреплялись и обновлялись, а сейчас держатся благодаря инерции и слабо организованным «молекулярным» усилиям.
Главной опорой гражданского национализма в России служат большие, массивные группы образованного («модернизированного») населения, армированные большими блоками профессиональной интеллигенции, в том числе научно-технической. Несмотря на тот урон, который нанесла этому большинству нашего населения реформа, оно в целом следует еще нормам и идеалам Просвещения и сохраняет навыки рационального мышления. Все это ослабляет воздействие на население России культурных инструментов этнонационализма и делает это воздействие поверхностным, компенсаторным. А значит, недолговременным.
Мне кажутся важными такие выводы из исследования самого организованного до настоящего времени русского этнонационалистического движения – РНЕ. Во-первых, всем документам РНЕ присуща этнизация именно социальных отношений (социального неравенства русских). Даже к своим сторонникам лидеры РНЕ вынуждены были обращаться с опорой на общегражданские ценности. Во-вторых, сами члены РНЕ постоянно оговариваются, что у них нет и не может быть претензий к представителям иных этнических групп, которые не нарушают «принятых в России» этических норм. Как пишет исследователь, «примеры, где антисемитские чувства высказывались бы вне связи с какой-либо предполагаемой дискриминацией русских, в текстах организаций типа РНЕ практически невозможно найти» [30].
Общий вывод автора таков: «Дискурс русского радикально-националистического движения должен рассматриваться как риторическое оформление политических интересов, носители которых прибегают к символическим системам «этничности» и «национальности» в борьбе за социальное доминирование» [там же]. Но это значит, что по мере обретения собственного языка и собственной современной идеологии, стороны социального противостояния в России утратят потребность в этнонационалистическом дискурсе.
Уже к концу 90-х годов лишь небольшое меньшинство нерусских народов соглашалось трактовать свои социальные проблемы в понятиях этнонационализма. В большом международном исследовании 1998 г. жителям Дагестана, Татарстана, Тывы, Кабардино-Балкарии и республики Коми было предложено утверждение-вопрос: «Экономические интересы титульного населения находятся в конфликте с интересами русских, живущих в республике». Наибольшее число тех, кто согласился с этим утверждением, было среди респондентов коми – 14,6 % (не согласилось 53,3 %). Среди татар согласилось 7,2 %, среди представителей народов Дагестана 6,3 % [45].
Чем более развитым и адекватным станет представление переживаемых в России социальных противоречий в гражданских рациональных понятиях, тем более сузится интеллектуальное пространство для этнонационалистического дискурса. Те силы в России (включая власть), которые сегодня противодействуют созреванию социального самосознания граждан, укрепляют позиции этнонационализма. Напротив, обретение гражданского национального самосознания является сегодня задачей общей, надклассовой. Она не конфликтует, а идет рука об руку с рационализацией социальных интересов всех частей расколотого российского общества.
Таким образом, «массовый тип» грамотного советского человека является потенциальным носителем и приверженцем гражданского национализма. Укрепление этого типа есть залог развития событий в России без срыва в этнонационализм. Это подтверждается тем, что, по оценкам специалистов, подавляющее большинство жителей крупных городов «совершенно равнодушно к деятельности по формированию этнической идентичности («хотя разговоры об этничности достигли невероятной степени популярности и заинтересованности, конкретные этнические коды маловлиятельны и ограничены современным секулярным дизайном повседневной жизни» [4]).
Очень показательным является опыт Приднестровья. В своем противостоянии агрессивному этнонационализму кишиневских властей руководство Приднестровья взяло курс на укрепление общегражданской идентичности населения республики, положив в ее основу советскую гражданскую идентичность. Это сразу настолько укрепило гражданские связи населения со сложным этническим составом, что можно говорить об успешном опыте становления небольшой, но развитой нации, эффективно защищающей свою государственность. Это ценный опыт для России.
В целом между гражданским и этническим массовым самосознанием в РФ установилось неустойчивое равновесие. Согласно большому опросу в 11 регионах (июль 2003 г.), в целом 62 % идентифицировали себя как граждан России, а 11 % как граждан СССР. Среди последователей ислама гражданами России считали себя 39 %, а гражданами СССР 19 % (8 % назвали себя гражданами мира и 33 % не смогли определиться) [44].
Стоит заметить, что укреплению гражданской российской ориентации до сих пор способствует инерция державного советского сознания и образ СССР. В то же время антисоветская пропаганда последних двадцати лет служит важным препятствием укрепления российской гражданской идентичности, травмируя державное чувство советского человека. Е.Н. Данилова пишет, что важный аспект «сложного процесса формирования общегражданской идентичности – идентичность с «Великой державой»… Драматизм утраты великого государства и не соответствующий ему образ нынешней России также объясняют трудности становления новой гражданской идентификации и причины живучести (особенно среди старшего поколения) идентификаций с советским народом» [46].
Политический режим В.В.Путина, фактически поддерживая агрессивную антисоветскую пропаганду СМИ, подавляет российский гражданский национализм, сдвигая равновесие в сторону этнонационализма. В этом он действует заодно с «оранжевыми» силами, ведущими демонтаж российской нации.
Эта политика власти представляется тем более ошибочной, что надежды реформаторов на то, что удастся «пересобрать» российскую нацию на «прогрессистских» либеральных основаниях, определенно рухнули. Согласно опросам ВЦИОМ, за первый срок правления В.В.Путина антилиберальные установки большинства населения усилились. Вот данные опроса 9-13 января 2004 г., а в скобках – данные января 2000 г. Из списка вариантов ответа на вопрос «Что, в первую очередь, Вы ждете от Президента, за которого Вы могли бы проголосовать?» люди на первые места поставили такие: «Вернуть России статус великой державы» – 58 % (55 %); «Обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей» – 48 % (43 %); «Вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ» – 41 % (38 %); «Усилить роль государства в экономике» – 39 % (37 %).
А.С. Панарин пишет: «Современный «цивилизованный Запад» после своей победы над коммунизмом открыл «русское народное подполье», стоящее за коммунизмом и втайне питавшее его потенциалом скрытой общинности… В тайных нишах народной общинности находил укрытие жизненный мир с его до сих пор скрытыми законами, может быть, в принципе не переводимыми на язык прогрессизма» [25, с. 243].
Советское государство оставило нам ценный опыт формирования гражданской национальной идентичности, сила которой была проверена Великой Отечественной войной. Чем дольше нынешнее государство будет игнорировать этот опыт, тем дольше продолжится нынешний разрушающий страну и народ кризис. Сегодня даже совершенно чуждый апологетике СССР аналитик пишет о предвоенных годах: «Нужен был долгосрочный символ, понятный народу. Таким символом к началу Второй мировой войны снова стала страна, держава, империя. Сталин отказался от интернационализма в пользу державности и стал самым могущественным русским императором в истории. Надеюсь, ни у кого не повернется язык назвать его императором грузинским. Он такой же грузин, как Екатерина II – немка, а Пушкин – эфиоп» [47].
И речь здесь идет вовсе не только о формировании лояльности к общему государству. Советский строй за сравнительно короткий срок выработал во всех народах СССР (и даже у всех народов социалистического лагеря) устойчивую и фундаментально сходную систему ценностей – даже независимо от наличия других, конфликтующих ценностей, которые в момент перестройки взяли верх. Долговременная политика должна строиться не на конъюнктурных успехах, а на чаяниях людей, то есть на фундаментальных ценностях. Идеологическая работа по дальнейшему разрушению советской системы ценностей – стратегическая ошибка нынешней российской власти. На этом пути власть подрывает возможность построения гражданской нации.
Представляют интерес ценностные установки народа, в котором к началу 90-х годов произошла едва ли не самая интенсивная мобилизация этничности, политизированной на антисоветской основе – эстонцев. В 1991 г. был начат большой исследовательский проект международного коллектива ученых из 12 стран по изучению представлений о социальной справедливости в разных культурах. Сравнительное исследование в России и Эстонии, двух частях СССР с весьма разными культурными установками, показало поразительную схожесть в отношении к уравнительному принципу. В этом смысле русские и эстонцы стали именно частями советского народа.
Вот что пишут авторы исследования: «Известно, что характерной чертой социализма являлась патерналистская политика государства в обеспечении материальными благами, в сглаживании социальной дифференциации. Общественное мнение в обеих странах поддерживает государственный патернализм, но в России эта ориентация выражена несколько сильнее, чем в Эстонии: 93 % опрошенных в России и 77 % в Эстонии считают, что государство должно обеспечивать всех желающих работой, 91 % – в России и 86 % – в Эстонии – что оно должно гарантировать доход на уровне прожиточного минимума» [48].
В ходе реформы в Эстонии дела шли относительно лучше, чем в двух других балтийских республиках, Латвии и Литве. Но ведь и в среде эстонцев оценка советской системы в целом улучшалась. Уходило в прошлое состояние политического возбуждения – и начинали действовать именно фундаментальные ценности. Вот сравнительно недавние результаты исследования, посвященного отношению народов бывших прибалтийских республик СССР к советскому жизнеустройству:
Источник: Baltic Media investigaciones. Transition. Tartu University Рress. 2002, р. 270 (цит. в [49]).
Это исследование показало, что латыши, литовцы и особенно эстонцы приспособились к новым экономическим условиям (хотя нынешнюю экономику в 2000 г. отрицательно оценивали 51 % латышей и 70 % литовцев). Но оценка советской системы как целого выросла во всех этих республиках. Изменения в настроениях, которые последуют за интеграцией этих республик в Европейское сообщество, принципиально не меняют дела – это политическое решение Запада не касается подавляющего большинства советских людей.
А.С. Панарин в своей последней книге делает принципиальный вывод: «Сегодня не может быть сомнений в том, что большинство людей, некогда составлявших советский народ, ни за что не отдало бы свою страну в обмен на тот строй и тот социальный статус, которые они в результате получили» [25, с. 111].
Даже если считать это утверждение политическим преувеличением, прагматическая государственная власть не должна игнорировать подобные предупреждения, тем более что сам Панарин пришел к этому выводу, пройдя через антисоветский соблазн и взглянув на установки советского народа «с обеих сторон».
Если учесть, что для сборки российской нации важны даже не политические установки, а именно ценностное ядро мировоззренческой матрицы, то становится обязательным учет большой работы по составлению «карты» ценностных ориентаций разных культур. Эти исследования показали высокую устойчивость «советских ценностей» и их актуальное значение в формировании «культурной карты» мира. Выводы из этого исследования приводятся здесь из работы, посвященной ценностным сдвигам в Восточное Европе, но это дела не меняет. Речь идет о воображаемой культурной карте мира, составленной Р. Инглехартом по материалам «всемирного исследования ценностей: 1995–1998 гг..» [50]. Карта эта составлена под углом зрения либеральных «ценностей самовыражения», от места максимальной локализации которых удаляются культуры с традиционными ценностями.
Об этой карте говорится: «Значимость ценностей «самовыражения»… во второй половине 1990-х годов минимальна для стран православной культуры, выше для католической Европы и самая высокая – для стран Европы протестанской (Западная Германия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Швеция) и англоговорящих стран (Великобритания, Канада, США).
Характерно, что на этой карте среди культурных зон, соответствующих границам локализации важнейших мировых религий, присутствует в качестве самостоятельной, с присущим ей сочетанием культурных параметров, обширная посткоммунистическая культурная зона. Как показало глобальное исследование американских специалистов, появление и крах социалистической системы явились центральным историческим событием ХХ в. Они оставили отчетливый отпечаток в сознании народов, входивших в эту систему, в их ценностных ориентациях.
Так, например, Восточная Германия размещается на карте на самой границе двух зон – посткоммунистической, к которой ГДР принадлежала на протяжении четырех десятилетий, и протестантской Европы, к которой относится Западная Германия. Несколько отстоит от остальных стран и католическая Польша с характерным только для нее перевесом ценностей, классифицируемых как традиционные. Остальные из исследованных посткоммунистических стран, включая конфуцианские Китай и Северную Корею, мусульманский Азербайджан, локализуются на карте довольно близко друг от друга, в одной части культурного спектра. Такого рода локализация свидетельствует об общности ценностных систем рассматриваемой группы народов, сложившейся в предшествующий период, но сохранившейся и спустя десятилетие после его завершения» [51, с. 166].
Если же мы от Прибалтики, Азербайджана и ГДР вернемся в Российскую Федерацию, то здесь устойчивость и связность ценностных ориентаций народов, которая и служит предпосылкой гражданского национализма, окажется еще более очевидной. Исследования, проведенные в разных республиках, дают очень сходную картину. Вот вывод сравнительного исследования установок русских и хакасов в Хакасии (2002–2003 гг.): «Из ответов респондентов прослеживается большое сходство ценностей русских и хакасов… И хакасы, и русские отдают предпочтение коллективистским началам перед индивидуалистическими; в их миропонимании необходимыми для прогресса этносов и республики выступают коллективизм, взаимопомощь, усиление роли государства в регулировании рыночных отношений, развитие государственной и коллективной форм собственности… Словом, в менталитете хакасов и русских имеются общие типичные евразийские черты, достаточно устойчивые, несмотря на рыночные трансформации, проходимые в России. И с этими чертами реформаторам (властям предержащим) следовало бы считаться» [52][226].
Если же от Хакасии переместиться на Урал, в Удмуртию, то здесь никаких ценностных различий в сознании русских и удмуртов вообще не фиксируется. Для респондентов несомненна их этническая идентичность как удмуртов, но это – результат самосознания, который не сводится к определенным отличиям мировоззренческих установок[227]. Согласно выводу социолога (на основании исследования 2003–2004 гг.), в Удмуртии «этничность не существует за пределами символической сферы и осуществляется только в языке» [53]. Таким образом, удмурты, определенно сохраняющие свое этническое самосознание и символическую сферу (язык, этническое имя, историческую память и предание), в то же время на деле не имеют никаких препятствий, чтобы принадлежать к гражданской российской нации. Однако конструктивистская программа по демонтажу этой нации и мобилизации этноцентристского сознания среди удмуртов вполне может толкнуть их образованную молодежь к этнонационализму.
На тот факт, что задача создания гражданской нации не имеет институциональной поддержки, обращают внимание социологи. О положении в Республике Коми сказано: «Очень важное значение может и должна играть целенаправленная политика гражданской консолидации, которую призваны проводить региональные власти. В Коми, где для этого есть много исторических и культурных оснований, такая политика в должной мере, на наш взгляд, еще не проявляется. В результате социально-профессиональная и территориальная дифференциация населения накладывается на этническую и ведет к фрагментации республиканского сообщества» [45][228].
Говоря о том, как по прошествии 15 лет реформы видится шкала ценностей советского человека, А.С. Панарин пишет: «Чем больше исторически удаляется этот человек от нас, тем крупнее, масштабнее выступает его фигура… Крайности либерального отрицания этого типа выглядят все менее убедительными, и к советскому человеку приходит историческая реабилитация» [25, с. 135]. Этот вывод должен быть принят во внимание при выработке всего проекта российского гражданского национализма.
Что же касается этнонационализма, то его приверженцы не признают, что в ходе советской модернизации произошел тот синтез русской национальной идентичности с рациональностью Просвещения, на который указывают многие авторы (включая А.С. Панарина). М. Ремизов пишет: «Русские – это развитый этнос, который пока не научился устойчиво тиражировать, воспроизводить себя в матрицах современного общества – через массовое образование, СМИ, призывную армию, национальную бюрократию и так далее. Тот опыт модерна, который у нас был в советский период, к сожалению, не был опытом актуального оформления русской идентичности… Наша «этничность» и наш «модерн» не состыковались в единое целое. В результате, сегодня мы как нация недооформлены. И именно поэтому мы нуждаемся в национализме как целенаправленной деятельности» [36]. На это можно ответить, что мы действительно нуждаемся в национализме для достраивания нации, но в национализме именно гражданском, а не этническом – как в варианте этнонационализма постмодерна, так и в его нынешнем регрессивном варианте антимодерна.
Возврат на ту историческую траекторию, по которой и шло развитие национально-государственного устройства России в царское и в советское время, обсуждается как альтернатива вполне понятная и привычная. Новым является лишь отказ от характеристики складывающейся полиэтнической российской общности как народа. Эта характеристика была данью той сословной и советской идеократии, которая стремилась подчеркнуть небуржуазный тип нашей государственности. Но в действительности это ограничение давно отпало – такие цивилизации, как Китай или Индия, пройдя через революции, успешно приспособили для себя понятие наций, нисколько не отождествляя их с нациями – порождением западного капитализма.
О. Неменский, весьма беспристрастно сравнивая перспективы государственного строительства России на основе этнонационализма или гражданского национализма, так оценивает второй вариант: «Государство Российское никогда не было государством русских. Оно всегда было определенной формой политической организации пространства Восточноевропейской равнины, весьма целостной географически, прекрасно связанной разветвленной сетью рек-дорог и не имеющей каких-либо естественных преград на всем своем протяжении, а главное – заселенной многими народами очень разного происхождения, языков, культур, религий и антропологических типов. Всем этим народам суждено было самим пространством как-то уживаться друг с другом и сплачиваться перед лицом гигантских и сокрушительных нашествий извне, которые здесь нередко лавиной прокатывались по всей равнине. Даже самая яркая из существующих здесь границ – между лесом и степью – не меняла, а скорее только усиливала многонародный характер гигантских равнинных территорий по обе ее стороны, а с объединением Леса и Степи в одном государственном организме в Новое время это свойство усилилось еще более.
«Нация» – она хотя и плод развития Запада, и чужда русской «равнинности», но сама по себе эта идея технологична, то есть способна адаптироваться к разным культурным средам, совсем не обязательно превращая все в «Запад». Именно технологичность этой идеи может позволить нам заимствовать ее, не разрушая своей культуры. Как заимствовали мы и другие технологии. Автомобиль изобрели на Западе, но ездить на нем стоит и русским, более того – он в наше время необходим русскому народу, хотя и не традиционен для него как средство передвижения. Национализм и нация – это технологии, которые мы планируем заимствовать с Запада для конкурентной борьбы за выживание с Западом… Технология не самоценна. Она – лишь способ выжить в определенную эпоху и при определенных геополитических реалиях. Она – инструмент, который может позволить нам сохранить тот огромный фонд исторических традиций, которые объединяет в себе имя Русское, и только как таковая имеет смысл» [32].
Как показали исследования этнического сознания в большинстве «национальных» республик РФ, их население в основном принимает идею создания российской нации на основе лояльности к общему государству (выводы из ряда таких исследований приводились выше). С. Маркедонов усиливает этот тезис, утверждая, что на такой основе войти в российскую нацию готово даже большинство чеченцев – народа, в котором сепаратистские настроения позволили заинтересованным силам разжечь тяжелую мятеж-войну.
Он пишет: «Политическая лояльность (лояльность через согражданство и политический национализм) принимается даже представителями самых «проблемных» этнических групп России. В этой связи весьма показательна формула, выдвинутая чеченским политологом Шамилем Бено, экс-министром иностранных дел дудаевской Ичкерии: «Все мы, независимо от того, как нас зовут – Шамиль, Иван, Исаак и т. д., – должны считать себя в первую очередь гражданами России. Первичная идентичность должна быть гражданская, а затем уже по культурной принадлежности – русский, чеченец, армянин, еврей – в своем быту». И уж гарантировано то, что русскими себя они ощущать не будут никогда. Как бы нам того не хотелось!
Значительная часть полевых социологических исследований в чеченских общинах за пределами Чечни (Волгоградская, Астраханская, Ростовская области) говорит о том, что именно Россию считают своей родиной подавляющее большинство респондентов. Т. е. кабардинцы, чеченцы, татары, тувинцы готовы быть лояльными российскими гражданами и служить России, но при этом не готовы к русификации и признанию русских высшим российским этносом.
Превращение представителей «плохо вписавшихся» этносов в лояльных российских граждан не может быть успешно проведено через простое игнорирование их этнической принадлежности. И уж точно русификация не может стать инструментом их интеграции в российское сообщество.
Для государства, желающего сохранить себя в нынешних границах, абсолютным приоритетом является интеграция, а не ассимиляция и насильственная русификация. А значит оптимальная российская национальная политика – это не строительство «русского государства», а формирование политической нации (определяемой как гражданское сообщество, а не биологическое явление).
Все имперские государства распадались тогда, когда этнический национализм набирал обороты. Сохранение же крупных держав стало возможно лишь на основе не этнического, а политического национализма. Такой подход вовсе не отрицает этническую принадлежность и не зовет сменить ее на политическую» [33].
Но что значит «интеграция, а не ассимиляция и насильственная русификация»? И что значит при этом «не менять этническую принадлежность на политическую»? Это как раз и значит вернуться к тому типу национально-государственного устройства, который вырабатывался в Российской империи и в СССР. Это собирание полиэтнической гражданской нации без устранения самобытности каждого отдельного народа – как русского, так и нерусских[229].
Многие считают, что речь идет о возрождении империи. Это понятие, как и понятие нации, весьма многообразно и должно применяться с уточнением контекста. Да, Россия и СССР были империями в том смысле, что существовало ядро – русские как имперская (державная) нация – которое и определяло главные культурно-цивилизационные признаки всего общества. Но в то же время эта империя была семьей народов, в которой ядро не высасывало ресурсы периферии, как метрополия ресурсы колоний.
С. Лурье, также отстаивая альтернативу собирания гражданской нации, делает упор на том, что критическим условием успеха этого проекта является собирание и укрепление именно русского народа как ядра нации. Она пишет: «Русские должны выработать новую модель государственности, в которой сценарий «дружба народов» мог бы реализовываться. Для его реализации же необходимо, чтобы русские могли выполнять в нем свою особую роль – харизматического лидера. Причем это харизматическое лидерство должно удовлетворять русских, дать им ощущение, что они несут народам истину, то есть основать новую Империю. Оно должно удовлетворить и другие народы, не в том смысле, что последние тут же признают эту истину истиной, а в том, что она будет приемлема для них как государственная идеология, они сумеют к ней приспособиться и найти в ней или в каком-то из ее фрагментов опору для себя.
Ответ может быть таким: существует прекрасная модель межэтнических отношений, но еще не сложились удовлетворительные модели внутрирусских отношений, одновременно и высокоадаптивные, и осмысленные, имеющие под собой надежное идеальное основание. Предшествующие модели разрушены и отошли в прошлое, а без формирования моделей внутриэтнического взаимодействия не сможет произойти реструктурирование русского этноса, необходимое для собирания народов и восстановления Российской империи. Без них Россия не станет ни экономически, ни технологически, ни военно-стратегически развитым государством. На основании русской культуры должна выработаться новая поведенческая парадигма, которая станет основой для новой русской идентичности и формировании на ее основе новых культурно-цивилизационных принципов» [54].
В заключение надо лишь сказать, что любая из альтернатив построения независимой и сильной России – и на платформе этнонационализма как Русского государства, и на основе гражданского национализма как новой имперской «семьи народов» – требует в качестве первого критического этапа радикального подавления политических сил, продолжающих демонтаж русского народа и системы межнационального общежития в России. Одновременно с этим произойдет и усиление конструктивной работы по сборке русского народа на обновленной мировоззренческой матрице.
Литература
1. С.Г. Кара-Мурза. Потерянный разум. М.: Алгоритм. 2005.
2. М. Фенелли. «Век ХХ и мир». 1991, № 6.
3. А.Й. Элез. «Этничность»: средства массовой информации и этнология. – В кн. «Этничность, толерантность и СМИ». М.: РАН. 2006.
4. О.Г. Буховец. О временных ресурсах постсоветского этнонационализма. – ПОЛИС. 2005. № 2.
5. Л. Ионин. Философия национальности: перестройка и национальные проблемы. – «Новое время». 1989, № 1.
6. А. Уваров. Русское национальное самосознание. М.: ИТРК. 2000, с. 26.
7. Дм. Ивашинцов – .
8. В. Малахов. Преодолимо ли этноцентричное мышление? – В кн. «Расизм в языке социальных наук». СПб: Алетейя, 2002 (httр://).
9. Ю.В. Бромлей. Очерки теории этноса. М., 1983.
10. В.А. Шнирельман. Очарование седой древности: Мифы о происхождении в современных школьных учебниках. – «Неприкосновенный запас». 2004, № 5.
11. Г. Федотов. – «Новый мир». 1988, № 7, с. 185.
12. Н.А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 1990.
13. И.Л. Солоневич. Народная монархия. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
14. Н.А.Моисеева, В.И. Сороковикова. Менталитет и национальный характер. – СОЦИС. 2003, № 2.
15. В. Д. Соловей. Русская история: новое прочтение. М.: АИРО-XXI. 2005.
16. Э. Кисс. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические процессы. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука. 1994.
17. Дж. Комарофф. Национальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ века. – В кн. «Этничность и власть в полиэтнических государствах». М.: Наука, 1994.
18. С.В. Чешко. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. М., 1996.
19. Ст. Пинкер. Язык как инстинкт (Пер. с английского). М.: УРСС. 2004.
20. О.Ю. Малинова. Либерализм и концепт нации. – ПОЛИС. 2003, № 2.
21. С.А. Токарев. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа. 1978. С. 257.
22. В.А. Тишков. Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе. – Вопросы философии. 1990, № 12.
23. Г. Гусейнов, Д. Драгунский, В. Сергеев, В. Цымбурский. Этнос и политическая власть. – «Век XX и мир», 1989, № 9.
24. «Этнопанорама». 2001, № 2.
25. А. Панарин. Народ без элиты. М.: Алгоритм-ЭКСМО. 2006.
26. О.В. Щедрина. Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в России. – СОЦИС. 2004, № 11.
27. В.И. Мукомель. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии). – СОЦИС. 2005, № 2.
28. В.А. Тишков. О российском народе. – «Восточноевропейские исследования». 2006, № 3.
29. Д.Д. Амоголонова, Т.Д. Скрынникова. Пространство идеологического дискурса постсоветской Бурятии. – ПОЛИС. 2005, № 2.
30. М.М. Соколов. Классовое как этническое: риторика русского радикально-националистического движения. – ПОЛИС. 2005, № 2.
31. В. Малахов. Культурный плюрализм versus мультикультурализм. – «Неприкосновенный запас». 2002. № 5.
32. О. Неменский. Уход с Равнины. – httр://www.aрn.ru, 05.04.2006.
33. С. Маркедонов. Интеграция, а не русификация. – httр://www.aрn.ru/рublications/article10711.htm (23.10.2006).
34. К.А. Крылов. Русь и Нерусь. – Русский журнал. 7.10.2003 (httр://.рhр?idar=310059)
35. М. Ремизов. Национализм умер, да здравствует национализм! – httр://рelag.ru/geoculture/new_ident/geocultruss/nationalism/
36. М. Ремизов. Апология национализма. – www.aрn.ru/рublications/article11011.htm (27.11.2006).
37. Г. Зюганов. Уверен в победе. – «Советская Россия», 25.08.2003.
38. Введение. – В кн. «Этничность, толерантность и СМИ». М.: РАН. 2006.
39. А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов. Этнические группы мигрантов и конфликты в анклавных рынках труда. – СОЦИС. 2005, № 8.
40. httр:///.
41. Е. Вовк. Кого и в чем подозревают россияне. – В кн. «Социологические наблюдения (2002–2004). М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 2005.
42. Е.О. Хабенская. Этнические стереотипы в СМИ: ксенофобия и толерантность. – В кн. «Этничность, толерантность и СМИ». М.: РАН. 2006.
43. В.Р. Филиппов. Противодействие ксенофобии в средствах массовой информации. – В кн. «Этничность, толерантность и СМИ». М.: РАН. 2006.
44. М.П. Мчедлов, Ю.А. Гаврилова, А.Г. Шевченко. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия. – СОЦИС. 2004, № 9.
45. Ю.П. Шабаев. Территориальное сообщество и этнические воззрения населения коми. – СОЦИС. 2004, № 11.
46. Е.Н. Данилова. Россияне и поляки в зеркале этнических и гражданских идентификаций. – «Восточноевропейские исследования». 2005, № 1.
47. И.К. Лавровский. Странострой. – «Главная тема». 2005, № 4.
48. Информационный бюллетень ВЦИОМ «Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения». 1996, № 6.
49. Р.Х. Симонян. Страны Балтии: этносоциальные особенности и общие черты. – СОЦИС. 2003, № 1.
50. R. Inglehart, W.E. Baker. Modernization, cultural change, and the рersistence of traditional values. – «American sociological review». 2000. Vol. 65, № 2.
51. Н. Коровицына. С Россией и без нее: восточноевропейский путь развития. М.: ЭКСМО-Алгоритм. 2003.
52. А.С. Логачева. Хакасия – восприятие населением новых условий жизни. – СОЦИС. 2005, № 9.
53. С.В. Кардинская. Удмурты об этнической идентичности (опыт пилотажного исследования). – СОЦИС. 2005, № 5.
54. С. Лурье. Размышления над притчей о слоне. Теоретические подходы к исследованию национализма. – В кн. «Монологи из «Тюрьмы народов» (httр://svlourie.narod.ru/).
Заключение. Что делать?
Продолжая движение по пути, заданному реформами Горбачева и Ельцина, Россия погрузилась в кризис столь глубоко, что речь уже может идти лишь о революционном разрыве сложившихся порочных кругов.
Под революционными действиями здесь понимаются целевые программы, направленные на быстрое и глубокое изменение общественных институтов, которые в ходе реформы были настроены (или «самонастроились») на демонтаж российского народа и институциональных матриц жизнеустройства России. Тип и технология таких революций – тема особого разговора.
Если этот революционный проект будет выполняться в режиме взаимодействия, а не противодействия с властью и государственным аппаратом, то кризис будет преодолен без тяжелых потрясений. В ином случае произойдет столкновение разных частей общества с властью и между собой – и мы пройдем через новый виток хаоса.
Граждане, не приемлющие утраты государственной, экономической и культурной независимости России, составляют подавляющее большинство населения. Но оно расколото и не организовано, наш народ был «демонтирован», рассыпан за годы реформы. Однако сообщество граждан, имеющее черты российского державного народа, может быть возрождено за короткий срок. Оно уже почти созрело для этого и ждет лишь «затравки», идейной и организационной матрицы, чтобы пошла его кристаллизация и сборка. Это большинство составляет рыхлую, но общность – независимо от социального положения, возраста и национальности входящих в нее людей. Раскол в России прошел в основном не по этим линиям раздела – барьеры, возникшие на этих линиях, преодолимы.
Выработка «проекта будущего» и выход из нынешнего кризиса будут происходить по мере новой сборки народа из большинства населения при восстановлении его культурного и мировоззренческого ядра. Уже очевидно, что это восстановление мировоззренческого ядра будет происходить с преемственностью исторического цивилизационного пути России. Либеральной Реформации России (по типу протестантской Реформации в Западной Европе) не произошло. И либерализм, и демократия, и рынок будут строиться в России на существенно иных основаниях, нежели на Западе, как это происходит и во всех иных цивилизациях, уцелевших после экспансии Запада в Новое время.
Для этого восстановительного проекта необходимо принципиальное обновление политической системы государства с появлением организационных форм (партий и движений), построенных исходя не из классового, а из цивилизационного подхода. Эти организационные формы должны быть адекватны современному историческому вызову России как цивилизации. Язык, программы, способ действия и организация политических сил, взявшихся за такой проект, должны соответствовать тем угрозам России, которые вызрели в ходе современного кризиса.
Партии, то есть «части», есть порождение классового гражданского общества. Они представляют интересы разных социальных групп в «войне всех против всех», ведущейся в цивилизованных рамках. Во время горбачевской перестройки правящие круги, начавшие демонтаж СССР, пытались создать многопартийную систему, которая «нарезала бы» наше общество по социальным интересам. Это не удалось, реально мы имеем два «слепка» старой, неклассовой КПСС – «Единую Россию» и КПРФ, а также третью псевдопартию столь же неклассового характера – ЛДПР.
Партии, возникшие как действительно буржуазные и проникнутые классовым сознанием (СПС и Яблоко), сникли и тоже сдвигаются к «надклассовому» типу. В целом вся эта созданная по западному шаблону система партий ответить на исторический вызов не смогла и, как уже видно, не сможет. Эти партии говорят на языках, не способных выразить суть нашего кризиса. В ходе опросов 2000–2003 г. наблюдалась устойчивая тенденция сдвига массового сознания к идее «департизации» общества – к концу этого срока свыше 72 % опрошенных либо отказывались определить свою позицию в рамках существующего политического спектра, либо затруднялись с самоидентификацией.
Это значит, что происходит стихийное преодоление раскола общества и многопартийного разделения, группы населения опять стягиваются в народ. Создание в РФ большого движения («квази-партии») цивилизационного типа возможно и необходимо. Такая партия «нового типа» не устранит уже готовые партии, а будет «пронизывать» их, собирая из них всех активных граждан, одинаково относящихся к тем угрозам, которые встали перед Россией как целым. Это движение и станет организационной основой, на которой соберется и обретет самосознание этот народ. Будучи собранным на мировоззренческой основе, выработанной в русской культуре и культуре народов России в целом, с их представлением о мире, человеке и справедливости, это движение не может и не будет иметь никаких генетических связей с расизмом и фашизмом.
Массы людей ждут такой возможности, и при появлении «зародышей кристаллизации» такого движения, издании первых его программных документов процесс его наполнения пошел бы очень быстро. Наш исторический опыт показывает, что в критические моменты именно политическая сила, собравшаяся для преодоления угрозы народу, угрозы цивилизационного типа, находит в России массовую поддержку и оказывается способной соединить его для Общего дела. Мы имеем опыт такой «сборки». Большевики в их «почвенной» части, выступая под классовыми лозунгами, на деле разрешали цивилизационное противоречие первой трети ХХ века. Именно поэтому и наши, и западные либералы и троцкисты при всей их взаимной вражде по социальным вопросам питают общую ненависть к большевикам – за то, что им удалось «собрать» в Советском Союзе народ, который смог провести модернизацию страны и отразить новое «тевтонское нашествие».
В нашем кризисе тесно переплетены социальное и национальное. Преодоление патологической социальной несправедливости, которая травмировала большинство населения России, предотвращение назревающей хозяйственной и культурной катастрофы возможны только через программу, одновременно и совместно разрешающую социальные и национальные противоречия, через восстановление России как целого. Народы собираются не декларациями, а восстановлением всего множества хозяйственных, социальных, культурных связей между людьми, областями, народностями.
Сборка из раздробленных частей нашего общества нового тела большого народа сделает возможным мирный разрыв нынешнего порочного круга. Обладая своей политической организацией, этот народ сможет спокойно и уверенно вести диалог с космополитической частью общества, желающей растворения России в периферии Запада. Так мы избежим назревающего разрушительного столкновения «бедных» и «богатых». Такую мирную революцию возрождения может совершить только народ, а не класс. Этот шаг лишит силы паразитическую олигархическую надстройку, что облегчит разрешение и социальных противоречий внутри нашего общества.
Создание такой «партии» изменило бы ход событий. Была бы снята опасность погружения России и братских народов в новый период массовых страданий. Власть, получившая реальную поддержку и в то же время подвергнутая гражданскому давлению, смогла бы (и была бы вынуждена) прекратить идущее и сегодня разворовывание последнего достояния страны, постепенно восстановить суверенитет и хозяйство России. Это предотвратило бы разрушительные «ползучие» социальные конфликты.
Интеллектуальные силы для этого проекта созрели, технические средства имеются. Если власть Российской Федерации станет подавлять зародыши подобных инициатив, то этот исторический шанс будет упущен, а следующая попытка будет совершаться уже в ходе и после «оранжевой» революции, с большим риском гибели государственности.
Если будет убедительно показано, что программой движения является не консервация нынешнего состояния РФ, а выход из тупика через «революцию без катастрофы», то его поддержат большие доли всех общественных групп. Опыт ХХ века и осмысление нынешней смуты позволит нам избежать фатальных ошибок классовых партий в момент, когда выживание народа требует Отечественной войны, тем более нового, необычного типа – войны на фронтах идей, нациестроительства и социальных технологий.
Примечания
1
Только за период с 1980 по 1995 г. в мире произошло 72 гражданские войны на этнической, национальной, религиозной и расовой почве. После 1995 г. обстановка еще более обострилась.
(обратно)2
В 1990 г., когда уже стали обыденным явлением этнические войны в Азии и Африке, а затем и в самой Европе (Кавказ, Балканы), на мой вопрос о том, как представляют себе понятие этничности в университетской среде в Испании, профессор университета Сарагосы ответил мне, что в Европе этничности давно нет, она сохранилась как реликтовое явление лишь у малых народностей самых слаборазвитых стран. Это при том, что испанские газеты ежедневно уделяли 10–20 % своей площади сепаратизму и терроризму баскских организаций, выступающих под флагом этнического национализма.
(обратно)3
Как писал в «Народной монархии» И.Л. Солоневич, «русская гуманитарная наука оказалась аптекой, где все наклейки были перепутаны».
(обратно)4
В момент распада традиционного общества Запада в ходе Реформации под народом также понималось трудящееся большинство. М. Вебер замечает: «Уже Кальвину принадлежит часто цитируемое впоследствии изречение, что «народ» (то есть рабочие и ремесленники) послушен воле Божьей лишь до той поры, пока он беден» [5, c. 202].
(обратно)5
В 1964 г. Институт этнографии АН СССР издал книгу «Нации Латинской Америки», где было сказано, что, за исключением Кубы, все нации Латинской Америки являются буржуазными. Это уже схоластика, парализующая возможность понимания.
(обратно)6
Отношение к провинциальным крестьянам собственной страны как к варварам, как людям иных народов, встречается в заметках многих путешественников из европейских столиц. Например, Бальзак сравнивал крестьян юга Франции с «дикими» американскими индейцами.
(обратно)7
В сноске В.Малахов дает такое примечание: «Темпы притока трудовых мигрантов в «национальные государства» Западной Европы в последние три десятилетия ХХ века были столь высоки, что эти страны ни по сложности этно-демографической структуры, ни по интенсивности социокультурной динамики не отличаются от так называемых «иммиграционных государств» (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Уместно также отметить, что термин «национальное государство» сделался в современной политической науке столь рутинным, что его применяют ко всем без исключения государствам, без оглядки на их этническую неоднородность».
(обратно)8
В советскую литературу это понятие из-за ошибки переводчиков вошло в искаженном виде как «невидимый колледж» ученых.
(обратно)9
Мультикультурализм в качестве официальной государственной политики первой приняла Канада (в 1988 г.).
(обратно)10
Термины мультикультурализм или культурное разнообразие – принятое в западной литературе «политкорректное» обозначение групповых культурных различий, в большинстве случаев подразумевающее именно этничность.
(обратно)11
Раньше этот митинг не мог бы состояться и не имел бы смысла, потому что этой молодежной группе резонно ответили бы: почему это вы, 1 % населения ГДР, – народ? Народ – это все 14 миллионов восточных немцев, и воля их выражена ими несколькими способами.
(обратно)12
Следуя установкам марксизма, советская этнология принимала, что этническое самосознание есть явление вторичное, определяемое «реальным процессом жизни», под которым в марксизме понимается материальное социальное бытие. Это сильно сужает явление. Реальный процесс жизни правнука эмигранта во Франции не одолел его духовного мира, частью которого и осталось его осознание себя русским.
(обратно)13
Согласно энциклопедическому словарю, йоруба – народ в Нигерии, численностью 15 млн. человек (1978); язык – йоруба.
(обратно)14
Конечно, электричество и до ХVII века существовало в природе, но оно было скрытым и «пассивным», а сейчас пропитывает весь мир, человек живет в интенсивном электрическом поле.
(обратно)15
Термин «этнология» был введен физиком Ж. Ампером в 30-е годы ХIХ в.
(обратно)16
В России с начала XX века исследования в области этнологии велись в Русском антропологическом обществе, известными авторами были Н.М. Могилянский и М.С. Широкогоров. Можно назвать книги последнего «Место этнографии среди наук и классификация этносов» (Владивосток, 1922) и «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений» (Шанхай, 1923).
(обратно)17
Такое придание слову смысла реальной сущности (гипостазирование, от слова ипостась) – свойство абстрактного мышления. Оперирование абстрактными понятиями, необходимое на стадии анализа, нередко приводит к грубым ошибкам при ориентации в реальной действительности. В спорах по поводу этничности ученые нередко обвиняют друг друга в гипостазировании, в отрыве этого понятия от его конкретного наполнения.
(обратно)18
Й. Элез пишет, что термин этничность был введен в середине 1970-х годов социологами США, для обозначения такой социальной ситуации, в которой тип действующих групп не выражался привычными понятиями класса и нации [12, с. 40]. Он резко критикует саму претензию этнологии на статус науки на том основании, что понятие этноса остается очень размытым. Но таково состояние многих наук, что не мешает им прилагать к познанию своих объектов научный метод.
(обратно)19
Следуя канонам позитивизма, согласно которым наличие замкнутого определения является необходимым признаком научности, Энгельс дал определение жизни – «это способ существования белковых тел и т. д.». Точно так же Ленин определил, что такое материя – «реальность, данная нам в ощущении». Большой познавательной ценности такой подход не имеет.
(обратно)20
Вот близкий нам пример: не слишком озабоченные проблемой этнической идентификации тюрко-язычные группы – качинцы, кизыльцы, койбалы, бельтиры, сагайцы, – в советское время были объединены в народ под названием «хакасы». А создание «аварской народности» в Дагестане из лингвистически сходных групп удалось не вполне. При микропереписи 1994 г. некоторые «аварцы» предпочли записать себя андиями, ботлихцами, годоберинцами, каратаями, ахвахцами, багулалами, чамалалами, тиндиями, дидоями, хваршинами, капучинами или хунзалами [12].
(обратно)21
При исследовании этнических границ большую информацию дает изучение межэтнических браков и «смены этничности» (религии, фамилии, записи в графе национальности).
(обратно)22
Есть люди, увлеченные изобретением маркеров. В движении русских националистов РНЕ был человек, который уверял, что может определять евреев среди ведущих на радио. Главными признаками для него служило употребление слова «отнюдь» и почему-то словосочетание «Боже ж мой» [66].
(обратно)23
Хорошее изложение примордиалистского подхода дано в статье С.К. Рыбакова [16].
(обратно)24
Дюркгейм отличал «механическую» солидарность, изначально основанную на кровном родстве, от современной «органической» солидарности классового содружества, основанной на общественном разделении труда.
(обратно)25
Надо, однако, отметить, что французские антропологи в начале ХХ века занялись прикладной тематикой и потому, что многие из них участвовали в социалистическом движении.
(обратно)26
Говорилось, например, что антропологи США были косвенно причастны к свержению правительства Альенде в Чили.
(обратно)27
Повышенное внимание к этническим конфликтам уделялось уже на первых этапах колониальной эры. Именно эти конфликты и позволили европейцам захватывать большие территории, поскольку вожди враждующих племен обращались к ним за помощью. Принимая участие в межплеменной борьбе, европейцы становились необходимой частью местной политической системы. Это практическое значение древнего принципа «разделяй и властвуй» побуждало к развитию этнологических исследований. Известный английский этнолог-африканист сказал, что «пулемет – интегрирующий фактор общества», которое европейцы создавали в Африке.
(обратно)28
Социальные бедствия и массовые страдания, которые сопровождали индустриальную революцию в Англии и вообще на Западе – эмпирический факт, отраженный в «структурах повседневности» (Ф. Бродель). Революционный переход к новой формации, даже открывающий простор для развития производительных сил, сопровождается насильственным разрушением структур жизнеустройства массы населения. Но объяснение и оправдание этих бедствий вырабатывается идеологами на основе господствующего в правящей элите мировоззрения. Конкретно в Англии, как говорят, «социал-дарвинизм возник раньше дарвинизма».
(обратно)29
Строго говоря, отношения рода вообще лежат в плоскости иного уровня, нежели этнические. Для этноса характерна эндогамия и сохранение культурной целостности. Напротив, основная функция рода – смешение (как биологическое, так и культурное). Здесь законом является экзогамия. Как пишет Ю.В. Бромлей, «в этом смысле род – фактически антипод этнических общностей, так сказать, «антиэтнос» [14, с. 265].
(обратно)30
В эволюции этнического самосознания у древних греков и китайцев представление об общности происхождения господствовало лишь на ранних стадиях становления народности, а потом и греки, и китайцы стали считать, что они соединены культурой.
(обратно)31
Надо обратить внимание и на тезис о том, что начало процессу разделения труда и возникновения частной собственности было положено половым актом. Этот тезис, навеянный, вероятно, ветхозаветным понятием первородного греха, связан с особенностями соединения в народы и нации людей, проникнутых «духом капитализма». К этому мы вернемся ниже.
(обратно)32
В альтернативных примордиализму современных концепциях под этничностью понимают не вещь, а отношения. Отношения как между «своими», так и к «чужим». Отношения эти являются частью культуры и выражаются в множестве символов, знаков, норм и навыков.
(обратно)33
Различия в цвете кожи воспринимаются физиологически, но мобилизуются культурой в качестве маркеров иного. А вот в каком смысле иного – зависит целиком от культуры. Например, в России люди уже не считают брюнеток и блондинок людьми разных народов (если нет дополнительных признаков). С цветом кожи другое дело, потому что исторически мы и негры жили порознь и явно были разными этносами. Цвет кожи был удобным маркером этнических различий. Но при этом какой-то этнической сущности он не выражал и не выражает. На Кубе и в Бразилии негры и белые давно живут вместе, и маркером этничности цвет кожи уже не служит.
(обратно)34
Позже Крупнов так уточнил понятие: «Русскость не есть этническое качество, не свойство «крови», а свободный выбор любого человека любой национальности в пользу служения России и российской государственности. Русские – это те, кто любят российскую государственность и самозабвенно служат России. Такие русские и организуют народы России на развитие страны» [48]. Это совсем не годится, поскольку Россия – многонациональное государство, и «любят российскую государственность и самозабвенно служат России» вовсе не одни только русские. При этом «любят и служат», не собираясь отказываться от своей этничности.
(обратно)35
Э. Кисс уточняет: «Термин «будители» несколько неудачен, так как хотя они и опирались на более ранние культурные традиции, сам процесс мог считаться в неменьшей степени инновацией, чем возрождением или пробуждением. Несмотря на то, что новые стандартные языки и создавались на базе уже существовавших и, часто, древних диалектов, пути языкового и, следовательно, национального развития ни в коей мере не были самоочевидными. Поэтому между самими будителями шла борьба по поводу национальных самоопределений. Например, в течение всего XIX века шли споры о том, являются ли сербы и хорваты двумя разными нациями или же они образуют единую югославянскую. Последнее определение опиралось на влиятельное движение «иллиризма» [4, с. 149].
(обратно)36
Примечательно, что основная масса эмпирического материала об этническом насилии собрана как раз в исследованиях, проведенных в русле примордиализма, ибо именно в насилии, на первый взгляд, выражается иррациональное, заданное «свыше» ядро этнической «самости». Конструктивизм предлагает этому эмпирическому материалу иную интерпретацию.
(обратно)37
Надо сказать, что кризис национального государства на Западе, обостряемый притоком больших контингентов иммигрантов, и здесь порождает рецидивы настоящей «западной демократии». В последнее время их все чаще можно наблюдать в Париже и его предместьях.
(обратно)38
Эта статья опубликована в 1849 г. в газете «Neue Rheinische Zeitung», главным редактором которой был Маркс, а Энгельс – редактором. Маркс был определенно согласен с принципиальными положениями статьи. Это выразилось во множестве его собственных работ и писем.
(обратно)39
В их личной переписке они мимоходом обмениваются такими замечаниями. Маркс – Энгельсу (24 октября 1868 г.): «Боркхейм, русофобия которого (я привил ее ему как самое невинное противоядие, чтобы дать выход его излишней жизненной энергии) принимает опасные размеры…».
(обратно)40
Надо, однако, помнить, что факторы, определяющие этническое самосознание, представляют собой сложную систему. Говоря, что сербы и хорваты разделились под воздействием разных религиозных представлений православия и католичества, надо иметь в виду и такой факт, что есть сербы католики и есть хорваты православные.
(обратно)41
На этническое сознание африканцев и мусульман наверняка подействовали и приговоры военного суда. Согласно действующему в Бельгии военному праву, преступления двух десантников, которые «поджарили» на костре сомалийского подростка (сохранив на память фотографии), предполагают наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокурор потребовал им наказания в виде 1 месяца тюрьмы и штрафа в 10 тыс. бельгийских франков (около 300 долларов).
(обратно)42
Л.Н.Гумилев считает удачным то обозначение, которое дал таким ландшафтам географ-евразиец П.Н. Савицкий – «месторазвитие», подобно аналогичному понятию «месторождение».
(обратно)43
Янг подчеркивает, что в момент колонизации за редкими исключениями не было совпадения между этническими и территориальными границами колоний: «В Африке только в очень немногих случаях колониальные территории имели хотя бы самую отдаленную связь с исторической генеалогией или культурой (исключениями являются Марокко, Тунис, Египет, Руанда, Бурунди, Свазиленд, Лесото)» [15, с. 97].
(обратно)44
Как считает Дж. Комарофф, «транснационализация насилия и вызов, бросаемый принципу юрисдикции национального государства, фактически являются особо значительными моментами в развитии глобализма» [2, с. 51].
(обратно)45
Эта сторона глобализации вызвала некоторое замешательство в кругу политиков, и они стараются демонстрировать солидарное неприятие транснационализации насилия. Вот пример: «Популярный руководитель Южно-Африканской коммунистической партии Крис Хани был недавно убит польским иммигрантом крайне правых убеждений, покинувшим Польшу после окончания холодной войны… Таким образом идеологические баталии Центральной Европы оказались импортированными на африканскую землю. Помимо серьезных политических последствий, это событие имело и любопытное завершение: режиму, до истерии пропитанному антикоммунизмом, пришлось выступать организатором государственных почестей в память о харизматическом коммунисте, с которым большую часть его жизни обращались как с юридическим и идеологическим преступником» [2, с. 51].
(обратно)46
Далее автор поясняет, что история никаким народам не дает столь длительного периода стабильности, поэтому «чистых» народов не существует, любой народ представляет собой мозаику элементов, возникающих и изменяющихся в результате политических потрясений.
(обратно)47
Уже сам тип государственного аппарата и организуемых им информационных потоков в большой степени влияет на тип создаваемого этим государством народа. И.Л. Солоневич писал: «Организационная сторона Европы Средних веков была чудовищно сложна: феоды, привилегии, цехи, таможни, Церковь, города – все это отгорожено друг от друга невероятною законодательной неразберихой, целыми горами пергаментов, грамот, договоров, кодексов, конституций и прочего. И все это, в сущности, имело только одну объективную цель: разорвать «общее благо» в клочки частновладельческих интересов. Если бы Киевская Русь повторила европейские пути, то на ее месте когда-нибудь и, может быть, выросла бы какая-то государственность. Но, может быть, и до нынешних времен не выросло бы никакой» [11, с. 274].
(обратно)48
Эта жесткая формула искусственна. Более правдоподобной была бы другая последовательность: первобытная человеческая общность изначально имела социальные формы, а этнические формы эта общность обретала позднее – именно под воздействием институтов, которые являлись феноменами культуры.
(обратно)49
Английский политик Н. Фэртэрн писал: «Шотландцы – единственный цивилизованный европейский народ, которому посчастливилось не иметь собственного государства». Единственный! Но и это не вполне верно, в Средние века шотландцы имели достаточно развитые начала государственности, и даже в ходе собирания английской нации были периоды, когда королем становился шотландец, укреплявший этническое самососознание шотландского народа. Повстанцы, которые сопротивлялись «сплавлению» шотландцев в нацию, назывались якобитами – этот король был их знаменем.
(обратно)50
А вот как излагает А.Ф. Лосев мироощущение русского человека начала ХХ в., который осваивал ньютоновскую картину мира: «Все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, «яже не подвижется»… А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни «яже не подвижется». Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину вслед пустили. «Вот-де твоя родина, – наплевать и размазать!» Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов плюнуть в физиономию» [48, c. 405].
(обратно)51
В отношении христианства эту проблему тщательно изложил М. Вебер («Протестантская этика и дух капитализма»), а в отношении ислама все приведенное выше утверждение Маркса является очевидно ошибочным. Сказать, что ислам «низвергнут в сферу всех прочих частных интересов и изгнан из политической общности как таковой», было бы просто нелепо.
(обратно)52
В редакционном предисловии в Сочинениях Маркса и Энгельса (2-е изд.) говорится: «В 1-й главе первого тома «Немецкой идеологии»… впервые в систематической форме дано изложение материалистического понимания истории».
(обратно)53
По данным Национального института психического здоровья, в 1972 г. в США «было госпитализировано 500 тыс. больных шизофренией, более 1,75 млн. гуляло по улицам и около 60 млн. американцев были на грани заболевания шизофренией» [44].
(обратно)54
Ритуалы сильно действуют на сознание членов общности и даже вызывают изменение физиологических параметров. Но смысл их доступен только посвященным, и испытать, например, полноценное воздействие ритуального танца могут лишь люди, разделяющие этнические ценности данной общности и следующие принятым в ней стереотипам поведения.
(обратно)55
Это аналогично тому скачку, который означала Научная революция ХVII века. Говорят, что наука – «не дочь натурфилософии Возрождения, а ее сестра». То есть, наука не продукт эволюции натурфилософии, а принципиально иная ветвь в развитии познания.
(обратно)56
В другом месте Маркс и Энгельс усиливают свою главную мысль и говорят нечто совсем иное, чем в тезисе, что «религия не создает человека». Они пишут в «Немецкой идеологии»: «Люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, что они есть или чем они должны быть. Согласно своим представлениям о боге, о том, что является образцом человека, и т. д. они строили свои отношения. Порождения их головы стали господствовать над ними. Они, творцы, склонились перед своими творениями. Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых существ, под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого господства мыслей» [42, с. 11].
(обратно)57
Редким исключением является, видимо, Китай, где место религии в этом процессе занимал обширный свод философских представлений. Но и в них присутствует религиозная составляющая.
(обратно)58
Например, изучение «ядра» русского языка показывает, что в сознании русских «слабо представлены ценности индивидуализма». Идеологи рыночной реформы считают это большой бедой, фундаментальным дефектом русской культуры, поскольку это означает, что «дозволяются не все действия, рациональные с точки зрения достижения успеха, но только те, которые считаются ценностно-значимыми с точки зрения общности».
(обратно)59
В книге, вышедшей под редакцией директора Института древних рукописей, о создателе алфавита Маштоце сказано: «В жизни каждого народа, как и каждого человека, бывают события, которые влияют на всю его дальнейшую судьбу, предопределяют ее. Это моменты обретений и утрат. Они-то и творят судьбу. IV и V века принесли армянскому народу два таких события – принятие христианства и создание алфавита. Обитающий вокруг Арарата народ со своим древним этническим обликом и историей оказался в сложном и, казалось бы, даже безвыходном положении. Гибель грозила ему. И тогда из самых его недр выплеснулись могучие силы, позволившие ему победить саму смерть. То были вера и письменность… У каждой эпохи своя суть и свой облик, но каждая эпоха армянской истории состоит в прямой связи с Маштоцем. Каждая эпоха воспринимает Маштоца по-своему, и у каждой из них одна общая с ним цель. Но в самой непосредственной связи с Маштоцем состоит именно наше время. На протяжении почти всей истории Армении после создания алфавита письменность была опорой национальной самобытности, и алфавит звучал как народная песня».
(обратно)60
При этом политики идут на колоссальные экономические издержки и не считаются с культурными потерями. Так, после развала СССР узбекский язык перевели с кириллицы на латинский алфавит. Весь массив книг и документов, созданный в Узбекистане за 70 лет, обесценился для новых поколений. Взрослые, напротив, в один день стали неграмотными, для них стало тяжелой проблемой прочитать простую уличную вывеску. Впрочем, уже на окраинах Ташкента, не говоря уже о провинции, этот новый закон в отношении вывесок не выполняется, на что власти мудро не реагируют.
(обратно)61
В законе 1366 г. было сказано: «Все англичане и ирландцы, живущие среди них, должны иметь английские имена, говорить по-английски и следовать английским обычаям. Если какой-либо англичанин или ирландец, живущий среди англичан, будет употреблять ирландский язык, он должен быть задержан, а его земля перейдет к его господину до тех пор, пока он начнет осваивать и употреблять английский. Английские подданные не должны также поддерживать или одаривать ирландских менестрелей, стихоплетов и рассказчиков» (см. [138]).
(обратно)62
Недаром собиратель русских сказок А.Н. Афанасьев подчеркивал значение корня в слове: «Забвение корня в сознании народном отнимает у образовавшихся от него слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже бессильна удержать все обилие словозначений; вместе с тем связь отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становится недоступной».
(обратно)63
Не исключено, что романтическая история о советских шаманах – плод художественной фантазии писателя-эмигранта, но здесь это не важно. Грей излагает на этой модели структуру типичного конфликта между этническим сознанием традиционной общности и техноморфным сознанием модернизаторов.
(обратно)64
Всего на тот момент, по подсчетам языковедов, в мире использовалось 2800 языков, из которых 1200 принадлежали племенам американских индейцев, которые насчитывали иногда несколько сотен человек.
(обратно)65
К этому образу добавлялся «географический» мотив русских как азиатского народа. Это сближало образ России с образом другого «варвара на пороге» – Османской империи.
(обратно)66
В результате интенсивной миграции значительная часть народов рассеялась по миру. По отношению к таким людям, живущим вне «своих» стран, часто применяется определение «этнический». О немце, живущем в США и ставшим членом американской нации, могут сказать этнический немец.
(обратно)67
В большой серии исторических фильмов, воспитывающих национальное сознание китайцев и посвященных древним империям, географическая карта присутствует часто и является важным атрибутом.
(обратно)68
В 90-е годы географический образ Византии ожил как осознание связки «русские-сербы» как народы одного славянско-православно-византийского корня. Важно, что этот образ был активизирован не только в массовом сознании (которое здесь проявило поразительную сплоченность), но даже и на государственном уровне. После свержения Милошевича из политического лексикона РФ этот образ был изъят, но в массовом сознании сохранился [24].
(обратно)69
В.О. Ключевский считает, что на этом «пути» уже в IX веке главная полоса расселения (страна Русь) возникла как сеть городов без деревни. То есть, Русь составляли не племенные области, а города, так что русские князья вообще не имели деревень и пашен, а было «царство городов» (Гардарика) среди малонаселенной местности.
(обратно)70
Этот взгляд вообще неразумен, поскольку законы не имеют ни природного, ни божественного происхождения. Сами по себе законы – всего лишь молоток в руках людей. Их готовят и принимают люди, и кое-кого из этих людей мы даже знаем поименно (в России в данный момент это Грызлов, Слиска, Жириновский и т. п.).
(обратно)71
О взаимосвязи расизма и евроцентризма см. [103].
(обратно)72
В марте 1556 г. инженер на государственной службе в Венеции получал жалованье в размере 20 дукатов в месяц.
(обратно)73
На русском языке эта работа впервые опубликована в 1989 г.
(обратно)74
Сам круг людей, которые включаются в отношения, воспринимаемые как семейные, различаются в разных культурах. Так, А.В. Чаянов пишет о понятии семьи у русских крестьян: «Русская земская статистика, пытавшаяся при проведении подворных переписей выделить содержание этого понятия в сознании самого крестьянства, устанавливала, что, по представлению крестьян, в понятие семьи входит круг лиц, постоянно питающихся за одним столом или евших из одного горшка» [106, с. 215]. А во Франции крестьяне вводили в состав семьи тех, кто запирался на ночь за одним замком.
(обратно)75
У.Бронфенбреннер приезжал в СССР для проведения своих исследований с 1960 по 1967 г. Его книга, изданная в СССР в 1976 г., вышла в США в 1970 г.
(обратно)76
Кстати, именно различия в организации хозяйственной деятельности в США и Японии и надежды на возможность выяснения рецептов «японского чуда» и их применения в американских корпорациях стимулировали в 60-70-е годы важные сравнительные антропологические исследования японцев и американцев.
(обратно)77
Эскимосы, чукчи и лопари даже в ХХ веке, получив долото, отделяли его от деревянной рукоятки и вставляли в топорище под углом 45°, в виде тесла.
(обратно)78
Предметом этнологии стала и «техника тела» – этнические различия в элементарных действиях людей (ходьбе, беге, прыжках, способах поднимать вещи, носить тяжести и т. д.).
(обратно)79
Заметим, что с началом Первой мировой войны младенческая смертность в России повысилась и стала снижаться только в 1921 г., в условиях нэпа и советской культурной революции. А в ходе Великой Отечественной войны, напротив, младенческая смертность снизилась. В 1946 г. ее уровень был почти вдвое (на 74 %) ниже, чем в 1940 г.
(обратно)80
Это явление известно и историкам техники, и самим ее создателям. В.А.Легасов, изучавший причины чернобыльской катастрофы и указывавший на ее прямую связь с дестабилизацией «культурного ядра» общества в ходе начавшейся перестройки, писал: «Та техника, которой наш народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина, была создана людьми, стоявшими на плечах Толстого и Достоевского… Они выражали свою мораль в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как их учили относиться ко всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов» [114, с. 6].
(обратно)81
Будучи вопросом фундаментальным, он встает во всех плоскостях общественной жизни. Если мое тело – это моя священная частная собственность, то никого не касается, как я им распоряжаюсь (показательна разница народов и культур в отношении к проституции, гомосексуализму, эвтаназии – всего того, что касается свободы распоряжаться своим телом).
(обратно)82
В последнее время коммерциализация личности в западном обществе усилилась. И.Иллич замечает, что в американской молодежной среде говорят уже не «мое тело», а «моя система» – оборудование частного предприятия атомизированного собственника.
(обратно)83
М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров в 1955 г. определили «хозяйственно-культурный тип» как «исторически сложившийся комплекс особенностей хозяйства и культуры, характерный для народов, обитающих в определенных естественно-географических условиях, при определенном уровне общественно-экономического развития» (см. [129]).
(обратно)84
Он поясняет его на примере этнических конфликтов: «Политика самоосознания, связанная с этнической борьбой, может претерпевать радикальные изменения с изменением исторических обстоятельств».
(обратно)85
Стоит уточнить, что формула Уварова «православие, самодержавие, народность» часто поминается очень расширительно, как якобы суть всей государственной идеологии Российской империи. На деле она была предназначена только для системы образования, хотя и это было очень важно в ХIХ в.
(обратно)86
Он приводит в пример народы («варваров») Китая – «именно в силу того, что варвары противопоставили инерцию волнам китайских влияний, они остались варварами». Но точно так же и сами китайцы противопоставили инерцию волнам западных влияний. Эти примеры можно множить.
(обратно)87
История формирования и нынешнее состояние институциональных матриц России рассмотрены в книге С.Г.Кирдиной [135].
(обратно)88
В Энциклопедическом словаре под ред. Осипова Г.В. нация определяется как «тип этноса, характерный для развитого классового общества».
(обратно)89
Э. Геллнер более осторожно высказывается о том, что первично – государство или нация. Он пишет: «Ни нации, ни государства не существуют во все времена и при любых условиях… Национализм стоит на том, что они предназначены друг для друга; что одно без другого неполно, что их несоответствие оборачивается трагедией. Но прежде чем они стали предназначены друг для друга, они должны были возникнуть, и их возникновение было независимым и случайным. Государство безусловно возникло без помощи нации. Некоторые нации безусловно сложились без благословения своего собственного государства. Более спорным является вопрос: предполагает ли нормативная идея нации в ее современном смысле априорное существование государства» [5].
(обратно)90
Можно предположить, что еще более интенсивно примордиалистский миф «крови и почвы» использовали в 20-30-е годы германские фашисты, производя «пересборку» немецкой нации по своему уникальному проекту.
(обратно)91
Такое пояснение дает автор первого перевода книги Сунь Ятсена на русский язык (1928) Г.С. Кара-Мурза. Надо также сказать, что и сегодня эти лекции Сунь Ятсена представляют собой прекрасное изложение проблемы народа, нации и государства (хотя «первая сила» соединения людей в народ, общее историческое прошлое, описана Сунь Ятсеном с позиций примордиализма, как фактор «крови»).
(обратно)92
Многие противники национализма как идеологии верно проводили это разделение. П. Вяземский писал: «Люблю народность как чувство, но не признаю ее как систему».
(обратно)93
Он так конкретизирует свой тезис: «Русские до самого последнего времени являли собой (не столь уж редкий) пример народа, не слишком эффективного в «малом времени», но очень успешно действующего на больших исторических промежутках… Так, период с начала XIV и до конца XVIII века был, мягко говоря, противоречивым, с точки зрения политического и культурного развития страны. Однако между 1500 и 1796 годами число великороссов (без украинцев и белорусов) выросло в четыре раза (с 5 миллионов до 20 миллионов человек), тогда как французов – лишь на 80 % (с 15,5 до 28 миллионов), а итальянцев – на 64 % (с 11 миллионов до 17 миллионов). Примерно тот же порядок цифр получается, если сравнивать такие параметры, значимые в Большом времени, как прирост и освоение новых территорий, рост влияния, построение «нормированной» высокой культуры, и так далее. В настоящее время, однако, положение изменилось. В течение последнего века русские успехи сменились неудачами – достаточно посмотреть на те же данные демографии. Русских становится меньше, они хуже живут, и дела у них не ладятся. Причин тому немало, но главная – то, что традиционные механизмы выживания перестали работать. Русских обходят на малых временных промежутках, и нагнать уже не получается» [13].
(обратно)94
Более того, Лютер утверждал, что язычники были более искусны в мирских делах, нежели христиане. Это лишало силы старое обвинение национального разделения в «язычестве».
(обратно)95
Здесь С.Н.Булгаков дает такое примечание: «Достаточно было П.Б. Струве высказать ту простую мысль, что русские суть русские и имеют право и обязанность чувствовать себя русскими так же, как евреи чувствуют себя евреями, чтобы по поводу этого признания элементарного духовного равноправия наций поднялась газетная буря». Такое положение длилось долго. М.Д. Скобелев писал в 1882 г. И.С. Аксакову: «Наше общее святое дело для меня, как, полагаю, и для Вас, связано с возрождением пришибленного ныне русского самосознания».
(обратно)96
«Синопсис» сто лет был в России единственным учебником истории. Он имеется во всех книжных собраниях видных деятелей той эпохи. Как книга для чтения «для народа» «Синопсис» был популярен до середины ХIХ в. и выдержал 30 изданий. Более того, он ходил в виде рукописных копий.
(обратно)97
Первое поколение украинских националистов не питало антирусских настроений – они были революционерами (в основном анархистами и народниками). Как выразился русский генерал-губернатор, они носили в одном кармане книгу стихов Тараса Шевченко, а в другом – томик Карла Маркса.
(обратно)98
До середины ХIХ в. поляки по большей части считали русинов частью польского народа.
(обратно)99
В Центральной раде были представлены эсеры, меньшевики, социалисты-федералисты и национальные меньшинства. После Октябрьской революции правительство Украины разоружало находившиеся там советские и красногвардейские части и не позволяло советским войскам проходить через украинскую территорию, но позволяла «белым» формированиям двигаться на Дон к Каледину.
(обратно)100
Комарофф постоянно напоминает, что в рассуждениях о национализме речь идет только об интеллектуальных и идеологических конструкциях, а не о сущностях, воплощенных в тех или иных группах людей. Он пишет: «Для того, чтобы сделать контраст между евронационализмом и этнонационализмом более рельефным, я рассматриваю их в качестве идеальных построений и с этой целью представляю последние как нечто материальное, то есть я приписываю им такие характеристики и формы деятельности, на которые в настоящем социальном мире способны лишь человеческие существа и социальные группы. Подчеркиваю, что делаю это только лишь с описательной целью» [28 с. 68].
(обратно)101
Само стремление украинских националистов «вернуться в европейский дом» под давлением этнонационализма приобретает иррациональные формы. И. Чернышевский замечает: «Например, украинский литератор Ю. Андрухович пишет об «ограде сада Меттерниха» как о той «родине», в которую должна стремиться независимая Украина. Имеется в виду Австро-Венгерская монархия, пребывание в составе которой Западной Украины понимается им как форма приобщенности к высокой европейской цивилизации, а отнюдь не как национальное унижение» [13].
(обратно)102
Попытка апеллировать к мировому сообществу с идеей «украинского холокоста» была обречена на неудачу и может даже считаться политически некорректной. Не может быть «второго холокоста», претендующего на сходный с первым статус.
(обратно)103
Это красноречиво проявилось в том факте, что после распада Российской империи в 1917 г. в ходе Гражданской войны русская Красная Армия нигде не воспринималась как армия иностранная.
(обратно)104
Толстой писал в 1895 г.: «В то время как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повышение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной пыткой» [10].
(обратно)105
Если дворянский статус «по заслугам предков» требовал утверждения Сенатом (с придирчивой проверкой родословной), то служащий признавался дворянином по чину без особого утверждения [5].
(обратно)106
Хеймсон считает логичным, что меньшевики сблизились с Бундом (еврейской социал-демократической партией «черты оседлости»). Он пишет: «Начиная со стокгольмского съезда партии, Бунд фактически стал одним из самых надежных союзников в коалиции, которую меньшевики стремились создать против большевизма».
(обратно)107
Один из руководителей и идеологов «черносотенства» Б.В. Никольский писал о большевиках в 1918 г.: «В активной политике они с нескудеющею энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе» (см. [19]).
(обратно)108
Слово «инородцы» первоначально имело узкое юридическое значение и относилось к кочевым народам. На всех «нерусских» оно было распространено лишь с возникновением русского этнонационализма на рубеже ХIХ – ХХ вв., как знак отказа в «русскости» ассимилированным немцам, полякам, евреям и пр. [9].
(обратно)109
Идею о расколе русского народа Р.А. Фадеев отвергает исходя из романтического примордиализма – все русские «одной крови». Он пишет: «Русское дворянство – единственное высшее сословие в Европе, не происходящее из права завоевания, не отличающееся от народа своей кровью и особым племенным духом… Все европейские дворянства, потомки древних насильцев народа (как говорит Нестор), сплачивались без исключения в замкнутую касту, ставили и ставят до сих пор между собой и покоренными… непереходимую грань белой и черной кости… Всякий знает, что в России никогда не существовало особой, племенной дворянской крови, которую считается грехом смешивать с кровью поганца, хотя бы признанным великим человеком; на нашем языке нет даже слова для перевода mésalliance» [25].
(обратно)110
В январе 1918 г. он пишет: «Разгон Учредительного собрания – прошел, или, вернее, проходит. Теперь уже несомненно, что революция убита; остаются борьба с анархией и реставрация… Все это… такие удары социализму и революции, от которых в России они не оправятся».
(обратно)111
Судя по приведенной в книге родословной С.Б. Веселовского, среди его близких родственников числятся три академика.
(обратно)112
Так, в результате расширения экспорта зерна сократилось животноводство и повысились цены на мясо. В статье «Обзор мясного рынка» («Промышленность и торговля», 1910, № 2) сказано: «Все увеличивающаяся дороговизна мяса сделала этот предмет первой необходимости почти предметом роскоши, недоступной не только бедному человеку, но даже и среднему классу городского населения». А крестьяне ели мяса намного меньше, чем в городе. Именно из-за недостаточного потребления белковых продуктов и особенно мяса жители Центральной России стали в начале ХХ века такими низкорослыми. В Клинском уезде Московской губ. в 1909 г. мужчины к окончанию периода роста – 21 году – имели в среднем рост 160,5 см, а женщины 147 см. Более старшее поколение было крупнее. Мужчины 50–59 лет в среднем имели рост 163,8 см, а женщины 154,5 см.
(обратно)113
В официальном советском обществоведении эти наблюдения квалифицировались как вздор и клевета на коммунизм.
(обратно)114
Противоречивому процессу «национализации коммунизма» в период революции и первые послереволюционные годы посвящена книга М. Агурского «Идеология национал-большевизма» (М., 2003). Он, в частности пишет, как это удивляло старых работников партии. В речи на Х съезде партии один из руководителей украинской парторганизации, В. Затонский, жаловался: «Национальное движение выросло также и в Центральной России… И сейчас мы можем наблюдать, как наши товарищи с гордостью, и небезосновательно, считают себя русскими, а иногда даже смотрят на себя прежде всего как на русских» [39].
(обратно)115
По словам Бердяева, Ткачев «первый противоположил тому русскому применению марксизма, которое считает нужным в России развитие капитализма, буржуазную революцию и пр., точку зрения очень близкую русскому большевизму. Тут намечается уже тип разногласия между Лениным и Плехановым… Ткачев, подобно Ленину, строил теорию социалистической революции для России. Русская революция принуждена следовать не по западным образцам… Ткачев был прав в критике Энгельса. И правота его не была правотой народничества против марксизма, а исторической правотой большевиков против меньшевиков, Ленина против Плеханова» [40, с. 59—0].
(обратно)116
Характерно, что та часть территории, которая была утрачена в 1918–1921 гг. и была возвращена в 1939 г., до 80-х годов не успела стать «вполне своей» – в сознании значительной части жителей этих мест гнездился сепаратизм.
(обратно)117
В.Д. Соловей излагает здесь общеизвестный факт идентификации русских с СССР. Развивая свою идею об «антиимперском» архетипе русских, он легко входит в противоречие с фактами, на которые сам же указывает. Уже через пару страниц он пишет в своей книге: «Коммунистическая элита (большинство которой на союзном уровне составляли именно этнические русские, что виделось залогом прочности советского государства) относилась к этому государству точно так же, как и ведомые ею массы русских – как к чужому» [46, с. 163].
(обратно)118
Восприятие территории СССР как своей земли стало стереотипом сознания даже тех, кто в 80-е годы примкнул к сепаратистам. В 1993 г. я был оппонентом на защите диссертации в Риге, встретились коллеги из трех балтийских республик, между собой они говорили по-русски. Эстонец жаловался, как тяжело переживал его сын внезапное «замыкание» Эстонии в ее маленьком пространстве. Он еще в школе увлекался географией и был путешественником – со сверстниками и преподавателем он объехал Сибирь и Алтай. Когда Эстония отделилась, он стал болеть – ему стало тесно жить. Хотя поездки еще можно было оформить, он отказался – это была уже не его земля.
(обратно)119
После 1923 г. отношения государства с церковью стали нормализоваться. Патриарх Тихон в качестве своего «завещания» оставил в день смерти 7 апреля 1925 г. своему ближайшему помощнику митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому) воззвание. Последний вместе с митрополитом Уральским Тихоном (Оболенским) передал его в редакцию «Известий». В послании: «Не погрешая против Нашей веры и Церкви… не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к Советской власти и работе в СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с врагами Советской власти и явную или тайную агитацию против нее». В заключение Тихон обратился ко всем архипастырям, пастырям и мирянам «без боязни погрешить против Святой веры, подчиняться Советской власти не за страх, а за совесть» [48, с. 210–212].
(обратно)120
Советский народ был связан языком сильнее, чем, например, американская нация. 14 % населения США вообще не говорит по-английски.
(обратно)121
Так, исследования начала 70-х годов в селах Мордовии привели к такому выводу: «Русский язык у мордвы фактически становится родным или вторым родным языком и используется не только как средство межнационального, но и как средство внутринационального общения… В то же время развитие русско-мордовского двуязычия не ведет к смене родного языка» [60].
(обратно)122
За 537 лет, прошедших со времен Куликовской битвы до Брестского мира, Россия провела в войнах 334 года, причем из них 134 года – одновременно с несколькими противниками. Главным направлением был Запад (36 войн, 288 лет, если суммировать войны с одним противником) [7].
(обратно)123
Царское правительство даже не реагировало на притеснения русских в Прибалтике. В 1845 г. славянофил Ю.Ф. Самарин был ревизором в Риге, и его поразило унизительное положение русских. Он написал об этом и был посажен в Петропавловскую крепость. Правда, Николай I встретился с заключенным и изложил ему свои взгляды на национальную политику Российской империи [61, с. 53–54].
(обратно)124
Тут была допущена ошибка – в результате такой долгой борьбы негры обрели этническое самосознание с альтернативной системой ценностей, так что вся концепция плавильного тигля дала сбой.
(обратно)125
Понятие нации и национального государства в отношении России отвергается и сегодня под самыми странными предлогами. Так, Ю.В. Крупнов пишет в «идеологии» Партии развития: «Россия не национальное государствои не нация. Россия – мировая держава» [64].
(обратно)126
При этом сам Ю.В. Бромлей признает «наличие у советского народа не только общих черт, но и специфических особенностей», то есть появление новых качеств, что и служит признаком возникновения нации.
(обратно)127
Хотя во время переписи 1926 г. таджиков еще записали как узбеков (как мусульман). Из-за этого возник конфликт, для разбирательство которого была создана комиссия во главе с В. Куйбышевым.
(обратно)128
Исследования некрологов по погибшим борцам Исламской партии возрождения Таджикистана в гражданской войне 1992–1994 гг. показали, что эти тексты сочетают в себе представления ислама, архаичных таджикских культов и структуры советского типа культуры – в частности, в некрологах подчеркивается принадлежность погибшего к таджикскому народу. Это не предусмотрено канонами ислама и традиционных культов. Кроме того, само понятие национальной принадлежности является в Таджикистане порождением советского периода [68].
(обратно)129
Статья была сопровождена таким примечанием редакции: «В данной статье двойные согласные пишутся одинарными буквами, согласно постановлению комисии по реформе руской орфографии, утвержденного Советом Главнауки от 15 января 1930 г.».
(обратно)130
Левый советолог С. Коэн в изданной в 1988 г. в Москве политической биографии Бухарина характеризует этот поворот как «официальное возрождение русского национализма, обеление царистского прошлого и отказ от многих положений марксизма».
(обратно)131
Первую главу работы «Внешняя политика русского царизма» Энгельс послал для опубликования в журнал «Социал-демократ», который издавала группа «Освобождение труда» (Плеханов, Засулич, Аксельрод). Там она и была напечатана в 1890 г.
(обратно)132
Свою записку Сталин завершает такими словами: «Мне кажется, что журнал «Большевик» попадает (или уже попал) в ненадежные руки. Уже тот факт, что редакция пыталась поместить в «Большевике» статью Энгельса «О внешней политике русского царизма», как статью руководящую, – уже этот факт говорит не в пользу редакции. ЦК ВКП(б), как известно, своевременно, вмешался в дело и прекратил подобную попытку. Но это обстоятельство, очевидно, не пошло редакции впрок. Даже наоборот: редакция, как бы в пику указаниям ЦК, поместила уже после предупреждения ЦК такую заметку, которая не может быть квалифицирована иначе, как попытка ввести читателей в заблуждение на счет действительной позиции ЦК. А ведь «Большевик» является органом ЦК. Я думаю, что пришла пора положить конец такому положению» [76].
(обратно)133
С.В. Чешко, автор, на мой взгляд, самой взвешенной и самой беспристрастной книги на эту тему, считает, что «образование СССР явилось наиболее вероятным в тех условиях решением проблемы обустройства постреволюционной России» [22, с. 93].
(обратно)134
С конца ХIХ в. идеи политической автономии выдвигали организации поляков, украинцев, белорусов и литовцев. В среде интеллигенции мусульманских народов до 1917 г. идея борьбы за национальную независимость сформировалась только в Азербайджане. Февраль 1917 г. резко изменил ситуацию.
(обратно)135
И.К. Лавровский замечает, сравнивая две войны с Германией с промежутком всего в 27 лет: «Удар [Германии] в 1941-м был в десятки раз сильнее удара 1914 года. И тем не менее наша страна выстояла и победила – нет, не только Германию, всю Европу! Новая система лояльностей оказалась сильнее прежней. Цель была достигнута» [80].
(обратно)136
Даже З. Бжезинский, обсуждая варианты развития СССР в 30-е годы, признает «изумительные достижения сталинизма» и приходит к выводу, что единственной альтернативой ему мог быть только шовинистический диктаторский режим с агрессивными устремлениями (см. [53]).
(обратно)137
Как ни странно, сегодня тип советского государства представляют как нечто удивительное именно исходя из «правильных» моделей западных государств. В. Соловей пишет, поигрывая словами: «Эта «неведома зверушка», Советский Союз, оказался принципиально новым в истории продуктом человеческого творчества, не вписывающимся в дихотомию: досовременная (в смысле историко-логически принадлежащая предмодерну) империя – современное национальное государство» [46, с. 156]. Неужели он всерьез думает, что дихотомия именно такова?
(обратно)138
Никаких дебатов о национально-государственном устройстве в «гуще народов» не велось, ибо все народы, собравшиеся в СССР, находились на донациональной стадии их общественного развития и сама проблематика национального в массовом сознании отсутствовала. Вопрос решался в узком слое политизированных элит. Точно так же «национальная политика» царизма (т. н. «русификация» Украины) не касалась народного быта, а происходила лишь в среде элиты, притом в ничтожных масштабах.
(обратно)139
Я, например, считаю, что это было вполне возможно сделать сразу после Великой Отечественной войны, в момент общего радостного единодушия и сплоченности, при наличии единой армии победителей. Но, скорее всего, тогда об опасности антисоюзного заговора всех национальных элит никто и не думал.
(обратно)140
Впрочем, как рассказал А. Вольский (бывший президент Российского союза промышленников и предпринимателей), в 1983 году Ю.В. Андропов предлагал постепенно перейти к новому административно-территориальному делению страны, а для начала разделить Советский Союз на 20 экономических зон. Он говорил, что разделение по национальному признаку следует считать слишком вредным. («Деловая пресса», 12.10.2000). Но было уже поздно – наготове были собраны силы, чтобы разделить Советский Союз по-иному.
(обратно)141
Эта трактовка была подхвачена и на Западе, особенно в отношении Югославии.
(обратно)142
При этом правящим кругам США было досконально известно, что никакой угрозы тогда СССР не представлял. Один из разработчиков доктрины Трумэна, директор Группы планирования госдепартамента США, Дж. Кеннан сказал в 1965 году о первом этапе холодной войны: «Для всех, кто имел хоть какое-то, даже рудиментарное, представление о России того времени, было совершенно ясно, что советские руководители не имели ни малейшего намерения распространять свои идеалы с помощью военных действий своих вооруженных сил через внешние границы… [Это] не соответствовало ни марксистской доктрине, ни жизненной потребности русских в восстановлении разрушений, оставленных длительной и изнурительной войной, ни, насколько было известно, темпераменту самого русского диктатора» (см. [4, с. 326]).
(обратно)143
Кинокритик А. Плахов писал, что понятие «новые русские» зародилось в среде художественной интеллигенции как «попытка освобождения от груза проблемности и мессианских замашек, которыми грешили все «старые» русские». Речь шла об отказе от эстетики «русского Космоса», которая характеризуется им так: «Это эстетика выкидыша или плода, зачатого и выношенного большой женщиной от лилипута». А.Плахов вскользь замечает, что «в ряды движения выбирали отнюдь не по принципу славянской принадлежности» [9].
(обратно)144
В «Московском комсомольце» (12.02.1992) поэт А. Аронов писал об участниках первого митинга оппозиции: «То, что они не люди, – понятно. Hо они не являются и зверьми. «Зверье, как братьев наших меньших…» – сказал поэт. А они таковыми являться не желают. Они претендуют на позицию третью, не занятую ни человечеством, ни фауной» [11].
(обратно)145
Не будем уж говорить об элементарной интеллектуальной совести – о том, что люди, которых назвали «приматами», защищали ценности, которые много лет им внедряли в сознание все эти сидевшие в Горбачев-фонде философы.
(обратно)146
Примечательно, что директор Института антропологии и этнологии РАН считает «интригующее слово этнос» не содержательным понятием, а «ложной конструкцией». Как же мы сможем разобраться в этнических проблемах с такими этнологами?
(обратно)147
Вопреки пошлой пропаганде наших «демократов перестройки и реформы», в самих США вовсе не считают свою политическую систему демократической. Г. Трумэн говорил: «Слава богу, что у нас не демократическая система правления. У нас республика. Мы избираем людей для того, чтобы они, исходя из своих представлений, действовали в интересах общества» (см. [20]).
(обратно)148
Эту методологию П. Штомпка применяет в серии исследований ценностного кризиса народов Восточной Европы как следствия «постсоциалистического шока» (см. [23, 24]). В 90-е годы состояние массового сознания этих народов выражалось в вопросе «а есть ли жизнь после перехода?».
(обратно)149
Некоторые источники дают другие оценки численности московского отряда «новых русских». Как отмечает экспертный институт Российского союза промышленников и предпринимателей, «август 1991 года показал, что 2 процента политически активных жителей Москвы смогли изменить ход событий во всей стране» («Независимая газета», 28.01.92).
(обратно)150
Гипотетически мы можем себе представить, что ГКЧП обратился к населению: «Поддержите! Горбачев предатель, но мы бессильны, мы уже не можем действовать, как власть! Ваша поддержка спасет государство!» Можно с уверенностью сказать, что по меньшей мере миллион человек вышел бы на улицы Москвы, и демос просто разошелся бы по домам. И этот же миллион, обретя сам состояние народа, отвечающего за судьбу заболевшего государства, самим своим появлением заставил бы ГКЧП взять бразды и нести крест власти.
(обратно)151
Важным элементом этой программы является, например, кампания против «русского фашизма». Поскольку отрицание фашизма стало частью мировоззренческой матрицы русского народа, внушение ему мысли о якобы присущем русской культуре «гене фашизма» вызывает душевный разлад и подспудное чувство исторической вины и неполноценности.
(обратно)152
Подтверждением сказанному служит тот факт, что меньшинствами считаются индейцы Перу, Боливии и Гватемалы, а до недавнего времени считалось и черное население ЮАР, составляющее 80 % жителей страны.
(обратно)153
Примечательно, что в 1977 г. Сахаров пугал Запад тем же самым, чем сегодня пугают антироссийские СМИ – риском впасть в зависимость от России: «Если экономика [стран Запада] будет и дальше в сколько-нибудь существенной степени зависеть от поставок химического топлива из СССР и находящихся под его влиянием стран, Запад будет находиться под постоянной угрозой перекрытия этих каналов, и это будет иметь следствием унизительную политическую зависимость. Одна уступка в политике всегда влечет за собой другую, и к чему это приведет в конце концов, трудно предсказать» [38, с. 171].
(обратно)154
В НАТО это обращение вызвало замешательство, и МИД разъяснил, что в тексте послания Ельцина по ошибке был пропущена частица «не» – «Сегодня мы не ставим вопрос…». Но на «долговременной цели» настаиваем.
(обратно)155
Н.И. Ульянов писал по этому поводу: «Допусти Чаадаев хоть слово о какой-нибудь прогрессивной роли православия, он бы погиб безвозвратно, но о католичестве мог безнаказанно говорить дикие вещи, несовместимые с элементарным знанием истории… Если история наша жалка и ничтожна, если мы – последний из народов, если даже на лицах у нас – печать примитивизма и умственной незрелости, причина этому – наше религиозное отступничество… К позорному столбу пригвождалась не власть, бюрократия, произвол, не временное и изменчивое, а вечное и неизменное – наша национальная субстанция» [54].
(обратно)156
Недалеко от зала, где выступал российский философ, в маленьком городке Сейлем в 1692 году только за два месяца на костер и на виселицу были осуждены 150 женщин («сейлемские ведьмы»). И судьями были просвещенные профессора из Кембриджа. А сейчас потомки тех профессоров сидели в том же Кембридже и кивали нашему подонку: да, да, Россия – кровавая православная тирания!
(обратно)157
О том, что именно православные христиане и их сыновья дали отпор Гитлеру, спасли значительную часть евреев от Холокоста, в книге ни слова!
(обратно)158
Мой друг (возможно, еврей) работал в 70-е годы переводчиком в ООН. Как-то он приехал в Москву сразу после нефтяного кризиса 1973 г., который случился после войны Израиля с арабами. Он рассказывал в ужасе: подскочили цены на бензин, и множество американцев (особенно персонал автозаправочных станций) нацепили круглые значки: «Убей еврея!». Значки эти продавались на каждом углу.
(обратно)159
Сам Шейнис заявил (в 1994 г.), исходя из своего либерального понимания свободы и демократии: «Не так страшно, если некоторые богатые люди смогут купить голоса избирателей. Государственное финансирование более опасно для российской демократии» [73].
(обратно)160
Эту идею, которая поначалу трактовалась как «закон» превращения революционера в тирана и была направлена против сталинизма, чуть позже расширили. Драконом стал немецкий фашизм, но победивший его советский народ тоже, значит, постепенно должен был трансформироваться в того же дракона.
(обратно)161
Был запущен слух о том, что Романов незаконно организовал проведение свадьбы своей дочери в Эрмитаже. Расследование установило, что этого не было и даже, по ряду причин, не могло быть. Однако Горбачев не только не пресек распространения слухов, но и рекомендовал Романову не выступать с их опровержением.
(обратно)162
Так, в 1993 г. в Тбилиси был убит американец Фред Вудрафф, «советник» Шеварднадзе. Выяснилось, что это кадровый офицер ЦРУ, который руководил охраной Шеварднадзе. Как сообщалось, это был первый известный случай, когда ЦРУ охраняло главу иностранного государства. Видимо, Шеварднадзе был носителем важных государственных секретов США.
(обратно)163
Кстати, в советских архивах имелось множество подлинных писем немецких солдат из Сталинграда, их предоставляли историкам ГДР и ФРГ, и они были введены в научный оборот как очень ценные материалы. Они широко публиковались в Германии, но не в нашей перестроечной прессе.
(обратно)164
В кампанию по разрушению образа войны втянута и школа. На одном из круглых столов в ходе подготовки к последней годовщине Победы преподаватель истории из Центра образования № 548 «Царицыно» И. Алхазашвили выступила с трибуны: «Дети очень хотят знать правду, и не столько ее парадную, «разрешенную» сторону, сколько оборотную, малоизвестную. Ребят волнуют именно те вопросы, на которые трудно найти однозначные ответы. Например: почему Матросов воевал в штрафном батальоне?» А. Тарасов комментирует: «И. Алхазашвили демонстрирует полное незнание фактов, недопустимое для учителя истории в школе. Ни в каком штрафном батальоне Александр Матросов не состоял. Он был рядовым 56-й гвардейской стрелковой дивизии, а в гвардии штрафбатов не было: власть считала недопустимым совмещать гвардейские части, которые должны были служить примером для всех войск, со штрафниками. Матросов был комсомольцем. Штрафник не мог состоять ни в ВЛКСМ, ни в ВКП(б)» [86]. Но ведь дело тут не в незнании фактов, а в непонимании того, что детям вовсе не надо знать «оборотную правду». Нет такой «правды», ибо Отечественная война – символ, а «оборотная» сторона есть развенчание символа.
(обратно)165
Мы оставляем в стороне тот важный сам по себе факт, что с самого начала реформ были созданы условия для быстрого разрушения материальных хранилищ исторической памяти. Председатель Ассоциации реставраторов России С. Ямщиков писал уже в 1992 г.: «Каждый день средства массовой информации заставляют содрогаться от очередных сообщений о гибели уникальных памятников культуры в различных уголках России. Даже в послевоенные годы такого в России не было. Страна нашла тогда возможность восстановить варварски разрушенные церкви Новгорода и Пскова, дворцы и парки Санкт-Петербурга» [92].
(обратно)166
В отчете по этим исследованиям сказано: «Что касается отрицательных представлений об историческом прошлом, то они в основном связаны с системными изменениями двух последних десятилетий, ослабившими, по оценкам опрошенных, народ, страну и государство». Существенно также изменение отношения к исторической роли Сталина: в 1990 г. высоко оценили его роль 6 % опрошенных, а в 2001 г. – 32,9 %.
(обратно)167
В булле от 6 июля 1241 г. Григорий IХ просит и норвежского короля присоединиться к «крестовому походу против язычников».
(обратно)168
Насколько важен был этот образ в процессе становления русского народа, говорит церковное предание о том, что накануне Куликовской битвы было видение, что благоверный князь Александр Ярославич восстал из гроба и выступил «на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию, одолеваему сущу от иноплеменников».
(обратно)169
В отношении Запада эту мысль развивает А.М. Столяров [98].
(обратно)170
Газета добавляет: «К могиле Hеизвестного солдата не были допущены даже делегации, получившие официальное разрешение: Совета ветеранов войны и Московской федерации профсоюзов».
(обратно)171
Рейтинг следующих да патриархом авторитетных в сфере религии фигур таков: художник И. Глазунов – 6 %, певица А. Пугачева – 5 %, великий князь Владимир Кириллович – 4 %, герой афганской войны генерал Громов – 4 %, рок-певец Б. Гребенщиков – 3 %, архангельский мужик И. Сивков – 3 %, писатель Ф. Искандер – 2 %, актер-культурист С. Сталлоне – 2 %, старец Троицко-Сергиевской лавры Наум – 2 %, сексолог И. Кон – 2 %, по 1 % – академик-физик Е. Велихов, бизнесмен К. Боровой. Затруднились ответить или не нашли себе авторитета в данном списке – 33 % [79].
(обратно)172
При этом обнаружена связь между оккультизмом и пессимистической установкой, между оккультизмом и индивидуализмом.
(обратно)173
Именно такими были в конце перестройки взгляды «демократов» с их иррациональными представлениями о частной собственности и рынке, с их ненавистью к «совкам».
(обратно)174
На республиканских выборах президента А. Хузангаю не хватило для победы 0,7 % голосов, на выборах декабря 1993 г. он получил лишь 6,3 %, на третьих выборах 1997 г. националисты получили совсем мало голосов. Эта программа лишилась поддержки.
(обратно)175
Примечательно, что в этой «конституции» Северный Кавказ в Россию не включен – он входит в «ряд других республик». Это было правовое и идеологическое обоснование развала.
(обратно)176
Политическое разделение СССР в «конституции» Сахарова дополнялось и изменением типа хозяйства. В ст. 45 сказано: Основой экономического регулирования в Союзе являются принципы рынка и конкуренции» [38, с. 276].
(обратно)177
Старовойтову в разгар войны в Нагорном Карабахе в регионе называли «цинковой леди».
(обратно)178
Замечу, что сами-то они не горят и не тонут – горят школьники в Осетии и пассажиры в московском метро.
(обратно)179
С трудом верится, но депутат, видимо, не знал о таком остроумном лозунге «народных фронтов»: «Утопим евреев в русской крови».
(обратно)180
Кстати, другие соратники Горбачева, наоборот, обвиняли Ленина за то, что он «не принял идеи автономизации, предложенной Сталиным».
(обратно)181
Они переправляли через реку Аракс в Иран советские телевизоры и за один телевизор получали автомат Калашникова.
(обратно)182
В своем проекте «конституции» 1989 г. Сахаров пишет: «В долгосрочной перспективе Союз стремится к конвергенции социалистической и капиталистической систем… Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства».
(обратно)183
Вообще, антисоветская пропаганда в области национальных отношений работала как слаженный механизм сразу на два фронта: одну и ту же советскую установку А.Д. Сахаров мог трактовать как русский шовинизм, а его коллега И.Р. Шафаревич – как марксистскую русофобию.
(обратно)184
Как ни странно, мысль о дискриминации русских в советской системе образования стала фирменной у российских интеллектуалов-этнонационалистов. В книге 2005 г. В. Д. Соловей сообщает как нечто ужасное: «К моменту последней советской переписи населения (1989 г.) доля лиц с высшим образованием, особенно с учеными степенями, среди титульных народов союзных и многих автономных республик была выше среднесоюзного уровня и заметно выше по сравнению с русскими, проживающими в этих республиках. Так, например, в Якутии на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше среди якутов приходилось 140 человек с высшим и незаконченным высшим образованием, среди русских – 128 человек» [64, с. 160]. Что из этого следует? Ничего. В местностях с нерусским населением значительная часть интеллигенции массовых профессий, прежде всего учителей и врачей, готовится именно из молодежи местной национальности. Что плохого в том, что якутскому языку якутских детей учат педагоги якуты? Кроме того, среди молодых людей, которые уезжают учиться в вузах европейской части России и там остаются, гораздо больше русских, чем якутов. Даже удивительно, что такая примитивная пропаганда была востребована в течение 20 лет.
(обратно)185
А.Й. Элез резонно замечает: «Проправительственная печать не называет РФ «самопровозглашенной». Известно, однако, что независимость от Грузии была поддержана большинством населения Абхазии (что в известной мере доказал и ход войны за эту независимость), а сегодня поддерживается практически всем ее населением, в то время как Россия обрела независимость от СССР (что и знаменовало конец СССР) в нарушение воли большинства ее населения, выраженной на всесоюзном референдуме, и не спрашивая согласия руководства СССР [168, с. 45].
(обратно)186
И Дудаев, и Масхадов вначале тоже говорили о том, что большинство чеченцев принимало государственность СССР, но власть ельцинской Москвы имела для них сомнительную легитимность. На фоне начавшейся войны эти рассуждения потеряли смысл, но при анализе всего процесса демонтажа страны их полезно учесть.
(обратно)187
Применялись и экономические меры – тем регионам, которые ввели ограничения на перемещения товаров (продовольствия), прекратили поставки горюче-смазочных материалов [132].
(обратно)188
Например, в силу пространственных, экономических и социальных причин сеть железных дорог складывалась в России совсем иначе, чем в США. В России эта сеть напоминает «скелет рыбы», и отдельные «кости» не конкурировали друг с другом, а были включены в единую систему, в управлении которой очень большую роль играло государство.
(обратно)189
В реформаторской прессе можно было встретить почти безумные, квазирелигиозные рыночные заклинания, совершенное несовместимые с культурными устоями народов России. Так, В. Селюнин в статье с многообещающим названием «А будет все равно по-нашему» излагает их символ веры: «Рынок есть священная и неприкосновенная частная собственность. Она, если угодно, самоцель, абсолютная общечеловеческая ценность» («Известия», 23.03.1992).
(обратно)190
Первая глава второго тома этой книги называется «Пространство, враг номер один».
(обратно)191
Копить деньги на старость люди умели и могли без всякого государства испокон веку. Пенсионная система СССР нисколько не мешала откладывать на старость в сберкассе – советская власть вкладов не воровала.
(обратно)192
Данные МВД, по мнению социологов, не отражают масштабов явления, поскольку МВД учитывает только тех, кто попадает в сферу его прямых функций. Официальной статистики не публикуется.
(обратно)193
В 1913 г. на 1,5 млн. жителей Москвы было 150 богаделен и несколько десятков ночлежек.
(обратно)194
Заметим, что во время войны 1941–1945 гг. немцы на территории СССР разрушили до основания 1710 городов и поселков и 70 тыс. сел и деревень. Потери жилищного фонда были колоссальны, и о них нельзя забывать, оценивая деятельность советского ЖКХ за 40 лет от Победы до перестройки.
(обратно)195
Даже если при этом кто-то отлынивал от копеечной платы, это было несущественно – для государства было дешевле покрыть их долги, чем устраивать сложный и дорогой индивидуальный контроль.
(обратно)196
Когда зимой 2003 г. волна аварий отопления прокатилась по 30 областям, были разрушены иллюзии, будто люди при деньгах могут отопить свои жилища электричеством. Не вышло, не так наша страна устроена – нечем нам греться, кроме как от общего теплоснабжения.
(обратно)197
Миф о том, что СССР пал под грузом непосильных военных расходов, был важным оружием в информационно-психологической войне. Поражает, что интеллигенция легко в него поверила и стала внедрять в массовое сознание. Даже в 1940 г., во время форсированного перевооружения Красной Армии, доля военных расходов в национальном доходе СССР (без личного потребления военнослужащих) составила 7 % [159]. В конце 80-х годов наличие в СССР 65 тыс. танков считалось абсурдно большим. Почему? Этот парк танков накапливался с конца войны, но даже если весь он целиком был произведен за 40 лет, то, значит, для своей армии выпускалось в год в среднем по 1,5 тыс. танков. Так ли это много, если учесть, что тракторов в 80-е годы выпускалось около 600 тыс. в год?
(обратно)198
Альтшулер вспоминает, как он с П. Василевским (который в 1973 году эмигрировал в США) написали для самиздата статью, «в которой проведена оценка доли текущих (т. е. без учета военного строительства) военных расходов в национальном доходе (НД) СССР (на примере 1969 года) – результат: 41–51 %… Наличие такого обоснования было интересно Андрею Дмитриевичу, которого я с этой статьей, конечно же, ознакомил… Один экземпляр статьи я принес на ул. Чкалова и дал Андрею Дмитриевичу. Было это, кажется, в декабре 1971 года. Через пару дней мы встретились на семинаре в Физическом институте, и на мой вопрос о статье Сахаров ответил: «Я рад за тебя».
(обратно)199
Примечательно, что Ленин относился к этому понятию скептически и как-то в Коминтерне на заявление товарища «Мы знаем психологию итальянского народа» ответил: «Я лично не решился бы этого утверждать о русском народе».
(обратно)200
Здесь и далее в круглых скобках указан номер страницы обсуждаемой книги, на которой расположена цитата.
(обратно)201
Желающим освежиться чтением расистской литературы сообщаю ссылку: Авдеев В. Б. Расология. Наука о наследственных качествах людей. М., 2005.
(обратно)202
Исполнителями работы были С.Г. Кара-Мурза, Т.А. Айзатулин и И.Т. Тугаринов.
(обратно)203
Идеологизация концепции приводит к обилию неизбежных внутренних противоречий. Поэтому она напоминает типичные творения ученых-гуманитариев времен Суслова, создаваемые на потребу политической конъюнктуре, только выполнена она гораздо менее тщательно. Очень большая часть (если не большинство) внешне правдоподобных утверждений обнаруживают печальное несоответствие элементарной логике. Видно, что авторы не подвергали утверждения логической проверке – общий дефект наших идеологов новой волны.
(обратно)204
Отличия от документов застойного времени – не в пользу «нового мышления». Концепция написана в стиле, который до последнего времени считался недопустимым для государственных документов России. Текст засорен множеством жаргонных слов и выражений, которые оставляют тяжелое чувство.
(обратно)205
Тофалары сохранились как народность, хотя перед войной их было 500 человек и на фронте погибла 1/3 мужчин. Сейчас (2002 г.) их 837 человек.
(обратно)206
Наглядный пример – конфликт с 3 тыс. хантов Сургутского района, пытающихся сохранить последний лесной массив для своего традиционного обитания как этноса. По заявлению администрации, интересы 70 тысяч жителей района важнее, чем интересы 3 тысяч, а кроме того, «ханты оказались неприспособлены к рыночной экономике». Это и есть демократический механизм «этнического тигля».
(обратно)207
Этот призыв нескольких философов и политологов прозвучал в 1989 г. [23].
(обратно)208
Тут Тишкову резонно возражают: «Защитники изъятия [графы] говорят, что в других странах не принято обозначать национальность в паспорте, но в других странах у людей нет отчеств, давайте и мы от них избавимся?»
(обратно)209
А.С. Панарин, совершенно по-другому видит отношение русских к либеральным ценностям, которое проявилось в ходе событий последних 20 лет: «Народ оказывается хранителем общинного сознания в эпоху, когда общинность репрессирована политически, экономически и идеологически. В этом смысле народ оказался великим подпольщиком современного гражданского общества» [25, с. 241]. Конечно, в условиях кризиса можно найти проявления самых разных установок, но все статистически достоверные социологические данные показывают, что прав Панарин, а не Соловей.
(обратно)210
Получить какие-то политические выгоды от поддержки русского этнонационализма, похоже, пытаются и либеральные «оранжевые» движения. Так, карельское отделение Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова в сентябре 2006 г. высказало одобрение погромам в Кондопоге как «проявлению гражданского самоуправления», а лидер красноярской региональной организации партии «Яблоко» В. Абросимов вывесил на одном из зданий города лозунг «Россия для русских». Но это, скорее всего, пробные шары.
(обратно)211
О. Неменский заостряет вопрос, преувеличивая, на мой взгляд, глубину распада прежней, советской нации и рисуя слишком мрачную картину: «К концу ХХ века окончательно рухнула древняя традиция сожительства народов великой Равнины, а на ее руинах пляшут чуждые ей «нации» и скитается один растерянный народ. Народ «не от мира сего». Вымирающий народ, подошедший к физическому пределу своего существования» [32].
(обратно)212
В. Малахов вообще считает мультикультурализм способом маскировки этнонационализма меньшинств (точнее, их элиты). Он пишет: «Идеологами мультикультурализма становятся, в частности, этнические предприниматели – те, кто присваивает себе право говорить от имени этнических или культурных меньшинств. Дискурс мультикультурализма ведет к стилизации социально-групповых различий под различия культурные (ментальные, цивилизационные, исторические). Но если такая стилизация лишь имплицитно присутствует в мультикультуралистском дискурсе, то этнические предприниматели проводят ее сознательно» [31].
(обратно)213
Тот факт, что ссылка на абсолютную численность того или иного народа обладает кое-какой убедительностью, говорит об очень плохом состоянии общественного сознания в РФ. Повсюду мы видим примеры того, что в общественных противостояниях исход дела мало зависит от числа. В Испании сепаратистское движение басков насчитывает несколько десятков боевиков, но они держат в напряжении большую страну. В Перу в 80-е годы радикальное движение «Сендеро люминосо» («Светлая тропа») имело в своих рядах 2 тыс. партизан, но в экономике производственные издержки возросли вдвое из-за необходимости расходов на охрану предприятий и инфраструктуры.
(обратно)214
Впрочем, изредка это слово использовали и раньше (например, в газете «Дуэль», 1999, № 3).
(обратно)215
Ясно, что Ремизов – принципиальный противник этнократии как тупикового, ведущего к архаизации варианта этнонационалистического проекта. Он пишет: «Сторонники этнократии «отвергают идею, что этничность требует перехода в какое-то новое, более высокое качество – качество нации. На практике это означает, что сторонники этнократии тоже хотят мобилизации этничности, но не для построения современного общества на ее основе, а для борьбы за нужные пропорции распределения собственности и власти между этническими группами… Но если в логике этнократии это и есть конечная цель, то в логике национализма – это только расчистка площадки для строительства развитого общества: культурно однородного, солидарного и высокопроизводительного».
(обратно)216
Когда лидер КПРФ говорит, что этнически чуждые мигранты продают «русскую рыбу», вспоминается одна поучительная мистификация. Во время Версальской конференции один американский журналист сочинил «Декларацию» с требованием предоставить независимость Калифорнии. Она была написана высоким стилем политических заявлений, и содержала требование объявить нейтральной зоной реку Колумбия, поскольку в ней «жировал калифорнийский лосось, и для жителей Калифорнии было невыносимым сознавать, что эта чисто калифорнийская рыба проводила свои детские и отроческие годы под господством этнически чуждых людей». Этот документ был принят всерьез и опубликован в европейской прессе.
(обратно)217
В Российской империи, а еще более в СССР была создана многослойная и даже изощренная система прогнозирования и выявления зародышей этнических конфликтов в их допороговой стадии, а также разрешения или подавления таких конфликтов на ранних стадиях их развития. Эта система действовала автоматически – так, что конфликты сразу входили в режим торможения и самогашения. До применения силовых средств подавления дело почти никогда не доходило. Эта система и стала одним из первых объектов разрушения во время перестройки.
(обратно)218
Другой автор дает такое объяснение: «Добровольная сегрегация общин этнических мигрантов – чаще всего осознанная стратегия адаптации к принимающему обществу, обусловленная низким уровнем готовности мигрантской общины к интеграции с местным сообществом» [27].
(обратно)219
Вот сообщение: 07.08.2003, Республика Карелия. Мусульмане требуют прекратить расистские погромы в Кондопоге. Председатель Духовного управления мусульман Карелии муфтий Висам Али Бардвил посетил город Кондопогу, на рынках и улицах которого уже в течение нескольких дней продолжаются нападения на людей с «неславянской внешностью» [40].
(обратно)220
В 2003 г. в РФ было зарегистрировано около 3 млн. преступлений. Из них 34 тыс. (1,1 %) приходилось на иностранных граждан и лиц без гражданства. Как показали опросы работников правоохранительных органов (2000 г.), среди них преобладает мнение о более низкой преступности среди мигрантов, чем среди местного населения [39, 41].
(обратно)221
Описание этих составляющих в их взаимосвязи показывает, что речь идет о большой и сложной целостной системе, которая приобрела уже международный масштаб, выходящий за рамки постсоветского пространства.
(обратно)222
В связи с этим на интернет-форумах даже выражалось удивление тем, что В.В. Путин наградил В. Познера «за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу» орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
(обратно)223
Самые умеренные в этом отношении – «Коммерсант» и «Вечерняя Москва».
(обратно)224
Зимой 1991 г., когда телевидение уже вовсю работало на развал СССР, председатель Совмина СССР В.С. Павлов поручил Аналитическому центру АН СССР, где я работал, подготовить аналитический доклад о возможности противодействия этой пропаганде. Вывод его был таков: вернуться к цензуре советского типа невозможно (главное, это лишь усилит противника). Но остатки власти государства еще позволяют добиться выделения на телевидении экранного времени, чтобы специалисты могли вечером делать обзор главных разрушающих СССР сообщений и дать свои комментарии к этим сообщениям, объясняя их суть и последствия пропагандируемых действий. Умных и знающих специалистов, готовых делать такую работу в режиме «гласности», было достаточно. В.С. Павлов устроил нам встречу с председателем Гостелерадио СССР Л.П. Кравченко, который подчинялся напрямую Горбачеву. Мы изложили выводы доклада и наше предложение. Он сказал, что доложит Горбачеву. Больше разговоров об этом не было. Сейчас положение примерно такое же, только нет Гостелерадио СССР.
(обратно)225
Состояние чеченцев усложнено не только кризисом и разрушением хозяйства Чечни. Нельзя закрывать глаза на 12 лет войны, в обстановке которой выросло уже два поколения молодежи. Неизбежным следствием ее стало возникновение политизированной этнической преступности. Никакими простыми моментальными действиями ее устранить нельзя, тут требуется большая программа социальной «реабилитации», для которой нужны время и материальные ресурсы.
(обратно)226
У нерусских народов РФ ориентация на советские ценности выражена никак не меньше, чем у русского. Так, если в Республике Коми в среднем по всему населению «на шкале оценок современной политической системы, при сравнении ее с коммунистической эпохой, велика доля негативных оценок», то «коми в подавляющем большинстве оценили [нынешнюю] систему негативно» [45].
(обратно)227
Автор отмечает: «О язычестве удмуртов упоминают лишь образованные информанты – студенты ижевских вузов. Пожилые информанты утверждают, что «религиозные праздники одинаковые с русскими. Все ходят в церковь».
(обратно)228
Очевидно, что «целенаправленная политика гражданской консолидации» не может быть бесконфликтной и зависит вовсе не только от региональных властей. Опыт и царской России, и СССР показывает, что такая политика, отвечая интересам народных масс, в то же время противоречит этнократическим интересам местных элит. С. Маркедонов считает политику нынешней центральной власти РФ в этом отношении не просто слабой, а и неверной: «Местное население устало от феодальных отношений, которые благословляет и поддерживает Кремль… От феодальной этнократии страдают не только русские в республиках РФ. Дискриминацию испытывают татары в Башкирии, хакасы в Туве, балкарцы в КБР, черкесы и абазины в КЧР. И бороться надо с этим государственным феодализмом, а не с этническими группировками» [33].
(обратно)229
Видно, что этот образ государственного устройства не согласуется даже с мягким этнонационализмом и примордиализмом. М. Ремизов пишет: «Вполне очевидно, что русские этнические интересы в главном могут быть легко приравнены к государственным, общероссийским и в этом качестве стать непререкаемыми для всех российских народов. Нам не нужна дискриминация других этнических групп, нам нужно такое цивилизационное развитие, в котором мы будем иметь естественные преимущества» [36]. В том-то и дело, что попытка придать любым социальным преимуществам какого-то этноса характер права естественного, то есть вытекающего из какой-то особой сущности этноса, никак не может стать «непререкаемой» для других народов. Надеяться учредить это право в России – утопия.
(обратно)


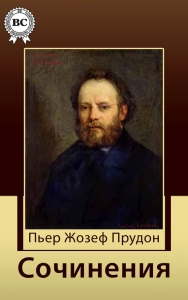


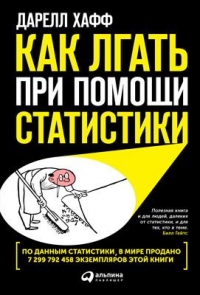

Комментарии к книге «Демонтаж народа», Сергей Георгиевич Кара-Мурза
Всего 0 комментариев