От автора
Мы живем сегодня в политкорректном мире.
Некоторые возразят и скажут, что политкорректность – это не у нас, это на Западе. Но приходится с такой позицией не согласиться. Ибо там, где меньшинства любого рода – гомосексуалисты, лесбиянки, трансвеститы под радужными флагами, феминистки, национальные, культурные и даже политические и др. меньшинства – борются за признание, там идет борьба за политкорректность. У нас эта борьба очевидно идет. И я не берусь предсказать ее исход. Взгляд у меня скорее пессимистический: меньшинства победят неполиткорректное большинство, как это уже произошло на Западе. Не потому, что «переубедят», а потому, что именно меньшинства имеют голос и именно они формируют темы общественной дискуссии. Работающий повсюду в демократическом мире механизм победы шумных меньшинств над молчаливым большинством детально разбирается ниже в разделе об общественном мнении. А сейчас несколько примеров из мира победившей политкорректности.
Леонид Ионин
Черты политкорректного мира
Прежде, однако, скажем, что такое политкорректность. На этот счет существует огромное количество взглядов и определений[1]. С точки зрения автора – и автор обещает проводить эту точку зрения по всей книге – политкорректность – это идеология современной массовой демократии, служащая, с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики западных государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса.
Поэтому следующую ниже главу о чертах политкорректного мира можно было бы назвать в советском стиле: «с фронтов идеологической борьбы». Мы увидим, что схватки на этих фронтах действительно ожесточенные. Начну, соответственно, с военной проблематики. Выразительные примеры политкорректности приводит военный историк М. Ван Кревелд в книге «Мужчины, женщины и война»[2]. В 1985 г. американский журнал «Лайф» в номере, посвященном сорокалетию окончания Второй мировой войны, в которой погибли 300 000 американских солдат-мужчин, поместил на обложку фото десяти героев-мужчин и семи героев-женщин. Во вьетнамской войне у американцев погибли 57 000 мужчин и 8 женщин. Их памяти посвящен монумент в Вашингтоне с шестью фигурами солдат, из которых трое – мужчины и трое – женщины. Это политкорректно, хотя плохо соотносится с реальностью, что, впрочем, характерно для политкорректного суждения и поведения в любой сфере жизни.
Вообще США в области политкорректности, как и во многом другом, идут впереди всего мира. Сначала это была борьба с расизмом, точнее, применительно к политкорректности, борьба со словами, состоящая в табуировании расовых тем и общеизвестном переименовании черных в афроамериканцев. При этом чисто фактическое и, как правило, безошибочное указание на цвет кожи оказалось заменено запутывающей и сбивающей с толку ссылкой на происхождение. В этом случае, например, белый южноафриканец, также происхождением из Африки, не воспринимается как афроамериканец, хотя и является таковым. Доходит до того, что любого чернокожего начинают именовать афроамериканцем, дабы избежать риска проявления неполиткорректности.
Эта инициатива оказалась заразительной, и в феминистских кругах было предложено отказаться от унижающего абстрактное человеческое достоинство понятия «женщина» и по аналогии с афроамериканцем именовать женщину «вагинальным американцем» (vaginal americain), благо в английском языке грамматическая категория рода отсутствует и указание на род осуществляется посредством местоимений.
Примерно тогда же началась борьба с сексизмом, имеющая конечной целью уравнивание мужчин, женщин и трансвеститов, поскольку их половая идентичность якобы не имеет значения с точки зрения их социальных ролей и статусов. Тогда и проник в социологию и психологию неблагозвучный термин «гендер», указывающий на пол как социальное явление. Социальные роли, которые ранее рассматривались как биологически детерминированные, например, муж и жена, стали трактоваться как гендерные роли, то есть не связанные с биологическим полом их носителей. Мы встречаем теперь в прессе сообщения том, что в той или другой стране официально отказались от обозначения супругов как «муж» и «жена», а родителей как «мать» и «отец», они стали называться «первый родитель» и «второй родитель» (хотя непонятно, как можно в политкорректном мире прибегать к такой неэгалитарной, недемократической терминологии). Затем стали отказываться от связанных с брачным статусом терминов «мисс» и «миссис», «мадам» и «мадемуазель». Все эти и другие категории оказались неактуальными при однополом браке.
Затем начались выступления против дискриминации пожилых людей, что постепенно превратилось в модную идеологию. Глаз эгалитаристов на различия, которые необходимо уничтожить, обострен до чрезвычайности. Запрещено называть инвалидов «disabled», то есть буквально «лишенные способностей», их надо называть «имеющие иные (альтернативные) способности». Нельзя сказать о женщине, что она непривлекательная, надо сказать, что у нее «альтернативная внешность» (alternative body image). Тот, кто называет инвалидов инвалидами, нарушает правила политкорректности, впадая в «эйблизм» (ableism). А тот, кто считает женскую красоту достоинством и благом, впадает в «смотризм» (lookism).
Известная писательница Татьяна Толстая написала статью о политкорректности, где иронически перечисляет формы, в которых может проявляться ее отсутствие: «К греху «смотризма» тесно примыкает и грех «возрастизма» (ageism). Sizeism («размеризм», что ли?) – предпочтение хорошей фигуры плохой, или, проще, худых толстым. Он же fatism («жиризм»), weightism («весизм»). Страшный грех»[3].
Фактически речь идет о том, что люди различны по красоте лица и изяществу фигуры, по возрасту, по весу, по толщине, наконец. Всем известно, что есть толстушки и худышки, у каждой свои достоинства. Так вот, это заметить и каким-то образом дать понять, что ты это заметил, никак нельзя. Это запрещенные нормами политкорректности способы восприятия и поведения, в частности, вербального.
Здесь нужно предварительно отметить две вещи, на которых мы потом остановимся подробнее. Политкорректность «граничит» с двумя важными явлениями, с которыми связана как логически, так и по происхождению: это тактичность, вежливость (простая, не политическая корректность), с одной стороны, и стремление к эмансипации — с другой. Иногда граница между политкорректностью и просто корректностью или политкорректностью и освободительным устремлением трудно уловима, и политкорректная норма может показаться правильной и справедливой. Разве не справедлива борьба против расовой дискриминации, против угнетения женщин, против дискриминации пожилых людей?! А инвалиды ведь действительно часто либо обладают от рождения, либо вырабатывают в себе способности и умения, в чем-то превосходящие способности и умения здоровых людей! Наконец, действительно бестактно оглядываться на красивых женщин или, наоборот, демонстрировать пренебрежение к другим – некрасивым, толстым, пожилым и т. п. Это невежливо, некорректно. Так что нужно проводить иногда весьма тонкое различение между политкорректностью и некоторыми родственными ей феноменами, о чем мы еще будем говорить далее – о тактичности и корректности в следующем разделе, а о стремлении к эмансипации – в разделе о происхождении политкорректности. Пока же продолжим разбираться с чертами политкорректного мира.
Политкорректность предполагает как бы смену оптики взгляда. Тактичный человек видит определенные вещи, но не демонстрирует, что он их видит, не фиксирует свое видение в поведении, в частности, вербальном. С политкорректным взглядом дело обстоит гораздо серьезнее, здесь речь идет не об отражении реальности в поведении, а об альтернативном видении реальности. Уместно в этой связи вспомнить сцену из прогремевшей в 20-годы и быстро запрещенной пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца». Несмотря на то что действие пьесы происходит в раннем СССР, идейная коллизия, в которой оказывается герой пьесы, удивительно напоминает коллизии современной западной жизни с ее господством политкорректности.
«В комнату входит Егорушка. Осматривается. Никого нет. Из соседней комнаты слышатся бульканье воды и пофыркиванье Марии Лукьяновны. Егорушка на цыпочках подкрадывается к двери и заглядывает в замочную скважину. В это время Серафима Ильинична вылезает из-под кровати.
Серафима Ильинична. Вы это зачем же, молодой человек, такую порнографию делаете? Там женщина голову или даже еще чего хуже моет, а вы на нее в щель смотрите.
Егорушка. Я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения смотрел, а в этой точке никакой порнографии быть не может.
Серафима Ильинична. Что ж, по-вашему, с этой точки по-другому видать, что ли?
Егорушка. Не только что по-другому, а вовсе наоборот. Я на себе сколько раз проверял. Идешь это, знаете, по бульвару, и идет вам навстречу дамочка. Ну, конечно, у дамочки всякие формы и всякие линии. И такая исходит от нее нестерпимая для глаз красота, что только зажмуришься и задышишь. Но сейчас же себя оборвешь и подумаешь: а взгляну-ка я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения – и… взглянешь. И что же вы думаете, Серафима Ильинична? Все с нее как рукой снимает, такая из женщины получается гадость, я вам передать не могу. Я на свете теперь ничему не завидую. Я на все с этой точки могу посмотреть».
Вроде бы текст пьесы говорит сам за себя, но на всякий случай надо дать разъяснение на современном языке. Герой – Егорушка, будучи обвиненным в «смотризме», оправдывается, говоря, что он смотрел на женщину политкорректно (здесь: «с марксистской точки зрения»).
Марксистская точка зрения, как политкорректная, здесь не случайна, потому что именно ранний феминизм Клары Цеткин и других, породивший марксистский «смотризм» 20-х годов, уступил место также марксистскому по своим истокам феминизму Симоны де Бовуар и ее многочисленных последовательниц, который и стал одним из главных оснований современной политкорректности. Причем современные приверженцы политкорректности, и феминистки в частности, научились дифференцировать гораздо тоньше, чем то мог даже себе представить эрдмановский Егорушка. Важна не только содержательная смена оптики смотрения («по-марксистски» – «не по-марксистски»), важен и параметр объема и длительности смотрения. Согласно «Словарю феминизма»[4], существует как чрезмерный зрительный контакт (excessive eye contact) – оскорбительная форма сексуального «харасмента» (преследования, приставания), так и недостаточный зрительный контакт (insufficient eye contact) – не менее оскорбительная форма сексуального приставания, состоящая в том, что мужчина избегает смотреть на женщину, из-за чего она может потерять уверенность в себе и даже ощутить угрозу (часто сопутствует «жиризму» и «весизму»).
Не следует думать, что это некая политкорректная схоластика, не имеющая никакого отношения к реальной действительности. Так, понятие чрезмерного зрительного контакта стало широко известным публике после того, как в 1994 году студентка университета Торонто подала в суд на профессора, который пристально смотрел на нее во время лекции. Суд обязал обидчика выплатить жертве 200 тыс. канадских долларов.
В том же словаре имеются такие интересные политкорректные понятия, как, например, потенциальный насильник (potential rapist) – любое существо мужского пола, достигшее половой зрелости, коллаборационист (collaborator) – женщина, публично заявляющая о том, что ей нравится заниматься сексом с мужчинами, и даже абстрактное, или умозрительное, изнасилование (conceptual rape). Последнее – это воображаемое мужчиной участие в половом акте с женщиной без ее предварительного согласия.
В принципе умозрительное изнасилование также может стать предметом судебного преследования, хотя здесь могут возникнуть трудности с доказательствами. Впрочем, одним из доказательств может служить наличие чрезмерного зрительного контакта, а главным доказательством – как ни трудно кажется в это поверить – субъективное переживание самой женщиной факта умозрительного изнасилования. Так заставляет думать правовое признание возможности «посткоитального несогласия» (postcoital nonconsent). Посткоитальное несогласие – это формальный юридический отзыв и опротестование женщиной предварительного согласия на половой акт после его совершения. Признаваемыми судом уважительными основаниями посткоитального несогласия, как свидетельствует тот же самый словарь феминизма, являются:
– получение мужчиной предварительного согласия в тот момент, когда женщина находится под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков,
– психологическое принуждение к согласию (то, что прежде называлось «ухаживанием»), а также
– несоответствие полового акта ожиданиям и желаниям женщины.
Последнее напоминает ситуацию, когда покупателю товар не понравился или он решил, что на самом деле этот товар ему не нужен, и требует не то что деньги назад, а продавца под суд, причем без возврата товара. С одной стороны, все это находится на грани или даже за гранью абсурда. Но, с другой стороны, именно так и происходит формирование уже не воображаемой, а фактической, данной, так сказать, в опыте реальности политкорректной антиутопии.
В антиутопическом романе «Приглашение на казнь», написанном в середине 30-х годов, когда современный феминизм даже еще не родился, Владимир Набоков предвосхитил понятие умозрительного изнасилования, так сформулировав один из пунктов «Правил для заключенных», вывешенных в тюремной камере, где сидел герой романа Цинциннат Ц.: «Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал, ночные сны, могущие быть по содержимому своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник».
Предположить, что это может стать реальной правовой нормой, а нарушение ее – основанием судебного преследования, Набоков, наверное, все же в то время не решился бы.
Тактичность и политкорректность
Достаточно часто встречаются попытки отождествить политкорректность с просто вежливостью, корректностью в отношениях с другими людьми. Как сказано выше, для этого есть определенные основания, поскольку политкорректность связана с просто корректностью, по крайней мере логически.
Корректность все словари определяют примерно одинаково: это соблюдение в словах и поступках требований вежливости, приличий, долга. Корректность в этом смысле соотносится с вежливостью, учтивостью, обязательностью. А если заглянуть в словарь синонимов, то увидим, что синонимы корректности – любезность, галантность, обходительность, уважительность, предупредительность, правильность, пристойность, вежливость, тактичность, точность, деликатность, приличность, учтивость, четкость (и даже субтильность!). В этом списке мы выделили «правильность». Ибо этимологически слово «корректность» связано именно с этим термином. У нас оно было заимствовано в XIX в. из французского языка, где correct – правильный, корректный, производное от латинского correctus – правильный, в свою очередь произошедшее от глагола corrigere – приводить в порядок, корректировать, спрямлять. Так что, несмотря на большой ряд значений и синонимов, можно полагать, что термин «правильность» лучше всего передает изначальный смысл слова «корректность».
Несколько иначе определяется тактичность, или такт. В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой мы читаем: «Такт… (лат. tactus – прикосновение). Чувство меры, подсказывающее правильное отношение, подход к кому-чему-нибудь, создающее уменье держать себя подобающим образом. "Петр Иванович был человеком с умом и тактом". Гончаров. "Александр усвоил, наконец, и такт, то есть уменье обращаться с людьми". Гончаров».
Ярче всего на примерах объясняет, что такое такт, древнегреческий философ Феофраст[5]. Он действует как бы «от противного» и показывает, что такое такт, приводя примеры бестактности. Бестактный человек, говорит он, не имеет злого умысла, но делает все невпопад и не вовремя. Бестактно, говорит Феофраст:
– прийти за советом к занятому человеку,
– ворваться с пьяной толпой к больной возлюбленной,
– обратиться за поручительством к уже пострадавшему от поручительства,
– явиться в суд свидетелем, когда дело уже закончилось,
– поносить женский пол на свадьбе,
– пригласить усталого и только что пришедшего домой человека на прогулку,
– привести покупателя, предлагающего более высокую цену, к продавцу после уже состоявшейся продажи,
– начать рассказывать всё сначала, когда суть дела уже понятна собравшимися,
– явиться за процентами к только что потратившемуся на жертвоприношение должнику,
– рассказать при наказываемом рабе о том, как другой раб повесился от бичевания,
– попытаться в третейском суде поссорить стороны, желающие примириться,
– пускаясь в пляс, тащить за собой ещё не пьяного соседа.
Замечательные примеры из сочинения Феофраста, несмотря на то что им уже больше двух тысяч лет, совершенно нам понятны, очевидны для нас и отнюдь не противоречат определению такта в современном толковом словаре. Но в то же время ни описания Феофраста, ни современный словарь не намечают пути концептуального объяснения такта.
Здесь на помощь приходит знаменитый немецкий социолог Георг Зиммель. «Специфическая функция такта, – говорит он, – заключается в ограничении индивидуальных порывов, выпячивания собственного Я, внутренней и внешней претенциозности – в ограничении там, где этого требуют права других». Но всего интереснее его наблюдение за ситуацией, где такт проявляется ярче всего и которая вообще есть аутентичная ситуация проявления такта. Это ситуация общения как такового, общения ради общения, которое происходит на приемах, светских раутах, вечеринках – пати и т. п. В общении в таких случаях, говорит Зиммель, «не присутствуют те черты личности, которыми она обладает в силу объективных структур. Богатство и общественное положение, ученость и известность, исключительные способности и заслуги индивида не должны играть в общении никакой роли, в крайнем случае они могут проявляться как легчайшие оттенки той имматериальности, которую приобретает реальность вообще, сталкиваясь с социально-художественным образом общения. Неуместно, бестактно (поскольку это противоречит правилу общения) привносить в него глубоко личностное – сугубо личные проблемы и разочарования, приподнятость и подавленность, свет и мрак глубин жизни. Это исключение личностного доходит до крайности: дама, например, не могла бы появиться на интимно-дружеской встрече в присутствии одного или нескольких мужчин в таком декольте, которое вполне нормально и уместно в «обществе». Там она менее ангажирована именно как индивидуальность и может позволить себе безличную свободу маски, ибо хотя она здесь – только она, но она не целиком, а лишь в качестве элемента формально существующей совместности»[6].
Другими словами, такт – это исключение и подавление в ходе общения всего личностного во имя участия в общении. Здесь не участвуют сугубо личностные черты индивидов – их персональные характеристики и социальное положение, их жизненные цели и жизненные беды и проблемы. Поэтому в определенном смысле участники такого общения ради общения, члены «общества» более свободны, чем в тех случаях, когда взаимодействие носит содержательный характер и его участники преследуют какие-то свои важные жизненные цели. Свободна зиммелевская дама с большим декольте, потому что она здесь никого не стремится соблазнить, так же как ни от кого не ждет нескромных взоров либо слов.
Даже рассказывание историй, анекдотов, говорит Зиммель, может демонстрировать тонкий такт, где прозвучат все мотивы общения. Ибо прежде всего благодаря такту разговор удерживается на основании, лежащем по ту сторону всего индивидуально интимного, по ту сторону чисто личностного, т. е. всего, что не включается в категории общения (в этом, указанном выше зиммелевском смысле слова). Как в случае с дамой, декольте которой было бы рискованным в ситуациях, предполагающих личностную вовлеченность и заинтересованность, человек может избрать предметом анекдота или истории самого себя, более того, самый болезненный и рискованный сюжет или проблему собственной жизни, к которому никогда не рискнул бы привлечь внимание в более интимно-личностных контекстах взаимодействия.
Из пестрого набора смыслов и значений слов «корректность» и «тактичность» важнее всего для нас, с точки зрения политкорректности, два значения: корректность как правильность и такт как способность или умение адаптироваться к некоему надындивидуальному медиуму взаимодействия ценой забвения, или подавления, или, лучше сказать, выведения за скобки индивидуально значимых черт участников взаимодействия. «Правильность» означает соответствие правилу, то есть норме, и в этом смысле обязательность, нормативность, предписываемый характер корректного поведения. Если вспомнить все остальные синонимы слова – и соответственно значения термина – «корректность» (любезность, галантность, обходительность, уважительность, предупредительность и т. д.), легко увидеть, что они описывают сугубо индивидуализированные черты поведения и представляют собой скорее характеристики личности действующего, чем объективно обязательные свойства его действия. Но именно объективная обязательность, то есть нормативный характер корректного поведения, полнее всего проявляется – как мы видели и как еще увидим далее – в политкорректном поведении.
Теперь о такте. Мы отметили два значения этого слова, первое – словарное, общеязыковое – «чувство меры», «умение держать себя подобающим образом». В этом смысле такт, тактичность мало чем, если вообще отличается от того, что обычно понимают под вежливостью, корректностью. Но есть второе значение, описанное Зиммелем в его эссе об общении; такт здесь – умение приспособиться к надындивидуальной системе норм поведения, характерной для специфической ситуации общения. Это приспособление состоит в вынесении за скобки всего личного, индивидуально-интимного и своего рода подмене «реальной» жизни системой абстрактных норм и правил. Когда указывают на «ложь» светской жизни, имеют в виду как раз эти ситуации.
Но именно такая операция – вынесение за скобки всего индивидуального и постановка на это место системы абстракции – и осуществляется при господстве политической корректности. Но только, по Зиммелю, требования такта сугубо ситуативны и не распространяются на жизнь как таковую. Ситуации общения – это изъятия из течения жизни. В противоположность этому политкорректное видение не ситуативно и претендует на тотальное определение жизни. Именно в этом смысле мы говорили, что политкорректность производит альтернативную реальность, подавляя индивидуально-личностные характеристики жизни и подменяя их абстракциями.
И главная абстракция, на которой зиждется вся громоздкая конструкция политкорректного мира, – это абстракция равенства. Собственно, политкорректность и есть современное воплощение принципа равенства.
Рождение политкорректности из духа равенства
Равенство – это, наверное, самый распространенный и общепризнанный принцип современной политики. Массовое общество, массовая демократия и массовая политика представляют собой ту почву, на которой произрастают идеи равенства. Ликвидация сословий сняла барьеры и фильтры между индивидами «разного сорта», которым априори полагались разные достояния и достоинства. Поэтому жить в условиях массовой демократии означает, как показывает берлинский философ Норберт Больц, жить в условиях постоянного равенства и сравнения себя с другими; ненависть к неравенству, говорит он, есть демократическая страсть par excellance. Из этого можно сделать вывод, что чем демократичнее общество, то есть чем больше равенства достигнуто, тем невыносимее становится всякое имеющееся или возникающее неравенство. Громче и громче звучит требование справедливости. Хотя содержательно определить справедливость невозможно или очень трудно – у многих людей очень разные представления о ней, – невозможно не согласиться с тем, что самым очевидным проявлением справедливости должно быть «усиление равенства». С этим согласны практически все партии, все политики, не говоря уже о простых людях, постоянно сталкивающихся с фактами вопиющего неравенства. Как выразительно пишет тот же Больц, «социальная справедливость через «большее равенство» представляет собой сегодня ценность, которую невозможно не принять. [Для всех политических сил в современном мире]… это принцип консенсуса номер один»[7].
Прямым следствием этого консенсуса является подавляющее все прочие принципы требование обходиться с неравными как с равными, что рассматривается как одно из самых больших ценностей и достижений современности. Люди должны – и в цивилизованных странах это долженствование воспринимается как самоочевидное – считать равными белых и черных, мужчин и женщин, бедных и богатых, больших и маленьких, умных и глупых и т. д. Это и есть требование политической корректности, порождающей огромное количество парадоксов и абсурдов в политике и публичной жизни. Есть парадоксы и абсурды обычные, привычные, можно сказать, впитанные с молоком матери, в которых образованному человеку уже и усомниться-то неприлично. А есть парадоксы и абсурды новые и пока непривычные, но считающиеся обязательными в не меньшей степени, чем старые. К первым можно отнести любого рода принципы и требования универсализма в политике, например, всеобщее избирательное право, где действует универсальный принцип «один человек – один голос», причем вес этих голосов абсолютно тождественен, независимо от того, что один голос принадлежит, скажем, гениальному ученому, умнейшему политику или благородному филантропу, а другой – никчемному пьянице или просто идиоту, вообще неспособному сформулировать рациональное суждение. Эти голоса не сравниваются и не взвешиваются и оказывают равное влияние на принятие политических решений. Об этом мы еще будем говорить далее в разделе, посвященном общественному мнению.
Но существуют и сравнительно новые абсурды, порожденные идеологией политкорректности в ее зрелом современном состоянии. Например, подведение под одну категорию, то есть фактическое признание равенства, как в правовом, так и во всех прочих отношениях классической разнополой и гомосексуальной семьи. В некоторых кантонах Швейцарии даже заключаются церковные гомосексуальные браки. Это торжество принципа равенства в образе политкорректности.
Прежде чем пытаться понять феномен политкорректности в его исторической и политической определенности – еще несколько выразительных примеров. Например, политкорректность ограничивает политиков и табуирует определенные темы, даже крайне важные в современной социальной и демографической ситуации, например, национальные и этнические проблемы и отношение к иммигрантам. Это касается как России, так и Запада. Достаточно вспомнить яркий, но краткий взлет партии «Родина» несколько лет назад. Необязательно утверждать, что подход партии «Родина» к национальным и этническим проблемам и к проблеме иммигрантов был правильным. Достаточно того, что он был, а у других, политкорректных партий его не было. Замалчивание проблемы и изъятие ее из общественной дискуссии не может иметь положительных последствий для общества.
То же относится и к Западу. Лучше всего аргументировать из собственного опыта. Я помню, как во время выборов в бундестаг ФРГ в 2002 году, где мне довелось быть наблюдателем, решающим фактором стала проблема иммиграции и адаптации иммигрантов, тревожащая многих жителей страны. Но парадоксальным образом она сыграла свою важную роль именно по причине ее отсутствия в политической дискуссии. В предвыборных спорах неоднократно складывалась ситуация, когда консервативные партии вплотную подбирались к этой животрепещущей теме… и отступали, переходя к достаточно банальным вопросам социальной политики и экономики. В воздухе буквально висело ощущение негласного запрета на серьезное и принципиальное обсуждение этой темы. Табу! Отсутствие такого обсуждения сыграло огромную роль на выборах, ибо реальная постановка проблемы и острая дискуссия привели бы к достаточно резкому изменению партийного ландшафта. Политкорректность, таким образом, стала средством цензуры политической жизни.
Истолкование неравных как равных – цветных и белых, детей и взрослых, мужчин и женщин, бедных и богатых, маленьких и больших, глупых и умных, наконец, даже людей и животных – стало сегодня ценностью в себе. Не важно, каков человек – в отношении к нему мы не имеем права показать, что воспринимаем его в его особости и уникальности. Он для нас должен быть человеком вообще, абстрактным человеческим существом – голова, две руки, две ноги. Как в детской считалке: «Палка, палка, огуречик – вот и вышел человечек». Истинные его особенности и характеристики относительны, правовой и политический статус абсолютен.
Вообще дух политкорректности выразим в простой формуле: истина относительна. Политкорректность не предполагает стремления к истине. Истина ее просто не интересует. Ее задача – обеспечение толерантности, или терпимости, даже в отношении того, что заведомо неистинно. Крайне популярный в России во время перестройки, да, впрочем, и сегодня, и приписываемый Вольтеру афоризм гласит: «Я считаю, что ваши взгляды неверны, но я готов отдать жизнь за ваше право их высказать!» Это и есть принцип терпимости при полном равнодушии к истине. Те, кто его провозглашает, как правило, не задумываются о его глубочайшей логической и жизненной противоречивости. Если же задуматься, то окажется, что лучшим – и логически последовательным! – определением толерантности и политкорректности вместе будет приведенное на сайте «Луркоморье» «требование недопустимости причинения моральных страданий даже самым заслуживающим того персонажам и отстаивание этой позиции вплоть до последнего патрона (себе в лоб)»[8].
Важно, что на этом пути как толерантность, так и политкорректность в целом входят в принципиальный конфликт с научным знанием, которое, как известно, основывается на понятии истины. Здесь вообще идеология политкорректности вступает в противоречие со всем ходом развития западной цивилизации, где истина с самого начала – принципиально важное фундаментальное понятие. Подробнее об этом ниже – в разделе о науке как жертве политкорректности.
Итак, согласно требованиям политкорректности, каждый достоин признания и уважения. Речь идет не о равенстве перед законом, а об обязательности признания и уважения. Это требование на первый взгляд разумно, на самом же деле оно не только не осуществимо на практике, но и противоречит здравому рассудку и элементарной логике. Как можно, обнаружить и окружить любовью и уважением добро, если не выделить и соответственно не подвергнуть остракизму зло! Вообще в нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с неравенствами. Именно неравенства есть и бросаются в глаза, а равенство является чистой абстракцией. Даже если мы решимся констатировать его существование, оно так вплетается в различные конкретные исторические ситуации, что на практике жизни и истории всегда реализуется как неравенство. Возьмем вроде бы совершенно равных «средних» людей: равных перед законом, одинаково образованных, примерно одинаково обеспеченных и даже живущих в одинаковых соседних квартирах. Но у каждого своя биография, и эта биография может кардинально развести их жизненные пути. Один останется тем, что он есть, а другой станет, скажем, министром, профессором или миллионером. Это как пешки в шахматах: они вроде все абсолютно равны, но в разных игровых ситуациях обретают совершенно разную значимость. Кроме того, есть культуры и страны, дальше ушедшие по пути технического и социального прогресса (в чем бы этот прогресс ни выражался), чем другие. И трактовать жителей этих последних как равных жителям первых – значит не замечать или делать вид, что не замечаешь, отсутствия у них навыков для нормальной жизни в цивилизованном обществе, что делает их в этом отношении неравными аборигенам этого самого цивилизованного мира, как, например, это прекрасно показано в известном и абсолютно неполиткорректном американском фильме «Борат».
Ну и есть люди, которые в чем-то бесконечно превосходят других – в уме, силе, красоте, богатстве, известности и т. п. Их обычно называют элитой, лучшими, властителями, звездами, знаменитостями. Их особенность и неравенство с другими ухватывается множеством понятий, которые не всегда даже поддаются четкому рациональному определению: величие, избранность, аристократизм, стиль и др. Конечно, сильней всего эти особенности и исключительности воспринимались, оценивались и уважались в сословном обществе, где они оказывались базисом социальной стратификации. Георг Зиммель в свое время, определяя специфику аристократии как сословия, отмечал уникальность и особость каждого аристократа, его принципиальную несравнимость с другими. Для понимания этой специфической характеристики аристократии как группы, для членов которой общей чертой является уникальность каждого из них, Зиммель выдвинул парадоксальное понятие «индивидуальный закон». Если абстрактное равенство людей предполагается всеобщим законом, то индивидуальный закон предполагает, что каждый человек действует, сам определяя для себя как степени свободы, так и необходимые ограничения. Поведение при этом детерминируется как личностными задатками, так и ситуационными обстоятельствами индивидуальной жизни. Индивидуальный закон – это закон, вытекающий в каждом конкретном случае его реализации (а здесь есть только конкретные случаи, но нет общей закономерности) из факта человеческого неравенства[9].
Но вообще-то следует различать идеологию политической корректности, господствующую в официальных организациях, а также в политизированных кругах так называемого гражданского общества, и неэксплицируемую латентную идеологию повседневной жизни. Для повседневной жизни неравенства и различия являются изначальной характеристикой социального мира. Огромная часть социализации состоит в усвоении именно различий и неравенств. Более того, значительная часть человеческих связей и отношений предполагает наличие неравенства как необходимое условие своего осуществления. Как изящно замечает Больц, «каждый, кто обладает жизненным опытом, знает, что не бывает счастья без переживания различий». В общем, вся наша взрослая жизнь есть опыт переживания самого разного рода неравенств.
Но политкорректность и здравый смысл – понятия не только не совпадающие друг с другом, но коренным образом расходящиеся прежде всего по своим функциям. Политкорректность – политическое орудие. Оно служит для контроля мнений в условиях свободы слова. Путем насильственной замены неполиткорректных слов на политкорректные осуществляется насильственный перевод мнений и высказываний из одной системы мысли в другую, более того, из одной картины мира – в другую. Например, если в ходе выступления оратор употребит термин «чужой» по отношению к прибывшему в страну лицу иной национальности, иной веры или иного цвета кожи, то политкорректная аудитория может прервать его восклицаниями: «Не чужой! Другой!» (Этот случай действительно произошел с автором настоящей работы.) Вроде бы не очень великое изменение. На самом деле, политкорректное «другой» переводит рассуждение из контекста, скажем, борьбы цивилизаций, геополитики, острых международных и идеологических конфликтов в контекст общедемократического Fraternité и благостных призывов типа «Оды к радости», причем в отсутствие религиозных оснований, которые все же были у Шиллера. Важно, что реакция на отклоняющиеся, неполиткорректные мнения – это не рациональное возражение, а возмущение. Гнев и возмущение – демократические чувства, и они позволяют контролировать аудиторию лучше, чем рассуждение и анализ. Так что способ реагирования на неполиткорректные слова становится дополнительным орудием контроля мнений. Таким образом, возникает политкорректная ортодоксия, которая способна возбуждать и направлять демократическое общественное мнение даже против большинства, которое тем самым действительно превращается в «молчаливое большинство». Этот процесс формирования молчаливого большинства, которое подавляется малочисленной, шумной и политкорректной ортодоксией, немецкая исследовательница общественного мнения Элизабет Ноэль-Нойман назвала «спиралью молчания»[10]. Мы еще вернемся к ней в дальнейшем.
Генеалогия политкорректности
Выше мы объяснили, в чем родство и общность политкорректности с такими феноменами общественной жизни, как корректность и такт. Но было обещано также показать теснейшую генетическую связь политкорректности с эмансипаторными устремлениями Нового времени, причем на первый план здесь выходит, естественно, марксизм.
Упоминавшийся выше Н. Больц дает социологическое объяснение феномена политкорректности. Одна из важнейших задач политкорректности, говорит он, состоит в том, чтобы показать, что столкновение цивилизаций и борьба культур на самом деле представляют собой не что иное, как культурную и национальную дискриминацию и создание атмосферы межнациональной вражды и ненависти. При этом политкорректность еще и умудряется замаскировать собственную стратегию. Дело в том, считает Больц, что имеет место не одна борьба культур, а две. Одна из них – это борьба Запада против всего остального мира (это не просто столкновение религий и не столкновение равноправных и равноценных культур, а именно борьба всех против Запада, имеющая своей целью уничтожение этого самого Запада), а вторая – это борьба Запада против самого Запада, ведущаяся перьями левых интеллектуалов. Имеются в виду возбуждаемые ими антибуржуазные настроения.
Есть очень простое, но убедительное объяснение того, почему подавляющее большинство европейских интеллектуалов в политике занимают левые позиции. «Они много значат, но мало зарабатывают», – пишет Больц. И им приходится постоянно сталкиваться с успешными персонами буржуазного мира, которые очень много зарабатывают, хотя в интеллектуальном смысле им очень сильно уступают. Больц формулирует эту простую мысль еще и на языке социологии: типичный антибуржуазный рессентимент интеллектуалов возникает в силу неравновесия дохода и статуса. Маркс, Ленин, затем в двадцатые годы прошлого столетия Антонио Грамши, Вальтер Беньямин, ранние представители Франкфуртской школы – все они были не только философами и абстрактными наблюдателями мировых фигур и процессов, но и неистовыми пропагандистами антибуржуазного духа. У самых ярких фигур, таких, как Маркс или Ленин, в инвективах, направляемых в адрес буржуазии как класса и буржуазного государства, звучал такой накал страсти и ненависти, что трудно было не заключить о присутствии личных мотивов. Об этих мотивах, в частности, о материальных затруднениях Карла Маркса, о личных проблемах и трудной эмигрантской жизни Ленина писали многие публицисты. Нетрудно в этом смысле предположить, что левая мысль родилась из духа ненависти к успехам буржуазии и «нанятых» ею идеологов. Возрождение этого духа случилось в 60-е годы прошлого столетия, и с этих пор левый интеллектуализм существует и делает успехи как постоянная оппозиция капиталистическому развитию. Шестидесятые годы – это время антикапиталистической студенческой революции, которая зиждилась на фрейдомарксистском базисе, творилась во имя разоблачения репрессивной идеологии и освобождения пола как альтернативы марксистскому освобождению труда. Любые кризисные явления приветствовались радостными криками, ибо это давало возможность провозгласить смерть капитализма и от имени всего человечества потребовать справедливости в равенстве. Революция 60-х сошла на нет, не оставив каких-либо ясно наблюдаемых изменений в политике и экономике, но запечатлела свои неизгладимые следы в европейской культуре. Таковыми оказались, во-первых, сексуальная революция, коренным образом изменившая отношение общества к полу, и, во-вторых, культурное движение, ставшее известным под именем постмодерна. О постмодерне речь пойдет ниже. И, в-третьих, революция 60-х не умерла, сохранившись в постоянном стремлении к освобождению чего-нибудь (объект эмансипации постоянно меняется) из-под ига буржуазии, безжалостно использующей и истребляющей этот подлежащий освобождению объект.
Больц дает краткий перечень подлежащих освобождению объектов и выдвигаемых «освободителями» (а также и подлинных) мотивов борьбы за освобождение. Время показало, пишет он (как это, впрочем, было показано уже тысячекратно на примерах самых разных революций), что те, кто требовал равенства, на самом деле стремились к привилегиям. Это относится к интеллектуалам едва ли не в первую очередь. Они обманывали, ссылаясь на «человечество». Это крайне абстрактное понятие получает свое антибуржуазное звучание только когда подавляющее большинство населения истолковывается как жертва системы, управляемой кучкой богачей. Это наполовину конспирологическое, наполовину философско-историческое представление в левой мысли всегда считалось выражающим самый дух мировой динамики. Сначала (в марксизме) угнетенное человечество представлял собой угнетаемый капиталистами класс фабричных рабочих, потом (в феминизме и вообще социал-демократии) его место заняла угнетенная женщина и угнетенные колониальные народы, потом – безжалостно используемая, загрязняемая и погубляемая природа (зеленые и социал-демократия). Капиталисты всегда должны что-нибудь угнетать и губить, иначе не может быть объяснено господствующее положение западной цивилизации и невозможно призвать ее к ответу по всемирно-историческим счетам. Поэтому теперь, когда экологический контроль стал непременным атрибутом любых индустриальных проектов и процессов, роль угнетаемой и загрязняемой природы занял безжалостно убиваемый промышленными странами земной климат. Это новый фетиш, заключает Больц, над которым рыдают все обиженные судьбой люди, страны и корпорации[11].
В результате оказывается, что современная политическая корректность представляет собой разновидность освободительной идеологии, где сплелись и соединились воедино апелляции буквально ко всем, представленным в ходе развития левой мысли объектам эмансипации, то есть ко всем, кто когда-либо – в реальности или в политкорректном воображении – был обижен и угнетен: к черным, к индейцам, к женщинам, к толстым и некрасивым, к инвалидам, к геям и лесбиянкам и т. д. Сюда же относится и экология, то есть земля и воздух, моря и реки, которые тем самым одушевляются, и отношение к ним, также страдающим и умирающим под игом капитала, обретает высочайший градус морального и душевного накала.
Исходя именно из победоносного движения политкорректности, Больц приходит к выводу, что марксизм, который провалился как программа социалистического преобразования мира, победил именно как культурная революция. Политкорректность – это, говорит он, ядро марксистской культурной революции XX и XXI веков. Символ веры этой культурной революции сводится к четырем тезисам:
– все жизненные стили равны, дискриминировать альтернативный жизненный стиль – преступление,
– кто против политики уравнивания, тот расист, ксенофоб и сексист,
– не гомосексуалисты больны, а те, кто осуждает гомосексуализм,
– ни одна культура и ни одна религия не превосходят друг друга.
Ясно, что воспринять это все в полном объеме всерьез невозможно, но признаться в этом нельзя, если не хочешь быть осужденным и заклейменным в лучшем случае как консерватор и реакционер, а в худшем – как расист, ксенофоб и сексист. Это точь-в-точь как с буржуазной идеологией, представляющей собой, согласно марксистскому учению, извращенное, ложное отражение действительности. Если ты не согласен с каким-то тезисом марксистской теории или требованием марксистской революционной практики, то ты находишься под влиянием буржуазной идеологии, то есть видишь мир в ее кривом зеркале. Таким образом, любое возражение против марксизма будет отвергнуто, и не только отвергнуто – возражающий еще и будет обвинен в том, что его сознание извращено, искривлено, отравлено и т. д. Таким образом, в марксистскую идеологию, а равным образом и в идеологию политкорректности оказался вмонтирован своеобразный теоретический механизм, благодаря которому не только заранее отвергается любая критика, но сам критик оказывается обвиненным в самых тяжких грехах, причем именно по причине самого факта критики.
В силу действия этого механизма, коснувшись любой из табуированных политкорректностью тем, критик получает в ответ полный заряд ненависти и презрения. Испытать это пришлось и самому автору. На одном из теоретических семинаров в Институте философии Российской академии наук я высказал некоторые мысли, сформулированные в этой книжке, причем в гораздо более мягкой форме, чем здесь, и все равно одна из слушательниц демонстративно покинула семинар, провозгласив что-то вроде «Сексист проклятый!». То есть надо либо изучать какие-то темы, и тогда хочешь не хочешь придется говорить о них вслух, либо практиковать политкорректность и этих табуированных тем не касаться.
Кстати, в свое время, в 30-е годы прошлого века именно этот механизм, именно этот «ход мысли» стал одним из инструментов легитимации террора против идеологических девиантов в СССР, а позже, в относительно вегетарианский постсталинский период – инструментом идеологического террора как такового. Пойдет ли политкорректное общество по тому же пути? В конце концов, как показала история, любой «новояз» существует не сам по себе, а как орудие легитимации реальной политики!
Вообще-то такие эмоции, как ненависть, презрение и прочее, а также необходимость репрессий вроде бы не запрограммированы в политкорректных индивидах. Программируется в них, наоборот, терпимость. Но в том-то и дело, что терпимость в политкорректном обществе предписана только одной стороне. «Многообразие» и «мультикультурность», то есть справедливое и равное представление разных религий, культур и народов – это как «истина», «равенство» и «справедливость» в оруэлловском новоязе. На самом деле мы скорее имеем дело с инверсией традиционного культурного шовинизма (Больц). Идеал и образец – Азия и Африка, а Запад – это то, что следует презирать и чего следует стыдиться. Многообразие и равенство означает на практике: все минус одна. И эта одна – культура Запада. Существует множество фактов, показывающих, что во взаимодействии с иными культурами именно западная «культура белого человека» оказывается проигрывающей и страдающей стороной.
Политкорректный университет
Я склонен согласиться с приведенными выше соображениями Больца о том, что именно в марксизме политкорректность черпает импульс своего могучего развития. Но с оговорками. Во-первых, далеко не все левые интеллектуалы ненавидели буржуазность как мировоззрение и жизненный стиль. Многие ранние социал-демократические мыслители и политики вели вполне буржуазный образ жизни, а такие, например, неомарксисты поздней Франкфуртской школы, как Негт, Апель, знаменитый Хабермас, оказались великолепно интегрированы в идеологическую систему западного мира. Даже некоторые вожаки студенческой революции 60-х, Режи Дебре например, без труда сумели стать крупными чиновниками либо вполне буржуазными мыслителями. Вообще-то можно предположить, что Больц прав в том, что левые интеллектуалы должны быть умными, но бедными и что не подобает защищать обездоленных тому, кто не в состоянии на своем опыте пережить их долю. Но это сомнительное обобщение. К тому же в нынешней утвердившейся во всем мире организации интеллектуального труда практически нет различий в статусе и доходах университетских преподавателей и профессоров в зависимости от их идеологической ориентации. Профессора, имеющие разные политические ориентации, успешно работают вместе, точно так же как и профессора, имеющие разные сексуальные ориентации. И это становится возможным именно в силу того, что в университетах господствует дух политкорректности. Современный университет – это политкорректный университет.
Последнее суждение надо расширить – отнести его ко всей современной науке и ко всей системе образования. Политкорректность коренным образом меняет сами принципы научного исследования и преподавания, как их сформулировал Макс Вебер в знаменитом эссе «Наука как профессия и призвание»[12]. Ученый, говорил Вебер, должен оставлять свои политические убеждения и интересы за порогом аудитории. Нельзя употреблять в отношении явлений, которые могут стать предметом исследования, оценочные суждения. Нельзя определять суть явления, пока оно не исследовано. Все может стать предметом исследования, в том числе и расы, и биологическая обусловленность половых ролей, и вклад разных цивилизаций в мировую культуру, и даже сама политкорректность. У науки свой язык, и количество модальностей в нем ограниченно, оно гораздо меньше, чем в обыденном языке. Употребление языка науки, согласно правилам его употребления, и есть подлинная политическая корректность ученого (и преподавателя). Она не выходит за пределы его научной и преподавательской деятельности как таковой и не запрещает ему быть и политиком, и пропагандистом – но только в свободное от преподавания время.
Совсем иначе начинает выглядеть ситуация интеллектуалов, когда в университет, в систему образования вообще – в самую ткань научной терминологии и якобы объективных оценок – начинает проникать извне политически и культурно детерминированная политкорректность. Это проникновение совершается разными способами. Приведу несколько примеров. Вот что пишет о политкорректном обучении Агнешка Колаковска в своей широко известной статье «Imagine. Интеллектуальные истоки политкорректности»: «Недавно я читала отчет об обучении географии в английских школах. На уроках географии главные темы – "Окружающая среда, устойчивое развитие и культурная терпимость"; учителя говорят учащимся, что те должны думать о глобальном потеплении и эксплуатации менее развитых стран большим бизнесом. К каждой проблеме есть только один правильный подход, других толкований нет; дети получают много знаний о загрязнении окружающей среды и об эксплуатации, но не о реках и горах, государствах и столицах и не о том, что где расположено. Под конец средней школы дети не умеют найти на глобусе Африку»[13].
Вот сообщение «Фокс-ньюс», также относящееся к школьному образованию: «В некоторых муниципальных школах учителя математики учат не только алгебре и геометрии, но и тому, как бороться с тем, что они считают расизмом. Программа "антирасистского обучения" в муниципальной школе в Ньютоне, Массачусетс… вызвала недовольство некоторых родителей, считающих, что школьное управление озабочено политической корректностью больше, чем развитием математических навыков. Согласно региональным нормативам обучения в средней школе, главной целью (top objective! – Л. И.) обучения математике является выработка в учениках "уважения человеческих различий". Задачей учеников является "усвоение главных системных ценностей "уважения человеческих различий "путем демонстрации поведения, свободного от расизма и предрассудков"» и т. д.[14]
То же самое происходит в гораздо более широких масштабах, в частности, в ходе обучения антирасистской математике. В Англии антирасистская математика – часть реформы образования, состоящая в выработке преподавания математики, свободного от якобы наличествующих в традиционном преподавании культурных и расовых предрассудков. На место математики как дисциплины, созданной целиком западными учеными, должна прийти антирасистская математика и этноматематика. Это касается и содержания, и методов преподавания. Главным предметом изучения должно стать математическое знание древних неевропейских цивилизаций, а также вклад неевропейских математиков вообще. В преподавании следует избегать расовых стереотипов как в оценке знаний учеников, так и в учебных пособиях, учебниках, материалах и экзаменационных вопросах. И т. д. Задачей антирасистской математики в целом является достижение более высоких результатов представителями некоторых групп меньшинств[15].
И, наконец, пример из собственной практики: однажды, сочиняя учебник, я написал совершенно безобидную фразу о том, что «разные народы и расы внесли разный вклад в становление культуры человечества». Один прогрессивный академик (в смысле действительный член Российской академии наук) в своей рецензии в негодующем тоне обвинил меня в «расиализме». Поскольку, очевидно, не всем известен этот термин, поясню, что «расиализм» (в отличие от «расизма», который ставит одни расы выше других) констатирует, что существуют разные расы, и, поскольку они разные, люди этих рас отличаются друг от друга. «Расиализм» – это продукт дифференцирующей работы прогрессивных западных академиков (в смысле людей академических профессий). Так вот, обвинение в «расиализме» – это практически запрет на слово «раса» и соответственно на научное изучение рас.
Это только эпизод, не имевший никаких практических последствий. Но политкорректность может оказать и уже иногда оказывает опустошающее воздействие на науку. Политическая корректность вообще состоит в требовании не замечать многие очевидные вещи, делая вид, что их не существует. До определенной степени эти ее требования совпадают с нормами вежливости и такта, только до тех пор, впрочем, пока из них не начинают делаться политические выводы. Такое же замалчивание распространяется и на науку.
Изучение генетических детерминант и расовых особенностей поведения, врожденных половых ролей и т. п., вообще почти все социобиологические исследования трактуются как нечто не совсем приличное, как упоминание и, более того, настаивание на том, о чем не принято не то что настаивать, но не принято вообще упоминать. Речь о том, истинны или неистинны суждения об открываемых в этих областях закономерностях, вообще не идет. Истина должна пасть жертвой приличий, то бишь политической корректности. На место исследования, ориентированного на поиск истины, приходит моральное негодование, и этого в современных условиях оказывается достаточно, чтобы определенные исследовательские направления закрылись как бы сами собой, вроде бы как из-за отсутствия интереса к ним со стороны исследователей. Ведь не каждому хочется быть Галилеем, не всякий готов выдержать, когда его выставляют расистом, сексистом, фашистом, человеконенавистником. Чтобы таковым не прослыть, табуированных тем надо не касаться, а если коснуться, то лишь с выводом о том, что искомого содержания в этой теме нет.
Если вернуться к тезису о неразрывной связи политкорректности с рессентиментом левых интеллектуалов, то из сказанного следует, что в результате уравнивания статусов и доходов интеллектуалов разных ориентаций левый интеллектуализм лишается или давно уже лишился своей рессентиментной составляющей. Если она сохраняется, то лишь как чисто декоративный элемент. А «левая мысль», хотя и несет на себе некий флер оппозиционности или даже революционности, оказывается на деле вполне респектабельной мыслью. Тем более что удовлетворяющее современным требованиям понятие респектабельности она выработала для себя сама, составив исходное основание обретающей глобальное влияние идеологии политкорректности.
Надо, правда, оговориться, что далеко не все исследователи считают именно марксизм главным источником идеологии политкорректности. Упомянутая выше Агнешка Колаковска, например, в той же статье связывает возникновение политкорректности с либеральной идеологией. Существует, говорит она, некий политкорректный «обычай»: ссылаться на то, что именуется «всеобщим либеральным согласием» (liberal consensus). Это уверенность в том, что (а) все приличные люди согласны с основополагающей либеральной идеологией, (б) каждый, кто с ней не согласен, заслуживает осуждения, (в) каждый, кто отрицает, что такое всеобщее согласие существует, тоже заслуживает осуждения. «Если мы ищем лаконичное определение политкорректности, – пишет А. Колаковска, – может быть, с этого и надо начать: это идеология, которая предписывает веру во всеобщее либеральное согласие»[16].
Но вообще-то эта дискуссия о происхождении политкорректности имеет чисто академический характер. Сегодня происхождение политкорректности не так уж и важно, потому что она давно уже не соотносится с политической ориентацией. Возникает или уже существует универсальный политкорректный консенсус на основе признания равенства как высшей ценности. Политкорректными обязаны быть и политкорректны на практике как правые, так и левые, как социалисты, так и либералы. Политкорректность приобрела на Западе и начинает приобретать в России черты буквально религиозной правильности и обязательности. Мы говорили о негодовании, с которым реагируют на неполиткорректные суждения. Это характерно именно для реакции верующего или глубоко убежденного в своей правоте человека. Ведь ни в том, ни в другом случае рациональная аргументация не играет решающей роли. В основе мировоззрения лежат вера или убежденность, и само поведение руководствуется моральным долгом. В результате получается, что для академической публики во всем мире политкорректность становится своего рода заменой религии в безрелигиозном мире, а для академиков в России – это эрзац утраченной идеологии. Понятно – особенно применительно к России, – что с точки зрения языковой политики политкорректность есть попытка ввести хоть какой-то порядок в современный хаос, установить какие-то вехи, какие-то ориентиры в ставшей совершенно непрозрачной социальной жизни. Дюркгейм называл подобную ситуацию аномией. Если политкорректность – религия или идеология, то она дает индивиду ощущение субъективной уверенности и моральной правоты, с которыми ему легче жить и ориентироваться в хаотичном и непонятном мире. Другое дело, что моральная правота и субъективная уверенность – не помощники в познании. Этика – а значит, и политкорректность! – не могут заменить науку в деле познания мира.
Политкорректность и постмодерн
Изучение и критика политкорректности затруднены тем, что она существует в виде некоторого набора никогда и нигде полностью и однозначно не выраженных и не опубликованных нормативных требований или же достаточно расплывчатых пожеланий относительно публичного и частного поведения в отношении разного рода «меньшинств»: национальных, религиозных, культурных, сексуальных и т. д., а также индивидов, в каком-то отношении отличающихся от большинства людей. У нее нет начала в том смысле, что нет труда, в котором впервые было введено это понятие и на который можно было бы сослаться. Создается впечатление, что политкорректность возникла сама по себе, вроде бы соткалась из воздуха, как булгаковский Коровьев в саду на Патриарших, и если и имеет за спиной какую-то традицию (а именно: марксистскую, на что убедительно указывает Больц), то современной «теорией и методологией» не располагает.
Действительно ли у практики политкорректности сегодня отсутствует теоретико-методологический фундамент? Нет, не отсутствует, он имеется, и в этой роли выступает постмодерн. На первый взгляд это звучит вызывающе. Постмодерн – не столько социально-политическая, сколько культурно-художественная идеология. Постмодерн вроде бы ничего не запрещает и ничего не предписывает. Он не то что не запрещает, но, наоборот, поощряет любые новшества и даже безумства. Для него нет ничего окончательного, ставшего и вообще конечного. Более того, для него нет ничего неприемлемого. Постмодерн способен вместить в себя все – любую позицию, теорию, идеологию, точку зрения и объединить их все в своих бесконечных коллажах. Поэтому постмодерн, казалось бы, не только не политкорректен, но даже антиполиткорректен.
Но парадоксальным образом именно эти его перечисленные качества роднят его с идеологией политкорректности. Так же как и суть политкорректности, суть постмодерна выражена в простой формуле: истина относительна. Так же, как и политкорректность, постмодерн не ищет истину, истина его не интересует – он провозглашает терпимость. Так же, как и для политкорректности, для постмодерна не существует чужого. Там есть другое, и только.
Несмотря на то что постмодерн по определению постсовременен, постмодернен, он несет на себе родовое пятно одной из базовых идеологий модерна, а именно: марксизма. Многие его теоретики произошли из марксистов. Например, Жан Бодрийяр, отправлявшийся от марксова анализа товара. Бодрийяр рисует картину мира, где реальные объекты утратили доверие, потому что все кодируется, моделируется и воспроизводится искусственно. Коды порождают «гиперреальности» (голография, виртуальная реальность и т. д.). Возникает феномен «обратимости», что ведет к исчезновению конечностей любого рода; все оказывается включенным в одну всеобъемлющую систему, которая тавтологична. Мир становится миром симулякров. На человеческую жизнь это оказывает поразительное влияние. Она становится одномерной, все противоположности сглаживаются либо вообще исчезают. Благодаря таким жанрам, как перформанс или инсталляция, переход от искусства к жизни оказывается либо незаметным, либо вовсе несуществующим. В политике, благодаря репродуцированию идеологий, более не связанных с социальным бытием, снимается различие между правым и левым. Различие истинного и ложного в общественном мнении – в массмедиа прежде всего – перестает быть значимым. Полезность и бесполезность объектов, красивое и безобразное в моде – эти и многие другие противоположности, определявшие ранее жизнь человека, сглаживаются и исчезают.
Другой знаменитый философ постмодерна Жан-Франсуа Лиотар тоже имел марксистское прошлое: он был марксистом и социалистом прежде, чем стал идеологом постмодерна. Вообще можно сказать, что отдаленные начала постмодерна заложены в элементах марксова социального анализа, прежде всего в учениях о товарном фетишизме, об отчуждении, об идеологии. Не случайно, конечно, что почти все крупные мыслители, с которыми связаны идеи постмодерна, начиная от и Зиммеля и Беньямина и кончая Бодрийяром и Лиотаром и некоторыми из позднейших постмодернистов, либо прошли через период марксизма, либо до конца находились под воздействием марксовых теорий и доктрин. Это – не обвинение, как может показаться кому-то из молодых читателей, начитавшихся популярных страшилок о Марксе. Это попытка показать генеалогическую связь, общее происхождение марксизма, политкорректности и постмодерна как политических идеологий или по меньшей мере идеологий, имеющих политические коннотации.
Для Лиотара постмодерн – отрицание тоталитаризма. Тоталитаризм здесь надо понимать не в политическом, а в теоретическом смысле, в смысле отказа от идеи целого (лат. totum – все, целое, совокупность, totaliter – все, полностью), которое целиком и полностью определяет части. Лиотар констатирует, что описание общества как целостности, тотальности, независимо от того, как оно «оформлено», представляется все более и более неадекватным по причине утраты в современном мире доверия к метанарративам (метаповествованиям). Метанарративы – это всеобъемлющие теории, например, теория социальной эволюции, или теория закономерного чередования социально-экономических формаций, или учение о том, что целью общества является удовлетворение потребностей его членов, либо доктрина о целом, предшествующем частям и их, части, определяющем и т. д. Отличительным признаком и теоретической, а также и социальной функцией метанарратива является дедуцирование (если речь идет о теории) или навязывание (если речь идет о мире социальной деятельности) соответственно теоретических решений или форм поведения, которые диктуются заранее принятым способом видения целого. Метанарратив предполагает телеологию, то есть идею смысла и цели целого, которая оправдывает, обосновывает, легитимирует насилие в обществе и использование знаний для целей насилия.
Современный мир разрывает с метанарративами, на их место приходит множество партикулярных нарративов. В метанарративе, по идее, каждая мельчайшая деталь жизни общества могла быть локализована и осмыслена в свете смысла и цели целого, то есть помещена на свое специфическое место внутри целого. Метанарратив в принципе дифференцирует мир, структурирует его, вырабатывает последовательности и иерархии. В случае множества партикулярных нарративов единая структура отсутствует. Самые разные нарративы могут соседствовать друг с другом и претендовать на равный когнитивный статус. Скажем, теория относительности будет соседствовать с буддистской доктриной или учением о том, что мир покоится на трех слонах, а те стоят на огромной черепахе. Зато это мир свободного выбора, чуждого насилию (дедукции или навязыванию). Будучи соединенной с витгенштейновской теорией языковых игр {1} концепция кризиса метанарративов может рассматриваться как философское обоснование практики политкорректности. А если добавить сюда бодрийяровские идеи о господстве симулякров и исчезновении противоположностей, то постмодерн прямо начинает выглядеть философией политкорректности.
Общественное мнение как форма существования политкорректности
От философии политкорректности перейдем к социологии политкорректности. Речь пойдет прежде всего об общественном мнении. Его, так сказать, центром (если можно применить здесь пространственные метафоры) являются массмедиа. К ним примыкает партийная (парламентская) политика, с одной стороны, и неформальные сети коммуникаций, наполненные эмоциями, слухами и разрозненными обрывочными сведениями, то есть гражданское общество, – с другой. Массмедиа и гражданское общество (в указанном здесь смысле) – формы проявления общественного мнения в его текущем, изменчивом, формирующемся состоянии. Оно фиксируется в социологических опросах. Опросы дают «срез» общественного мнения на определенный момент времени. Разного рода выборы и референдумы – это тоже «срезы», которые принципиально не отличаются от социологических, но в силу определенных причин – сплошная выборка, электоральная мобилизация, заставляющая человека более ответственно, чем всегда, отнестись к своему мнению, и особый институциональный статус выборов – рассматриваются не как обыкновенный сиюминутный «срез», а как некая долгоживущая структура идей, устремлений и т. д., то есть всего того, что понимается под общественным мнением. Это иллюзия, потому что общественное мнение по самой своей природе текуче и изменчиво. Уже на следующий день после волеизъявления оно другое. Принимать какое-то определенное изъявление общественного мнения как руководство к действию на долгий срок – это логический нонсенс. Всерьез относиться к тому, избирать ли президента на четыре года или на пять лет, довольно нелепо. Строго говоря, президент должен избираться заново каждое утро, но поскольку это невозможно, легитимным считается президент, избираемый раз в несколько лет.
Это одно из неистребимых внутренних противоречий, лежащих в самом фундаменте демократической процедуры и превращающих демократию в чистую условность. Другое и не менее важное противоречие заключается в квалификации, точнее, в отсутствии квалификации, мнений, составляющих в своей совокупности общественное мнение. Потому что его полным и последовательным выражением, его совершенной институциональной формой считается процедура свободного демократического голосования: один человек – один голос, – причем абсолютно не важны ни обоснованность, ни прочие эпистемологические, психологические, социологические и любые другие качества высказываемого мнения. Важно отметить, что в текущей практике формирования и выражения общественного мнения, то есть и в медиа, и в разных неформальных обсуждениях, составляющих тело гражданского общества, мнения именно квалифицируются, то есть к ним предъявляются определенного рода требования, без выполнения которых они не выйдут на публику. Например, мнение, публикуемое в газете, должно быть грамотно сформулировано, рационально аргументировано, обладать хотя бы минимальной социальной или политической определенностью. В неформальном обсуждении также минимальным требованием будет логичность выражения и контекстуальная определенность. При этом мнения квалифицируются также и в отношении лица, его высказывающего. В медиа есть лица, слывущие экспертами. Одних уважают, других – нет, но как минимум к ним прислушиваются. Мнение ученого эксперта в медийном пространстве (а это значительная часть пространства общественного мнения как такового) всегда будет весить больше, чем мнение хрестоматийного и пародийного Васи Пупкина. Даже в неформальных разговорах и обсуждениях, где формальные статусы совсем не принимаются во внимание, имеются так называемые лидеры мнений, то есть те индивиды, соображения которых группа оценивает выше, чем соображения любого другого сочлена.
И только в самых важных и судьбоносных изъявлениях общественного мнения – на выборах и референдумах – квалификация отсутствует. Один человек – один голос. Голоса не квалифицируются и не взвешиваются. Это принципиальный момент. Кто бы ни явился на избирательный участок, если он не лишен дееспособности судом, он получит бюллетень и проголосует. Он, может быть, не знает, что на весах, не знает толком, за что голосует, он даже бюллетень выговаривает как «булютень». Но его слабый голос при определении стратегии государства весит ровно столько же, сколько голос умудренного политика, ученого, бизнесмена.
Это второе важное внутреннее противоречие демократической процедуры. Говорить об этом не принято. Принято политкорректно молчать, потому что за плечами века борьбы за право каждого отдать свой голос на выборах. Хотя если рассуждать логически, право каждого отдать свой голос необязательно должно исключать взвешивание голосов в зависимости от, скажем, возраста голосующих, их дохода, образования, семейного положения, уровня социальной вовлеченности и т. д. Иначе получается так, что уравниловка, отвергаемая всеми передовыми борцами в сфере экономики, доходов и образа жизни, становится стратегическим принципом при выработке судьбоносных политических решений, которые неизбежно влияют на экономику, доходы и т. д.
Это два глубочайших внутренних противоречия демократии. Следствием первого из них становится иллюзорный характер демократической легитимации. Президент, избранный на всеобщих выборах, считается легитимным президентом следующие пять лет. Основанием для этого служит состояние общественного мнения на какой-то конкретный момент времени несколько лет назад. То есть мы имеем дело с легитимностью, имевшей место быть такого-то числа такого-то месяца такого-то года. Все последующие пять лет эта легитимность является чистой условностью, что, кстати, сплошь и рядом демонстрируют социологические срезы общественного мнения. Примеров такой условной легитимности можно найти множество. Самые близкие и самые знакомые – это президент Ельцин в России и президент Ющенко на Украине. Оба были избраны на волне народного восторга, оба оказались слабыми и неадекватными политиками и государственными деятелями, оба быстро утратили авторитет в глазах избирателей, но оба отбыли положенные им сроки, приведя каждый свою страну на грань тотальной катастрофы.
Следствием второго из этих противоречий оказывается неквалифицированный массовый выбор, что неизбежно отражается на качестве избираемого. Мысль о том, что другие способы выбора правителей еще хуже, высказанная, как считается, Черчиллем, мало утешает.
Эти противоречия можно объяснить генетически. Немецкий философ Гельмут Шпиннер писал, что общественное мнение (в терминах Шпиннера: конституционно-правовой порядок) ведет свое происхождение от организации взаимодействия ученых в классической науке эпохи модерна[17]. Мы можем назвать это генетическим единством коммуникативной структуры общественного мнения и науки эпохи модерна. Задачей науки является свободное изготовление и распространение знаний, что осуществляется путем исследований и публикации результатов, невзирая на лица, на чуждые науке интересы, практические затруднения деятельности, воздействия властей и т. д. Полученные результаты ученый обязан сделать всеобщим достоянием. Универсализм науки состоит не только в том, что полученные ею результаты имеют всеобщий характер, но и в том, что они являются всеобщим достоянием. Галилей настаивал на том, что «она вертится», вопреки воле Церкви и под угрозой смерти. Было бы странно, если бы Ньютон стал вдруг скрывать, что «действие равно противодействию». Множество работ, как, например, «Новый органон» Фрэнсиса Бэкона, демонстрировали принципы коммунизма знаний, господствующего в рамках научного сообщества.
Разумеется, нельзя считать, что эти ценности всегда реализовывались в науке в их абсолютно чистом виде. Речь идет об идеально-нормативной структуре научного сообщества, а если подойти к делу методологически, то об идеально-типическом его образе. Реальные процессы во многом не совпадали, а уж тем более не совпадают сейчас с идеальным типом. Но важно подчеркнуть, что парадигма «республики ученых» явилась в свое время образцом, на который ориентировалось как понимание роли гражданина, так и создание демократических политических учреждений. К концу XVIII – началу XIX века по образцу «республики ученых» сложились в основных чертах пресса, партии и гражданское общество, образовав коммуникативную структуру, которую еще через полтора столетия Юрген Хабермас определил как публично организованную общественность. Ее главные правила и принципы воспроизводили в основном правила и принципы, которыми руководствовалось сообщество ученых эпохи раннего модерна.
Именно поэтому первое и главное правило, конституирующее общественное мнение, состоит в том, что это род знания, изначально являющегося общественным достоянием. В этом общественное мнение совпадает с научным знанием. Можно напомнить, что знание отнюдь не всегда является таковым. Наоборот, оно часто скрывается как от широкой публики, так и от специально заинтересованных в нем лиц, бывает секретным, закрытым, эзотерическим и т. д. Кроме того, оно может обладать экономической ценностью и становиться предметом купли-продажи. К общественному мнению это все не относится. Его составляют знания, которые не только не скрываются, а, наоборот, пропагандируются, и не только не продаются, но, наоборот, иногда даже силой навязываются потребителю. Пространство общественного мнения – это пространство выражения, а не сокрытия знаний.
Но в то же время знания, которые могут быть квалифицированы как общественное мнение, отличаются от научного знания. В случае общественного мнения речь идет исключительно о повседневном знании, то есть о мнениях, взглядах, точках зрения, суждениях, мировоззрениях и позициях, для которых не характерны квалификационные признаки научного знания: истинность, обоснованность, рациональность и др. Это, в нашей классификации, второе правило общественного мнения. Мы говорим, что общественное мнение похоже на классическую науку в своей публичности и открытости. Но оно противоположно науке в том, что касается его квалификационных признаков. Суждения и позиции, формулируемые в рамках общественного мнения, не обязаны быть истинными, рациональными, обоснованными и т. д., хотя и могут быть таковыми. Общественное мнение – не наука и на научность, как правило, не претендует.
При этом не должен обманывать тот факт, что выражение знания, функционирующего в рамках общественного мнения, может принимать внешне наукоподобный характер: могут организовываться «школы», «академии» (будь то партийные, политические, оздоровительные, астрологические и т. п.), могут читаться систематические лекции, проводиться экспертные оценки – все равно это будет повседневное знание. В одной работе ранее я анализировал признаки повседневного знания и пытался выяснить его главные характеристики[18]. Во-первых, оно всеохватно, то есть включает в себя практически все, что актуально и потенциально входит в мир индивидуума, то есть все, что «релевантно» для него (за исключением сферы его профессиональной деятельности как специалиста, эксперта). Во-вторых, оно имеет практический характер, то есть формируется и развивается не ради самого себя (как научное знание, определяемое идеалом «науки для науки»), а в непосредственной связи с реальными жизненными целями. В-третьих, главной его конститутивной характеристикой является его нерефлексивный характер: оно принимается на веру как таковое, не требуя подкреплений, систематических аргументов и доказательств. Получение и высказывание знания именно такого рода – повседневного, а не научного знания – и становится предметом регулирования в рамках общественного мнения.
Из коллективной принадлежности этих знаний вытекает полная свобода для каждого распоряжаться знаниями, как своими собственными, так и чужими, вращающимися в этой сфере. Это будет третье правило общественного мнения: общественное мнение – это порядок, устанавливающий и реализующий принципы свободы слова как максимально неограниченной свободы выражать, воспринимать и критиковать знания.
Четвертое и пятое правила, которые в определенной степени вытекают из трех первых, можно описать как принцип равнозначности всех мнений и точек зрения и принцип свободного доступа к ним. Принцип равнозначности (четвертое правило) подразумевает отсутствие всяких квалификационных требований к «качеству» мнения (истинность, содержательность, эмпирическая обоснованность и т. д.). Принцип свободного доступа (пятое правило) подразумевает отсутствие формальных барьеров доступа к форуму мнений (например, доказательства права высказать свое мнение или требования обосновать его). Эти последние два правила серьезно отличаются от правил, конституирующих научное сообщество. В рамках последнего, конечно, допустимо только квалифицированное мнение. Кроме того, научное мнение в отличие от того, что сказано в правиле пятом, нужно обосновывать. Эти отличия правил общественного мнения от правил парадигматического образца (научного сообщества) с самого начала породили определенные трудности, на преодоление которых в общественном мнении понадобились века политической борьбы.
История говорит о разных способах решения этой проблемы по мере становления общественного мнения. Они сводятся (а) к попыткам эпистемологической квалификации знаний, допускаемых в сферу свободной циркуляции, (б) к попыткам их квалификации с точки зрения своеобразно понимаемой обыденной социологии знания и (в) к попыткам их морально-этической квалификации. К первому и второму способам относится введение разного рода цензов и ограничений (ценз оседлости, имущественный ценз, возрастной ценз, дискриминация по полу, гражданству, национальной или этнической принадлежности и т. д.), применяемых в отношении лиц, имеющих право на выражение своих знаний, то есть, скажем, имеющих право голоса в принятии важных решений на общегосударственном или локальном уровне. При этом практиковались своего рода повседневные антропология и социология знания, основанные на нерефлексирумых квазитеоретических предпосылках обыденной жизни. Так, долгое время считалось, что женщины по своей когнитивной и эмоциональной конституции не способны формировать истинное, обоснованное и разумное мнение, то есть, можно сказать, женщины являются эпистемологически ущербными существами – эпистемологическими инвалидами. Понадобились долгие десятилетия борьбы за всеобщность избирательного права, пока, наконец, женщины не были допущены к избирательным урнам. Такого же рода мнения выражались в отношении чернокожих. До сих пор нельзя считать полностью разрешенным вопрос о том, каков нижний возрастной предел когнитивной зрелости. Это относительно эпистемологической квалификации знаний. Также имели и имеют хождение множество теорий повседневной социологии знания, предполагающие, например, что верное (истинное) мнение об интересах общества или локальной общины могут иметь только те граждане, что прожили в данном государстве, городе или поселке не менее определенного количества лет (в случае ценза оседлости), или только те, что обладают недвижимым имуществом на данной территории (имущественный ценз), или только принадлежащие к «титульной» национальности. При этом предполагается, что мнения лиц, не принадлежащих к названным категориям, относительно интересов общества ложны – либо потому, что эти люди недостаточно интегрированы в социальную общность, либо потому, что они ориентированы на интересы другой общности.
Поясним, что такая квалификация мнений есть квалификация по критерию социологии знания, потому что в приведенных аргументах содержится предпосылка о воздействии социальных условий на содержание и на истинность знаний – то, что Карл Мангейм вслед за Карлом Марксом называл «привязанностью мышления к бытию» (Seinsgebudenheit des Denkens). В принципе классическая социология знания содержательно не очень далеко ушла от повседневных теорий. Маркс закрепил право на истинное знание интересов общества за одним социальным классом – пролетариатом; это имущественный ценз наоборот: истину знает тот, кому нечего терять, кроме своих цепей. Буржуа были объявлены эпистемологическими инвалидами вроде женщин, но не по психофизиологическому критерию, а по критерию, выведенному из социологии знания. То же самое у Мангейма; только здесь было «нечего терять» интеллигенции, которую он считал свободной от всякого рода корыстных интересов и потому именовал свободно парящей интеллигенцией. Но Мангейм не выдвигал требования о лишении всех, кроме интеллигенции, права голоса в административном порядке и за такую непоследовательность и нерешительность подвергался критике со стороны марксистов. Сами же они – не Маркс, а его последователи, советские марксисты, – сделали совершенно логичный правовой и организационно-политический вывод из марксовой социологии знания, лишив в 20-е годы права голоса всех представителей так называемых эксплуататорских классов. Кроме того, все годы советской власти эпистемологическими инвалидами считались все западные философы, социологи, историки и т. д., что прямо и открыто утверждалось в тысячах и миллионах официальных и неофициальных суждений как в пропаганде, так и в научной литературе. Они были даже не эпистемологическими инвалидами, но эпистемологическими уродами, ибо не просто страдали от отсутствия истины, но выдавали за истину уродливые порождения своего духа.
Попытки введения разного рода цензов и цензур всегда были попытками выработки системы самокоррекции общественного мнения, подобной той системе самокоррекции, которая имелась в академическом сообществе, бывшем его прообразом. Там это система критики знаний, результатом которой является то, что не все знания принимаются и признаются в качестве научных знаний, а только те, что обладают определенными характеристиками (о них говорилось выше). Цензы и цензуры – это критерии отбора тех знаний, которые принимаются и признаются в качестве общественного мнения. Постепенно в ходе становления массовой демократии всякие попытки создания системы критики (= системы самокоррекции) в рамках общественного мнения были отброшены и утвердилась идея, согласно которой в этой сфере допустимы все мнения. Один человек – один голос независимо от того, что этот голос произносит.
Наука – жертва политкорректности
На заре Просвещения главным инструментом создания разумных законов считалась публичная дискуссия. Она состояла в борьбе мнений и позиций, когда каждый готов позволить своему противнику убедить себя путем рациональной аргументации. Ключевое слово здесь – рациональность. Наука, как сказано, была идеалом общественного устройства, а ученый во всей полноте его качеств и удовлетворяющий всем эпистемологическим требованиям – идеалом гражданина. Все, однако, начало меняться уже в XIX столетии, а в XX – изменилось коренным образом. Рациональная аргументация не выдержала напора пропагандистской машины. В условиях диктатур дискуссии смолкли, а прежняя буржуазная «публичность» превратилась в «массовость». Но нельзя сказать, что виновата не наука, а общество, что демократия перестала удовлетворять требованиям научности, не выдержав железной поступи диктатур и разжижения мозгов, свойственного состоянию ума граждан массовых демократий. Дело в том, что и сама наука изменилась и оказалась уже не в состоянии выступать образцом демократического устройства.
Мы говорили, что реальные процессы жизни научного сообщества во многом не совпадали с идеальным типом. Кроме того, сама парадигма академического сообщества претерпевала изменения как с точки зрения его функциональных отношений с широким обществом, так и в своем внутреннем строении. Соответственно менялась и роль научного сообщества – оно переставало быть парадигматическим образцом общества вообще. Из универсальной парадигмы оно превращалось в один из элементов – и нельзя сказать, что самый значимый, – плюралистической организации знаний, наивыразительнейшим примером которой является организация знаний в постмодерне.
Параллельно процессу изменения места науки в обществе шел процесс размывания ее прежде стабильных норм. Во-первых, по мере роста масштабов исследований и превращения научных лабораторий в грандиозные фабрики по производству знания прежняя вольная «республика ученых» превращалась в высокоорганизованную корпорацию с бюрократическими структурами, четкой иерархией, разделением функций и секторов ответственности. Это вело к изменению нормативной среды, прежде всего к подавлению критики, которая не только затрудняется в силу возникновения жестких бюрократических иерархий, но и фактически становится почти невозможной по причине глубокого разделения функций в ходе исследований. «Соседние» аспекты исследования изначально оказываются закрытыми для коллег.
Во-вторых, главный персонаж классической модели академического порядка – ученый, исследователь, университетский профессор, творящий одиноко и свободно, исчезает со сцены; на его место приходит энергичный и деловитый, включенный в сеть властных, экономических и прочих интересов научный менеджер. Классический ученый – космополит, как космополитична и наука вообще, ибо научные проблемы имеют всеобщий характер и не знают национальных границ. Современный научный менеджер, вплетенный в сеть властных отношений, не может не принимать в расчет как национальной, так и локальной политики, в результате чего его сознание в лучшем случае становится ареной конфликта между универсальными высшими интересами науки и партикулярными интересами общественных сил, а в худшем – первое приносится в жертву второму.
То же самое происходит и в отношении экономических интересов. Коммерциализация науки и ее связь с промышленностью превращают результаты исследования в товар. Знание перестает быть общественным достоянием – достоянием всего человечества, как в классической «республике ученых», а становится либо частной (автора, заказчика), либо государственной собственностью, что практически выводит его за рамки академического порядка знаний, который в результате начинает, конечно, разрушаться.
В конце концов, ученый оказывается перед лицом трудноразрешимой дилеммы: ориентироваться ему в своей научной деятельности на иерархии идей или на бюрократические иерархии? Возникает и другая дилемма: чем является для ученого наука – призванием или службой? Параллельно вопросам, которые возникают перед отдельным ученым, самому академическому сообществу, а также регулирующим и планирующим науку организациям приходится разрешать такие же дилеммы: развивать академическое самоуправление или, наоборот, переводить науку под управление бюрократических организаций? Как определять стратегию исследований: исходя из целей чистого познания или из интересов лиц и инстанций, финансирующих исследования? Публиковать все, как того требует научная этика, или «секретить» данные по политическим, да и экономическим соображениям? Как бы ни решались эти вопросы в каждом конкретном случае, тенденция состоит во все более активном проникновении в науку норм и принципов, характерных для совсем иных сфер жизни и деятельности. В лучшем случае дело идет об усложнении отношений между академическим и другими (бюрократическим, военным, экономическим, правовым и прочими) сообществами и принципами организации знаний. В худшем – о разрушении классического академического сообщества, основанного на приведенных выше принципах, и формировании на его месте какой-то новой организации или о замещении академического сообщества другими (например, названными выше в скобках).
Описанная маргинализация науки как раз и был истолкована как один из знаков наступления постмодерна, для которого, как мы отметили, характерен, помимо прочего, когнитивный плюрализм. Наука – в соответствии с ее новым местом в обществе – уже не считается источником общезначимого, обоснованного, объективного знания. В «славном новом мире» постмодерна она стала одним из многих возможных источников знания, равноценной и стоящей в одном ряду, например, с магией, религией, идеологией, искусством и массмедиа.
В постмодернистской философии, в частности, у Лиотара, наука проходит по разряду языковых игр[19]. Согласно концепции языковых игр, никакая теория не в состоянии понять язык в его целостности, разве что она сама является одной из языковых игр. Так же, считает Лиотар, надо подходить и к метанарративам: каждый из них – языковая игра, являющаяся одной из множества языковых игр. Таким образом, спекулятивные метаповествования релятивизируются. Сами они претендуют на объективное описание явлений. Лиотар же хочет рассматривать каждое из них как языковую игру, правила которой могут быть вычленены путем анализа способов соединения предложений друг с другом. Пример – языковая игра «наука». Вот ее правила:
1) в качестве научных допускаются только дескриптивные суждения,
2) научные суждения по существу отличаются от нормативных суждений, например, идеологических, которые только и используются для легитимации всякого рода гнета и насилия,
3) компетентность требуется только от того, кто формулирует научные суждения, а не от того, кто их принимает и использует,
4) научное суждение существует как таковое лишь в системе суждений, которая подкреплена аргументативно и эмпирически,
5) из предыдущего ясно, что языковая игра «наука» предполагает знакомство ее участника с современным состоянием научного знания.
Из всего этого следует, что научная игра не требует теперь метанарратива для цели собственной легитимации. Правила ее имманентны, то есть содержатся в ней самой. Для того чтобы вести ее успешно, конкретному ученому вовсе не нужно добиваться освобождения от кого-то или чего-то, а также не нужно демонстрировать «прогресс» знания. Достаточно того, чтобы его деятельность была признана соответствующей правилам игры, то есть признана в качестве научной деятельности другими представителями ученого сообщества. Наука, таким образом, оказывается самоподдерживающимся, или самореферентным, предприятием, не нуждающимся в каком-то внешнем по отношению к ней самой оправдании или обосновании. Как и в отношении всякой игры, вопрос о том, почему в нее играют, не существенен. Можно играть в науку, можно играть, например, в лото или в вуду – кому что нравится! Возражать на это, сказав, что наука дает объективное знание, которого не дает вуду, бессмысленно. Потому что, во-первых, возразят, сказав, что объективность науки существует лишь в рамках ее собственных правил и предпосылок, то есть в ее научном метанарративе, а во-вторых, обвинят в расизме, расиализме и презрении к локальным культурам, воплощающим в себе тысячелетнюю мудрость человечества. Причем все это будет делаться по телевизору или с применением Интернета, которые построены явно не по правилам вуду. Для политкорректности важна не истина, а терпимость, как уже было сказано выше. Для науки важна не терпимость, а истина. Терпимость может быть характерна для отдельного ученого, но она невозможна для науки. Наука не готова дать расцвести ста цветам, поскольку строгие правила квалификации научных суждений основаны на принципе истинности. Каждая теория и каждое высказывание в рамках науки должны быть либо истинными, либо неистинными. Они не могут быть немножко истинными и даже частично истинными. Наука не может, оставаясь наукой, руководствоваться принципом терпимости. Суждения, которые можно «терпеть», будучи с ними несогласным, – это не из области научных суждений.
Нетерпимость к ложным суждениям и связанная с этим постоянная обязанность критики знаний — это конститутивный принцип науки. Поэтому, как я старался показать выше, политкорректный университет – это contradictio in adjecto. Это с точки зрения логики, а на деле практически все современные университеты – политкорректные университеты.
Любопытно, что взяв от классической науки принцип публичности и открытости, общественное мнение (= буржуазная общественность) отказалось от свойственного науке принципа критики знаний. И это обусловило, во-первых, деградацию науки и ее переход на роль одного из многих равноправных и, так сказать, равноудаленных от общества и государства когнитивных институтов, и, во-вторых, эволюцию общественного мнения в направлении политкорректности. Марксова попытка создать идеологию как науку провалилась и стала мишенью гнусных насмешек и издевательств. Вместе с тем это была едва ли не последняя попытка восстановить утрачиваемую на глазах связь общественности (= общественное мнение) с наукой, то есть mutatis mutandis с истиной. Сейчас общественное мнение – это арена демонстрации терпимости и политкорректности.
Политкорректностъ, постмодерн и общественное мнение — это, говоря словами поэта, близнецы-братья. Из всех точек зрения и идеологий, представленных в современном общественном мнении, политкорректностъ – самая мощная, и она, собственно, диктует основные его, общественного мнения, принципы:
1) в нем должны быть равномерно и полно представлены все существующие в обществе точки зрения, позиции и идеологии,
2) запрещается к какой-то из этих позиций относиться неуважительно и дискриминационно, независимо от ее зрелости и обоснованности,
3) наука не может быть представлена в общественном мнении как одна из приемлемых позиций и точек зрения, ибо она есть носитель нетерпимости – единственного, что нетерпимо в политкорректном обществе.
Таким образом, произошло, можно сказать, окончательное отделение общественного мнения от его раннего прообраза – сообщества ученых.
Обратимся теперь к тому, посредством каких механизмов осуществляется формирование политкорректного общественного мнения.
Как работает политкорректность. Спираль молчания
Сейчас кажется безо всяких доказательств ясным, что чем менее массовая демократия учитывает мнение отдельного человека, тем сильнее становится давление общественного мнения на индивида и его мысли. На эту тему высказывались многие, но первым это понял и точно выразил Алексис де Токвиль. Его наблюдения американской демократии в этом отношении актуальны и поныне. Раньше – до эпохи модерна, до Просвещения, до рождения общественности, – формируя собственное мнение, человек ориентировался на неписаный моральный обычай, на закон Божий или, по крайней мере, на законы государства. В современном мире эти традиционные ориентиры и опоры человеческого суждения утратили свою значимость, и их место заняло общественное мнение. Поэтому человек в массовой демократии без сопротивления уступает общественному мнению. В результате введенными в заблуждение оказываются и те, кто создает общественное мнение, и те, кто на него ориентируется. В процессе формирования общественного мнения общество как бы обманывает само себя.
Вот как описывает это Токвиль в своем бессмертном труде о демократии в Америке. «Анализ духовной жизни Соединенных Штатов особенно ярко показывает, – пишет он, – насколько влияние большинства превосходит любое другое влияние из тех, которые известны нам в Европе. Мышление обладает невидимой и неуловимой силой, способной противостоять любой тирании. В наши дни монархи, располагающие самой неограниченной властью, не могут помешать распространению в своих государствах и даже при своих дворах некоторых враждебных им идей. В Америке же дело обстоит иначе: до тех пор пока большинство не имеет единого мнения по какому-либо вопросу, он обсуждается. Но как только оно высказывает окончательное суждение, все замолкают и создается впечатление, что все, и сторонники и противники, разделяют его… (Курсив мой. – Л. И.) В Америке границы мыслительной деятельности, определенные большинством, чрезвычайно широки. В их пределах писатель свободен в своем творчестве, но горе ему, если он осмеливается их преступить… Политическая карьера для него закрыта, ведь он оскорбил единственную силу, способную открыть к ней доступ. Ему отказывают во всем, даже в славе. До того как он предал гласности свои убеждения, он думал, что у него есть сторонники. Теперь же, когда он выставил свои убеждения на всеобщий суд, ему кажется, что сторонников у него нет, потому что те, кто его осуждает, говорят громко, а те, кто разделяет его мысли, но не обладает его мужеством, молчат…»[20]
В другом месте Токвиль говорит, что иногда люди, которые придерживаются прежней веры, из боязни оказаться в меньшинстве присоединяются к большинству новой веры, не изменяя на самом деле своих мыслей. В результате взгляды одной лишь части нации кажутся мнением всех и поэтому вводят в заблуждение как раз тех, кто сам виноват в этом обмане. По Токвилю, получается так, что общество порождает молчание именно тем, что само высказывается: высказавшись, оно фактически исключает альтернативные мнения. Те, кто не согласен, молчат, поскольку не хотят оказаться в меньшинстве, а поскольку они молчат, большинство чувствует себя еще большим, чем оно есть на самом деле, а молчащее меньшинство – еще меньшим, чем оно есть на самом деле. И дело здесь не в боязни репрессий, преследований инакомыслящих и т. п. Дело в характерном страхе перед изоляцией, когда человек боится быть отвергнутым большинством. Этот страх вечен, как само человечество, и ведет свое происхождение от древних времен, когда изоляция от группы, от племени, от рода могла обречь человека на смерть.
Токвиль описал это явление в 30-е годы XIX века, а немецкая коммуникативистка и социолог Элизабет Ноэль-Нойман в 60-е годы XX столетия детально изучила его и дала ему имя «спирали молчания». Если подытожить ее размышления на эту тему, то спираль молчания, по Ноэль-Нойман, это явление, состоящее в сокрытии индивидами собственного мнения в случае, если оно заведомо отличается от мнения большинства, во избежание последующей социальной изоляции, при том что индивиды, стоящие на позициях большинства, демонстрируют свое мнение открыто, что делает последних по видимости сильнее, а первых – слабее, чем они есть на самом деле.
Э. Ноэль-Нойман – социолог, и ее концепция спирали молчания родилась в ходе социологических исследований и экспериментов. Так, спираль молчания тесно связана с так называемым «сдвигом последней минуты». Это когда индивиды под давлением общественного мнения резко меняют свое решение в последнюю минуту, то есть непосредственно в ситуации принятия решения. Для социологов понимание этого феномена крайне важно, потому что бывают ситуации, когда в ходе предвыборной борьбы все социологические данные показывают, что кандидат набирает, скажем, 10 или 15 % голосов, а голосование дает ему 5 или 6 %, потому что происходит тот самый «сдвиг последней минуты», когда очень многие избиратели под давлением превосходящего большинства меняют свою позицию прямо у избирательной урны. При равном количестве потенциальных избирателей у двух кандидатов мобилизация общественного мнения прежде всего при посредстве СМИ может вести к «сдвигу последней минуты» и победе одного из них, что совершенно невозможно предсказать социологически. Другим проявлением спирали молчания можно считать ситуацию, когда люди, проголосовавшие, скажем, за определенную партию или определенного кандидата, в опросах на выходе из избирательного участка (так называемых эксит-полах) и вообще в разговорах после выборов называют другую партию или другого кандидата. Здесь тоже сказывается давление общественного мнения, но это необязательно мнение большинства, проявившееся в результате выборов, поскольку те, кто постфактум корректирует свое решение, не всегда корректируют его в пользу победителя выборов. Называя своего фаворита, они часто ориентируются на мнение своего ближайшего окружения.
Ноэль-Нойман и ее коллеги обнаружили много частных интересных моментов. Они, например, показали, что независимо от убеждений одни люди охотно вступают в разговор, а другие предпочитают свое мнение «прятать». Это справедливо и относительно целых групп населения: мужчины более склонны публично обсуждать неоднозначные темы, чем женщины, молодежь – более склонна, чем пожилые, представители элиты – более, чем представители низших слоев. Соответственно был сделан вывод об потенциально большей успешности партий, ориентирующихся на молодых, успешных, богатых. Здесь действует та же самая спираль молчания: тот, кто говорит, оказывается в большинстве, а тот, кто молчит, – в меньшинстве, и – парадоксальным образом – это говорящее большинство кажется тем больше, чем больше молчащих.
Теперь о мотивах такого поведения. Их несколько, один из них тот, о котором мы сказали выше и который отмечал еще Токвиль, – это боязнь социальной изоляции, так как сама природа человека побуждает его опасаться изоляции, стремиться к уважению и популярности среди сограждан. Более подверженными действию «сдвига последней минуты» и других эффектов, связанных со спиралью молчания, оказываются как раз те, «кто чувствует себя изолированно в общении… Лица со слабым самосознанием и ограниченной заинтересованностью в политике тянули с участием в выборах до последнего момента»[21]. Это замечательное наблюдение, показывающее, что часто «люди со слабым самосознанием и ограниченной заинтересованностью в политике» оказывают – благодаря эффекту последней минуты – решающее влияние на результат выборов, особенно если это выборы из приблизительно равносильных партий или кандидатов. В одном из предыдущих параграфов, рассуждая о внутренних противоречиях демократической процедуры, мы говорили, что священный лозунг демократии «один человек – один голос» фактически дает преимущество людям, в ограниченной степени осознающим необходимость и характер своего участия в выборах. Теория спирали молчания это подтверждает.
Другим мотивом поведения, порождающего спираль молчания, Ноэль-Нойман считает подражание: люди наблюдают поведение других, узнают о других, узнают о существующих возможностях и при удобном случае пробуют такое поведение сами. Однако главный мотив все же она видит в страхе человека перед изоляцией. Таким образом, оказывается, что спираль молчания имеет антропологическое основание. Это не чисто социальный феномен, его нельзя свести к какому-то конкретному обществу и к какой-то конкретной общественной системе. Она универсальна. И факт наличия спирали молчания в принципе подрывает авторитет общественного мнения как критерия правильности как фактического, так и морального суждения, а уж тем более, суждения вкуса.
Ноэль-Нойман связывает спираль молчания с феноменом «плюралистического незнания», описанным американскими психологами Б. Латане и Дж. Дарли. Под именем плюралистического незнания понимается возможность того, что большинство людей ошибается в своем суждении относительно мнения большинства людей. Каждый думает: я не понимаю, что происходит, однако предполагаю, что все остальные понимают, что происходит. И эта ошибка затем мультиплицируется в общественном мнении об общественном мнении. Большинство обманывается относительно большинства. Здесь та же самая основа, что и в спирали молчания – в конечном счете основа самого общественного мнения в его интегрирующей функции в массовой демократии – страх перед изоляцией, страх быть отвергнутым большинством. Человек верит в то, во что верят другие, потому что они в это верят. И кто имеет по какому-то вопросу иное мнение, может изменить его, не теряя лица, если и пока он остается анонимом, то есть молчит. Из страха перед изоляцией человек постоянно следит за общественным мнением. Общественным оно называется именно потому, что человек может его высказать, не боясь попасть в изоляцию. Он, следовательно, постоянно следит за тем, как другие видят мир. А каждый из этих других постоянно следит за тем, как видят мир все остальные. В результате в каждом вырабатывается некое квазистатистическое чувство, помогающее следить за мнением других – за тем, что «говорят». И если что-то «говорят», как мне представляется, многие, это и будет общественное мнение, к которому мне остается только примкнуть, тогда как другие, в свою очередь, рассматривают мое выраженное мнение как общественное мнение, к которому они также не могут не примкнуть. Получается, что общественное мнение – это самореферентная система, которая воспринимает самое себя как нечто, превосходящее самое себя и поэтому не подлежащее сомнению и критике.
Заслуживает внимания вопрос о природе большинства, мнение которого и выражает якобы общественное мнение. Что это за часть нации, которая выступает в роли большинства, точнее, от имени большинства? В любом обществе это мнение четко определенных меньшинств, как правило, некоторых групп элиты, а именно: «правящих» и «ценностных» элит, то есть тех, кто управляет обществом, и тех, кто подбирает аргументы и ходы мысли, легитимирующие это управление. Именно эта легитимирующая ортодоксия и есть выразитель и носитель политкорректных мнений. С этой точки зрения, спираль молчания как раз и представляет собой механизм осуществления политкорректности. Когда мы уже знаем о спирали молчания, механизм кажется довольно простым. Ортодоксия высказывает определенные позиции. Люди привыкли вслушиваться в мнения политиков, писателей, интеллектуалов, экспертов, короче, «светочей разума», и поэтому воспринимают их мнение как правильное, поскольку как они (люди) полагают, так их («светочей») воспринимает большинство, поэтому люди боятся оказаться в изоляции в случае высказывания альтернативного мнения. Но главное, в процесс включены СМИ. Они обеспечивают статистику, необходимую для квазистатистического чувства, которое описано выше. Мнение «светочей интеллекта», размноженное в газетах, переданное через радио и телевидение, не оставляет сомнения в том, каково мнение большинства. Важнее всего, что публика разделяет мнения интеллектуалов о себе самой. Народ начинает видеть себя, а следовательно, и быть таким, каким его видят и о нем рассказывают интеллектуалы. Здесь срабатывает самореференция, о которой мы говорили выше.
Разумеется, роль СМИ здесь решающая. Мы неоднократно подчеркивали, что общественное мнение не существует без и вне медиа. И само рождение общественного мнения на заре модерна совпало с появлением газеты. Именно медиа, пренебрегая определенными мнениями, делает большинство молчащим и превращает мнение меньшинства в общественное мнение. Оно становится единственным господствующим мнением, которому каждый боится возразить из страха перед общественной изоляцией. Таков механизм формирования идеологии политкорректности, когда каждый имеет свое мнение на предмет, но вынужден выражать и выражает только общепринятое. Этот механизм и описывает теория спирали молчания.
Как работает политкорректность. Повестка дня
Массмедиа дают общественному мнению содержание, точнее темы. «За» что-то будет человек или «против» – это каждому, хотя и в строго определенных рамках, предоставлено решать самому. Но нельзя самому признавать или не признавать тему в качестве темы. Какая тема сегодня важна и актуальна, решают СМИ.
Это очень хитрая и даже мудрая стратегия. Ведь это вам не советская власть – в демократии никто не заставляет быть «за» или «против» чего-то. Наоборот, нам как бы говорят: мы ждем вашего мнения, именно оно решает. Ведь действительно на первый взгляд может показаться, что тема, в общем-то, и не так важна. Важно, кто принимает решение по этой теме. А это как раз я! Я самоутверждаюсь, становлюсь суверенным гражданином лишь тогда, когда могу, как древний римлянин, опустить большой палец вниз или поднять вверх, даровав кому-то или чему-то жизнь или, наоборот, обрекая на смерть. Это и будут мои «за» и «против».
Но если задуматься, станет ясно, что мои «за» и «против» могут заранее программироваться в зависимости от темы, по которой мне предстоит высказываться. Одна тема гарантирует мое «за», другая – мое «против». Поэтому на каждых выборах важна тема, с которой выступает кандидат, вокруг которой кипят схватки и ломаются копья, то есть формируются «за» и «против». Например, когда в 1996 году страна выбирала между Ельциным и Зюгановым, СМИ старались увести на задний план тему Чечни, которая была априори проигрышной для Ельцина, а вывести на передний план тему «преступлений коммунистического режима». Поскольку электронные СМИ были в руках сторонников Ельцина, они сумели превратить голосование в референдум по поводу коммунистического прошлого. Если бы вопрос ставился так: готовы ли вы выбрать президентом человека, который своими руками создал чеченский кризис и вверг страну в грязную и кровавую авантюру, то все бы сказали «нет, мы против». Но когда выборы превратились фактически в ответ на вопрос о том, хотят ли люди возврата назад – к пустым полкам магазинов, к парткомам и всевластию ЦК, то большинство, естественно, проголосовало против Зюганова и за Ельцина, ставшего преградой на пути «коммунистического реванша». То есть наш выбор фактически был предопределен темой, по которой нам надлежало высказаться и которую нам фактически навязали СМИ.
Выработка массмедиа темы или нескольких актуальных тем, представляющих собой повестку дня (по английски agenda), называется созданием повестки дня (agenda-setting), и для общественной функции массмедиа это гораздо важнее, чем просто создание мнения. Путем формирования повестки дня общественному мнению навязываются определенные схемы протекающих в мире процессов. Собственно общественное мнение оказывается состоящим из таких схем, которые поочередно в разных сочетаниях выдвигаются на передний план дискуссий в обществе, то есть становятся актуальными темами повестки дня. Ясно, что выработка повестки дня – это манипуляция общественным мнением. То, что массмедиа манипулируют общественным мнением, – это само по себе схема, присутствующая в общественном мнении. В сознание зрителя, слушателя, читателя СМИ впечатывают не мнения, как таковые, а схемы, относительно которых формируются мнения, сводящиеся в конце концов к щелчку переключателя в мозгу: «за»/«против».
Важно, что повестка дня, то есть темы, подаваемые СМИ как важнейшие на сегодняшний день, – это отнюдь не всегда объективно самые важные темы. Чтобы понять, почему и как это происходит, нужно сделать краткий экскурс в историю. Само явление открыли в 70-х годах прошлого столетия американские социологи Шоу и Макомс. Они как раз и ввели два эти понятия: «повестка дня» как набор сюжетов и проблем, считающихся наиболее важными в тот или иной отрезок времени, и «создание повестки дня», т. е. внедрение данного набора в сознание аудитории[22]. Довольно скоро выяснилось, что повестка дня – это довольно сложное явление, не сводимое к темам, которые пропагандируют СМИ. В дальнейших работах эти названные и другие социологи выделяли целый ряд «повесток»: «публичная» повестка дня, которая не совпадает с повесткой дня СМИ (например, безработица, которая затрагивает многих и отражается на всех людях, хотя она может в данный момент не привлекать внимания СМИ), «внутриличностная» повестка, которая охватывает самые важные для самого индивида проблемы, «межличностная» повестка, то есть набор проблем, актуальных для малой группы, к которой принадлежит индивид, наконец, осознаваемая общественная повестка (perceived community agenda), то есть представления индивида о том, какие проблемы являются самыми важными для сообщества, к которому он принадлежит. И это еще не полный перечень повесток. В результате возникло представление об иерархии критериев отбора тем как важных и заслуживающих внимания и о взаимодействии уровней этой иерархии при формировании «публичной» повестки дня. Сама же публичная повестка дня оказалась медиаповесткой, «достроенной» и скорректированной с участием и в ходе взаимодействия всех указанных выше частных повесток[23].
Но подлинный сдвиг в изучении повестки дня произошел, когда началось сравнение медийной и публичной повесток с реальным состоянием дел. Ясно, что реальное состояние дел – это очень двусмысленное понятие. Для его «улавливания» в каждой из проблемных сфер нужна целая система индикаторов. Но есть вещи, которые ясно показывает даже текущая статистика. Например, проблема наркомании: в описываемый период статистические данные о числе погибших от передозировки свидетельствовали о падении уровня наркомании, тогда как СМИ с небывалой активностью призывали к «войне с наркотиками», провоцируя общественную истерию. В результате в 1989 г. свыше 50 % участников опросов общественного мнения утверждали, что наркомания является самой острой проблемой Америки. Но уже к началу 1992 г. их доля сократилась до 4 %, и это не потому, что над наркоманией была одержана решительная победа, а потому, что СМИ потеряли к названной теме интерес и она выпала из повестки дня (хотя реальное положение вещей практически не изменилось)[24]. Именно эти и подобные факты позволяют сделать принципиальный вывод о том, что СМИ не столько отражают объективную реальность, сколько конструируют собственную.
Механизмы и инструменты медийного конструирования реальности обнаруживались (а) в рутинных методах получения и обработки информации в СМИ и в тесно связанных с ними внутренних требованиях к форме и содержанию медиапродукта, (б) в структуре взаимоотношений СМИ с правительственными и другими инстанциями, составляющими среду их деятельности.
Сначала к пункту (а): по определению известного профессора Олтейда из университета Аризоны, новости суть «продукт организованного производства, которое предполагает практическую точку зрения на события с целью связать их воедино, сформулировать простые и ясные утверждения относительно их связи и сделать это в развлекательной форме»[25]. Собственно, на редакционном конвейере, минуя одно за другим рабочие места сотрудников, продукт, если он не отбракован на каком-то из этапов, обретает окончательную форму, в которой он предъявляется глазам, ушам и сознанию читателей, слушателей и зрителей. Причем само событие, которому предстоит стать медийным событием, то есть медийным продуктом, не является нейтральным по отношению к медиа. Событие, то есть сырье, из которого рождается медийный продукт, должно соответствовать определенным критериям, чтобы попасть на редакционный конвейер. Тот же Олтейд с одним из своих коллег, пожалуй, первыми применили к событиям, которым предстоит (или, наоборот, не предстоит) стать предметом телевизионных новостей термин «формат[26]. Если событие отвечает редакционному формату, оно выйдет в телеэфир, если не отвечает, то не выйдет. У разных телеканалов и программ разные требования к формату. Отнюдь не всегда они где-то и кем-то формально прописаны. Чаще всего соответствие или несоответствие формату («формат» или «неформат») определяется интуитивно, причем не только теми, кто диктует редакционную политику и дает окончательное добро к выпуску продукта в эфир, или соответственно на газетную страницу (gatekeepers), но и с их подачи любым репортером.
Теперь о пункте (б), то есть о том, что характеризует взаимоотношения медиа как института с внешней реальностью в процессе формирования повестки дня. Ясно, что любая из общественных сил, понимаемая как группа интересов, стремится к максимально более полному выражению своей позиции и точки зрения в СМИ и при этом, естественно, принимает участие в медийном конструировании реальности, которая в результате может выглядеть как результат взаимного приспособления многочисленных позиций и точек зрения. Соответственно и медийная повестка дня отражает плюрализм общественных стремлений и интересов. Но это идеализированная точка зрения. На практике все обстоит проще и грубее. Есть ньюсмейкеры, от которых зависят СМИ, и главные ньюсмейкеры ходят по правительственным коридорам. Главные ньюсмейкеры – это государственные чиновники и политики, которые в основном и сотрудничают со СМИ, вырабатывая медийную повестку дня.
Дело, разумеется, не в том, что якобы власти «давят» на СМИ. Напротив, имеет место симбиоз, осуществляется полезный для обеих сторон обмен. СМИ получают место у источника новостей, чиновники получают публичный статус. А общество получает сформулированную медиа в сотрудничестве с властями повестку дня, которая фактически, как мы уже сказали выше, представляет собой какой-то или какие-то из актуализированных элементов набора схем, существующего как общественное мнение. Так что можно сказать, что государство является одним из важнейших, а скорее всего важнейшим из агентов, формирующих медийную повестку дня.
Итак, повестка дня – это набор тем, формирующийся в соответствии с внутренними производственными потребностями медиапредприятий (редакций газет и журналов, радио– и телеканалов), а также с потребностями ньюсмейкеров, в частности, главного из них – государства, и это отнюдь не всегда и отнюдь не обязательно самые объективно важные темы дня. Как сказано выше, путем установления повестки дня СМИ навязывают обществу определенные схемы восприятия явлений и процессов, каковые (схемы) выступают в качестве общественного мнения в определенный период времени. Поэтому когда говорят, что следование общественному мнению лишает человека его собственного мнения, это значит не то, что я принимаю мнения других взамен собственного мнения, а то, что я некритически принимаю темы, которые предлагает общественное мнение в качестве важнейших тем дня. Мне не навязывают содержание моего высказывания, мне навязывают тему высказывания. Так, если главным пунктом повестки дня и соответственно главной общественной проблемой СМИ сделают ксенофобию и национальную вражду, то по каждому конкретному событию уже не будет существовать двух мнений. Будет одно мнение – мнение ортодоксии, с возмущением отвергающей неуважительное отношение к «братьям меньшим» из южных республик. Дальше включается механизм спирали молчания, заставляющий молчать несогласных и создающий ощущение единства общественного мнения по этой проблеме.
Такое схематическое изображение процесса может показаться слишком мрачным и не соответствующим действительному разнообразию и пестроте нынешних медиа и плюрализму представленных в них точек зрения. Действительно, разве кто-то кому-то что-то навязывает или может навязать в ток-шоу на телевидении, где жестко схлестываются мнения, позиции и точки зрения иногда просто непримиримых политических противников. Причем иногда даже не ограничивается степень жесткости и прямоты высказываний. Но все эти публичные дискуссии лишь способствуют закреплению повестки дня. Медиа требуется, чтобы мнения не просто высказывались, а высказывались в интересной и привлекательной форме. То есть это требуется не медиа, а зрителям, и, чтобы удержать зрителей, медиа организуют политические дискуссии как увлекательные шоу. Критерий здесь – количество прильнувших к экрану зрителей и количество показов. Как вы думаете, какое событие больше увлечет телезрителей: если Жириновский скажет, что ему не нравится политика Немцова, а Немцов – что ему не нравится политика Жириновского, или если оба прямо перед камерой выплеснут друг другу в лицо воду из стаканов? Правильно, последний вариант наверняка развлечет зрителя, и число показов этого славного события станет астрономическим. Новейший телевизионный стиль так и именуется инфотеймент — от информейшн и энтертеймент, что по-английски, как известно, означает информацию и развлечение.
Собственно говоря, все эти увлекательные шоу представляют собой инсценировки повестки дня, где в исполнении якобы непримиримых политических противников разыгрываются темы, заданные повесткой дня. Да, налицо конфликт, налицо поляризация мнений, но тема та, что нужно, и это главное. Если вспомнить ту же ситуацию выборов 1996 года, то и там либералы насмерть рубились с коммунистами, но только по теме советского коммунизма, а Чечня, как и другие невыгодные для правящей верхушки темы, не затрагивалась вовсе. Установление повестки дня – это не скучная советская пропаганда, это и независимые медиа, и новые политические технологии. Политики это отлично понимают и поэтому с удовольствием участвуют в политических шоу, инсценируемых медиа.
Заключая тему повестки дня, надо обязательно сказать о роли опросов общественного мнения. В демократии они играют огромную роль. Но глубоко неправ будет тот, кто сочтет, что путем опросов общественного мнения мы узнаём общественное мнение. Как будто бы эти опросы представляют собой просто статистику общественного мнения. Будто надо, мол, спросить у всех, что они думают по какой-то проблеме, и этот общий ответ как раз и будет общественным мнением, мнением народа, которое и должно стать руководством для правящих. На самом деле опросы не столько открывают общественное мнение, сколько его формируют. Во-первых, они выполняют базовую для общественного мнения функцию информирования людей о том, что выбрали другие, для того чтобы они смогли определить линию собственного поведения. В рамках «плюралистического незнания» они показывают каждому, что все остальные имеют твердую точку зрения. Ознакомление с результатами опросов запускает механизм спирали молчания.
Во-вторых, опросы помогают политикам определить свою линию в избирательной кампании, ибо для этого они должны знать, что хотят услышать люди. В-третьих, сам факт задавания вопросов на определенную тему заставляет спрошенного считать эту тему важной и формулировать свое мнение именно по этой теме, то есть фактически соучаствовать в создании повестки дня. В этом выражается самореферентностъ общественного мнения.
Спираль молчания и повестка дня – два главных механизма становления и функционирования идеологии политкорректности, существующей в форме общественного мнения.
Политкорректность на экспорт
В определении политкорректности, данном на одной из первых страниц, я говорил, что есть две главные функции идеологии политкорректности: она служит, с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики западных (и ориентирующихся на них) государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса. Что касается подавления инакомыслия и обеспечения ценностного консенсуса, то об этом сказано, на мой взгляд, более чем достаточно. Остается показать, как политкорректность служит легитимации внутренней и прежде всего внешней политики.
В классической модели демократии на первый план выходило представительство интересов общественных сил, которое обеспечивалось принципом «один человек – один голос». Представительство с самого возникновения демократии считалось ее главным достоинством, но одновременно и одной из ее главных проблем. Оно, естественно, предполагает наличие разных общественных групп, то есть дифференциацию общества. Современная массовая демократия, главной движущей силой которой является стремление к уравнению всего и вся путем максимального абстрагирования человеческих существ, ставит, естественно, отнюдь не на представительство, а на легитимацию путем завоевания популярности.
Задача обеспечения демократии в техническом смысле меняется: поскольку политическая дифференциация если не исчезает, то отходит на задний план, политические программы и тезисы становятся ненужными и не важными (их мало кто или вообще никто не читает и не обсуждает, в предвыборной суматохе они скучны и неинтересны), на первый план выходит завоевание голосов путем применения универсальных орудий маркетинга и пиара – в принципе тех же самых, что используются в рекламных кампаниях потребительских товаров, – но еще и специфических орудий политической рекламы. Кандидат – это тот же товар, рекламные стратегии различаются, но цель одна: больше голосов со всех возможных (политических) сторон. Представляет ли кандидат реально чьи-то интересы – не важно. Важно, что победивший кандидат – легитимный депутат, мэр, президент. Все это давно не секрет, об этом написано много работ. Это стандартная процедура продвижения программ и политик.
Но иначе обстоит дело в странах, где массовая демократия, уравнявшая всех и сделавшая излишними партии как агентов представительства партикулярных интересов, точнее, сведшая их к роли сторон в инсценировке политических конфликтов, не стала реальностью, а реальностью, наоборот, является глубокая дифференциация общества, состоящего из многих этнических и конфессиональных групп, кланов, профессиональных и других сообществ, часто с глубоко расходящимися и иногда полярно противоречащими друг другу целями и интересами. В этих странах конфликты между разными группами тянутся иногда веками, переходя из открытой, иногда вооруженной борьбы в подспудную тлеющую враждебность. Существующая в массовых демократиях норма демократического представительства «один человек – один голос» в таких условиях неприемлема, поскольку победа более многочисленной группы на выборах ничего не решает, ибо проигравшая сторона или стороны никогда не примут поражения на выборах, посчитав это недостаточным аргументом в пользу того, чтобы сложить оружие. Тем более что очень часто победители на выборах стараются использовать свою победу для окончательного подавления противника, применяя для этого самые разные методы – психологические, экономические, административные, военные. Этого невозможно избежать, потому что в таких странах победа на выборах, в результате которой сменяется власть, неизбежно ведет не просто к смене политической (партийной) группы, как это бывает в массовых демократиях, а к смене господствующих этносов, кланов, родов, что меняет не только структуру власти, но часто и структуру экономики, и культурные традиции, то есть целиком жизнь в стране.
Можно было бы сказать – и часто говорят, – что все это страны с иной политической культурой, и нужно время и усилия, чтобы демократия, первоначально чуждая, стала обычаем и привычкой. Действительно, культурные традиции играют здесь не последнюю роль, но еще важнее принципиально иной, чем в западных странах, характер социальной структуры. Именно социальная конституция этих во многом еще архаичных обществ требует иного рода представительства, носящего не массово-демократический, а сословный либо корпоративный характер.
Когда же в этих странах реализуется массово-демократическая модель, подменяющая представительство электоральной легитимацией, возможны три исхода. Первый – когда выборы, а затем и деятельность избранных политических органов осуществляются под явным или неявным управлением и контролем иностранных эмиссаров – приводит к появлению управляемой, причем управляемой извне демократии. Второй – когда контроль извне ослабевает – ведет к быстрому перерождению избранной квазидемократической власти в более или менее жесткую диктатуру. И третий – также когда контроль ослабевает или вообще снимается – ведет к ликвидации «ростков» демократии и к возвращению традиционных способов совместного существования (разные формы сословного и корпоративного представительства) и изживания конфликтов (выкупы, войны, геноцид).
Примеров такого рода множество. Практически это происходит во всех странах импортированной демократии — в Афганистане, в Ираке, во многих африканских странах, а также в большинстве постсоветских стран. Якобы легитимно избранные под покровительством международных организаций и западных правительств президенты и парламенты представляют не столько интересы населения самих этих стран, сколько интересы правящих этносов и кланов или же в худшем случае, как, например, в Афганистане, интересы оккупационных сил НАТО.
Легитимации путем выборов – в данном случае не важно, честных или фальсифицированных, – для покровителей и одновременно импортеров демократии оказывается достаточно. Выступают наблюдатели от ЕС, Совета Европы, ООН, и выборы признаются честными и демократическими. Совершенно не важно, насколько избранные парламенты и президенты представляют многообразные партикулярные групповые интересы населения страны. О реальном представительстве речь не идет, достаточно факта проведения выборов. Причем, как правило, в этих странах именно оценка выборов наблюдателями оказывается необходимым и в принципе достаточным условием признания выборов легитимными. В противном случае – то есть если евроатлантические наблюдатели остаются недовольны, само это недовольство уже является сигналом для оппозиции мирным или немирным путем добиваться пересмотра итогов выборов. Много раз это получалось – в Сербии, в Афганистане, в Киргизии, в Молдавии, на Украине. В России, несмотря на недовольство наблюдателей, переворот не удался, хотя готовые «пятые колонны» уже были построены и возвещали о себе митингами и атаками в Интернете и оппозиционных СМИ.
На этом основании можно заключить, что конечным источником легитимности в странах импортированной демократии является не результат народного волеизъявления, а позиция политических и государственных органов США и ЕС, выраженная в оценках наблюдателей.
Безусловно, даже такие инсценированные выборы являются для большинства государств с импортированной демократией огромным, можно даже сказать, эпохальным достижением. Переход политической власти в другие руки не ведет к убийству проигравших. В этом, как писал Элиас Канетти в «Массе и власти», – сущность и всемирно-историческое достижение парламентаризма. Но этого недостаточно для того, чтобы называть возникающий в такой ситуации режим демократическим. Якобы легитимная власть при таком режиме остается абсолютно чуждой интересам подавляющего большинства населения. Внешние силы и местные господствующие кланы – вот и все участники этой игры в демократию. А населению такая власть в лучшем случае не несет ничего, все остается, как было, в худшем же случае несет кровопролитие, бедность, болезни и смерть.
Несколько лет назад корреспондент Би-би-си Хоксли опубликовал книгу «Демократия убивает», где на неопровержимых фактах (репортер – не теоретик) показал роковые последствия импорта демократии[27]. Подзаголовок книги гласит: «Что хорошего в том, что у тебя есть голос?» Автор показывает, например, что дети, собирающие какао-бобы в Кот д'Ивуаре, не обрели ровно ничего от появления в стране урн для голосования. То, что они получают сегодня, не отличается от того, что они получали 30 лет назад, когда страной правил жестокий диктатор. После смерти диктатора в 1993 году, Кот д'Ивуар пал жертвой моды на демократию. Результатом стал непрерывный ряд слабых правительств, не сумевших защитить страну от западных производителей шоколада.
Вывод Хоксли: у взрослых теперь есть право голоса, но их дети практически остаются рабами.
Еще один пример из многих: Ирак. «Введя» демократию посредством военной оккупации, США добились лишь того, что издавна существовавшие религиозные и племенные противоречия обрели новый, якобы демократический способ выражения, а соответствующие религиозные и племенные формирования (сунниты, курды, христиане, ассирийцы) превратились в электораты соответствующих партий. В результате выборы стали воспроизведением в новом виде вечных конфликтов. Та же враждебность, то же нежелание компромисса, и в конечном счете террор как естественное дополнение к выборам. При этом западные наблюдатели, наблюдая, как иракцы выстраиваются в очереди к избирательным участкам, рапортуют о победе демократического духа, тогда как на самом деле они голосуют не как граждане демократического Ирака, а как носители племенных и конфессиональных идентичностей, и главная их цель при этом состоит в том, чтобы не дать победить своим врагам, поскольку в этом случае их ждет незавидная судьба[28].
Похожим образом работает украинская оранжевая и посторанжевая демократия. Западные комментаторы торжествуют: все, мол, было не зря, страна прочно встала на рельсы демократии, успешно прошли новые выборы. За пределами рассмотрения и оценки остаются катастрофическое состояние экономики, деградация индустрии, распад морали, депопуляция и другие последствия торжества демократии. Да и в политической организации страны выборы мало что изменили: она по-прежнему расколота на два враждебных лагеря, проигравшие прямо заявили, что не признают победителя в качестве президента. Поднимать народ на бунт им помешало только признание результата выборов западными наблюдателями, посчитавшими, наверное, что шансов на успех такого бунта ввиду опустошения, причиненного оранжевыми за время их правления, слишком мало. Это еще раз показывает, что подлинная легитимация в управляемых извне демократиях исходит не от народного волеизъявления, а от одобрения либо неодобрения этого волеизъявления властями в Вашингтоне и Брюсселе.
Рассматривая управляемые извне демократии и пытаясь объяснить причины неуспеха импортируемых образцов, мы делаем упор на социальную организацию и культуру, не принимающую модели, характерной для массовых обществ. Но многие исследователи отмечают необходимость достижения определенного уровня благосостояния, делающего терпимой и даже желаемой демократическую процедуру и все, что она несет обществу и индивиду. Например, оксфордский профессор Кольер предложил формулу, объясняющую связь между благосостоянием и демократической стабильностью. Он считает, что точка пересечения лежит на уровне среднедушевого дохода в 2700 долларов в год. Ниже этого уровня демократии сложно укорениться. Политический процесс часто прерывается насилием. По контрасту, в обществах, где среднедушевой доход превышает этот уровень, граждане чувствуют, что у них есть доля в системе и насилие вероятно лишь в том случае, если демократические требования не выполняются. Как показывает Кольер, в новых демократиях по всему миру связь между бедностью и нестабильностью очевидна[29].
Впрочем, подобного рода закономерность отметил профессор Пшеворский почти два десятилетия назад[30]. Падение демократии, считал он, менее вероятно в странах с высоким уровнем дохода. Косвенно это подтверждается тем, что только в период с 1951 по 1990 г. в более бедных странах крах потерпели крах 39 демократий, тогда как в более богатых странах 31 демократия просуществовала 762 года, причем ни одна из них не погибла. Богатые демократические страны смогли пережить войны, бунты, скандалы, экономические и правительственные кризисы и многое другое. Вероятность выживания демократии возрастает с ростом дохода на душу населения. В странах с доходом на душу населения, не превышающим 1000 долл., вероятность гибели демократии составляла 0,1636, что означает, что продолжительность ее существования равнялась примерно шести годам. При доходе на душу населения от 1001 до 3000 долл. вероятность гибели демократии составляла 0,0561, а продолжительность ее существования – примерно 18 лет. При доходе от 3001 до 6055[31] долл. вероятность составляла 0,0216, что равняется приблизительно сорока шести годам существования. При более высоких уровнях дохода стабильности демократии ничто не угрожает.
Если верить забавным выкладкам Пшеворского, а также и Кольеру, импортированные постсоветские демократии в большинстве своем обречены, вопрос только в сроке их жизни. Для нас же сейчас важно, что импорт демократии, то есть, по существу, простейшая пересадка массово-демократических электоральных процедур на почву стран, обладающих совсем иной, чем массовые демократии, культурной, экономической и социальной организацией, не есть тем не менее их «завоевание» или «покорение». Даже если правящий до того режим сметен военной силой, как, например, в Ираке и Афганистане. Сами американцы утверждают, что они пришли с освободительными целями и освободили Ирак от жестокого диктатора, а Афганистан – от террористического режима талибов. Есть основания полагать, что они не кривят душой, и оккупационные войска в обозримый промежуток времени будут выведены, и власть перейдет к местной администрации (дальше события будут развиваться по второму и третьему из описанных выше вариантов). Точно так же, как мы помним, Советская армия была выведена из освобожденных в 1945 г. стран Восточной Европы.
Дело в том, что приход С ША и НАТО в Ирак и Афганистан – не «банальное» завоевание, а элемент реализации глобального проекта. Практическая идеология этого проекта – политическая корректность. Согласно принципам политической корректности, не США с участием НАТО оккупировали Афганистан, а международное сообщество пришло на помощь стремящемуся к свету демократии народу. Афганистану не повезло в течение меньше чем полувека стать жертвой двух ориентированных на мировое господство глобальных проектов. Согласно не менее политкорректной, чем нынешняя западная, советской идеологии равенства, афганский народ стремился к свету социализма. Было бы неполиткорректно говорить, что страна не созрела для социализма. Точно так же неполиткорректно сейчас сказать, что Афганистан не созрел для демократии. Это было бы похоже на рецидив колониального мышления, согласно которому есть народы, которые стоят на такой ступени развития, что не способны к самоуправлению, а потому должны управляться извне. Для политкорректного мышления это невыносимо. Поэтому необходимо считать, что афганцы, так же как иракцы, кот-д-ивуарцы, гаитянцы (где страшное землетрясение обнаружило все убожество гаитянской демократии) и т. д., могут быть такими же хорошими демократами, как англичане, французы, немцы и т. д. На практике оказывается, что импортированная демократия выливается в нестабильность, экономические катастрофы, падение жизненного уровня, а иногда в кровавые войны. Тем не менее идеология политкорректности остается непоколебленной, ибо при всей ее толерантной благостности она уверена в наличии многочисленных врагов, каковы террористы, сексисты, фашисты, коммунисты, ксенофобы, гомофобы и другие мракобесы, справиться с которыми помогают гуманитарный экспедиционный корпус и гуманитарные бомбардировки.
Политкорректная семья
В заключение обзора форм явления политкорректности в современном мире обратимся к институту семьи. Поскольку тема эта поистине необъятная, остановимся на одном ее аспекте – месте детей в современной семье и роли государства как посредника в отношениях родителей и ребенка. Это очень актуальный ныне вопрос. Современные методы государственного регулирования отношений родителей и детей – то, что в англосаксонских странах именуется ювенальной юстицией, – вызывают, мягко говоря, очень много вопросов. Настолько много, что часто противники ювенальной юстиции решаются свести их к одному главному вопросу: кому сегодня принадлежит ребенок – папе с мамой или государству?
Вопрос можно задать иначе: кому принадлежит ребенок – маме с папой или государству? Ответ на него совсем не так очевиден, как может показаться с первого взгляда. Например, согласно учению мудрого Платона, изложенному в V книге «Государства», ребенок целиком и полностью принадлежит государству. Это естественный вывод из сформулированной им же идеи общности женщин. В идеальном государстве все жены принадлежат равным образом всем стражам государства. Соединение полов организуется правителями, причем так, что лучшие сочетаются с лучшими, а худшие – с худшими. Получающиеся от этого дети передаются государству. Лучших детей оно воспитывает так, как считает нужным, худших – главным образом больных и умственно отсталых – обрекает на гибель. Эта общность жен и детей у стражей государства знаменует собой высшую форму единения его граждан.
В современном массовом обществе все женщины также принадлежат всем. Никаких групповых, сословных, классовых ограничений на заключение браков не осталось, или же они остались только как рецедивы ушедших времен. Все могут сочетаться со всеми, но это только потенциально. В реальности функцию распределения женщин, точно так же как и распределения мужчин, взял на себя брачный рынок (или шире: рынок партнеров). Поскольку государство не устраивает браки, то и детей оно себе не забирает. Но от этого, как говорится, не легче. Получается так, что женщины отдают детей государству сами. Ибо уже годовалых детей работающие женщины сдают в ясли, с чего начинается карьера «государственного» ребенка. По достижении определенного возраста он переходит в детский сад (иногда даже с недельным циклом!), затем, поступив в школу, занимается в группах продленного дня. На лето как детские садики, так и школы вывозят детей в летние, спортивные, краеведческие и т. д. лагеря. Так что летом ребенок видит родителей еще реже, чем зимой. В результате оказывается, что примерно с одного года и до 16–17 лет, то есть практически весь период социализации, взросления, физического, морального, интеллектуального и гражданского созревания ребенок большую часть времени проводит не в семье в общении с любящими отцом и матерью, а в государственных детских учреждениях под руководством сертифицированных государством специалистов по уходу, воспитанию и образованию. Практически мы имеем дело с тем, что некоторые социологи и политологи называют огосударствлением детей.
Огосударствление детей почти полностью было осуществлено в Советском Союзе. Ясли, детский сад, пионерлагерь – все это были необязательные – принуждения не было и в помине, – но по многим причинам практически неизбежные формы детской социализации. Создавая и делая массовыми эти детские учреждения, государство решало сразу множество задач: помогало бедным семьям (поскольку эти учреждения либо были бесплатными, либо плата была чисто символической), давало работающим женщинам время для достижения успеха и самореализации, а также воспитывало в детях правильное мировоззрение и готовность включиться в жизнь страны. В современных европейских государствах, понимающих себя как социальные государства или государства всеобщего благосостояния – welfare states, – именно эта сторона социальной политики Советского Союза и других социалистических государств воспроизводится наиболее полно и последовательно. Причем парадоксальным образом оказывается, что цели, которые ставит перед собой современное демократическое государство, проводящее такую социальную политику, в принципе не отличаются от целей, которые ставило перед собой социалистическое государство – помощь бедным семьям и одиноким матерям, освобождение женщин от ухода за ребенком, чтобы они посвящали время профессиональной работе и карьере, а также интеграция детей в большое общество, то есть не что иное, как выработка в них правильного хода мыслей и готовности жить и трудиться сообща с другими. Такое положение характерно – с большими или меньшими отличиями – для всех развитых стран. Огосударствление детей, то есть перекладывание на государство – и соответственно принятие на себя государством – заботы о воспитании детей и подготовке их к жизни, начинает восприниматься как неотъемлемая обязанность государства наряду с другими его необходимыми для нормального функционирования общества обязанностями. Без этого не мыслится будущее. Социолог С. Н. Щеглова, проанализировавшая огромное количество произведений социальной фантастики советских, российских, американских, европейских как классических, так и новейших авторов, пришла к ожидаемому выводу: «Писатели предполагают, что государство будет и далее вмешиваться в семейную сферу, связанную с детьми, включая рождение, воспитание, образование детей, постепенно расширяя сегменты этого вмешательства вплоть до возможного огосударствления детей»[32].
Я употребил относительно этого вывода слово «ожидаемый», поскольку было бы трудно ожидать чего-то иного, имея в виду все, что сказано выше о направленности социальной политики государства в отношении семьи и деторождения. Естественно, так же государство строит и определяет и политику в отношении воспитания и образования детей. Все это относится скорее к Советскому Союзу и странам современного западного мира, то есть к странам, обладающим относительной стабильностью в политическом и идеологическом отношениях. Россия до сих пор такой стабильности, кажется, не обрела. Наверное, поэтому иногда в газетах, на телевидении и в ученых дискуссиях можно встретиться с мнением о том, что как дошкольные учреждения, так и школы должны быть идеологически нейтральными и не должны детям что-то «навязывать». Это, конечно, довольно наивное мнение. Что касается школы, то она всегда и всеми государствами понималась как агентство, наделенное полномочиями для выполнения определенной социальной задачи, и задача эта всегда диктовалась конкретными социальными и историческими обстоятельствами. Приведем только один пример: в Германии в течение двадцатого века сменились минимум три эпохи, полностью изменившие содержание и цели школьного образования: до 1933 г., с 1933 по 1945 г. и после 1945 г. После 1945 г. задачей школы было изживание нацистского наследия и внедрение в головы нового поколения демократических ценностей. Кто бы мог сказать, что эта школа, а также и современная школа в ФРГ идеологически нейтральны?! То же происходит в США и других странах Запада. Следует говорить не об идеологической нейтральности, а о меньшей или большей степени идеологической и политической ангажированности. Какую задачу возлагает сейчас государство на российскую школу? Очевидно, задачу преодоления советского прошлого, которое особенно в последние годы все более воспроизводится в сознании и душах не только пожилых людей, но и молодого поколения. Школа уполномочена на создание, так сказать, нового человека с новым мировоззрением, соответствующим новому историческому этапу жизни страны.
Именно поэтому столь горячими и острыми оказываются схватки по поводу содержания и направления школьных учебников, особенно учебников истории. Кажутся, мягко говоря, наивными высказываемые иногда отдельными «педагогами-новаторами» соображения о том, что школьники сами должны выбирать себе мировоззрение, образ истории, исторические оценки и соответственно учебники. Поэтому пусть расцветают сто цветов, то есть пусть будет много разных учебников, по-разному освещающих отечественную и мировую историю, а школьники, мол, сами выберут те, что им кажутся правильными. Это просто чепуха. Для того чтобы выбрать один учебник, надо прочитать все. Кроме того, школьники сами ничего не выбирают, выбирают местные чиновники, а в лучшем случае родители. И, наконец, надо понимать, что горестна будет судьба страны, в разных частях которой история будет преподаваться по-разному. Особенно это относится к России с ее сложной историей и национальным строением. Можно даже сформулировать рецепт в модном ныне жанре политической технологии: хочешь развалить страну – сделай свободным преподавание истории (а также обществознания) в школе. Именно школа должна выработать в ребенке правильный взгляд на мир, сформировать основы национальной и гражданской идентичности и внушить ему как абсолютные истины принципы политического и правового устройства страны и мира. Это важнейшая социальная задача, которую не в состоянии выполнить никакая другая институция, кроме школы. Поэтому наивно считать, что школа должна или может переориентироваться с социальных целей на исключительно учебные цели.
Но школа – это уже один из завершающих этапов создания «огосударствленного», то есть сформированного обществом и государством, ребенка. Начало процесса – ясли и сад. В общем-то, при всей сложности мотивов работы женщин всегда действует и простейший мотив: отдать ребенка в детсад, который дотируется государством, дешевле, чем заниматься им самой. А самой можно идти работать. В результате не только будет удовлетворяться страсть к самореализации, но и доход семьи существенно возрастет. Простой расчет затрат и выгод показывает, что ребенка нужно сдать. Государство всецело идет навстречу. Другое дело, что экономические рычаги, к которым прибегает государство в своей борьбе за ребенка, формируются из средств налогоплательщиков, в частности, тех самых родителей. Несколько упрощенно схему всего процесса можно выразить так: государство «выкупает» детей у родителей на средства, которые собраны с тех же самых родителей в виде налогов. Налоги отчисляются из оплаты труда родителей. Так формируется заколдованный круг социальной политики государства в отношении семьи. Ее результат – эмансипация женщин, разрушение семьи и огосударствление детей.
Экономика, а также идеология социального государства делают огосударствление детей, а также и все частные его аспекты – ясельное содержание детей, отправление их в детские сады с недельным циклом или в школы-интернаты при здравствующих и процветающих родителях – предметом того, что антропологи и психологи вслед за Фрейдом называют позитивным табу. Для нас позитивное табу равносильно принципу политической корректности. Это значит, что обо всем этом нельзя говорить иначе, чем в позитивном ключе. То есть как о покойнике – либо хорошо, либо ничего. Политически некорректно указывать на выводы Фрейда, а также и огромного множества детских психологов, показывающих, что отношения матери и ребенка в самом раннем детском возрасте играют огромную роль в формировании человеческой личности. Не следует спрашивать, каково приходится ребенку, оторванному от матери, и достаточно ли для его развития квазилюбви и квазизаботы воспитательниц и нянечек. То же самое позитивное табу проявляется и в отношении матерей, перепоручающих другим женщинам заботу о собственных детях. Как раньше мужья хвалили своих жен, что они чудесные матери, пишет упоминавшийся выше Больц, так теперь работающие женщины превозносят до небес своих нянь и «бебиситтеров». Такими похвалами они как бы удостоверяют, что им и нет необходимости заниматься детьми, что проблем нет, все и так идет замечательно. Это естественно, что работающая мать придерживается точки зрения, согласно которой родители не должны обязательно сами воспитывать и растить собственных детей, и она никогда не согласится с тем, что таким образом она вредит своему ребенку. Здесь действует – только уже у родителей в отношении ребенка – то же самое позитивное табу.
Но это все, так сказать, перспектива, в центре которой государство и родители. Что происходит в этих обстоятельствах с самим ребенком? Где-то в 60-е годы была популярна книжка для младшего школьного возраста, которая называлась «Витя Малеев в школе и дома». Школа и дом считались симметричными сферами, в которых развертывается жизнь ребенка. Теперь картина усложнилась и изменилась. Во-первых, ребенок, приходящий домой после целого школьного дня, не имеет возможности узнать дома «семью», он оказывается там в некотором роде лишним, ибо родители переживают дома не семью, а работу. Во-вторых, семья дома оказывается организованной вокруг телевизора, где – в отличие от самой семьи – протекает активная и полноценная, пестрая и конфликтная семейная жизнь в многочисленных и бесконечных «семейных» сериалах, снимаемых по типу бессмертной американской серии «Женаты и с детьми». Телевизионная семья оказывается более реальной, чем настоящая. Как пишет Больц в другой связи, настоящая семья молча сидит перед телевизором, где веселится, спорит, ругается другая, придуманная семья. То есть семейная жизнь исчезла из дома и оказалась перемещенной в телевизионное Зазеркалье.
Ребенок оказывается живущим в трех средах: своя семья дома, искусственная семья в телевизоре и школа, которая оказывается своего рода эрзац-семьей, выполняющей функции семейного воспитания и заботы. Ясно, что своя собственная семья – слабейшее звено в этой воспитательной цепочке. Потому что вечером, вернувшись из школы, ребенок встречает родителей, испытывающих чувство вины за то, что, будучи день и ночь занятыми собственной карьерой, они не могут уделять ему должного внимания, а потому для сокрытия этого чувства вины восхищаются его независимостью и самостоятельностью, то есть, по существу, его способностью обходиться без них, без родителей. Такие родители, конечно же, обеспечивают демократическое воспитание и демократические отношения между родителями и детьми. Это чаще всего происходит в семьях среднего класса, которые лучше всего представляют семью по умолчанию и ее эгалитарные, демократические черты. По отношению к ребенку эти эгалитаризм и демократизм объясняются, в частности, тем, что родители не могут требовать от ребенка выполнения каких-то предписаний и норм, если они сами не способны выполнить свои обязательства. Они как бы говорят ребенку: мы позволяем тебе делать, что хочешь, потому, что нам недосуг учить тебя тому, что нужно. Так складывается неавторитарная атмосфера в семье, которая с точки зрения воспитания ребенка приводит скорее к негативным, чем к позитивным последствиям. Ее подлинная задача – не столько усовершенствовать семейное воспитание, способствуя свободной ненасильственной реализации детских способностей и талантов, сколько помочь родителям избавиться от чувства вины по отношению к ребенку.
Да, мы, может быть, и не уделяем тебе должного внимания, но мы ведь и ничего от тебя не требуем. Своего рода латентный, а иногда даже просто не осознаваемый обеими сторонами договор родителей и ребенка: мы не беспокоим тебя, а ты не беспокоишь нас. А в результате по-настоящему функцию социализации детей в такой вот политкорректной неавторитарной семье выполняет виртуальная семья в телевизоре и квазисемья в школе. Разумеется, семьи, где ребенок оказывается в такой ситуации, либо со всем этим не согласятся, либо рационализируют свои мотивы, говоря, например, что ребенок должен учиться быть «самостоятельным», что без окружения сверстников он вырастет маменькиным сынком, что ребенок должен научиться жить к коллективе и т. д. Часто мать делает шаг еще дальше в том же направлении и оправдывает отсутствие интереса к собственному заброшенному ребенку, хваля его за «самостоятельность», такую редкую в его возрасте. Так, шаг за шагом происходит полное отделение детей от родителей. И никому, кроме государства, они оказываются не нужны.
Но полное отделение – это еще не окончательное. Права на ребенка остаются за родителями. И они хотя бы теоретически в силах восстановить подлинность семейной жизни. Окончательное отделение – это отделение ребенка от семьи средствами т. н. ювенальной юстиции.
Если бы я решил предпослать эпиграф разделу, который посвящен ювенальной юстиции, стало бы услышанное мной однажды обращение пилота к пассажирам на лайнере одной зарубежной авиалинии. Он начал так: Ladies and gentlemen! Girls and boys! В самолете если и были дети, то не больше, чем на любом дальнем рейсе. Такое обращение можно было бы счесть забавной шуткой, но на самом деле, как станет понятно далее, это один из шагов идеологии политкорректности, на этот раз устанавливающей новые правила жизни ребенка в мире.
Мы сказали, что огосударствление детей – это сердцевина государственной политики в отношении семьи. Мощным орудием этой политики является действующая сегодня в большинстве стран Запада и энергично пропагандируемая в России, впрочем, не только пропагандируемая, но уже в экспериментальном порядке введенная в некоторых регионах так называемая ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это не что иное, как система государственных органов, занимающихся делами несовершеннолетних. Можно различать ювенальную юстицию в широком и в узком смысле слова. В узком смысле слова – это специализированная ветвь судебной системы, в широком смысле – целая сеть организаций (надзор за содержанием детей, исполнение судебных решений и т. п., а также и собственно судебная часть), призванных обеспечивать права детей. Учреждение не так давно должности Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ представляет собой едва ли не решающий шаг в создании системы ювенальной юстиции в России, во всяком случае, дает ясный сигнал относительно намерений властей и направления дальнейшего развития. В качестве общей основы берутся документы ООН, прежде всего Конвенция о правах ребенка, под которой стоит наряду с другими подписями и подпись России, а в качестве организационно-правовой модели – ювенальная юстиция одной из стран Запада. Разумеется, эта работа не сводится только к созданию уголовных судов для несовершеннолетних. Предстоит создание ювенальных гражданских судов, особой системы исполнения наказания для несовершеннолетних, механизмов решения социальных вопросов, связанных с несовершеннолетними, лишенными родительского попечения, в том числе и в случаях лишения родителей родительских прав. При этом предполагается расширение полномочий социальных служб, которым, по существу, предстоит контролировать родителей в области исполнения ими родительских обязанностей, в том числе и по обращениям самих детей. Предполагается также учет медицинских вопросов, в частности сексуальное просвещение детей и планирование семьи. При этом мнения юристов, как и мнение публики относительно пригодности и уместности ювенальной юстиции в России далеко не однозначны. Первые шаги ее внедрения в практику российской жизни привели к множеству скандальных решений, прямо истолкованных общественным мнением как грубейшее вмешательство государства в лице чиновников в дела семьи и в частную жизнь детей и взрослых, а также как легитимация явлений и событий, категорически неприемлемых с точки зрения общественной морали. Вообще целый ряд скандалов, связанных с детьми и особенно активно обсуждающихся сегодня в СМИ, – результат деятельности ювенальной юстиции как в России, так и в Западной Европе и Америке.
Можно подумать, что ювенальная юстиция представляет собой некое абсолютное нововведение – одну из инноваций, о которых так печется ныне руководство страны. Конечно же, это не так: как и в других странах, в России с самых давних времен существовали органы и службы, как судебные, так и социальные, специально занимавшиеся делами несовершеннолетних. Нововведением для России является правовая база, в которой совершенно по-новому определяется социальный и правовой статус ребенка. Новым является также существенное расширение на этом основании прав социальных служб и судебных органов в распоряжении судьбой детей и родителей. В основу ювенальной юстиции ложится, как уже сказано, принятая ООН «Конвенция о правах ребенка». Это очень любопытный документ. Идеологически он представляет собой сочетание резко индивидуалистически звучащих либеральных тезисов, в частности, о ребенке как носителе универсальных прав человека, и вполне социал-демократических (если не вообще коммунистических) по звучанию и происхождению идей о вмешательстве государства в отношения семьи и детей. В результате оказывается, что, согласно этой доктрине прав ребенка, есть две приоритетные инстанции – ребенок и государство. К семье же авторы документа относятся с подозрением и недоверием: она должна выполнять функцию предоставления ребенку необходимых для его развития ресурсов и как таковая подлежит постоянному контролю со стороны государства. Молчаливо предполагается, что государство лучше знает, что нужно ребенку, и вообще может лучше, чем семья, выполнять функции семьи. Несколько забегая вперед, отметим, что эти не сформулированные прямо и явно в документе предпосылки отчетливо и грубо воплощаются – и не только у нас в России – в работе социальных служб и ювенальных судов.
Это общая характеристика документа. Можно разъяснить их конкретнее, указав, в чем состоят, например, информационные права ребенка. «Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка»[33]. Уже эта статья фактически отнимает у родителей право контролировать чтение ребенка, его путешествия по Интернету, да и вообще его занятия, склонности и интересы. Вопрос о какого-то рода разумных ограничениях свободы ребенка со стороны семьи в документе вообще не ставится. Можно задать тысячу вопросов. Если, например, ребенок хочет смотреть порносайты в Интернете, могут ли родители ему это запретить? Согласно букве конвенции, нет, не могут. Приведенная выше статья звучит вполне однозначно и не содержит оговорок.
Далее: «Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний». То есть не дело родителей контролировать, куда ребенок ходит, кого слушает и с кем общается. Далее: «Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства». Обратим внимание, что здесь не оговорены никакие исключения для родителей. Конечно, родители бывают разные – бывают и такие, которые беспардонно вмешиваются в интимные стороны детского существования. Конечно, чужие письма читать нельзя, но это не «чужие», а собственные дети, и родители хорошо знают, что чтение какого-нибудь письма или просто записки, имеющей отношение к сыну или дочери, может предотвратить большую беду. В отношениях между близкими людьми это вопрос такта и взаимного уважения, а не законодательного регулирования. Если же следовать конвенции, то ребенок и родители – это не «родные люди», как считалось испокон века, а партнеры в законодательно регулируемом отношении. В предыдущем разделе мы показывали, что брак – уже не вечный союз, заключенный на небесах, а договор сторон, принявших на себя определенные обязанности и ограничения, на юридическом языке «сделка под условием». Выясняется, что такой же характер приобретают теперь и отношения родителей и детей.
И, разумеется, авторы конвенции не забыли указать, что «государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми». Замечательно, что это формулируется как право детей — право детей быть разлученными с матерью. Непонятно, чего больше в этом документе – лицемерия или жестокости по отношению к семье.
Разумеется, в конвенции с избытком хватает разных высоких слов о том, что все это – «в наилучших интересах детей», не должно противоречить требованиям морали и нравственности, потребностям охраны природы и поддержания общественного порядка, направлено на защиту душевного и морального здоровья детей и т. д. и т. п. Но в реальной практике ювенальной юстиции все эти высокие слова становятся объектом практических интерпретаций судей и социальных работников, которые на основе своих, иногда не совсем адекватных представлений о должном и возможном, о том, какой должна и какой не должна быть семейная жизнь, о том, что вредит ребенку, а что не вредит и т. д., принимают роковые для детей и семей решения. В целом же ювенальная юстиция ярко выражает в себе все современные тенденции семейного развития: ослабление семейных связей, разделение деторождения и материнства, освобождение женщины от семьи и, как конечная цель, огосударствление детей. Получается, что утопия Платона становится реальностью. И это без всякой иронии и, иногда даже кажется – без преувеличения.
К обществу меньшинств
В начале книжки мы определили политкорректность как идеологию современной массовой демократии, служащую, с одной стороны, легитимации внутренней и внешней политики западных государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса. Именно второй функции политкорректности – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса – посвящена в основном настоящая работа. Содержательно этот консенсус формируется как идеология тотального равенства, ведущая к стиранию всякого рода различий и полному абстрагированию человеческих индивидов, обладающих равными универсальными правами, обеспечение которых является первой и главной функцией государства и политической системы в целом. В то же время политкорректность порождает новый тип социальной структуры, где ключевыми групповыми идентификациями являются категории разного рода меньшинств, рассматриваемых как депривированные и когда-то подвергавшиеся/сейчас подвергаемые эксклюзии со стороны некоего неопределенного господствующего большинства. Это господствующее большинство определяется по-разному каждым из угнетаемых меньшинств. По отношению к женщинам это мужчины, по отношению к черным – белые, по отношению к инвалидам – здоровые, к бедным – богатые, к жирным – стройные, к уродливым – красивые, к глупым – умные, по отношению к гомосексуалам – люди традиционной сексуальной ориентации и т. д. и т. п. В результате общество начинает рассматриваться как общество меньшинств, в котором только меньшинства выглядят реально существующими и претендующими на универсальные права, тогда как это самое якобы господствующее большинство ведет как бы теневое существование и является лишь фоном, служащим демонстрации специфики любого рода меньшинств и обоснованию их претензий на высокий социальный статус и привилегированное место в системе распределения благ.
В результате происходят поистине эпохальные цивилизационные изменения. Мы показали, что господство политкорректности медленно, но весьма эффективно ведет к изменению некоторых основополагающих «констант» европейской цивилизации. Так, политкорректность ведет к замене истины как высшей ценности и главного критерия не только научной, но и – не побоюсь это сказать! – моральной правоты терпимостью как высшей максимой морали. Разумеется, виной этому не только политкорректность, но и общее релятивистское устремление философии XX и XXI веков, выразившееся, в частности, в идеях постмодерна, но политкорректность в этой связи можно рассматривать как дедуцированный из релятивистской философии набор моральных поучений и поведенческих образцов, подходящих к умственному уровню широких масс.
Деградация истины неизбежно сопровождается деградацией науки. Классическая наука эпохи модерна явилась некогда идеалом коммуникативной структуры, по образцу которой строилась буржуазная общественность. По мере дифференциации функциональных сфер жизни общества общественное мнение все более и более отделялось от науки, утрачивало свой рациональный пафос и дискуссионную природу и все более обнаруживало в себе черты сложного механизма господства, понимание принципов работы которого сложилось лишь к концу XX столетия.
Маргинализация, вытеснение на задний план общественной жизни понятия истины и института науки, которые в свое время легли в основу триумфальных побед и многовековой экспансии западной цивилизации, неизбежно должны было привести к деградации культуры Запада. Политкорректность стала, как мы старались показать, главным орудием такой деградации. Общество меньшинств, складывающееся благодаря господству идеологии политкорректности, претендует на имя безгранично терпимого общества, но единственно нетерпимое в нем – это традиционные ценности Запада, ведущие свою биографию от деяний героев Гомера: это величие и доблесть, красота и сила, истина и разум, благородство и свобода, мужественность и женственность и т. д. и т. п. Парадоксальным образом эти ценности соотносятся с тем самым смутно определяемым большинством, которое служит негативным ценностным полюсом в обществе меньшинств.
Нужно, однако, отметить, что политкорректность не свалилась с неба в древний и прекрасный европейский мир – она плоть от плоти самих европейских ценностей, но представляет их, так сказать, не солнечную, не аполлоническую сторону: это доброта и милосердие, любовь и жалость, равенство и снисхождение, страдание, мученичество, самопожертвование и т. д. В рамках общества меньшинств именно эти ценности стали обретать статус абсолютной идеологической нормы, оказываясь при этом противопоставленными очерченным выше ценностям «большинства». Весь фокус, однако, в том, что это лишь часть ценностного богатства европейской культуры, которая может существовать лишь в органическом единстве этих составляющих ее частей, а будучи таким вот образом разделенной, теряет свою идентичность. Европейская культура не может быть культурой угнетенных, культурой меньшинств, что означает также, что она не может быть политкорректной культурой, не утрачивая самое себя.
1
Ионин Л. Г. Апдейт консерватизма. М.:Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010, с. 288–289.
(обратно)2
Van Creveld, M. Man, Women and War. London, 2001, S. 234.
(обратно)3
Толстая Т. Политическая корректность: .
(обратно)4
Dictionary of Feminism. Частично опубликован в газете «Газета» 07.03.2003.
(обратно)5
Феофраст. Характеры. Ленинград: Наука, 1974, с. 19.
(обратно)6
Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии // Зиммель Г. Избранное. Том 2. М.: Юрист, 1996, с. 489.
(обратно)7
Bolz N. Diskurs iiber die Ungleichheit. Ein Anti-Rousseau. Munchen: Fink, 2009, S. 9.
(обратно)8
=Политкорректность.
(обратно)9
Simmel G.Das individuelle Gesetz/Simmel G. Philosophische Kultur. Leipzig, 1913.
(обратно)10
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996.
(обратно)11
Bolz Norbert. Diskurs iiber die Ungleichheit., S. 29.
(обратно)12
Макс Вебер. Избранные труды. M., 1990.
(обратно)13
Колаковска A. Imagine. Интеллектуальные истоки политкорректности // Новая Польша, № 3, 2004: .
(обратно)14
Porteus Liza. 'Anti-Racist' Message in Mass. Math Class/Fox News, February 08, 2005 – /0,2933,146684,00.html.
(обратно)15
См.: Extract from memorandum submitted by the African-Caribbean Network for Science & Technology to Committee on Science and Technology/http://www. publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmsctech/508/508ap01.htm.
(обратно)16
Колаковска А. Цит. соч.
(обратно)17
Spinner H. Die Wissensordnung. Ein Leitkonzept fur die dritte Grundordnung der Informationszeitalter. Opladen, 1994.
(обратно)18
Ионин Л. Г. Социология культуры. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2004.
(обратно)19
См. сноску 17.
(обратно)20
Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992, с. 199–200.
(обратно)21
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996, с. 37.
(обратно)22
McCombs M. and Shaw D. The Agenda-Setting Function of Mass Media/Public Opinion Quaterly, vol. 36, № 2,1972.
(обратно)23
Подробнее см.: Дьякова Е. Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки дня: от эффекта к процессу/Полис, № 3, 2003.
(обратно)24
Там же.
(обратно)25
Altheide D. Creating Reality: how TV News Distorts Events. Beverly Hills, 1974, p. 112.
(обратно)26
Altheide D., Snow P. Media Logic. Beverly Hills, 1979.
(обратно)27
Hawksley H. Democracy Kills: What's So Good About the Vote? London, 2009.
(обратно)28
Де Гроот Г. Экспортируя равенство, импортируя нестабильность/ISN – .
(обратно)29
Collier P. Wars, Guns and Votes. Democracy in Dangerous Places. London, 2009.
(обратно)30
Przeworski A. Why Do Political Parties Obey Results of Elections/Democracy and the Rule of Law. Ed. by J. M. Maravall, A. Przeworski. Cambridge, 2003, p. 124.
(обратно)31
Учитывая сильное падение доллара за истекшие два десятилетия, можно считать цифру Пшеворского не так уж отличающейся от цифры Кольера.
(обратно)32
Щеглова С. Н. Детство будущего. Опыт проведения качественного исследования по произведениям социальной фантастики/. ru/doc/child_future.pdi.
(обратно)33
Здесь и далее цитируется документ, принятый 30 лет назад и представленный на сайте российского представительства ООН – / documen/convents/childcon.htm.
(обратно)(обратно)1
Людвиг Витгенштейн ввел понятие языковой игры, чтобы показать, что значение слов возникает из контекста их применения. Изменение контекстов меняет значения слов. Значение конкретного слова возникает в ходе «игры» из сочетания и соотнесения нескольких контекстуальных значений. В более широком смысле под языковой игрой Витгенштейн понимал «жизненную форму», то есть сочетание некоторых правил установления значений с социально-исторической практикой, элементом которой они, эти правила, являются. См.: Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. M., 1994.
(обратно)(обратно)
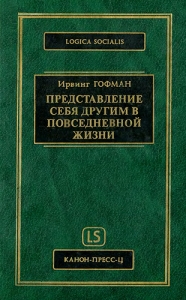

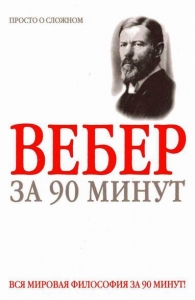
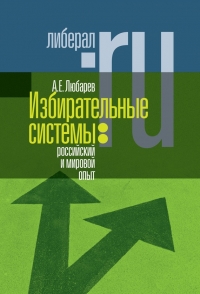
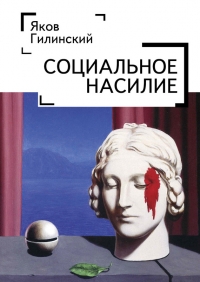

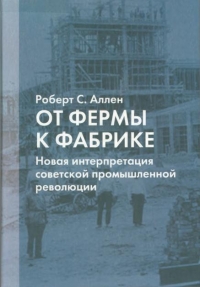

Комментарии к книге «Политкорректность: дивный новый мир», Леонид Григорьевич Ионин
Всего 0 комментариев