Предисловие Историческую макросоциологию – в массы!
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ в этом сборнике статьи относятся к научно-популярному жанру. Популярны они по стилю и форме, т. е. писались в расчете на то, что образованный человек сможет читать их даже в метро, самолете или на ночь глядя. Это не публицистическая полемика и не обличение, равно как и не отвлеченная метафизика и не прикладная социология общественного мнения. Это именно научная популяризация, попытка ввести в широкий оборот фундаментальные теории последнего поколения, изобретенные для объяснения того, как возник, как устроен и как изменяется наш современный мир.
Существует и отечественная специфика причин, побудивших писать в доступной форме. Во-первых, это попытка противостоять порче научного языка, той усложненной и вычурной зауми, которая обычно считается признаком принадлежности к интеллектуальному сообществу. Положение дел усугубилось с появлением в последние годы массы скверных и попросту халтурных переводов с западных языков. А ведь еще довоенная (точнее, домассовая) научная классика читалась совсем иначе. Однако более серьезная причина, побуждающая объяснять доступно и интересно, кроется в самой тематике собранных здесь статей. Речь пойдет о становлении государств, возникновении классов и наций, противоречиях бюрократии и политического господства, истоках религиозных верований, о капитализме и кризисах, о социалистических движениях и революциях. Написал эти строки и сам невольно вздрогнул, потому что на память тут же приходят семинары по истмату, политэкономии и научному атеизму. Советская догма дискредитировала саму тематику, отчего в России, увы, бросили изучать пресловутое происхождение семьи, частной собственности и государства в тот самый момент, когда с распадом советского государственного сооружения расцвела роскошнейшая и актуальнейшая эмпирика. Хуже того, по излюбленному выражению Карла Маркса, мертвые цепко держат живых. Как писать о соотношении Запада, России и Востока, когда бывшие преподаватели научного коммунизма, ныне обернувшиеся культурологами, концептологами и конфликтологами, уже столько написали про это от всей своей уязвленной души? Что ж, остается наглядно показать, как можно писать совершено иначе и на такие темы.
Имена основных теоретиков макроисторической науки достаточно известны специалистам – Фернан Бродель, Уильям МакНил, Чарльз Тилли, Джованни Арриги, братья Перри и Бенедикт Андерсоны, Рэндалл Коллинз, Майкл Манн, Иммануил Валлерстайн, Тимоти Эрл, Валери Бане, Джек Голдстоун. Все это значимые, но не самые знаменитые имена в социальной науке последних лет. Известность создают не концепции и теории, а их массовая аудитория, что в первую очередь зависит от политико-идеологических настроений и интеллектуальной моды. Оттого более известны Фрэнсис Фукуяма и Сэмюэл Хантингтон, вовремя предложившие американскому истеблишменту два соперничающих варианта реакции на внезапное исчезновение коммунизма и вознесение Америки; нобелевский лауреат Милтон Фридман, по-своему ответивший на запрос западных элит обосновать демонтаж послевоенных социал-демократических компромиссов перед лицом кризиса 1970-x гг. С другого фланга это Мишель Фуко, отразивший подавленные настроения леволиберальной интеллектуальной среды Парижа после всплеска эмоций 1968 года, и Славой Жижек, отчаянно борющийся с левой хандрой; либо Юрген Хабермас или Сэр Энтони Гидденс, взявшиеся после 1989 г. за авторитетную апологию демократизации, глобализации и евроинтеграции. Что ж, таков социальный механизм возникновения интеллектуальных мод, который, в свою очередь, полезно изучать и понимать. Работает он на протяжении всего Нового времени, и потому цикл мод обладает определенной предсказуемостью. Например, философ и писатель Анри Бергсон при жизни был даже популярнее Фуко и уж точно куда более популярен, чем его современник Макс Вебер. Однако вопросы, поставленные Вебером, оказались интереснее для последующего развития науки в XX в. Главный и наиболее известный из моих научных наставников, Иммануил Валлерстайн, признает с неизменной усмешкой в усы, что некогда и сам очень вовремя вышел из моды и утратил шлейф культовых последователей.
Еще один из вдохновителей этих заметок, эволюционный палеонтолог и великий популяризатор науки Стивен Джей Гулд, элегантно-ернически заметил, что крупные ученые не склонны к ношению нимба умильной скромности. Они слишком умны, чтобы не понимать масштаба содеянного. Потому скажем без маскировки под скромность: в этом сборнике отражены не модные сегодня концепции от «Блюхера или милорда глупого», а теоретическое понимание человеческих обществ и исторических систем, чье время придет завтра. Объяснять эти идеи можно доступным языком именно потому, что они покоятся на мощном фундаменте доказательной и связной теории, способной обходиться без флера затуманенной риторики и многозначительных намеков. Это именно теории, которые можно проверять, достраивать, в которых, конечно, нужно искать пробелы и ошибки. Но, главное, подобно тому, как красивые самолеты хорошо летают, так и хорошую теорию можно изложить красиво.
И тут надо сказать несколько слов благодарности тем, кто меня, человека достаточно ленивого, побудили все это насочинять. Во-первых, это декан Фрэнк Саффорд, взявший меня на первую в жизни постоянную преподавательскую должность в один из университетов Чикаго. Техасец в четвертом поколении, раскачивавшийся в глубоком кресле, положив ноги на стол, Фрэнк приветствовал меня по-ковбойски выстрелом прямо в голову: «Хей, так это и есть тот валлерстайновский парень? Скажите, а вам самому где больше всего хотелось бы поправить Великого Мэнни?» Ей-богу, уже не вспомню, как я тогда в ужасе парировал, но Саффорд остался доволен, признав во мне straightshooter, прямолинейного стрелка. Завязалось job interview (собеседование о найме) в ритме перестрелки: «Откуда начнете преподавание всемирной истории? С Колумба? О, нет? С Месопотамии? Неужели с вымирания мамонтов? Отлично. Уверены, что потянете? Уложитесь в учебный год? И студенты от скуки не разбегутся? О’кей, добро пожаловать к нам в Чикаго!» Старина Фрэнк спрашивал все абсолютно по делу. Мне предстояло неделю за неделей удерживать внимание сотен американских студентов во время лекций, каким бы ни был материал. Это многому научило.
Во-вторых, наверное, я бы так и излагал все эти занимательные истории с теоретическим смыслом в своих лекциях на английском языке, если бы не дружеское редакторское понукание Алексея Панкина, с неизменно веселым упорством отстаивавшего мои тексты в цензурных комиссиях еще советских, а затем постсоветских времен, и не щедрость Павла Быкова из журнала «Эксперт», где в разные годы появлялись без сокращений многие из этих статей. Впрочем, как показал Рэндалл Коллинз, «эмоциональная энергия» (проще говоря, вдохновение) не приходит без читателей. И здесь мне, провинциалу не вполне русского происхождения, было особенно важно знать, что черновики мои читают и помогают вычитывать Наталья Белых в Нальчике, Эльза Гучинова в Ереване и Александр Фисун в Харькове.
Наконец, скажу спасибо, а также мадлобт Валериану Анашвили, великому интеллектуальному книгоиздателю постсоветских времен, который призвал меня собрать статьи под одной обложкой, обозначив сверхзадачу красивым словом «пропедевтика». Пришлось поглядеть в словаре. Пропедевтика – существительное, неодушевленное, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3а по классификации А. Зализняка); введение в какую-либо науку или искусство, вводный курс, предшествующий более глубокому изучению предмета. Что ж, вроде бы все так. Эта книга и есть занимательное введение в историческую макросоциологию с привязкой к нашему уголку миросистемы.
Часть I Вдали: мир как историческая система
Конец знакомого мира
КРИЗИС[1]. Но какой? Конец рейганомики и спекулятивных финансов 1980-х? Шумпетеровское «созидательное разрушение» устаревших монополий? Конец самой американской гегемонии, продолжавшейся почти столетие? А может быть, и подавно – смещение центров мировой цивилизации и геополитической мощи, 500 лет централизовавших всю миросистему вокруг западного ядра? Может статься, что все вышеназванное, притом одновременно.
Сигнальный кризис семидесятых
Начнем с ближайшей предыстории. В конце 1973 г. ОПЕК, дотоле малозначимый картель стран-экспортеров нефти, впятеро взвинтил цены на свою продукцию, с з до 15 тогдашних долларов за баррель, что спровоцировало на Западе экономический кризис. От ОПЕК такого никак не ожидали. Главенствовали в картеле вовсе не бешеные радикалы, наподобие ливийского полковника Каддафи, а консервативные аравийские монархии и шахский Иран плюс вполне тогда проамериканская Венесуэла. Эти клиенты США попросту решили немного перетянуть на себя одеяло, воспользовавшись предлогом очередной войны с Израилем и замешательством хозяина в Вашингтоне.
Взбешенный президент Никсон, который заведомо не мог употребить силу на фоне поражения во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, отправил к ближневосточным предателям хитроумного Киссинджера. Результатом, как считается, стала тайная сделка, которая в принципе спасала интересы США, хотя больно била по европейским союзникам, не говоря уже о большинстве стран Третьего мира. Вкратце, цены на нефть по-прежнему исчислялись только в долларах, которые весь мир должен был покупать у Америки, чтобы расплачиваться с ОПЕК, чьи сверхдоходы затем надлежало вкладывать в банки США. Впрочем, и без всякого тайного сговора иранский шах и арабские шейхи держали бы свои авуары в долларовых счетах, поскольку они не собирались лишиться военного покровительства США. Да и во что, как не в американские ценные бумаги, могли они вложить свои возросшие доходы? Такова сила гегемонии на практике – мировая власть, альтернативы которой не видно.
Тайная дипломатия Киссиджера в течение последующего десятилетия имела множащиеся непредвиденные последствия. К примеру, она подпитала неожиданными доходами инертный консерватизм брежневского правления и тем самым обрекла СССР на кризис отложенного действия. Увы, в этой беде наша страна оказалась далеко не одинока, хотя никто этого еще не понимал.
Образовавшаяся на финансовых рынках Запада горячая масса петродолларов искала хоть минимально доходного применения. При этом зрелые промышленные сектора развитых стран, в первую очередь самих США, к началу семидесятых уже столкнулись с проблемами сбыта – провозвестником грядущего структурного кризиса – и, соответственно, с понижением нормы прибыли в ранее флагманских отраслях. С этим столкнулись и некогда славное британское судостроение, и металлургия немецкого Рура, и сам автопром Детройта. Добавьте к «петродолларам» массу «евродолларов» и прочих экспортных долларов, которыми США в 1950-1960-е гг. щедро расплачивались за свои военные базы по всему миру и тем самым мощно субсидировали многочисленных союзников, особенно в период войн в Корее и во Вьетнаме. В 1974–1980 гг. американские банкиры буквально осаждали правительственные приемные по всему миру, предлагая весьма льготные займы. Брали многие и, теряя самоконтроль, брали много.
США пока еще являли типичный платежный баланс сверхдержавы. Актив во внешней торговле свидетельствовал о сохранении конкурентоспособности американской индустрии, а экспорт капитала и помощь союзникам обеспечивали сохранение мирового влияния традиционными способами. Кстати, СССР в этом смысле мало чем отличался от США до конца 1980-х гг.
Придумывалось два оправдания кредитной зависимости. Во-первых, многим режимам срочно требовалась наличность, чтобы откупиться от протестующих масс студентов, молодых специалистов и образованных рабочих, которые сформировались в период колоссального послевоенного бума. Всевозможные молодые «шестидесятники», оптимистично настроенные на постоянный рост, взбунтовались повсюду в 1968 г. В отличие от прежних крестьян и традиционных пролетариев, довольствовавшихся надежным куском хлеба и сильной «отечески-заботливой» властью, студенты и работники новой эпохи требовали привести устаревшие авторитарные структуры управления в соответствие с их потенциально ведущей ролью в новой научно-индустриальной экономике. Собственно, это интрига и Пражской весны 1968 г., и польской «Солидарности», и нашей перестройки. Но это же и центральная тема протестов итальянского, французского или японского левачества, латиноамериканских «герильерос», южнокорейских профсоюзов, индийских маоистов-наксалитов, да и китайских хунвэйбинов-красногвардейцев, которые раскачали коммунистическую бюрократию Поднебесной настолько, что «правоуклонистские» реформы Дэн Сяопина самой номенклатурой воспринимались как куда меньшее зло. И даже, если трезво задуматься, это молодые исламские фундаменталисты, своим мессианством и готовностью к террористическому самопожертвованию напоминающие русских народников.
Вторым соображением влезавших в долги правительств было поддержание высоких темпов индустриального роста и создание передовых секторов в надежде, что к моменту погашения кредитов новые источники доходов покроют долги. Именно так Египет, Бразилия и Югославия начали создавать собственные фармацевтику, электронику и автостроение. Никто еще не видел, что вскоре эти проекты, неизбежно перераставшие свои национальные рамки, столкнутся с протекционизмом Запада и жесткой конкуренцией со стороны восточноазиатских «тигров», вроде Тайваня и Южной Кореи, находящихся под особой геополитической опекой США.
Да и была ли катастрофа проектов ускоренного развития столь неизбежной? Сегодня никто уже не спорит, что националистические проекты автаркии (отключения от мирового империалистического хозяйства) и замещения импорта национальной продукцией к тому времени себя исчерпали. От индустриальной диктатуры опоры на собственные силы пора было переходить на некую новую, более гибкую и человечную модель развития. Именно в конце 1970-х гг. возникает перспектива перехода к экспортно-ориентированному промышленному росту. Для этого, однако, требовалось обеспечить новым индустриальным экономикам доступ на мировые рынки, без чего эти проекты просто бы захлебнулись.
Поэтому в конце 1970-х в повестке дня устойчиво возникают требования Нового мирового экономического порядка. По сути, это была первая попытка политической координации экономических требований на уровне всего тогдашнего Третьего мира, нечто вроде гигантски расширенного картеля ОПЕК, способного навязать странам Запада более выгодные условия мировой торговли. Целью было заставить развитые страны «Севера» поделиться рынками и технологиями – а не отделываться одной лишь помощью. Кроме того, страны «Юга» (как теперь стало принято выражаться) собирались сознательно стимулировать торговлю внутри своего блока. Упрощенный пример: Бразилия по умеренной контролируемой цене поставляет в Анголу свою технику, взамен получая нефть, хлопок и другое сырье – также по устойчивым ценам, защищенным от крайних рыночных колебаний с тем, чтобы Ангола сохраняла платежеспособность. По мере усложнения технологической цепочки бразильская промышленная продукция выходит на мировой рынок, а Анголе передаются менее технологичные компоненты промышленного производства и (непременно!) соответствующие каналы сбыта.
Утопия? А как тогда происходила индустриализация прежде хилых «тигров» Восточной Азии, куда с начала 1960-х передавались менее прибыльные звенья японских производственных цепочек с соответствующими экспортными навыками и связями? Конечно, огромную роль играли капиталы, сбытовые возможности и политическая воля США, исключительно заинтересованных в выживании и самоокупаемости своих антикоммунистических форпостов в Восточной Азии. Со своей стороны, правящие диктатуры Кореи, Сингапура, и Тайваня должны были суметь воспользоваться предоставленными возможностями. Но за этим следили извне и сверху, направляя в производство даже коррупционные доходы. И это обретало смысл для самих коррупционеров, потому что устойчивые экспортные доходы делали производство по крайней мере в более долгосрочном плане привлекательнее рисков сиюминутного казнокрадства. Сегодня подобное прагматичное, если не циничное, отношение к коррупции стало негласной политикой и в коммунистическом Китае: приворовывать позволительно только тем, кто при этом «ловит мышей».
Собственно, идея Нового мирового экономического порядка и заключалась в создании политических механизмов, способных воспроизвести для всех стран «Юга» то, что США (а также северная Европа по отношению к Испании, Португалии и Греции) некогда предлагали своим стратегическим клиентам по сугубо геополитическим соображениям холодной войны.
Но тут возникал структурный ограничитель самого размера мировой экономики. В XX в. элиты Запада согласились поделиться доходами с собственным кадровым пролетариатом перед лицом совершенно реальной катастрофы мировых войн, фашистских завоеваний или коммунистических революций. Результат превзошел все ожидания. Западный пролетариат успокоился и стал ездить на собственных машинах за пособиями, тем самым продолжая потреблять даже в периоды безработицы, а страны советского блока столкнулись с совершенно для них невыносимым демонстрационным эффектом. Но одно дело поделиться большей долей пирога с не таким уж и многочисленным, но централизованно расположенным (и, добавим, белым) населением Запада – и совсем иное дело делить пирог уже со всем (цветным) Третьим миром.
Впрочем, и задобренный пролетариат Запада к началу 1970-х оставался вполне лояльным к капитализму. Раздобревший пролетариат попросту хотел еще большего. В ходе потрясений 1968 г. для всех правительств было исключительно важно предотвратить смычку левых студентов и массы кадрового пролетариата. (Каким политическим кошмаром для властей могла обернуться такая интеллигентско-рабочая смычка, показала в 1981 г. польская «Солидарность».) Профсоюзы на Западе тогда покупались материальными предложениями сверх их собственных ожиданий. Это, конечно, обеспечивало социальное спокойствие, но и дальнейший рост запросов. И все это на фоне понижения норм прибыли в устаревающих промышленных секторах.
Вот почему вызванный ОПЕК рост сырьевых издержек спровоцировал в 1974–1975 гг. кризис, сломавший прежние компромиссы и приведший к деиндустриализации Запада. Промышленность выводилась из дорогих стран Запада в более дешевые страны Азии и Латинской Америки, а обезработивший западный пролетариат переводился на пособия и все более на кредитование своего потребления. Арриги называет этот кризис сигнальным, за которым последовало мощное восстановление нормы прибыли на основе спекулятивных финансов и одновременного снижения доли зарплат в национальном доходе. Однако подобное восстановление в принципе не могло быть более устойчивым, чем любая финансовая пирамида. Удивительно не то, что карточный домик развалился в 2008 г., а скорее то, как долго он не разваливался. Все-таки у элит Запада был потрясающий опыт координации и ресурсы. Конечно, сильнейшим образом помог и нечаянный саморазвал коммунизма после 1989 г.
Глобализация
Впервые это модное слово возникло в 1984 г. в редакционном комментарии в «Wall Street Journal» по поводу решения кабинета Маргарет Тэтчер, открывавшего иностранным банкам прямой доступ на финансовый рынок лондонского Сити. Показательно, что до 1989 г. неологизм «глобализация» употреблялся только с прилагательным «финансовая».
После разгрома кадровых профсоюзов в некогда ведущих, но теперь низкоприбыльных отраслях уголедобычи и машиностроения, Тэтчер остро требовалось создать новый ведущий сектор. С распадом Британской империи Сити утратил было свое значение мирового денежного насоса, но теперь воспрял благодаря родовым связям с Америкой и близости к Европе. Ожил и Лондон, где резко выросли цены на недвижимость, скупаемую своими и пришлыми рыночными игроками. Тем временем некогда славные Глазго, Белфаст, Манчестер и Бристоль переживали повальное закрытие шахт, заводов и судоверфей с соответствующим букетом социальных патологий, от алкоголизма и распада семей до терроризма ирландского и мусульманского (пакистанцев в 1950-е гг. завезли в качестве «лимитчиков» для давно устаревших текстильных фабрик). Но дело было сделано – капиталы высвобождались из привязанного к конкретной стране и местности материального сектора и утекали в глобальные финансы.
Утекали – куда? Финансы – вещь эфемерная, подвижная и по натуре космополитичная. Однако оставим разговоры о наступлении постиндустриальной эпохи, сетевого общества, гибридизации и глобализации. Это все модные публицистические поделки, которые хорошо продавались в те годы – но убейте, если они означали что-то вразумительное. Посмотрим лучше, как можно реконструировать логику процессов, не прибегая к западным неологизмам бизнес-футуризма.
Вот что показывают изыскания моей чикагской коллеги Моники Прасад, проработавшей тысячи страниц документов западных банков и центров политических разработок (почти все это ныне доступно в Интернете). В 1979 г. президент США Джимми Картер под угрозой поражения на выборах призвал своих экономистов сделать хоть что-нибудь для обуздания экономического кризиса. Новый глава американского центробанка Пол Волкер предложил тогда отчаянные меры, не использовавшиеся с 1920-х гг. Это было почти как в стародавние времена – пустить пациенту кровь, коль скоро все современные антибиотики перестали работать.
К тому времени кризис на Западе продолжался уже десятилетие, с никсоновской вынужденной девальвации доллара 1971 г. и формальной отмены Бреттонвудской системы международных финансов, которая после 1945 г. служила барьером против повторения великих депрессий. Правительства западных стран вкачивали ликвидность в свои экономики в надежде на повторение кейнсианского эффекта мультипликатора, который так выручал их со времен Великой депрессии и послевоенного восстановления. Попросту говоря, и капиталистам, и рабочим разными способами раздавались деньги в расчете на стимуляцию потребительского спроса и технического переоснащения. Но на сей раз почему-то деньги вызывали только инфляцию вкупе с деловым застоем (стагнацией), что в конце кризисных семидесятых называли модным словечком «стагфляция».
Капиталисты попросту боялись инвестировать в производство в ситуации, когда будущие прибыли оказались под угрозой одновременно дальнейших профсоюзных требований и новоявленных конкурентов из развивающихся стран. У всех на глазах был легендарный, помпезный, хромированно-крылатый «бьюик» образца 1960-х, поникший вначале перед дешевенькими, но вполне пригодными японскими «тойотами», к которым вскоре добавились бразильские лицензионные «фольксвагены-жуки», а теперь еще и угловатые, зато вовсе дешевые югославские «юго» (имитация «фиата», была и такая марка сербского механосборочного завода «Црвена Застава», или «Красное знамя») и убогие поначалу корейские «хёндэ» («Hyundai», что в переводе гордо значило «прогресс»).
Американский финансовый чародей Пол Волкер, как показывают документы тех лет, жал кнопки практически вслепую. Конечно, в идейном поле уже набирала обороты новая монетаристская ортодоксия Милтона Фридмана. Он давно проповедовал в пользу рыночной благодати, да только в период кейнсианской ортодоксии 1950–1960-х гг. Фридман считался чудиком и едва ли не фанатиком правого радикализма. (Отдельная поучительно забавная история, как влиятельные сторонники добились вручения Фридману Нобелевской премии 1976 г., впоследствии используемой для легитимации всей монетаристской школы.) Годы стагфляции сделали прежде эксцентричные идеи Фридмана актуальной идейно-политической альтернативой. Однако конкретные шаги предстояло делать все-таки политикам, которые, как обычно, действовали по сиюминутной оппортунистической интуиции, а вовсе не по идеологическому плану.
В 1979 г. Волкер резко поднял ставки по кредитам. Расчет был сделан на ускорение вялотекущего кризиса, чтобы выжившие сильнейшие перехватили активы и рыночные сектора у старых и немощных и поскорее запустили следующий подъем. Суетливый президент Картер не успел воспользоваться лаврами. Они после выборов 1980 г. достались артистическому мастеру консервативного пиара Рейгану – и сохранившему свой пост Полу Волкеру.
Волкер, как теперь доказано документально, совершенно не предвидел размаха и дальнейших последствий – а также мировой цены – своего успеха. Его расчет был сделан на внутренние процессы в экономике США и, конечно, на то, чтобы помочь переизбраться шефу, т. е. Джимми Картеру. Повышение ставок должно было стимулировать приток капитала в Америку, что позволяло профинансировать дефицит баланса текущих операций за счет временных, как тогда казалось, займов и дефицита платежного баланса. Однако в силу размера своей территории и особого положения в мировых делах США, в отличие от множества прочих стран-должников, возникших на рубеже 1980-х гг., еще долго – вплоть до сегодняшнего дня – могли избегать болезненной структурной перестройки. Мыслимо ли, чтобы МВФ (сам расположенный в центре Вашингтона) мог потребовать от Америки сокращения импорта и увеличения экспорта ради выплаты долгов? И уж тем более урезания бюджетных расходов на Пентагон с пенсиями его многомиллионному легиону ветеранов, на готовых взорваться негров и исправно голосующих на всех выборах патриотичных и религиозных американских старичков? Америка – не Аргентина и не Испания. Вот вам еще одно фундаментальное преимущество гегемонии.
Меры Волкера, таким образом, виделись паллиативом, призванным помочь президенту Картеру избраться на второй срок, временной мерой (пусть «шоковой», но старательно щадящей своих), а вовсе не эпохальным переворотом на мировых рынках. Результат, однако, превзошел ожидания. Вопреки всем левым, да и правым, теориям, в «центр империализма» со всего мира хлынули потоки сбережений, инвестиций и спекулятивных денег. Из экспортера капитала США стремительно превращались в импортера, из мирового кредитора – в крупнейшего должника. Рейган и Волкер если и были озадачены таким поворотом, то вовсе ему не противились.
После шока начала 1980-х гг. экономика США вступила в длительный период процветания, по крайней мере для инвесторов и политиков, которым больше не требовалось решать бюджетные головоломки. Рейган получил средства и на «пушки» (колоссальные ассигнования на техническое и психологическое перевооружение новой профессиональной армии после поражения во Вьетнаме), и на «масло», которое теперь, впрочем, доставалось верхним и верхне-средним слоям общества, расположенным в социальной структуре ближе к финансовым потокам и процессу отбора кандидатов на выборах. Мировая власть с лихвой вернулась к элитам США.
Ломка климата
Политический климат миросистемы менялся кардинально. Новые левые движения, еще недавно сотрясавшие устои западного общества, распались столь же быстро и бесславно, как и их непризнанные собратья, советские диссиденты и демократы после 1991 г. При всем порыве эти силы не разработали никакой позитивной программы. Солидные профсоюзы, приученные к легким деньгам без забастовок, теперь оказались один на один с ожесточившимся менеджментом, всегда готовым перенести производство в Мексику или Корею. Когда забастовки все же случались, ответ властей теперь мог быть почти так же суров, как в далеком XIX в. Президент Рейган начал с показательного разгона элитного профсоюза авиадиспетчеров, которых попросту заменили в аэропортах военными профессионалами, пока набирали и готовили менее требовательную замену.
В 1980-х гг. на первый план выдвигается другая стратегия. Капитал, прежде всего американский, уходит из скованного национальными рамками производства в глобальные финансовые спекуляции, ломая прежние политические барьеры и механизмы регулирования. Если легендарные капитаны американского бизнеса первой половины XX в. выступали организаторами производства (Карнеги, Форд, Рокфеллер, даже Дисней), то героями новой эпохи становятся финансовые игроки – Трамп, Баффет, Сорос. Их первое очевидное преимущество в том, что биржи лишь опосредованно связаны с производственными цепочками, так что не побастуешь. Но куда большее преимущество в том, что капитал в финансовой форме крайне мобилен, адаптабелен и всеяден. Развитие электроники дало ему возможность буквально в секунды перемещаться из сектора в сектор, из страны в страну. Оставалось только поломать и снести препятствия для глобализации финансов.
В 1979–1982 гг. Третий мир в целом откатился в мировой иерархии доходов на душу населения на позиции колониального периода. Структурно удар долгового кризиса был сопоставим с Великой депрессией, если не хуже. Захлебнулись национальные проекты промышленного роста, финансировавшиеся за счет дешевых кредитов 1970-х гг., а с ними и разговоры о Новом экономическом порядке. Правительства выстраивались в очередь за спасательными кредитами МВФ, которые теперь обставлялись монетаристскими требованиями жесткой экономии, ликвидации субсидий и защитительных барьеров. Это открывало для сильнейших финансовых игроков мира все больше рынков и доступ к ныне бросовым активам обанкротившихся госсекторов. Слом границ и барьеров, собственно, и был основным процессом глобализации.
Вскоре в той или иной форме добавились требования либеральной демократизации и приведения государственных институтов в соответствие с американскими нормами ведения бизнеса и политики. Это понижало риски вхождения на новые рынки (налоговой экспроприации и некогда весьма модной национализации) и попросту делало весь мир узнаваемо своим для американского инвестора. Теперь американский командировочный коммивояжер мог практически в любой столице планеты остановиться в знакомом отеле «Мариотт» или «Хилтон», назначить встречу в «Старбаксе», сходить в знакомый спортзал и, главное, провести операции через знакомые банки. Всевозможные местные диктатуры развития, утратившие уверенность и средства к осуществлению власти, вдруг шли на переговоры и пакты с оппозицией. В Латинской Америке, как всегда, доходило до крайностей, когда хунты едва ли не из тюрем и ссылки приводили оппонентов порулить разваливающейся страной. Так президентом Бразилии стал некогда известный леворадикальный социолог Энрике Кардозу, сделавшийся на новом посту таким же убежденным неолибералом.
Фидель Кастро призвал было к забастовке стран-должников, чтобы спасти идею политического блока Третьего мира и совместно продолжать добиваться пересмотра мировой финансовой системы. Как это часто бывает с забастовками, организовать коллективное действие всегда труднее, чем его подавить. Вернее, протесты «Юга» утратили саму перспективу успеха перед лицом гигантской финансовой воронки, в которую превращались США. В течение следующего десятилетия США регулярно поглощали около двух третей, т. е. истинно львиную долю прироста мирового инвестиционного капитала. Вот это гегемония на деле! Худо пришлось всем прочим мелким и даже не столь мелким бесам. Если раньше какой-нибудь Сьерра-Леоне доставались хоть крохи, то теперь в привлечении капитала приходилось конкурировать с самой Америкой, чьи финансовые инструменты давали инвесторам устойчиво высокий доход при минимальных рисках.
В распаде Югославии повелось винить этнические конфликты. Забывается при этом, что с 1980 по 1990 г. реальные зарплаты в некогда единой стране упали втрое на фоне раскручивающейся гиперинфляции. Передовые промышленные отрасли, вроде того же сербского автопрома и хорватской тонкой химии, на которые ранее возлагались такие надежды, оказались в коме под давлением резко вздорожавших кредитов и таких неожиданных конкурентов на авторынке, как Южная Корея. Видя страшный поворот в судьбе румынского диктатора Чаушеску, сербский номенклатурщик Слободан Милошевич, в молодости не чуждый западнического плейбойства, резко поворачивает к национализму. Вот тут Милошевичу и пригодилось пробудить глубоко травмированную историческую память сербского народа. Наверное, не случайно и то, что среди основателей Аль-Каиды было столько египетских «технарей», перенесших распад своих отраслей – и нашедших выход своему отчаянию в программе борьбы бывшего саудовского автодорожника (а никак не богослова) Осамы бен Ладена.
В СССР тогда не осознали происходящего в Третьем мире. У нас готовили асимметричный ответ на «Звездные войны» Рейгана, а экономические беды Югославии воспринимали едва ли не злорадно – доигрались, мол, со своим социалистическим рынком и самоуправлением. Ведь по сути советская Россия была одним из первых и крупнейших образцов диктатуры развития, успешно вышедшей на уровень индустриализации середины XX в., но там же и застрявшей. Отметалось предположение, что СССР по структуре импорта/экспорта приближался к Третьему миру и мог бы угодить в долговую ловушку. Остается гадать, насколько удалась бы перестройка при высоких ценах на нефть. Фактом остается то, что спад мирового производства и смещение инвестиционных приоритетов американского капитала (но едва ли злая воля антикоммунистов, у которых не могло быть такого дара предвидения) привели к длительному падению цен на сырье, включая нефть, в самый неподходящий для Горбачева момент. Распад СССР убирал последнее крупное препятствие на пути американской финансовой глобализации. Или так всем казалось в 1990-е гг.
Пробуждение Азии
«Молодые центристы» Клинтон и Блэр, сменившие жестких стариков Рейгана и Тэтчер, имели значение косметическое. Это были выходцы из левых (все-таки лейбористы были некогда социалистической партией, Билл Клинтон успел немного попротестовать в 1968 г., а Йошка Фишер даже подраться со своей западногерманской полицией). Бывшие левые, придя к управлению капиталистическими комплексами Запада, стремились поставить доставшуюся им глобализацию на более устойчивую основу многосторонних договоренностей между победителями и проигравшими предшествующего десятилетия. Что случилось в лихие для Запада семидесятые, теперь, в благополучные девяностые, прагматично было признано неизбежным, зато в дне сегодняшнем (т. е. девяностых) на всех направлениях предлагалось расплывчатое «сотрудничество в поиске решений», а в будущем обещалось всеобщее воссоединение в новом технологичном, динамичном, толерантном, открытом и мультикультурном глобальном социуме. Риторика глобализации в годы Клинтона достигает своего пика.
Одновременно возникает колоссальный финансовый пузырь, который триумфально провозглашается бумом «Новой предпринимательской экономики» без спадов и рисков. Многоцветье факторов тут как всегда запутано до предела. Но в целом понятно, что средства, высвободившиеся из государственных банкротств по всему миру, должны были куда-то притекать. Ведь оффшорные банки предлагают анонимность, но не обязательно высокую доходность. Поэтому капиталы, бегущие вместе с завладевшими ими анонимными бенефициантами от политических и криминальных рисков, должны не только скрываться, но и по непреложной логике капитализма литься на какую-то прибыльную мельницу. И что в девяностые годы могло быть привлекательнее емких, открытых и вполне безопасных рынков недвижимости и финансов Нью-Йорка или Лондона? Неизбежно, это была финансовая пирамида. Но особого свойства: ее подпирали США всей своей суверенной мощью и прежним авторитетом.
Американские элиты вели себя подобно предводителю дворянства, который смело занимает у своих клиентов, а те покорно ссужают поиздержавшемуся генералу, который по-прежнему оказывает протекцию просителям, является на все свадьбы – и продолжает азартно играть на скачках.
Клинтоновская конъюнктура воспроизвела на новом историческом витке «белль эпок» 1880–1910 гг., золотую осень британской гегемонии. Неудержимая индустриализация кайзеровской Германии и воссоединенной в гражданской войне Америки тогда неуклонно лишали Британию монопольного положения «мастерской мира». Однако Британия еще оставалась «владычицей морей», а лондонский Сити превратился в мировую клиринговую контору, где искали инвестиционных капиталов как полупериферийные Аргентина и царская Россия, так и только начавшие пробиваться в ядро миросистемы Япония и Италия, и даже соперничающая Германия, но более всех – Америка, страна континентального размаха с бесконечными инвестициоными возможностями. Одних железных дорог сколько предстояло построить! В основе имперского величия, будь то древний Рим, Британия Викторианской эпохи или вдруг полюбившая себя с ними сравнивать Америка начала 2000-х, всегда лежит вооруженное принуждение. «Позвольте и мне, уроженцу Индии, сказать пару слов о британском владычестве», – так начинает Вивек Чиббер свою беспощадно ерническую и умную рецензию на недавний бестселлер Нила Фергюссона с прозрачным названием «Империя: уроки британского миропорядка для глобальной державы».
Не все в истории повторимо. Британская империя, конечно, была колониальной. Американская глобальная империя опирается на иерархию формально самостоятельных стран, удерживаемых в приемлемом для гегемона состоянии разнообразными механизмами «общих ценностей», торговых договоров, финансовых институтов и не в последнюю очередь военных баз. Британцы напрямую взимали дань с Индии, которая в колониальные времена имела положительное торговое сальдо со всем миром, кроме метрополии – результат установленного Лондоном обменного курса фунта к индийской рупии. Основы владычества США куда более впечатляющие. Гегемония доллара и финансовых институтов США до сих пор обеспечивали глобальный сбор ренты без грубого и явного принуждения, а объективно, в силу сложившейся архитектуры миросистемы. Просто всему миру приходилось, в силу «объективных реалий», покупать доллары. И все-таки любая сложная система изменчива. Основы власти постоянно требуют ремонта и поддержания. Появляется, скажем, евро. Его пока довольно легко сдерживать – Евросоюз вроде бы давно свыкся со своим комфортным второстепенным положением привилегированной опеки. Но как быть с Китаем?
Китай оказался самым непредвиденным последствием политики глобализации. Начиналось просто. Вывод трудоемких индустрий из стран ядра миросистемы означал поиск новых производительных баз где-то на периферии. В 1970-х – 1980-х гг. это приводило к краткосрочным подъемам то в Бразилии, то в Индонезии, что тут же провозглашали экономическим чудом. Глобальная рыночная интеграция КНР вначале воспринималась американскими элитами как маневр в противостоянии СССР и Вьетнаму, снисхождение к бывшему противнику, затем как удачное сочетание инвестиционных возможностей и, наконец, как вопиющее подтверждение рыночной идеологии.
Страх перед разбуженным азиатским великаном возникает в Америке только к концу 1990-х гг., когда выяснилось, что баснословные долги США скупает прежде всего Китай. Америке предложили сделку, от которой она не могла отказаться. Все еще бедная, но беспрецедентно быстро растущая и вдобавок, конечно, великая азиатская страна финансировала потребление намного более богатого общества, которое по ходу и стараниями прежде всего собственных хитроумных менеджеров быстро теряло основы своего индустриального производства. Продолжение гигантской индустриализации Китая требовало поддержания где-то в мире столь же гигантского спроса. Китай стал ссужать Америку, чтобы поддержать американский уровень потребления. Ситуация неслыханная и оттого трудно поддающаяся прогнозированию.
Конечно, экономические историки понимали, насколько средневековый Китай опережал остальной мир в развитии рынков. Китайцы изобретали бумажные деньги и брэндирование сортов чая, когда Европа отправлялась в Крестовые походы и жгла еретиков. У китайцев сохранились семейные фирмы, чьи традиции насчитывают несколько столетий. (Кстати, самый старый из ныне действующих банков в мире – вовсе не западный, а японский «Сумитомо», начинавший более чем четыреста лет назад с императорской монополии на поставку риса и рисовой водки сакэ для постоя прирученных самураев в имперской столице Эдо, т. е. Токио.) Еще в самом начале семидесятых годов британский неомарксист Перри Андерсон (кстати, сын британского губернатора концессий в Шанхае) показал, что структурно японский феодализм ближе всего к феодализму Запада. Неовеберианец Рэндалл Коллинз (способный, похоже, создавать оригинальные теории абсолютно на все случаи) поправил самого Макса Вебера, показав, что сам по себе дух протестантизма мало что значил. Но зато монашеская организация буддизма имела такие же непредвиденно инновационные экономические последствия, как и монашеская организация западного христианства. (Монахи ведь не только молились, но и писали иконки и рукописи на продажу мирянам, строили сложные водяные мельницы, совершенствовали варение пива или чаев, выводили новые сельскохозяйственные сорта и породы, даже собак, вроде сенбернаров и лхаса апсо.) Наконец, «калифорнийская школа» исторических социологов – Кен Померанц, Бин Вонг, Джек Голдстоун – тщательно вычислили, что хозяйственный и даже технический потенциал дельты Желтой реки вплоть до 1800 г. не уступал Англии того же периода. Да только кто слушал историков и социологов?
Если почитать Фернана Броделя или Джанет Абу-Лугод, то можно также узнать нечто поразительное и, вероятно, актуальное также об Индии, куда некогда ходил тверской «челнок» Афанасий Никитин. Стоит пристально следить и за былыми центрами исламской коммерции, Ираном и Египтом. Какими рынками и ремесленниками некогда славились Исфахан и Фустат (ныне Каир)! Дело ученых – объяснить, как именно сохранились стародавние экономические традиции этих регионов, которые Бродель называл великими «колесами торговли». Но факт, что эти традиции где-то подспудно сохранялись и в течение веков колониального владычества Запада. Теперь древние колеса приходят в движение. И образованные люди там хорошо помнят свою историю – как славные, так и бесславные века европейского господства. Уж не окажется ли господство Запада лишь историческим эпизодом?
Этой грандиозной картине никак не противоречит и то, что Китай, Индия и прочие страны теперь уже бывшего Третьего мира в 1950-е – 1960-е гг. заложили основы своего подъема: современные государственные институты, инфраструктуру, образование. Им не удалось сделать рывок, намечавшийся в 1970 гг. Вмешалась катастрофическая для большинства Третьего мира финансовая конъюнктура американской глобализации, которая ударила по их слабым местам и прервала (конечно, за исключением Китая) намечавшийся было в 1970-е гг. переход Третьего мира от импортозамещения к экспортной индустриализации. Но означает ли это, что новый рывок не произойдет?
Для объяснения американского вторжения в Ирак придумано много всяких теорий. Большинство из них слишком мелкие и слишком заговорщические. Конечно, кое-где существовал и корыстный интерес «Халлибертона» Дика Чейни, и республиканским политтехнологам хотелось ущучить на выборах сладкоречивых демократов по выигрышной для себя линии сурового патриотизма. Но, помилуйте, слишком велика институциональная сила вашингтонской бюрократии и корпоративного истеблишмента, чтобы позволить лишь ради личных махинаций пары политиканов такие внешнеполитические, экономические и людские потери, на которые Америке пришлось пойти при организации вторжения в Ирак. Нет, американские неоконсерваторы подходили к делу с подлинно державным размахом. Они, по сути, предлагали Америке надолго переустроить под себя целый мир. Только это у них не получилось – подвела самонадеянность, как часто случалось в истории с обладателями сильного оружия.
Неоконсерваторы считали, что клинтоновские экивоки – лишь трата времени в противостоянии главной долгосрочной угрозе гегемонии США – экономическому росту Китая. Они также осознавали невозможность справиться с Китаем, как Рейган в восьмидесятые годы справился с конкуренцией Японии. Зависимый в военном и политическом плане Токио тогда вынудили принять американские правила ведения «открытой игры» на рынках, что привело к краху выстроенной на азиатском «кумовстве» японской финансовой системы и многолетней стагнации японской экономики. (Наверное, Рейган этого не хотел, но так вышло.) Пекин же оказался куда неподатливей. Конечно, Китаю приходилось накапливать гигантские долларовые запасы от практически односторонней торговли с США, тем самым поддерживая курс доллара и американское потребление. Но при этом все еще коммунистический Китай развернул инфраструктурное строительство, масштабами далеко превосходящее давние достижения Нового курса Рузвельта.
Прямая война с ядерным Китаем также исключалась. Антикоммунистическая либеральная революция пережившему свой 1989 г. Китаю, судя по всему, также не грозила. И тут случились теракты 11 сентября 2001 г. Вторжение в Афганистан создало плацдарм в самом центре Азии, притом (обратите внимание на карту) у западных рубежей Китая. Но Афганистан слишком удален и малозначителен. Война же с Ираком убивала множество зайцев. США демонстрировали миру возможности самой дорогой армии в мире и способность действовать по собственному усмотрению; при этом со всех сторон обложили вечно беспокойный Иран, получали центральное место на Ближнем Востоке, и наконец, Соединенные Штаты оккупацией Ирака фактически входили в состав ОПЕК. Не Европа и не арабы были призваны стать главной аудиторией этой демонстрации имперской мощи, а именно Китай.
Об опасности геополитического перенапряжения давно предупреждали и умнейший консервативный политолог Джон Миершаймер, и левый радикал Иммануил Валлерстайн, и либеральный историк Пол Кеннеди. О том, что будущие войны на периферии будут вестись не в пустынях и джунглях, а в городских трущобах, где высокоточное оружие бесполезно и все будет по-прежнему зависеть от пехоты, говорили и Анатоль Ливен, и Майкл Манн, и многие другие трезвомыслящие теоретики. В Пентагоне едва не все офицеры и генералы в то время посмотрели «Битву за Алжир», великий и беспощадно реалистичный фильм Джилло Понтекорво о городских партизанах в мусульманской стране (кстати, доступный на русском языке в Интернете). Но имперская идеология и сознание собственной мощи ослепляют самих пропагандистов. На закате империи такое случается нередко, как в августе 1914 г. с гордыми британцами или в 2003 г. с американскими праворадикальными авантюристами.
США скоро придется уйти из Ирака, где власть в конце концов вероятно достанется шиитскому городскому командиру Муктаде аль-Садру или кому-то вроде него. Возможно, это даже провозгласят победой идей согласия. Непосредственным победителем становится Иран, превращающийся в региональную державу. Главный же исторический выигрыш от войны в Ираке вполне может достаться Китаю, который оказался в стороне, таким образом благополучно переждав пароксизм американского экспансионизма, и при этом продолжал укреплять свои позиции в мировой экономике.
Мир после попытки империи
Сами теперь судите, что могут означать потрясения последних дней. Строившаяся со времен Пола Волкера и Рональда Рейгана финансовая пирамида наконец рухнула. Нет, это еще не крах США, и даже Уолл-Стрит еще может воспрянуть. Слишком много сил, включая таких друзей-соперников США, как Европа, Япония и даже тот же Китай, совершенно не заинтересованы в новой депрессии и уж по крайней мере в крахе доллара. Может и не получиться, но они постараются.
Американская гегемония, подорванная в сигнальном кризисе 1970-х гг., восстановилась в 1980-е гг. и добилась баснословного процветания в 1990-е, замкнув на себе финансовые потоки из обанкротившихся отраслей и развалившихся госсекторов практически всего мира. На наших глазах этот период заканчивается финансовым и геополитическим кризисом, на сей раз, видимо, уже окончательным.
Конец американского варианта глобализации открывает пока что смутные перспективы. Всегда возможен просто развал и хаос, которые будут сотрясать мир в конвульсиях еще не один год. Тогда мы увидим этнические, религиозные и расовые конфликты, далеко превосходящие распад СССР и Югославии. Упаси боже.
Но можно теперь всерьез прогнозировать и возобновление усилий по созданию альтернативного экономического порядка, основанного на политическом стимулировании промышленного роста прежде всего в странах полупериферии вроде Китая, Индии, Ирана, Бразилии – и России. В мире сегодня существуют массы обездоленных людей, которые не могут вернуться в деревню и не могут найти нормальной работы в городах.
Крах глобальных спекулятивных финансов, среди прочего, означает, что капитал теперь будет вынужден искать новые доходные ниши, которых в последние годы возникло немало по всему миру. Восстановление массового промышленного производства, начавшееся в Китае и перекидывающееся на другие страны, вполне достоверно указывает на наступление новой фазы материального роста. Вот тут капитал и будут ловить и правительства различных стран, и профсоюзы, и различные политические партии. Дайте только этим птицам высокого полета где-то приземлиться и начать вить гнезда под золотые яйца! Новые деловые и социальные компромиссы будут определяться относительной политической силой и сплоченностью сил, заинтересованных в материальном росте.
Уже несколько лет витает идея Пекинского консенсуса – в пику Вашингтонскому консенсусу глобального неолиберализма. Это, говоря начистоту, авторитарная программа патерналистской бюрократии полупериферийных зон, обеспечивающей свои властные и имущественные интересы. Однако Пекинский консенсус предполагает активное поощрение роста и занятости, выведение стран из отсталости. На фоне нынешнего положения дел это может оказаться для многих подчиненных групп приемлемой платой за сохранение недемократических порядков.
Впрочем, конец идеологии неолиберализма с ее апологетикой имущественного неравенства может вернуть мир к эгалитаристским программам 1968 г. или нашего 1989 г., но, будем надеяться, подкрепленным горьким опытом и реализмом, требовательным к деталям. У Пекинского консенсуса может возникнуть демократическая альтернатива слева. Что и здорово – всякие монополии чреваты вырождением.
Напоследок позволю себе самый краткосрочный прогноз. Выборы президента США в ноябре приобретают существенное значение. Победа воинственного МакКейна сегодня стала менее вероятна. Американские элиты и население расколоты, причем правые ослеплены собственными неудачами, в которые они отказываются поверить. Продолжение прежнего курса еще четыре года чревато опасными потрясениями для всего мира, после которых США, скорее всего, просто замкнутся в изоляционизме.
Обама – вовсе не убежденный радикал. Это очень честолюбивый политик, наделенный незауряднейшей способностью далеко вперед просчитывать свои действия и при этом корректировать курс в зависимости от реакции на него. В ситуации опасного кризиса такие качества несомненно предпочтительнее. Но об этом будем судить после ноябрьских выборов.
Да, серьезный кризис. Серьезнее, чем думает большинство деловых аналитиков. Но и не все так ужасно. История делает поворот, открываются ранее перекрытые возможности. Миру предстоят интересные времена.
Страсти по модерну
НАЧНЕМ со слова. В английском лексиконе modern (от латинского modernus) фиксируется с 1500 года в значении «современный, не древний, возникший в наши дни». Само понятие становится возможным только в эпоху Возрождения, когда у наиболее образованных европейцев впервые возникает ощущение выхода из тьмы Средневековья.
Традиционные представления об историческом времени не отличались разнообразием во всех цивилизациях. По сути, существовало две модели – регресс и цикличность. Непривычное слово «регресс» означает, что времена умаляются, люди с их моральными качествами и способностями уже не те, что раньше. Мир легендарной старины населяли «богатыри, не вы!», но потерян рай, минул Золотой век, все клонится к упадку. Это типичная идея Античности и выросших из нее трех возводящих себя к Аврааму религий – иудаизма, христианства и ислама.
Цикличность времени – еще более древнее представление, восходящее к природному круговороту. За летом неизбежно наступят осень и зимнее умирание, но затем Солнце вернется на небосклон, возродится жизнь, и так будет всегда. Все предначертано, возвращается на круги своя, такова карма, закон мироздания, ибо сказано: «Что было, то станет». Пытаться изменить общество – дело пустое, а то и подавно вредное. Остается избегать новшеств, искажающих порядок вещей, и стремиться вернуться к благочестию предков. Наиболее решительным вариантом этого является вектор религиозного фундаментализма, впервые проанализированного арабским политологом Ибн Хальдуном еще в XIV в.
Модерн – понятие противоположное, связанное с осознанием прогресса. Мир движется по нарастающей вверх. Сегодня, в эпоху Нового времени, многое становится лучше и умнее, чем в старину. Вспомните фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», где сценаристы вложили в уста героя Владимира Высоцкого замечательное заявление: «Мы же цивилизованные люди, в восемнадцатом веке живем!».
Новое время
Это убеждение впервые обретает массу вполне материальных доказательств примерно после 1600 г. в Европе раннего капитализма. Конечно, и раньше вводились инновации. Китайцы сотни лет назад изобрели компас, порох, бумагу и бумажные деньги. Арабы разработали химию как науку, заимствовали у индийцев и затем передали европейцам современные цифры, включая важнейший ноль (вообразите-ка даже не алгебраическое уравнение, а банковский счет в виде римских цифр).
Сами средневековые европейцы изобрели массу такого, что римлянам, избалованным рабским трудом, в голову не пришло. Например, подъемный кран и ручную тачку с колесом, при помощи которых возводились готические соборы и замки. Варварам удалось прочно посадить на коня закованного в сталь рыцаря (римляне ведь не знали стремян, а низкосортное античное железо было негодно для изготовления кольчуг). Средневековые европейцы придумали солить рыбу (а сколько ее потребляли регулярно постившиеся христиане!) в дубовой бочке, которая куда удобнее и транспортабельнее амфоры.
Но до наступления Нового времени инновации носили эпизодический характер. Теперь же инновации пошли лавиной, которую не мог остановить никакой верховный авторитет. Ватикан по-своему совершенно логично осудил Галилео Галилея и подверг сожжению Джордано Бруно. Если наша Земля не находится в центре мироздания, если планетарных миров множество, то чем оправдано единство иерархии, на вершине которой находятся Император и Папа? Только у телескопа Галилея вскоре нашлись массовые и весьма грозные применения. Подзорными трубами первыми снабдили своих флотских и полевых артиллеристов лютеране-шведы в ходе Тридцатилетней войны с католиками. Игнорировать новшества теперь означало потерять власть.
Жан-Батист Кольбер, в 1665–1693 гг. занимавший пост министра финансов Франции, докладывал королю Людовику XIV, что в его флоте целая тысяча кораблей. Но у голландцев – семнадцать тысяч. Как эта кучка прижимистых торговцев-кальвинистов на своем болоте, лишенном лесов, да и вообще всяких ресурсов, смогла отстроить подобную океанскую армаду и захватить мировую торговлю?
Царь Петр I не зря ходил за этой наукой именно к голландцам. Задолго до Генри Форда соотечественники Рембрандта (кстати, едва ли не первого модерниста в живописи) поставили сборку на поток. Балтийский лес везли уже распиленным под точные размеры, с «кумпанской» (корпоративной) предоплатой через первую в мире биржу. На голландских верфях квалифицированные и весьма высокооплачиваемые работники из заготовок сноровисто собирали за пару месяцев флейт – простой корабль без излишней позолоты и завитушек, зато устойчивый, экономичный и снабженный удобными ручными механизмами, которые помогали небольшой команде управляться с парусами.
Флейт можно было использовать и в бою, но голландцы, трезво оценивая свои возможности, предпочитали другое оружие – деньги. Возможность воевать они предоставляли наемникам со всей Европы, тем же шведам, шотландцам и немцам, а сами тем временем зарабатывали капитал на фрахте планетарного размаха, от Японии до Архангельска и обеих Америк.
Первые прорывы
Кольбера же следует считать создателем модели государства догоняющего развития. Франция славилась многочисленным блистательным дворянством, презиравшим, однако, буржуазных скопидомов и зануд. Так что реформаторам королевского хозяйства оставалось подражать голландским новшествам путем создания государственных мануфактур и введения монополий. Неизбежно росли налоги, отчего гроб Кольбера на его похоронах пришлось ограждать от бунтующей толпы. Ровно так же мало кто в России станет оплакивать смерть Витте или Столыпина. Догоняющие режимы, как правило, авторитарны и тяжким бременем ложатся на массы.
Но, думаете, в передовой буржуазной Голландии или Англии налоги и пошлины были ниже? На самом деле чуть не втрое выше, чем в остальной Европе. Только собирались и расходовались они иначе. Франции или царской России приходилось обеспечивать высокие потребности весьма многочисленного дворянства. На ренты с крестьянского труда претендовали и элиты, и государство, что создавало нищету и глухое недовольство в низах общества и постоянные политические трения в верхах, обернувшиеся в итоге революциями.
Капитализм, как верно отмечал Карл Маркс (но не он один), тоже начинался с революций. Голландцы, англичане и американцы некогда пролили немало своей и чужой крови за свободу. Их восстания привели к прорывам не из-за особенностей протестанстской этики, а потому, что обернулись устойчивой фракционностью на политической арене. Преодолев совместными усилиями королевский «деспотизм», все классы общества на какое-то время были объединены эйфорией победы и готовы к сотрудничеству. (Нечто подобное слишком недолго наблюдалось и в России после 1991 г.) В то же время ни государство, ни капиталистические элиты, ни простой народ (фермеры, ремесленники и прочий малый бизнес) не одержали верха друг над другом. Их коллективные силы оказались примерно равны, и в этом видится главная причина – гражданское идеологическое единение при временно возникшем балансе сил.
Единение грозило вскоре развалиться из-за классовых и фракционных противоречий. Работники, малый и крупный бизнес – объективно конкуренты на рынках труда и товаров, а государство объективно остается организацией изъятий у общества. Но слишком многим после недавних революций хотелось мира. Перед угрозой нового витка потрясений оставалось выработать механизмы рациональной оптимизации внутренних конфликтов через правовую и парламентские системы. Примерно так, довольно материалистично, сегодня исторические социологи реконструируют возникновение первых прорывов к модерну.
Ранние капиталистические государства получали доход в основном с косвенного таможенного обложения товарных потоков. Иначе бы властям пришлось иметь дело с мощной оппозицией, подавить которую не было ни сил, ни оправдания – абсолютизм-то свергли. По той же причине расходовали полученные средства не на большую армию и элитное потребление (тут действительно играла роль протестанстская этика скромности), а на субсидирование внутреннего производства, в том числе военного, плюс регулярные выплаты частным банкам, которые в ответ довольствовались умеренным процентом. Тем самым структурировалась организационно насыщенная и устойчивая деловая среда.
Поразительное дело – в такой ситуации рост пошлин и налогов обеспечивает рост государственных закупок, соответственно, растут и цены, но также капиталистические прибыли и реальные зарплаты. Приезжих в Амстердаме и Лондоне поражали дороговизна всего, включая труд местных работников, но также грамотность, зажиточность, чувство достоинства и относительное спокойствие населения. Вот что стояло за первыми спонтанными модернизациями.
Немецкий обходной маневр
А что было делать небольшой Пруссии, которая расположена вдали от торговых магистралей и почти дотла разорена Тридцатилетней войной? Много ли выжмешь из крепостных в этой «песочнице Европы», где хорошо родится разве что кормовая брюква?
Оставалось рачительно и расчетливо играть от собственной бедности, централизуя помещиков-юнкеров в офицерский корпус и муштруя из крестьян знаменитую прусскую армию. Геополитика – тоже рынок со своим специфическим товаром. Англия, у которой, как известно, «нет друзей, а есть только интересы», в XVIII веке платила ежегодную субсидию в сто тысяч фунтов, чтобы Пруссия выступала ее «мечом на Континенте».
Кто-то скажет: так то же немцы – орднунг, Вермахт, БМВ. Но с каких пор пунктуальность и порядок вошли в их кровь? Этим вопросом некогда задался социолог Норберт Элиас. Источником для реконструкции повадок немцев до эпохи модерна ему послужили старинные учебники хороших манер. Еще эдак в 1700-е гг. предписывается назначать встречи под часами на ратуше, не сморкаться в занавеску и, пардон, не пердеть в церкви и не писать под стол в пивной – значит, были тому причины, чтобы давать подобные рекомендации.
Кто и почему массово раскупал эти наставления, обнаруженные Элиасом во множестве изданий? Первыми были дворяне, т. е. служащие, буквально побывавшие при дворе и прошедшие школу в новой армии. Возвращаясь со службы в провинциальные городки, они ставили себя выше местных мужланов, чисто бреясь, пудря парики, нося в кармане носовые платки и часы. Дворянскому этикету вскоре начали подражать молодые бюргеры и претендующие на хорошую партию барышни – Элиас подчеркивает роль женщин среднего класса в «процессе оцивилизования».
Кстати, часы стали выдавать офицерам вместе с подзорными трубами и топографическими картами, чтобы они знали, как вывести свою роту на полевую позицию к часу «Ч». Помните, в «Войне и мире» у Толстого, как «первая колонна марширует, вторая колонна марширует»?
Модерн несомненно связан с самодисциплиной, рационализмом, умением следить за временем и средствами. Это берется не из исконного национального характера – исконно все европейцы были варвары – а воспитывается потребностями Нового времени, потребностями торговли либо регулярных войн.
Пруссаков со всей их муштрой в 1806 г. разгромил Наполеон. Разбитые армии иногда хорошо учатся. Прусские реформаторы (среди них – Клаузевиц, студент Канта и генерал-майор в 38 лет, автор классического трактата «О войне») извлекли уроки из поражения. Революционных французов отличали гражданское воодушевление и техническое экспериментирование. В ответ немцы отменили сверху крепостное право и в 1810 г. основали в Берлине знаменитый Гумбольдтовский университет, где впервые в мире аттестация профессоров стала зависеть от исследовательских результатов. Также впервые в мире прусским чиновникам и офицерам отныне требовался диплом вуза.
Поколение спустя полковнику Сименсу (кстати, происходившему из семьи многодетных крестьян-арендаторов), чей брат изобрел электрический телеграф, было приказом предложено стать частным предпринимателем на государственном кредите и наладить современную связь в растущем германском государстве. Несколько лет спустя компания «Сименс АГ» уже тянет телеграфные линии на просторах Российской империи, затем закладывает основы электротехнической индустрии в далекой Японии.
Германский тип модернизации, восходящий к меркантилизму Кольбера и практике прусской армии, особо импонировал государственным реформаторам разных стран. Рецепт оказался наиболее применим в зоне мировой полупериферии, где геополитические и статусные амбиции власти либо революционной оппозиции образованных средних классов, претендующих встать вровень с передовыми державами эпохи, не находили достаточной опоры в местном капитале. Тот оказывался слишком мелким, распыленным и косным либо более склонным к элементарному экспорту сырья и импорту предметов роскоши. Таковы в разное время ситуации Швеции, Италии, Турции, Австро-Венгрии, России, Бразилии, Японии и Южной Кореи.
Германский тип модернизации – это не столько аберрация, нарушающая законы рынка, сколько активная адаптация в условиях вынужденного догоняющего развития при явной недоструктурированности рыночной среды. Хотя тут, как сказал бы фон Клаузевиц, кроется своя историческая диалектика.
Исторические модернизации России
Господствующий сегодня идеал модернизации лишь как общества гражданской свободы заслоняет очевидный факт – Россия издавна является типично модернизационным государством, минимум трижды выходившим на мировой уровень. Но правда и то, что все русские модернизации носили деспотический характер. Именно на пиках модернизационных циклов России находятся ее наиболее деспотичные правители – Иван Грозный, Петр I, Сталин. И все прорывы со временем заходил в тупик, в основном из-за собственных успехов, создававших барьеры к выходу на следующий этап.
Первой была пороховая модернизация в XVI веке, примером которой служил не Запад, а передовой Восток. Вначале консолидируется китайская династия Минь и впоследствии преодолевает феодальную раздробленность Япония; около 1500 г. возникает индостанское царство Великих Моголов и Сефевидский Иран; главные победы одерживают Османская Турция и испанские Габсбурги.
Новое поколение империй, пришедшее после столетий кочевых погромов и внутренних усобиц, опиралось на крупные армии с огнестрельным оружием, поддерживаемые мощным налоговым аппаратом. Централизованные деспотии вырабатывают консервативные религиозные идеологии, призванные пресечь ереси – одну из основных причин средневековых распрей и волнений. Вот откуда вполне рациональный запрет на мореплавание, наложенный китайским мандаринатом, или гонения испанской инквизиции, массовые казни новообращенных христиан по приказу японского военачальника Хидэёси, злодеяния и депортации персидского шаха Аббаса Сефевидского во имя шиитского ислама или антишиитский террор турецкого султана Селима Явуза, т. е. «Грозного». Из-за консерватизма империи раннего модерна не смогут вовремя перенять инновации следующей волны.
А вот петровская Россия смогла. Видимо, сказались последствия Смутного времени. Иван Грозный перенял почти целиком турецкую модель: стрельцов-янычар, кавалерию помещиков-тимариотов, приказы и, вероятно, даже опричнину. Но не выдержали демография и экология северного царства. Репрессии и изъятия слишком резко усилившейся власти спровоцировали катастрофический голод и бунты, вкупе с династическим кризисом вызвавшие распад государства. Лишь годы спустя распад был преодолен сплочением гражданского общества в отчаянной ситуации – горожане Поволжья обложили себя податями ради самообороны от шаек грабителей. Дело их пошло настолько успешно, что в самом деле есть, что отмечать 4 ноября.
С тех пор засела мысль, что у западных наемников было чему поучиться ради собственной безопасности. Реформы Петра рывком продвинули инновационный тренд, формировавшийся в предшествующем столетии. Давно бытующие представления об отсталости России весьма преувеличены. Петр насаждал голландские инновации абсолютистскими средствами Кольбера и прусских военных с лагом всего в пару поколений. Заметьте, одновременно он корчевал не древнюю традицию, а институциональные основы предыдущего модернизационного рывка – ликвидировал стрелецкое войско и приказную систему, фактически секуляризировал религию, переформировал элиту в новое дворянство. Куда большее «созидательное разрушение» проявится в следующей модернизации после 1917 г.
Второй – петровский – цикл не удалось преодолеть мирно, потому что он оказался очень успешен. Территория и ресурсы империи значительно выросли за счет исторических соперников – поляков, шведов, персов и турок. К концу XVIII в. Россия стала сверхдержавой, в 1815 г. оккупировавшей Париж. (Кстати, фон Клаузевиц воевал в русской армии и даже появляется на страницах «Войны и мира».) Но геополитический успех располагает к сохранению престижа и статике, что постигнет и СССР в его сверхдержавной фазе. Поэтому не смогли вовремя отменить крепостничество, реформировать армию и перейти к индустриализации.
Поражение в Крымской войне 1853–1856 годов и внезапная смерть Николая I «Палкина» приоткрыли историческое окно возможностей. Александр II «Освободитель» оказался Горбачевым XIX века. В результате его важных, но половинчатых реформ возник парализующий раскол элит на абсолютистских консерваторов, отстаивающих свои привилегии на должности и доходы с поместий, и склонную к радикализму интеллигенцию, чьи современные профессиональные знания не находили ожидаемого применения в роли экспертов и рыночных специалистов. Оставалось писать великие романы, спорить о проектах переустройства мира, ходить в народ, метать бомбы.
Как обычно, революцию спровоцировало геополитическое унижение консерваторов в 1905 и 1917 гг. Интеллигенция дважды прорывалась к власти. В отличие от кадетов и эсеров, растерявшихся перед бездной внезапно открывшихся возможностей и проблем, прежде маргинальная интеллигентская партия большевиков власть удержала.
Победой они обязаны не только научно-религиозной доктрине Карла Маркса, но и успешному применению передовых практик совсем иных немцев: кайзеровского генерал-квартирмейстера Эриха Людендорфа и гения индустриального планирования Вальтера Ратенау. Результатом такого скрещивания стал тип власти, не предусмотренный самим Максом Вебером – харизматическая бюрократия, совместившая современную организационную мощь с утопией прорыва в индустриальное будущее.
Либеральные оппоненты, в схемах которых не находилось места такому монстру, ухватили лишь внешнюю сторону, обозначив ее ярлыком тоталитаризма и списав на исконно русский деспотизм. Суть уловил умнейший консерватор Сэмюэл Хантингтон, стоявший справа от либеральной школы апологетов модернизации. Большевики создали диктатуру догоняющего развития, которая за одно поколение колоссальным рывком преодолела разрыв научно-индустриальных потенциалов между СССР и Западом. Венчающие этот рывок победы над Японией и Германией плюс ядерный геополитический пакт в холодной войне с Америкой более чем преодолели поражения царской России. В ходе рывка, отмечал Хантингтон, СССР создал современное индустриальное общество – структурно и идеологически радикально отличающееся от западного, и тем не менее сопоставимое с ним.
Далее начинается череда парадоксов. Вроде бы тоталитарный Советский Союз дважды сам идет на демократизацию при Хрущеве и Горбачеве. Притом и верховные реформаторы, и окрыленное энтузиазмом население искренне убеждены, что совершенствуют социализм и служат примером человечеству. Но ведь и американцы со времен «нового курса» Рузвельта строят «капитализм с человеческим лицом» и искренне убеждены, что служат примером человечеству. В холодной войне сталкивается два высокоидейных проекта гегемонии, и оба решительно настроены на модернизацию себя и всего мира!
Модернизация с марксизмом или без
В 1770 г. философ маркиз де Кондорсе впервые назвал словом «модернизация» способность современных людей научно направлять изменение общества. Но центром теоретических дискуссий модернизация становится только в 1950-е гг., когда в университетах Англии и США оформляется мощная школа под руководством социологов Талкотта Парсонса, Эдварда Шилза и Ральфа Дарендорфа, политолога Люсиана Пая и экономиста Уолта Ростоу. Влиянию ее, надо честно признать, способствовала хорошо субсидируемая политическая заданность. Парсонс на пике карьеры контролировал многомиллионные потоки грантов от фондов Форда и Рокфеллера, Дарендорф избирался в бундестаг, а Ростоу служил советником по национальной безопасности при президенте Линдоне Джонсоне.
Теория модернизации исходила из классических постулатов эволюционизма, причем толкуемых однолинейно. Все в природе движется по ступеням прогрессивного усложнения и совершенствования. Социальный мир идет к равновесию финальной стадии, характеризуемой рационализмом управления, комплексным разделением труда, индустриальной экономикой, либеральной демократией, равенством полов, угасанием классовых, религиозных и национальных конфликтов, наконец, массовым потреблением.
Это идеализируемая картинка послевоенной Америки. США принимались за эталон, выше всех продвинувшийся по образцовой шкале от средневековой темной традиционности к светлому либеральному и постиндустриальному будущему. Конечно, остается кое-что поправить в положении женщин и негров. Но в целом, Америка, преодолев Великую депрессию, победив фашизм и сдерживая тоталитарный коммунизм, вооруженная передовыми научными теориями модернизации и управления, готова служить локомотивом, вытягивающим остальной мир на свой уровень.
Так ведь и СССР, преодолев отсталость, победив фашизм, последовательно пресекая поползновения империалистов, вооруженный теориями научного коммунизма и управления эпохи НТР (научно-технической революции, была такая модная аббревиатура во времена, когда компьютер по-русски назывался ЭВМ), тоже готов служить локомотивом мирового прогресса.
В СССР возникает поточное производство собственных теорий «развитого социализма» и «соцориентации» для стран Третьего мира. Видные советские академики вслед за дружелюбным Гэлбрейтом поговаривают не только о разрядке напряженности, но уже и о конвергенции двух систем в золотой середине между планом и рынком.
Здесь легко впасть в цинизм относительно двух идеологий сверхдержавного самовосхваления, одна из которых нам до боли родная, а другая займет свято место, опустевшее после краха СССР. Но цинизм – позиция тупиковая. Куда полезнее понять, что, помимо ходульности однолинейных теорий всеобщего прогресса, модернизаторский оптимизм мира пятидесятых-шестидесятых годов имел и абсолютно реальные основания.
После титанических усилий и страшных разрушений двух мировых войн возникший в их ходе организационный потенциал и концентрация ресурсов начали, наконец, творить мирные чудеса. Восстанавливались и строились современные города, электричество пришло в села, устойчивый экономический рост генерировал множество квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, народ начал жадно и массово усваивать современное образование, выводящее в средние классы со всеми привычками и атрибутами комфорта нового образа жизни. Антибиотики (открытые во время войны) отодвинули чахотку в дальнюю историческую память, реактивные самолеты (изначально военная технология) сделали межконтинентальные поездки обыденностью, телевизор раздвинул горизонты и показал нашу планету из космоса. Как не поверить в наступление эпохи модернизации?
От бунтов 1968-го к глобализации
Студенческие протесты 1968 года внезапно потрясли своим анархическим характером и взрывной спонтанностью. Они охватили одновременно капиталистический и социалистический блоки. Уже это указывает на глубинную причину.
Студенты, то есть будущий персонал современной индустрии и государства, отказывались строиться под власть начальников и командиров. Они требовали привести политические и культурные структуры в соответствие со своими социальными ожиданиями и удельным весом, резко возросшими в период ускоренной модернизации. Это было вовсе не луддитское отрицание модерна, а, напротив, требование немедленной реализации идеологических обещаний современного капитализма или социализма – только с человеческим лицом.
Западный истеблишмент поначалу качнуло влево. Консерваторы Никсон и Помпиду упредительно обещали реформы соцобеспечения, идущие дальше требований профсоюзов и социал-демократов. В США в 1972 г. едва не приняли всеобщее медобслуживание, за которое и поныне длится битва.
Когда же неорганизованные студенты утратили напор, пошел мощный поворот вправо. Неолибералы развернули демонтаж государственных структур планирования, регуляции и соцобеспечения, возникших после Великой депрессии и войн – то есть двигателей модернизации предыдущих десятилетий. Даже в случае возрождения «новых левых», им достались бы институционно ограниченные госбюджеты и политически бессильные органы управления, в чем сейчас убеждаются сторонники Барака Обамы.
Неолибералы (вернее, консервативные контрреформаторы) ожидали, что новым центром роста станет эмансипированный частный бизнес, где, понятно, менеджмент не контролируется избирателями. В то же время приватизации социального жилья и пенсионных фондов, распространение гибкой ипотеки и образовательных займов заставляли западного обывателя думать и голосовать подобно спекулятивному инвестору. Это был очень сильный идеологический маневр, фактически похоронивший левые партии. Но он же привел к деиндустриализации Запада и череде спекулятивных пузырей, далеко превосходящих пределы национальных экономик.
Отметим здесь лишь ключевые итоги глобализации, пришедшей на смену эпохе модернизации. Вынос производства в страны с предсказуемо дешевой рабочей силой привел к индустриализации Восточной Азии – с весьма показательной стагнацией Японии, оказавшейся при новом раскладе модернизационно слишком «зрелой». За вычетом же показателей Китая и эфемерных эпизодов, отражающих возникновение спекулятивных пузырей на рынках недвижимости, сырья и финансов, начиная с 1980 г. мировые темпы роста производства и тем более реальных зарплат оказались обескураживающе ниже показателей предшествующих десятилетий.
На столь превозносившемся фронте новых технологий неолиберальная глобализация, если судить трезво, также не особо впечатляет достижениями. Интернет, сотовая связь и туманные наноперспективы не имели пока даже приблизительно того эффекта в реальной экономике, который некогда оказали, скажем, паровоз, автомобиль, электротехника или пластмассы. Остается фармацевтика, одна из основных сфер использования биотехнологий. Но она слишком очевидно связана с государственными исследовательскими программами, соцобеспечением и страхованием, чтобы служить подтверждением правоты неолиберализма.
А затем грянул кризис неолиберальной глобализации. О свете в конце тоннеля говорят только рыночные прогнозисты и политики, которым по роду занятий положен оптимизм.
Следующий виток: реиндустриализация?
Судьба СССР хорошо иллюстрирует возможности и пределы догоняющего развития. Командное планирование способно решать задачи быстрого массового производства, будь то танки или стандартное жилье. Но в нем отсутствуют механизмы замены отработавших свой срок активов – как закроешь завод, гордость первых пятилеток?
Главное же, успешная командная система создает собственных могильщиков. Прежде всего это сама номенклатура, которой просто хочется жить без страха перед диктатором, попользоваться благосостоянием и передать его детям. Решая малые обывательские задачи, чиновничество помимо своей воли заклинивает систему управления. Простите за тавтологию: командная экономика должна быть командной. Иначе неизменно получается брежневский застой, аморализация и коррупция.
У командного варианта индустриализации ограниченный срок действия, примерно одно поколение. Затем давление к демонтажу начинает расти не только сверху, от госэлиты, но и снизу, вернее, от новых средних слоев специалистов, интеллигенции и рабочей аристократии. В отличие от крестьян, покорных покуда есть прожиточный минимум, образованные специалисты имеют куда больше потребностей и ожиданий, в том числе самореализации в культуре, политике и бизнесе. Отсюда и возникает демократизация – верхи не могут и боятся (за себя самих) использовать террор по-старому, а подчиненные не желают терпеть до гроба, как их родители. Это отнюдь не только феномен соцстран, но и Южной Кореи, демократизующейся сразу после диктаторской модернизации 1970-х.
Сила подчиненных в том, что они приводят в действие индустрию и армию. Без них страна встанет. А если встанет сама индустрия? Если элиты обнаружат лазейки в оффшорные финансы, где не надо препираться с подчиненными из-за зарплат и плановых заданий? Тем более что врага не оказалось у ворот, а глобализация расплодила оффшоры.
Это путь к каннибализму ресурсов, поразившему многие страны. Если на индивидуальном уровне такое поведение элит вполне, увы, рационально и кумулятивно (чем больше бежит, тем меньше причин оставаться в деградирующей среде), то на коллективном уровне это ведет к демодернизации и откату на мировую периферию. Множатся социальные проблемы даже в самой элите. Никем не доказано, что олигархи живут дольше и счастливее простых смертных. Зато вполне предсказуемо дети, выращенные в частных школах за рубежом, могут стать отчужденными иностранцами в собственной семье.
Что же делать? Перед нами открываются две исторические перспективы, обе вполне вероятные. С одной стороны, длящийся упадок на основе распродажи фамильных ценностей. Римская империя последних веков своего существования – тому пример. Модернизация в свое время абсолютно никем не мыслилась обратимой. Вперед и только вверх – вот девиз Нового времени. Но теперь мы знаем, что и регресс еще как возможен.
С другой стороны, пока менее ясна перспектива новой модернизации. Едва ли ею может стать возврат к диктатурам развития. Они были осуществимы лишь в странах с преобладающим крестьянским населением. Этот ресурс долготерпения и бездонной демографии был исчерпан в нашем регионе мира еще к середине XX в. Собственно, с тех пор мы и ходим по кругу, пытаясь нащупать конфигурацию, при которой государство «расклинило» бы своих чиновников и допустило (в первую очередь для баланса бюрократии) самоорганизацию гражданского общества на основе новых средних классов специалистов и квалифицированных работников. Только вот чтобы выступать, прежде надо иметь надежную работу. До 1989 г. это условие наличествовало.
С шестидесятых годов и вплоть до провала перестройки вектор указывал на некий вариант социал-демократизации – подобно континентальной части Европы. Именно таким к концу XX в. был исторический итог эволюции прежде абсолютистских государств, многие из которых прошли и через страшный опыт фашизма – Германии, Австрии, Испании. Ближе к этому руслу истории находится и Россия. Но в близкой к нам Европе в последние десятилетия не все ладится с экономическим ростом. Надо искать механизмы для нового запуска.
Эти механизмы точно не обнаружатся в неолиберальной утопии. Во-первых, реальная практика и последствия неолиберализма сегодня вполне очевидны, если отбросить наивные надежды девяностых. Во-вторых, неолиберализм строился вокруг неправдоподобно стилизованной версии англо-американского пути развития, из которой выпали такие детали, как устойчивая фракционность в политике, высокие пошлины в период запуска современных экономик, обладание колониальной империей или колонизуемым континентом в случае США.
Факт, что спонтанная модернизация голландско-англо-американского типа нигде больше не наблюдалась. Франция, Германия, Швеция, Япония, Россия иначе осуществляли модернизацию. Все это необходимо знать и помнить, думая сегодня о возможностях запуска следующего витка.
Польская геополитика
ОДНАЖДЫ на заре рыночных реформ девяностых годов президент новой Польши Лех Валенса выступал в Чикагском университете с победно оптимистической речью в духе тех времен[2]. Лауреата Нобелевской премии мира «срезал» маститый политолог Джон Миершаймер, спросивший без обиняков: «Господин Президент, ваша страна – геополитически открытая плоскость между Германией и Россией. Объясните, как вы рассчитываете выжить в подобном окружении?».
Бывший электрик Валенса тогда совершенно растерялся перед профессорским хамством и пустился в дежурные рассуждения о либеральных рынках и мире между демократиями. Чикагский университет для Валенсы и его советников сводился к одной лишь экономической школе Милтона Фридмана, а в построениях Фридмана напрочь отсутствуют скверные реалии вроде войн и структур господства. Однако надо признать, что и сам автор политической теории «наступательного реализма» Джон Миершаймер, к счастью, оказался плохим провидцем.
Польша не только продолжает существовать, но и впервые за столетия никто не покушается на ее границы. В свой черед, Польша тщательно избегает претензий к соседям, хотя Львов (Лемберг/Львив) и Вильн(—а; —о; —юс) никак не назовешь приграничными деревеньками, да и воевали за них много и исторически еще совсем недавно. В бывшей Югославии – задумайтесь над таким контрастом – устроили беспощадную и бессмысленную резню из-за куда меньших территориальных и исторических призов. Может, в самом деле порассуждать о европейских ценностях и конце геополитики в эпоху глобализации и постмодерна?
Однако вековые традиции панской вольности не прервались. Польшу по-прежнему нельзя назвать удобной, послушной и уж тем более скучно-предсказуемой страной. Среди бывших соцстран Польша стоит совершенно особо по степени политической активности. Впрочем, и по населению (тем более включая многомиллионную диаспору в Америке) и размерам экономики Польша равна прочим странам соцлагеря вместе взятым. При расчете удельного веса Польши на европейской арене, не менее чем в случае других бывших империй – России или Турции – следует учитывать, что некогда Литва, Белоруссия, значительная часть Украины и Молдавии входили в Речь Посполиту. Такого рода историческая память всегда присутствует в геополитике, пусть и подспудно.
Польша – единственный среди новых членов Евросоюза, кто сходу заявил о собственных взглядах на мир. Еще до провальных референдумов по евроконституции брюссельские технократы осознали, что это им теперь придется считаться с польским национальным духом, ранее причинявшим столько хлопот в советской сфере влияния.
В нервозные дни подготовки американского вторжения в Ирак именно Варшава гордо пренебрегала намеками из Парижа не упускать «прекрасную возможность промолчать», когда ссорятся великие державы. Части Войска Польского отправились в Месопотамию, вызвав среди варшавских остряков поток поздравлений по поводу несколько запоздалого обретения статуса колониальной державы.
Впрочем, вскоре Варшава совершила очередной разворот и стала авангардом Европы в продвижении «оранжевой революции» на Украине и ее потенциального продолжения в Белоруссии. Глядя на такую незаурядную и, если честно, завидную активность, так и подмывает вспомнить ядовитого Салтыкова-Щедрина: «И снова понеслась польская интрига…»
Эволюционные альтернативы
Оставим ревность и попробуем рационально преодолеть фобии. Для России поляки всегда оставались самыми трудными из славянских собратьев. Тому есть весьма поучительные причины. Историю Польши у нас, к сожалению, знают куда хуже истории Франции или Англии и притом весьма отрывочно (то поляки с Лжедмитрием захватывали Москву, то Суворов зачем-то брал Варшаву). Однако русским эволюция Польши должна быть интереснее и ближе. Политически это извечный сосед на международной доске и дальний родственник. Аналитически Польша важна именно по контрасту с Россией. Западническая, ультрадемократическая и притом глубоко религиозная Польша есть то, чем Россия – хорошо ли, плохо ли – так и не стала.
На языке науки это называется дивергенцией – расхождением траекторий начально сопоставимых тел. Скажем, не очень продуктивно сравнивать планету Земля с гигантским Юпитером. Куда интереснее сравнения с Марсом или Венерой, которые при сопоставимых массе и положении на орбите вокруг Солнца эволюционировали в совершенно разных направлениях. Венера разогревалась под покровом плотных туч, Марс, напротив, остывал и терял атмосферу, Земля же оказалсь в зоне биологического оптимума. Налицо тройственная дивергенция.
Средневековые земли, позднее ставшие Россией и Польшей, были очень похожи. Они не входили, подобно Западу, в круг прямых наследников римской цивилизации. Феодальная государственность, дороги, монастыри и города здесь строились с нуля. Восточные рубежи были открыты набегам кочевников, с запада шло постоянное давление германско-скандинавской экспансии. Несмотря на эволюционное запоздание, в период великих геополитических подвижек XV–XVI вв. Польша и Россия успешно превращаются в крупнейшие государства Европы в основном за счет земель своих бывших поработителей – Тевтонского ордена и Золотой орды. Их знаковые победы, вошедшие в национальный эпос, близки по времени. Куликовская битва – 1380 г., Грюнвальд – 1410 г. Но дальше начинается дивергентное расхождение, постепенно приведшее одну славянскую державу к статусу империи и сверхдержавы, а другую – к исчезновению с карты.
Морфологические отличия во внутреннем строении двух государств едва ли могли быть более разительными. Россия становится образцом самодержавия, в то время как Польша – символом неуправляемой демократии. Соответствующими являются и различия в типах индивидуального и политического поведения.
Но только ли в шляхетском гоноре дело? Типичная беда бытового восприятия национальных типажей состоит именно в подмене неочевидной структурно-исторической причины бросающимся в глаза культурным следствием. Иначе говоря, историки детально описали характер шляхетской вольницы и драму разделов Польши, но редко кто задавался вопросом о том, что, собственно, привело к такому исходу?
Причины коренятся в истории, которую мы здесь попытаемся прояснить, следуя модели основоположника теории отсталости русско-американского экономиста Александра Гершенкрона и одного из самых известных его последователей Иммануила Валлерстайна. Ключевой вопрос о долгосрочном воздействии природной экспортной ренты на форму государственности, как мы увидим, отнюдь не чисто исторический.
Реконкиста в степях
Наш выдающийся эмигрантский историк Георгий Вернадский, последователь Ключевского и, конечно, сын знаменитого академика, выводил беды Отечества из двух факторов: монгольского ига и неудачи Ивана Грозного в Ливонских войнах. Вернадский досадовал, что русские так долго оставались в изоляции от Запада. Это, несомненно, самая устойчивая из идеологем русского западничества. Разберемся по порядку.
Движимая монголами волна степных завоевателей докатилась и до западных славян. Позднее польские национальные историки, как и русские, стремившиеся утвердить место своих народов в судьбах Европы, с чувством трагедии указывали на героическое самопожертвование своих предков, которые тем самым спасли Запад от разгрома.
Увы, наряду с отчаянным сопротивлением история полна примеров подчинения неодолимому противнику. Жестокая эпоха заставляла феодальные элиты делать выбор, который зачастую решался прагматически в пользу выживания и сохранения хотя бы какой-то доли власти. С позиций последующих поколений это может показаться не самым романтическим поведением. Но ведь и сам Александр Невский ездил за ханским ярлыком.
Радиус же действия степной конницы, как показывают современные исторические географы, ограничивало наличие пастбищ. Травянистые поляны (кстати, отсюда, возможно, идет и название: поляне – поляки) сменялись дремучими лесами, болотами и горами как раз где-то по линии от Новгорода к Беловежской пуще и далее на юг к Альпам. Так что при всем славянском героизме Западу просто очень повезло с географией.
Можно бесконечно спорить о том, как выглядел бы современный мир, если бы Чингис-хана не было в истории. Но жестким фактом остается быстрый рост Россиийской империи, которая после овладения огнестрельным оружием двинулась на восток именно вспять по давно проторенным степнякями маршрутам, которые вели и за Волгу в Сибирь, и через пустыни к Бухаре, и к границам Китая. История полна такими парадоксальными разворотами.
Польше тогда повезло даже больше. Откат степняков открыл дорогу в Причерноморье и на древние плодородные земли, которые как раз тогда стали называться Украиной в соответствии со старинным значением этого слова: порубежье, ничейное поле, или (почему бы и нет?) на жаргоне школ бизнеса это называлось «новая граница возможностей». Земля и ее пахари создавали прекрасную питательную среду для воинского класса будущей шляхты. В унии с литовцами (до XIV в. остававшимися последними воинственными язычниками Европы), польское воинство повело тогда мощную феодальную колонизацию, размахом превосходившую иберийскую Реконкисту. Польско-литовской державе ее «Америка» досталась не за океаном, как испанцам, и не в Сибири, как русским, а прямо под боком, на благодатной Украине.
Почти три столетия Польша была самым (!) крупным и одним из богатейших государств Европы, простиравшимся от Балтики почти до Черного моря. Кстати, рефрен гимна «America the Beautiful» – где воспевается прекрасная великая страна «от моря до моря» – очевидно, был заимствован у поляков, которые, как известно, сражались за независимость США под командованием Казимира Пуласки и Тадеуша Костюшко.
Республика шляхты
Стремительное завоевание громадной аграрной базы объясняет очень многое касательно Польши вплоть до наших дней. Прежде всего, тогда возник необычайно многочисленный и автономный класс воинской аристократии. К шляхте относилось до 10 % поляков, а в некоторых районах (вроде Мазовии) даже больше. Для сравнения, в Англии лишь 0,5 % населения имело право называться «сэром». В абсолютистской Франции «дворянство шпаги» вместе с чиновным «дворянством мантии» составляло всего 1,5 % – на большее попросту не хватало податных сословий. В царской России, где, как известно, мужику приходилось двух генералов кормить, насчитывалось около трех процентов дворян.
Шляхта – не дворяне при королевском дворе (которого почти не было) и не помещики (ибо вассальной службы не несли). Шляхта – это самостоятельные вотчинники, чьи земли и привилегии унаследованы от воинственных праотцев. «Пан Володыевский» служит здесь неплохой иллюстрацией.
Столь аномально высокое присутствие аристократии наблюдается только в монархиях, которые в период войн не смогли противиться самопроизводству профессиональных воинов в привилегированное сословие. Аналогичные примеры: многочисленные идальго Испании (особенно в Арагоне), гусарство вечно воевавшей с турками Венгрии и, между прочим, Грузия, где до 1917 г. насчитывалось 7 % князей. Теперь сопоставьте эти проценты с характером национальной культуры и политики этих не самых значительных, но весьма гордых и романтичных стран. Историческая социология, как видим, порой бывает удивительно актуальна.
Шляхта не делилась на сословные подразделения вроде баронов и графов. Шляхта была изначально демократична (но только внутри себя) как единое сословие воинов-дружинников, одновременно превратившихся в правящую элиту. Ведь магнат – титул неформальный, вроде олигарха. Ясно было, что Радзивиллы или Тышкевичи баснословно богаты землями и мужиками, однако самый захудалый шляхтич имел – и в компенсацию своей относительной бедности гордо практиковал – ровно такие же права. Самое из них знаменитое называлось по-латински liberum veto, или правом вольного вето. Одного единственного голоса было достаточно для роспуска шляхетского парламента – сейма.
Столь экзотическая норма феодального права закрепилась в самом начале Нового времени, после 1573 г., когда прервалась восходившая к Ягайло средневековая династия. Примерно тогда же с прекращением династии Рюриковичей в России настало Смутное время. А вот в Польше, напротив, наступил расцвет. Собравшиеся на поле близ Варшавы 40 тысяч шляхтичей призвали на престол француза Генриха Анжуйского с тем, чтобы иностранец не вздумал основать новую династию. Перед лицом толпы столь анархических и вооруженных подданых, Генрих подписал артикулы, ставшие конституцией шляхетской республики – Речи Посполитой.
С тех пор короли избирались польским сеймом преимущественно из пришлых. Иногда случался удачный выбор, как в случае с талантливым венгерским воителем из Трансильвании Стефаном Баторием или своим собственным Яном Собесским, который в 1683 г. внезапным ударом «крылатой» бронекавалерии (знаменитая тактика шляхты!) избавил Вену от турецкой осады и стал героем христианской Европы. Но и самому Собесскому не позволили завещать трон сыну. Обычно же из-за интриг магнатской олигархии избирались посредственности, которыми было легче манипулировать. Так почему же польская национальная элита регулярно и сознательно ослабляла собственное государство? Здесь мы выходим на главнейшее и весьма поучительное отличие Польши от России.
Близость к Западу
Русский Ренессанс отмечен гением Андрея Рублева. А у поляков – Николай Коперник, чья астрономическая теория заложила основы современного мироздания. Из этого факта соблазнительно делать выводы насчет близости к европейской культуре с уже куда более спекулятивным указанием на «уровень модернизации», которой якобы и по сей день не достает России. Здесь сопоставление с исторически-конкретной Польшей – вместо идеологически обобщенного «Запада» – сильно способствует избавлению от некоторых устойчивых мифов. Поможет нам британский историк Перри Андерсон, чей классический труд «Родословные абсолютистского государства» четко высвечивает узловые моменты дивергенции в траекториях европейских государств.
Московским князьям противостояли серьезные противники, в борьбе с которыми возникло централизованное и военизированное государство. Любое оружие опасно, а орудие неограниченной государственной власти опасно сверх всякого. Именно ранняя централизация повинна в том, что русское общество не выдвинуло организованной силы, способной противостоять чудовищному опричному террору. Горько сознавать, что общество нашло силы бороться за выживание только тогда, когда государство развалилось вконец и по стране (как сегодня где-нибудь в Сомали, Конго или Ираке) бродили шайки вооруженных авантюристов отечественного, а также польского и шведского происхождения. После Смутного времени наступил век изоляции и осторожно «тишайшего» правления. Однако прав ли Георгий Вернадский, сетовавший на столетнюю отсрочку с прорубанием окна в Европу?
Поляки, напротив, начинали от Балтики и быстро продвигались на восток, создавая первую житницу капиталистической Европы. Фазу централизации абсолютной монархии они миновали, поскольку ополчение шляхты пока еще славно справлялось со своими боевыми задачами традиционными методами кавалерии и сабельного единоборства. В отличие от западноевропейских дворян (вспомним хотя бы Д’Артаньяна), шляхтичам не приходилось искать счастья наемниками на королевской службе. На плодородных равнинах между Балтикой и Причерноморьем даже относительно небольшие усадьбы приносили шляхте устойчиво высокий экспортный доход в эпоху бурного возрождения европейских рынков в XVI в.
Западная Европа тогда превращалась в центр притяжения товарных потоков, чему главной причиной были развитие торговых городов (которые надо было кормить) и колоссальный рост денежной массы, вызванный притоком серебра из испанской Америки. Еще в «долгом XVI веке» (который историки расширительно трактуют как период становления современной миросистемы где-то между 1450-ми и 1640-ми гг.) польские земли превращаются в трудозатратную сырьевую периферию капиталистической мировой экономики.
Задачу понижения производственных издержек и контроля над рабочей силой шляхта решила традиционным путем закрепощения крестьянства, которое, как и на Западе, начало было освобождаться от феодальных повинностей в хаосе позднего Средневековья. Процесс разложения феодализма был остановлен, как ни парадоксально, именно включением Польши в мировое разделение труда эпохи раннего капитализма. «Второе издание» крепостничества отличалось от средневекового своей товарно-денежной ориентацией и, соответственно, значительным ростом контроля и степени изъятия продукта у крестьян. Причина очевидна – то, что в условиях натурального хозяйства феодал физически не мог проесть со всей своей челядью и дружиной, теперь можно было продать на экспортных рынках. Ну, а денег много не бывает.
Усадьба превратилась в экспортно-ориентированное аграрное предприятие, порой громадного масштаба. Магнатские владения, достигавшие миллиона и более гектаров, приносили поистине царские доходы. Знаменитая aurea libertas (золотая вольность) польской элиты покоилась на печально известном infernus rusticorum, аде крепостного права. Шесть дней барщины в неделю – не так уж и далеко от плантационного рабства в обеих Америках.
Где тут, скажите, капитализм? Поглядите на товарные цепочки. Усадьба организовывалась так, чтобы при минимальных капиталовложениях в инвентарь, землю и труд получать максимальную прибыль. Крепостные – в большинстве православные белорусы и украинцы. Управляющими предпочитали приглашать евреев, которые, обладая торговыми навыками, как иноверцы не пользовались никакими правами и оттого полностью зависели от милости своего пана. Одновременно минимизировалась возможность забастовочного сговора между крестьянами и евреем-управляющим.
Произведенный в усадьбе продукт (зерно, а также пенька, лес, льняное полотно как товары, важные для мировой экономики времен парусников) свозили на телегах и баржах в портовые города вроде Данцига-Гданьска, где посредниками выступали уже немецкие оптовики. Далее товар грузился на голландские корабли и, под прикрытием датских и шведских пушек, доставлялся на знаменитые склады Амстердама и Антверпена. В Нидерландах, как известно из классических трудов Фернана Броделя, находилось ядро атлантического мира-экономики. Голландцы контролировали самые передовые и, соответственно, по Шумпетеру, самые прибыльные операции: строительство и фрахт судов, банки и первую в мире биржу. Те же голландцы концентрировали и направляли обратно в Речь Посполиту предметы элитного потребления, от французских вин и роскошных итальянских тканей до китайского фарфора, колониального сахара и кофе, на которые шляхта тратила свои денежные доходы. Чем не глобализация?
Автор фундаментальных трудов по экономической истории Витольд Кула подсчитал, что валовый национальный продукт Польши вырос втрое за XVI–XVIII вв. Это неудивительно, учитывая, что европейская экономика и население неуклонно росли, притягивая сырье со всего мира. Но Польша при этом деиндустриализировалась и теряла городское население!
Не выдерживая голландско-немецкой конкуренции, польские горожане-мещане теряли позиции и в экономике, и на политическом поле. Непослушным вольным городам аграрные магнаты предпочитали частновладетельские «местечки», где их крестьяне снабжались дешевым и неприхотливым скарбом. Только Потоцкие имели во владении около шестидесяти городков, вроде Бердичева, куда предпочитали селить бесправных евреев. Столичные Варшава и Краков служили чисто показному потреблению элиты, которая воздвигала там пышные представительские резиденции и роскошные барочные церкви. Тем временем голландцы кормили своих мастеровых польским хлебом, варили из польского хмеля свое знатное пиво и строили из балтийских мачтовых сосен океанские корабли – самый высокотехнологичный товар той эпохи.
Эту классическую ситуацию зависимости суммировал еще в XVIII в. Монтескье: «Польша ныне не обладает ничем из движимых товаров этого мира, кроме произрастающей из ее почвы пшеницы. Кучка господ владеет целыми провинциями и выжимает из крестьян громадные объемы пшеницы для вывоза за границу с тем, чтобы приобретать себе предметы своего роскошного обихода. Воистину, если бы Польша не торговала ни с какой другой страной, народ ее был бы счастливее».
Имея выход к Балтийскому морю, Речь Посполита так и не обзавелась флотом. Даже баснословно богатым магнатам это было не по средствам, да и ни к чему. Тут требовалась концентрация ресурсов, посильная только государству. Однако шляхта налогов не платила, а польскому королю полагалась лишь личная гвардия всего в три тысячи солдат.
Первый страшный удар по анархической республике в 1650-е гг. нанесла Швеция, в те времена самое милитаристское государство Запада, прозванное «молотом Севера». Шведское вторжение, известное в польской истории как «Потоп» (откуда название известного романа Сенкевича и фильма Ежи Гоффмана), сочетанием военного грабежа, голода и эпидемий привело к гибели до трети населения Польши. Шведский «молот» в конечном итоге разбился о русское контрнаступление Петра I. Однако благородная кавалерия Польши к тому времени уже совершенно не соответствовала требованиям регулярной войны с применением полевой артиллерии и штыкового боя. Без регулярной армии и флота, которые требовали государства с мощной налоговой базой, Речь Посполита превратилась в ту самую «геополитически открытую плоскость между Германией и Россией», на которой теперь вели свои войны иностранные армии.
Тем временем припозднившаяся с вхождением в Европу Российская империя с ее централизацией, уральскими заводами и колоссальными землями, загодя приобретенными и освоенными на юге и востоке, быстро превращалась в военную державу мирового класса. При таком балансе сил Речь Посполита была обречена на поглощение, которое логически довершило периферийное ослабление ее экономики и политической организации.
Католическая нация
Остается прояснить две пропозиции касательно Польши, которые выведут нас непосредственно в современность: истово католическую религиозность и неукротимый национальный дух в извечном противостоянии немцам и русским. Парадоксальным образом, ни католицизм, ни национальный дух вовсе не были изначально присущи полякам, а возникали по мере исчезновения и последующей борьбы за возрождение Польши.
Удивитесь ли вы, узнав, что во времена Реформации Польша едва не стала протестантской страной? Значительная часть шляхты тогда отвергла папство и обратилась в кальвинизм и прочие протестантские течения. Однако в Речи Посполитой не пылали костры и не устраивались Варфоломеевские ночи. Анархичное панство удивительно терпимо относилось к взаимным причудам, а многие к тому времени еще не расстались с православием, унаследованным от Киевской Руси. Оттого и евреям, массами бежавшим от испанской инквизиции, Польша тогда казалась землей обетованной. Дело, конечно, в отсутствии центральной власти, которая, как в прочих странах Европы, могла бы ревниво озаботиться насаждением единоверия среди подданных.
Еще парадоксальнее то, что католическая реакция усиливается в Польше в XVIII в., когда Запад вступил в эпоху Просвещения. Религиозность поляков ничуть не сдала позиций посреди либеральной секуляризации Европы в XIX в. и достигает пика в 1960–1980-е гг., при атеистическом режиме коммунистов. Сегодня Польша, где более 75 % населения регулярно посещает церковь, выглядит аномалией не только на фоне Скандинавии (где аналогичный показатель находится на уровне 3–5 %), Франции или Англии (около 15–20 %), но даже таких в прошлом бастионов католицизма, как Испания, Ирландия и Италия, где после 1945 г. наблюдается резкое падение религиозности. Сопоставимые с Польшей показатели регистрируются только в некоторых американских штатах вроде Техаса и Алабамы, а также в исламском Иране и Пакистане.
Дело опять-таки в геополитической конфигурации, вернее, ее переносе на религиозное поле. Окончательный раздел Польши в 1795 г. между Пруссией, Австрией и Россией оставил польскую католическую церковь единственным национальным учреждением поляков. Вдобавок католицизм четко противостоял как русскому православию, так и лютеранству немцев.
Ватикан, между прочим, отнюдь не приветствовал повстанческие настроения поляков и тем более требование восстановления конституционного правления. Консервативное папство явно склонялось к увековечиванию абсолютистского монархического порядка, который начиная с Венского конгресса 1815 г. обеспечивала в первую очередь Российская империя. Вплоть до обновленческого Второго ватиканского собора 1962–1965 гг. папство находилось в глухой оппозиции ко всем новым веяниям эпохи после Французской революции: либеральной демократии, национальным и социальным движениям. Поэтому в отношении польского вопроса Ватикан регулярно придерживался молчаливого неучастия. Тем самым польской католической церкви было фактически предоставлено право самой формировать свою политику в отношении к пастве, что сделало ее автономной национальной силой.
России же достались самые непокорные подданные, притом на стратегически важнейшей западной границе империи. Первые поколения польских повстанцев были сродни декабристам – вольнолюбивые романтические аристократы, страшно далекие от народа. Вдохновляясь поэзией Мицкевича и музыкой Огинского, они шли на красивые и безрассудные выступления, приводившие к гибели, сибирской каторге или отправке солдатами на Кавказ. Впрочем, и на Кавказе сотни поляков бежали к имаму Шамилю (артиллерия горцев – большей частью их дело).
Искатели приключений из шляхты воевали против России везде, где могли: и у Наполеона, и при турецком султане. Империя платила им вполне ожидаемым недоверием и жесткими мерами подавления. Самый, пожалуй, невероятный эпизод связан с восстанием каторжан на Камчатке, откуда поляки угнали русский бриг и, под предводительством Августа Беневского, обогнув всю Азию, высадились на Мадагаскаре и попытались там основать республику (по другим источникам, пиратскую базу или французскую колонию – мемуары Беневского весьма похожи на похождения Мюнхаузена, хотя некоторые историки находят в них элементы достоверности).
Всенародный польский национализм возник из отмены крепостного права. Прежней шляхте в борьбе за свои стародавние вольности едва ли приходило в голову опереться на крестьянское «быдло». Теперь же, в эпоху быстрого распространения грамотности, роста индустриальных городов и открытия новых путей социальной мобильности, начал оформляться национальный блок всех поляков. Если русские крестьяне и рабочие после 1905 г. пришли к отождествлению своего освобождения с избавлением от самодержавия и достижением некоей формы социализма, для поляков цель виделась в избавлении от русского самодержавия и возрождении польского национального – значит, католического – государства.
Независимость Польши была восстановлена в 1918 г. среди крушащихся империй. Архитекторы версальского мира рассчитывали сделать из Польши геополитический барьер против большевизма. Казалось, план удался. Красная конница, попытавшаяся в 1920 г. двинуть дело мировой революции на запад, разбилась о патриотическое сопротивление поляков. Не зря Фридрих Энгельс некогда в сердцах обозвал поляков жертвами «ложного сознания», упорно не желающими поверить, что их угнетатели – буржуазия, а не «проклятые немцы и русские». Национализм оказался самым сильным конкурентом социализма.
Польша все-таки стала советской и социалистической в результате новой серии тектонических подвижек в геополитике, которые принято называть Второй мировой войной. Людские потери (надо ли напоминать?) были чудовищны и непропорционально пришлись именно на польские земли. В результате отторжения украинских, белорусских и литовских земель, гитлеровского холокоста евреев и послевоенного изгнания миллионов немцев Польша стала практически однонациональной страной. При этом, хотя в несколько других границах, Польша была восстановлена как суверенное государство, поскольку таково было одно из основных условий стабилизации миропорядка холодной войны.
Трудно было придумать более ироническое название для советского геополитического блока, чем Варшавский договор. Более эксцентричного сателлита у СССР быть не могло. Собственная компартия Польши была разгромлена Сталиным еще накануне войны, поскольку, конечно, не могла быть послушной Москве. Та номенклатура, что прибыла затем вместе с советской армией, воспринималась как совершенно пришлая. Открытое отторжение выплеснулось при первой возможности в 1956 г. Католическая церковь стала тогда центром альтернативной власти и авторитета и оставалась им до конца социализма.
Гарвардский политолог Гжегож Экерт показал, как разнохарактерные итоги антисоветских восстаний в странах Восточной Европы подготовили различные варианты выхода из государственного социализма. В Венгрии подавление восстания 1956 г. привело к формированию технократического эшелона власти, которая пыталась сгладить травматические воспоминания контролируемыми рыночными экспериментами и налаживанием экономических связей с Западной Европой. Отсюда один из наиболее гладких переходов после 1989 г. В Чехословакии после 1968 г. установился более суровый режим брежневского типа, преодоление которого привело к «бархатной», но тем не менее революции и разделу страны. В Польше же власти ни разу не смогли полностью подавить оппозицию или купить ее реформами. Каждый очередной всплеск протестов – 1956, 1970, 1980–1981 гг. – отвоевывал новый плацдарм для оппозиционного «гражданского общества», которому католическая церковь предоставляла мощное моральное и организационное закрепление.
Самый, пожалуй, политически эффективный польский диссидент и публицист Адам Михник четко показал тенденцию к слиянию идеи церкви с идеей автономии общества от власти. В конце пятидесятых годов, когда успехи социализма еще порождали оптимизм, первым возникает интеллектуальное движение за гуманизацию социализма. Но затем идея социализма преодолевается и остается мечта о гуманизации и автономности личности. Именно тогда, как пишет Михник (сам, кстати, еврей), в светской и тогда «новой левой» интеллигенции неожиданно для них самих возникает интерес и уважение к церкви как носительнице аналогичных идеалов. Сама церковь в 1960-е гг. начинает меняться вместе с обновленческим движением Второго ватиканского собора. К моменту возникновения профсоюза «Солидарность» жарким летом 1980 г., польский католический патриотизм возникает как платформа, способная объединить практически все общество против монолита власти. Бесперспективность положения стала очевидна самому коммунистическому режиму.
Горбачевская перестройка во многом является результатом патовой ситуации в Польше. В 1984 г. проницательный американский политолог Валери Бане суммировала дилемму в статье «Превращение Варшавского договора из советского актива в обузу» и предсказала уход СССР из Восточной Европы в течение следующего десятилетия, что, признаем, требовало тогда немалой научной смелости. В СССР «Солидарность» отозвалась ерническим стишком по поводу очередного повышения цен на водку, который заканчивался грозно: «Ну, а если станет больше, будет то, что было в Польше». Оставался выбор между крайними репрессиями и изоляцией от мира или реформами с неясными целями и средствами их достижения.
Продолжение мира
История, как мудро заметил Ежи Лец, не повторяется, однако она нередко рифмуется. При всей польской подготовке к демократии и романтической решимости отождествить полемические постулаты Милтона Фридмана с путем к свободе, постсоциалистический «транзит» оказался сродни холодному душу. Польша сменила зависимость от Москвы на новую ориентацию на Париж и Берлин, что, конечно, уже в истории бывало. Венгерский историк-экономист Иван Беренд в недавней серии работ показал с беспощадной убедительностью, что трудности развития Восточной Европы остаются сегодня удивительно похожими на трудности их досоциалистического периода.
Некогда поляки фрондерски гордились сохранением при социализме мелкой частной торговли и индивидуальных крестьянских хозяйств. Но либерализация экономики и открытие границ показали неконкурентоспособность этих секторов ничуть не меньше, чем социалистической тяжелой промышленности. Хотя Польше первой из бывших соцстран удалось вернуться к уровню 1989 г., боль была немалой и проблем остается предостаточно. Вступление в Евросоюз принесло блага, хотя вовсе не такие, как некогда Испании и Португалии.
Воодушевленное политическое единство времен борьбы с коммунистами рассыпалось на пестрый спектр нестабильных партий со значительными элементами демагогии и скандального популизма на флангах, и не только на флангах. Коррупционные скандалы стали эндемичной чертой политической жизни. Сама католическая церковь внезапно оказалась перед лицом проблем, которым нет очевидного решения: как построить отношения с обществом, в котором далеко не все теперь склонны следовать католическим догматам (начиная с запрета на противозачаточные средства), как примирять вновь возникающие классовые противоречия, как делить авторитет и сферы компетенции с новым либеральным государством, как относиться к возвращению Польши в куда менее религиозную Европу?
Открыто антироссийские настроения вновь стали характерной чертой польской политики. С этим так же трудно что-либо сделать, как трудно изменить историческое сознание, заданный шляхтой национальный типаж и геополитическое положение Польши. Увы, тактичности по-прежнему не достает в польско-российском дискурсе по поводу места в мире.
И все-таки какая у поляков до боли родная, узнаваемая и просто замечательная культура! Славяне все-таки, но очень западные.
А был ли нужен Пиночет?
В ДАЛЕКОМ оптимистическом 1965 г. в ответ на советские дебаты времен «оттепели» влиятельный британский экономист Алек Ноув (Александр Новаковский, род. в 1915 г. в Петербурге) опубликовал книгу с полемическим и актуальным по сей день заголовком «Был ли нужен Сталин?». Ноув поставил ребром вопрос о соотношении диктатуры и экономической рациональности в осуществлении быстрой модернизации. Спустя поколение проклятый вопрос возник уже по отношению к переходу от госсоциализма к рыночной экономике. С провалом горбачевской перестройки и ее демократической риторики умы наиболее радикальной интеллигенции захватил образ чилийского генерала Аугусто Пиночета. По элементарной оппозиционной логике выворачивания наизнанку (инверсии) официоза, прежний архизлодей теперь превратился в добродетельную аллегорию сурового, но экономически ответственного правителя, осуществившего исторический подвиг, о котором в неустроенной и косной России оставалось только мечтать. Пиночет стал примерно тем же, что на письменных бюро декабристов олицетворяли фрондерские бюстики Наполеона.
Преимуществом неолиберальной идеи были геометрическая простота и непреложность. Генерал железной дланью наводит порядок в охваченной смутой стране и привлекает к управлению компетентных рыночных экономистов. Жесткими шоковыми методами проводятся структурные реформы, высвобождающие естественные условия рыночного роста. Диктатура еще некоторое время защищает реформы и реформаторов от нападок безответственных демагогов, ищущих незаслуженной ренты коррумпантов, левых романтиков и просто нытиков. Сделав свое дело, генерал с почетом уходит в отставку, и новый средний класс восстанавливает либеральную демократию. Посмотрим, что стоит за этой картинкой в реальном опыте Чили.
Типичная полупериферия
Для начала, как предписывал Фернан Бродель, следует взглянуть на географическую карту. Территория Чили имеет, мягко говоря, уникальную форму. Тому есть крупная очевидная причина – Андский хребет. География в самом деле получается удивительная. Возьмите более привычный Старый Свет и вообразите себе узкую полосу от пустыни Сахара, где под песками находятся залежи полезных ископаемых, до фьордов Скандинавии, в чьих водах плещутся лососи. Посредине же – пшеничные поля, сады, виноградники, как во Франции. Вдобавок к этому разнообразию, нет производительного района более чем в ста километрах от океанского порта. Такая география обречена работать на экспорт.
Но для испанских конкистадоров это были задворки, где не нашлось ни серебра, ни климата для тропических плантаций. В этом заключалась своя историческая удача. Массив исследований показывает, что ничто не становится таким тормозом дальнейшему развитию, как возникновение на ранних этапах интеграции в мировой рынок экспортно-ориентированного производства, основанного на принудительном труде. Иначе говоря, рабские плантации и рудники, как и крепостнические поместья – не только крайне жестокие формы эксплуатации. Такой исторический тип политэкономии надолго консервирует крайние степени неравенства и технологический примитивизм, сковывает элиты извечным страхом «пугачевщины» и одновременно отбивает у народа чувство надежды и самостоятельности, встраивает страну в мировое разделение труда на самых периферийных позициях и в итоге надолго задает структуры отсталости.
Крупное землевладение все-таки пустило корни в Центральной долине Чили с ее почти южноевропейским климатом, где масса арендаторов-издольщиков вплоть до середины XX в. оставалась фактически в пожизненной долговой кабале у латифундистов. Аграрные предприятия такого рода работали на рынок, экспортируя в то время прежде всего хлеб в другие американские колонии (а на Тихом океане тогда пшеницу было не сыскать). В 1840-е гг. Чили получает неплохой доход, обеспечивая продовольствием и логистикой золотую лихорадку в Калифорнии (вспомните фабулу оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»). Сельхозсектор, однако, долго еще оставался технически примитивным, поскольку дешевизна труда при необразованности крестьянства не создавали для землевладельцев особых стимулов к инвестированию в трудосберегающие машины.
Сама аграрная элита предпочитала жить в городах, которые строились по лучшим европейским образцам. Канализация, общественные парки, брусчатка на мостовых, газовое освещение появились в Сантьяго де Чили едва ли не раньше столиц Европы. (Прослеживаются параллели с архитектурным великолепием Киева, Одессы, Будапешта и Кракова, где концентрировались доходы от отсталой аграрной экономики.) Образованные горожане могли гордиться национальной публицистикой и литературой. Нобелевской лауреат Пабло Неруда возник не на пустом месте. То, что Неруда был еще и коммунистом, вполне согласуется с общими тенденциями литературных полей в странах полупериферии, где бедность и необразованность низов сосуществуют с высокой культурой.
Вместе с тем Чили рано испытала индустриализацию, хотя лишь частичную. Первый толчок дало открытие в 1840-х гг. на засушливом севере колоссальных залежей меди, основного металла телеграфных и электрических проводов. Горнорудный бум привел к возникновению собственной промышленности и банковского капитала. Вопреки конкуренции и прямому диктату англичан, предпочитавших вывозить из Чили необработанную руду, передовые чилийские капиталисты смогли в то время создать собственные перерабатывающие мощности и начали выходить на европейские рынки. Отделения чилийских банков открываются даже в Британской Индии. Чили стала первой страной в Латинской Америке, приобретшей пароходы и железные дороги. Правительство с 1870-х гг. в поисках противовеса британской гегемонии приглашает на службу немецких специалистов и офицеров, создавших довольно внушительную армию и флот. Вскоре Чили предприняла собственную мини-империалистическую войну, отобрав у Боливии и Перу кусок пустыни с богатейшими залежами селитры.
Не приходится говорить о полной слаборазвитости Чили. Ситуация скорее многоукладная, противоречивая и чреватая хроническими конфликтами. С отсталыми латифундиями Центральной долины сосуществуют передовой горнорудный и банковский сектор. Уже во второй половине XIX в. Чили экономически обгоняет большинство стран Латинской Америки и при этом приобретает вполне современную государственность прусского образца. Это отражается в культуре и на самом базовом уровне обиходных привычек.
Путешественники отмечают не без разочарования, что Чили страна красивая, но довольно скучная, лишенная карнавального духа самбы-румбы. Ставшая всемирно известной музыка Виктора Хары и ансамбля «Килапаюн» выступает позднейшим проектом левой народнической интеллигенции, стремившейся создать современную и, отметим, весьма серьезную фольклорную идентичность. В чопорном Сантьяго всегда ложились спать и вставали довольно рано, вовсе не как в веселом Рио или Буэнос-Айресе. Зато на латиноамериканском фоне в Чили куда меньше расслабленной необязательности, непунктуальности, неуважения к писаному праву, преступности и коррупции. Все это, конечно, относится к условиям, которые Макс Вебер считал залогом рационального рыночного поведения.
Конфликты многоукладности
И все же Чили не стала развитой капиталистической страной, подобно бывшим североамериканским колониям. Она осталась в той категории, которую Иммануил Валлерстайн называет полупериферией, устойчиво занимая место где-то на полпути между уровнями Боливии и США. В правление Пиночета Чили вышла из глубокого кризиса и с середины 1980-х гг. вступила в период устойчивого роста. Однако относительный разрыв между Чили и США сохраняется приблизительно таким же, каким он был 150, 100 и 50 лет назад. В конце XX в. Чили совершила не прыжок, а, скорее, вернулась на свой обычный уровень.
Экономические успехи Пиночета преувеличены по явно идеологическим причинам. В 1980-е гг. МВФ и неолиберальным комментаторам требовался образец успеха шоковой терапии. Тем более что именно в Сантьяго с 1948 г. базировались харизматичный аргентинский технократ Рауль Пребиш и прочие эксперты Экономической комиссии ООН по Латинской Америке (знаменитой ЭКЛА), чьи неортодоксальные теории зависимости и шумпетерианские программы развития некогда составляли серьезную идейно-политическую конкуренцию МВФ. В чем же заключалась чилийская коллизия?
Кризис, приведший в 197З г. к диктатуре Пиночета, и сохраняющаяся двойственность чилийской социально-экономической структуры восходят напрямую к итогам межэлитных конфликтов рубежа XIX–XX вв. На момент независимости от Испании чилийское общество состояло из массы крестьян и элиты крупных землевладельцев. Положение, однако, начало изменяться с возникновением горнорудного комплекса, где сосредоточились новые капиталы, не освященные традицией. К выскочкам, как водится, относились с презрением среди потомственных латифундистов Центральной долины. Так сложились две противоборствующие фракции чилийской буржуазии: консервативные землевладельцы и прогрессивные горнопромышленники.
Соперничество внутри правящего класса регулярно создавало возможности для политизации средних слоев и низов. Большинство интеллигенции, ремесленников и нарождающегося пролетариата поддерживало горнорудных прогрессистов. Но и немало крестьян, чиновников и католических священников сохраняли верность консервативным устоям и лично аграрным олигархам, покровительствовавшим их семьям поколение за поколением.
В водовороте политической риторики регулярно всплывают два требования промышленников. Во-первых, расширение базы налогов, которыми консервативные кабинеты облагали экспорт минералов из пустынь Дикого севера, но не свои исконные латифундии Центральной долины. Во-вторых, создание таможенных барьеров для защиты нарождающейся местной промышленности и внутренней торговли от иностранной (в ту эпоху британской) конкуренции. Реализация требований индустриальных прогрессистов вела к усилению и модернизации чилийского государства. В перспективе это позволяло также создать системы образования и соцзащиты, т. е. обеспечить интересы интеллигенции, средних классов и рабочих. Аграрники же предпочитали минимальное государство, понижение налогов и пошлин плюс местную автономию вместо централизации – их власть на местах была обеспечена традиционным укладом латифундий. В отличие от горнодобытчиков, латифундисты настаивали на свободе торговли, которая способствовала экспорту чилийского продовольствия и одновременно снижала издержки на импорт европейских промышленных товаров и предметов роскоши.
Впервые пылкие прогрессисты подняли восстание, вдохновляемые европейскими революциями 1848 г. – и точно так же вскоре потерпели поражение. Вторую и намного более кровавую гражданскую войну в 1891 г. спровоцировал президент Хосе Мануэль Бальмаседа. Он подражал своему современнику Бисмарку (в том числе развернув «Культуркампф» против католической церкви), хотя действовал скорее в духе экспансивной диктатуры Наполеона III. В первый период своего президентства Бальмаседа, по скептичному выражению британского дипломата, устроил в Чили «настоящую оргию материального прогресса». На займы и средства от эксплуатации селитряных копей (отобранных у Перу и Боливии) Бальмаседа лихорадочно строил железные дороги, порты, государственные здания, открывал школы и больницы, а также закупал в Европе броненосцы и канонерки – которые, по жестокой иронии, были впоследствии использованы его противниками для высадки карательных десантов против бальмаседистов на севере Чили. Сам Бальмаседа в конце концов застрелился, обернувшись национальным флагом. Все это, казалось, сошло со страниц романов Габриэля Гарсии Маркеса или Варгаса Льосы. Однако возьмем для сравнения траекторию капитализма янки.
До 1850-х гг. Североамериканские Соединенные Штаты представляли собой типичную полупериферию с сочетанием плантационного уклада на юге и нарождавшейся промышленности на севере. Гражданскую войну между двумя регионами и укладами США обычно объясняют борьбой с рабством. Но это лишь мобилизующий эмоциональный повод. Как-то трудно поверить, что лишь ради освобождения негров обе стороны положили боо тысяч солдат!
Авраам Линкольн доказал историческую прозорливость, подавив мятеж рабовладельцев. Плантационный Юг тянул США в Третий мир. Камнем преткновения служили те же самые вопросы, что и в гражданских войнах Чили – местное самоуправление (или «права штатов»), что позволяло плантаторам контролировать собственные дела, федеральное налогообложение (южане не желали платить ради развития промышленной инфраструктуры и системы образования), а также свобода торговли, которая была выгодна южным плантаторам-экспортерам сельхозсырья ровно по тем же причинам, что и их собратьям в Центральной долине Чили. Став в 1869 г. президентом США, победоносный генерал Грант повел наступление в области финансов и индустриальной политики с тем же напором, что и против армии южан (конечно, в угоду северному капиталу, как написали бы старые марксисты). Менее чем за поколение США станут индустриальной державой. Чилиец Бальмаседа о таком мог только мечтать. Разница в том, что Грант вначале выиграл гражданскую войну.
Печально звучит вердикт известного норвежского экономиста Эрика Райнерта: «Латинская Америка – это континент, где во всех гражданских войнах побеждали южане».
Чилийский эксперимент с импортозамещением
Чили не стала южным аналогом США и Канады. Однако потенциал оставался, и новый рывок пришелся на конец 1930-х гг. Парадоксальным образом волна Великой депрессии повалила консервативную диктатуру генерала Ибаньеса и на смену ей пришла на удивление устойчивая многопартийность. Эта политическая система продолжалась до правления Сальвадора Альенде в 1970–1973 гг. и возобновилась практически в том же партийном раскладе после ухода Пиночета. Политическая история Чили тоже смешанная. Половину ее составляли диктатуры, но другую половину – десятилетия демократии. Оценивая роль Пиночета, никак нельзя забывать, что он воспользовался аппаратом экономического управления, созданным до него демократическими правительствами. Показательно и то, что экономический рост Чили вот уже двадцать лет продолжается без хунты, при тех же самых христианских демократах и социалистах.
Как говорил историк Эрик Хобсбаум, потрясения двадцатого века «заставили все правительства править». Даже консервативное крыло чилийских парламентариев голосовало за меры, аналогичные «новому курсу» Рузвельта. Экспортные рынки закрывались один за другим, внешнее финансирование иссякало, а массовая безработица при наличии активной левой оппозиции грозила очередной революцией. Чили, подобно большинству стран Латинской Америки, перешла к политике импортозамещающей индустриализации, что на пару десятилетий обеспечило социальную стабильность и рост, хотя, конечно, страна таких размеров и географии не могла долго продержаться в автаркической изоляции.
Кризис модели импортозамещения стал нарастать с конца 1950-х гг., отчасти по причине ее собственного успеха. Чили достигла пределов емкости внутренних рынков. Тем временем развитие чилийской промышленности привело к массовой миграции бывших сельских арендаторов из Центральной долины. Старая аграрная элита столкнулась с оттоком зависимой рабочей силы, а с нею и гарантированных голосов на выборах. Рушились основы аграрно-олигархического уклада. Нарастали стихийные захваты земли, забастовки на предприятиях и в университетах. Кульминацией этого тренда стало избрание президентом умеренного социалиста Сальвадора Альенде в 1970 г.
Как политик, он сформировался в устойчиво демократическую эпоху и не допускал мысли о применении революционного насилия. Альенде был более модернизатором, нежели левым радикалом. Он воспринимал президентский мандат как историческую возможность покончить с реликтами отсталости в сфере аграрных отношений и реформировать чилийское общество. Альенде надеялся договориться со всеми – правыми, центристами, левыми, Москвой и Вашингтоном.
К 1970 г. модель защищенной экономики, создававшаяся для решения кризисных задач времен всемирной депрессии, давно исчерпала внутренние ресурсы роста. Экономический кризис нарастал на фоне патовой ситуации в политике, поскольку за каждой государственной субсидией стояли интересы той или иной политически активной группы чилийского общества. В попытке продолжить финансирование всех проектов правительство Альенде пошло на печатание инфляционных денег и национализацию рудников. Чилийские предприниматели ответили «инвестиционными забастовками». А далее вмешалось американское ЦРУ, чтобы дестабилизировать «вторую Кубу» (хотя, трезво рассуждая, Альенде был вовсе не Кастро, за что и поплатился).
Своими репрессиями Пиночет подвел американцев. Он не был фашистом, а лишь типичным реакционером. Однако чилийские военные, некогда считавшиеся наиболее профессиональными в Латинской Америке, возродили методы едва не инквизиции. То, что убивали только левых – миф. Исчезали даже правые, которые осмелились критиковать Пиночета. Случались загадочные авиакатастрофы и теракты, в которых погибали соперники Пиночета среди самих военных.
Миф и то, будто Пиночет добровольно сдал власть. В 1988 г., в ночь после неожиданно проигранного плебисцита, он приказал было выводить войска на улицы и вновь спасать Родину, но чилийский генералитет оказался загодя обработан американскими дипломатами.
Миф, наконец, и то, что Пиночет был аскетом и приверженцем неолиберальной идеи. Чилийские военные вывели себя из-под знаменитой пенсионной реформы, оставшись на гарантированном гособеспечении. Медные рудники, национализированные при Альенде, так и остались у государства и продолжают приносить более трети экспортной выручки, из которой по пиночетовскому закону десять процентов должны расходоваться на нужды военных, а если мировые цены падают ниже определенного уровня, то чилийский центробанк обязан компенсировать разницу. (Это похоже на военные госмонополии в Пакистане и Турции.) Обеспечив себя коллективными благами, генералитет поучаствовал в приватизациях и буме недвижимости. Их дети (включая сына Пиночета) стали крупными бизнесменами.
Была ли у Чили военная тайна?
Нет, не было. Диктатур в Латинской Америке было немало. Военные же, как правило, не лучшие управленцы. Либеральная рыночная политика – недостаточное объяснение. Стандартный пакет неолиберальных реформ в десятках других стран привел к посредственным результатам, если не провалу. Секрет успеха Чили – в сочетании структурных предпосылок, конъюнктуры и, главное, наличии рационального аппарата управления. Если бы Альенде пережил 1973 г., то восстановление и встраивание экономики Чили заново в рынки Тихоокеанского региона с большой вероятностью произошло бы куда менее травматично и при режиме социал-демократии, подобно Новой Зеландии – также аграрному экспортеру из Южного полушария.
В большинстве своем чилийская бюрократия служила как Альенде, так и хунте (стараясь закрыть глаза на творящиеся жестокости). Часть управленцев, впрочем, нашла более прибыльные места в частном бизнесе либо передвигалась между госаппаратом и финансово-промышленными группами, которые выросли на пиночетовской приватизации. Конечно, это коррупция. Отсюда и из скандального социального расслоения цинизм чилийского общества времен Пиночета. Однако в данном случае коррупция не привела к падению эффективности госуправления, поскольку чилийские ФПГ были вынуждены действовать заодно, если не в качестве придатка государства.
В середине 1970-х гг. на мировых финансовых рынках образовалась масса горячих денег и проценты по займам пошли вниз. Чилийская хунта и ее сподвижники резко, с трех до семнадцати миллиардов долларов, увеличили внешнюю задолженность, что позволило первому поколению чилийских ФПГ скупить приватизируемые активы, а также устроить себе бум показного потребления. Период 1977–1982 гг. в Чили очень напоминал то, что в 1991–1998 гг. произойдет в России. Но когда рейгановская администрация США резко подняла ставки и курс доллара, большинство чилийских ФПГ не выдержало удара.
Реальная перестройка чилийской экономики началась после серии банкротств 1982 г. Спад в спекулятивных секторах недвижимости и финансов вкупе с монополией хунты на экспорт меди и селитры наконец вынудили вкладывать деньги и предпринимательскую энергию в модернизацию сельского хозяйства. Одними из первых смогли выйти на мировые рынки чилийские производители вин – тем более, что более здоровые «мерло» и «каберне» быстро теснили крепкие алкогольные напитки в структуре мирового спроса. Развитие транспорта вкупе с распространением среди западных средних классов моды на здоровое питание сделало весьма прибыльным зимний экспорт свежих овощей и фруктов из Южного полушария. Добавьте еще два вида высокотехнологичного (хотя и не самого экологичного) аграрного производства: разведение лососей во фьордах чилийского юга и выращивание эвкалиптов. Здесь уже основными потребителями выступали Япония и Корея, а не только США и Европа. Переход Чили на новые рынки, навыки и технологии координировали гражданские министерства. Это куда более походило на государство развития, нежели неолиберальную открытость рыночной стихии. Роль военных сводилась к подавлению трудовых издержек, но вовсе не очевидно, что это давало чилийскому экспорту его основное преимущество. Неаппетитные ассоциации с кровавой диктатурой скорее мешали сбыту чилийских вин и фруктов среди западных потребителей. Пиночетом стали тяготиться сами элиты, несмотря на свои страхи.
После интерлюдии импортозамещения Чили фактически вернулась на новом историческом витке к вспомогательной интеграции в мировые рынки – вполне аналогично своей роли в предыдущей рыночной глобализации 1850–1910-х гг. В мировом разделении труда Чили, в отличие от новых индустриальных экономик Азии, остается специализированным поставщиком на рынки минерального сырья и сельхозпродуктов. Эти рынки обычно подвержены довольно болезненным колебаниям. Вдобавок в Южном полушарии быстро набирают силу и другие поставщики свежего продовольствия в зимний для северян период.
Чилийский рецепт едва ли имеет универсальное применение. Реформы хунты были вполне стандартны, а вот набор прочих обстоятельств оказался довольно специфичен. Главное, Чили, даже после побед латифундистов в своих гражданских войнах, оставалась все-таки более похожа на Южную Европу, нежели Третий мир. Страна обладала относительно развитой легальной и предпринимательской культурой, капиталами, инфраструктурой, не говоря об экспортно-ориентированной географии. Все это позволило неожиданно быстро преодолеть жестокий кризис старого аграрного уклада, в основном и вызвавший потрясения 1970-х гг., путем включения в новую глобализацию Тихоокеанского региона. Если и есть во всем этом урок для России, то не в уповании на диктатуру, а в том, что после финансовых дефолтов вроде чилийского 1982 г. и российского 1998 г. возникает окно возможности для сотрудничества государства с бизнесом, бегущим от рисков спекуляции и ищущим, наконец, нетривиальных путей.
Эпоха механизированной власти
ПРОНИЦАТЕЛЬНЕЙШИЙ историк современности Эрик Хобсбаум отмечает трудно объяснимую способность модных кутюрье предугадывать смену эпох. В самом деле, эпоху абсолютистских монархий можно четко определить по аристократическим парикам. Парики распространяются при европейских дворах с 1630-х гг. и столь же быстро исчезают после 1789 г. с Французской революцией. В буржуазном XIX в. влиятельные мужчины носят чопорные сюртуки и цилиндры. По этой мерке XX в. наступает не в календарном 1900 г., а с погружением современного мира в катастрофу 1914 г. Квинтэссенцией массового общества XX в. становятся повседневные костюмы инженеров и служащих. Война принесла цвет хаки, френчи и кители, подпоясанные дождевики и кожанки – стиль диктаторов и тайных полиций, хотя изначально это лишь профессиональная одежда механиков и пилотов. Судя по моде, XX в. закончился преждевременно, уже в 1968 г., – вспомните Битлов, босиком пересекающих Эбби Роуд. Мир захватывают молодежные джинсы. В 1989 г. пал последний оплот застегнутых на все пуговицы бюрократов – Советский блок.
Итак, если символические фигуры раннего модерна – дворянский щеголь и солидный буржуа, а нынешний постмодерн стал эпохой молодых шалопаев, то «высокий модернизм» XX в. был периодом инженеров, управленцев, диктаторов и военных. В индустриализации власти, в беспрецедентно возросшем потенциале творить добро и зло и следует искать объяснение как массовым убийствам, так и феноменальным достижениям XX в.
Инстинкты?
Сразу оговорю, какие объяснения нам придется оставить – хотя они весьма популярны среди публицистов и тиражируются на киноэкранах. Это представления о якобы насильственной природе человека, либо темных инстинктах толпы и тоталитарных идеологиях.
Социолог Рэндалл Коллинз в недавно опубликованной издательством Принстонского университета монографии обобщает данные о насилии в целом спектре ситуаций – от семейных ссор и драк на стадионах до полицейских и тюремных избиений, уничтожения пленных, погромов и геноцида. Согласно Коллинзу, насилие всегда ситуативно и кратковременно, т. е. зависит от микросоциального контекста и соотношения сил, а не от психологических комплексов или порочной генетики.
Абсолютное большинство актов насилия совершается нормальными людьми, попавшими в ненормальные обстоятельства. О чем могу свидетельствовать из личного опыта изучения войн в Мозамбике, Абхазии и Чечне. Сталкиваясь в ходе социологических интервью с признаниями в чудовищных жестокостях, более всего поражаешься, до чего обычны эти люди.
Мой коллега Марк Сэйджман, составивший социально-психологический портрет террористов Аль-Каиды, пришел к парадоксальному выводу – фанатики оказались нормальнее среднестатистических обывателей, поскольку Аль-Каида отсеивала за ненадежностью психически неустойчивых кандидатов. В сознании террористов, они совершают альтруистическое самопожертвование ради отмщения и защиты святого дела, что не так уж отличается от мотивации бросающихся на амбразуру героев и идущих на таран камикадзе.
И еще наблюдение из личной практики. Среди студентов-вечерников в нашем чикагском университете немало полицейских, особенно на семинаре по социологии мафии. Их основная реакция на русский фильм «Брат-2» с его узнаваемыми пейзажами Чикаго – мягко говоря, недоверие. Ловля раков в озере Мичиган, прямо у отеля «Дрэйк»? Но главное, объясняют мне студенты, в перестрелке царит хаос, сердце бешено колотится даже у самых опытных и «крутых», ничто не идет по плану и инструкции, а пули летят во все стороны. Исключение – снайперы. Они (как и киллеры, и пилоты-асы) психологически и физически находятся вне боя, оттого спокойны и методичны. Они научены видеть в прицеле не человека, а цель. Поэтому никогда не смотрят людям в глаза.
А что самое трудное в полицейском профессионализме? Совладать с собой и не добить на месте гадов, которые только что в тебя стреляли и убегали.
Именно это Рэндалл Коллинз называет «наступательной паникой». Расправа над поверженным противником – будь то в семейной ссоре, уличной драке, сразу после боя, в крестьянском бунте или этническом погроме – выплескивает в кровавом буйстве крайние степени стресса. Придя в себя, сами победители не могут поверить, что могли такое натворить.
Стресс охватывает всех нормальных людей в конфронтационных ситуациях. Судя по всему, наша социально-биологическая норма – избегание конфликта. Распространение видеосъемок позволило социологам по кадрам отследить, что характерно (не в кино, сенсационных репортажах и раздутых слухах) для происходящего на стадионах, в барах, при ограблении банков и разгоне демонстрантов. Нормой является все же уклонение от действия путем криков и оскорблений. В сравнении с кино, реальные драки и ограбления выглядят довольно по-дурацки. Охваченные стрессом люди некомпетентны в применении насилия. Конечно, затем в порядке психологической компенсации они многократно пересказывают себе и друг другу детали столкновения в приукрашенном виде («ну, мы им показали!»). Однако статистика свидетельствует, что абсолютное большинство столкновений не идет дальше угрожающей имитации, в крайнем случае пары ударов.
Откуда тогда войны, террор и резня? Тут действует два взаимоусиливающихся механизма – дегуманизация жертв и приобретенный технический навык. Человеческая природа противится убийству себе подобных. А не подобных? Если они другого племени, языка, религии, класса? Тем более если при этом можно не видеть глаза жертвы, а лишь натренированно наносить удары или, того проще, нажимать на кнопки. Наша природа ведь еще и противоречива.
Человек – существо групповое и территориальное. Мы готовы отчаянно оборонять свое потомство и «кормовые площадки», как выражаются социобиологи. Библейская заповедь «не убий» явно противоречит библейским же рассказам, как праведный народ под корень изничтожает соседей, забирая при этом их «дев и стада» – производственные активы древних скотоводов.
В ходе эволюции значительно увеличивался размер социальных групп, которые мы считаем родными себе – от рода и племени к нации, расе, мировой религии или массовой партии. Собственно, этому посвящен знаменитый постулат «Воображаемых сообществ» Бенедикта Андерсона. «Воображаемые» вовсе не означает не имеющие реальных последствий. Ирландец, поляк или, скажем, истинный пролетарий в принципе не может знать всех представителей своей нации или класса. Но сколько при этом людей готовы на смерть за общее дело! Соответственно возрастали и размеры групп чужаков, которых в ситуации конфликта из-за реальных или воображаемых благ и угроз не считали за людей. Впрочем, это пока что слишком общее условие, которое требуется конкретизировать.
Тоталитаризм?
Социальный философ Ханна Арендт, в 1961 г. наблюдавшая в Израиле знаменитый суд над Адольфом Эйхманном, хлестко назвала обвиняемого воплощением «банальности зла». Оберштурмбанфюрер СС Эйхманн оказался вовсе не демонической личностью и даже не патологическим антисемитом. Водился, когда надо было, и с евреями. Этот бывший продавец электроприборов вступил в нацистскую партию и СС только в 1933 г., когда стало ясно, где теперь делать карьеру. Долго не мог дослужиться до полковника. Но в 1942 г. Эйхманна произвели сразу в генералы, поручив организовать окончательное уничтожение евреев. За что он и берется с деловым размахом: планы, совещания, выбивание вагонов под отгрузку. В 1944 г. уничтожены уже миллионы людей, Рейх терпит поражения, а Эйхманн все обижается в личном дневнике, что его не приглашают на вечеринки к нацистскому руководству. Какой сверхзлодей? Банальнейший карьерист!
Ханна Арендт одной из первых стала теоретизировать тоталитаризм, о чем, похоже, впоследствии пожалела. Она стремилась предупредить человечество о наступлении ранее невиданных тираний, которые делают из мелких эйхманнов монстров. Предтечей послужил фантастический роман Джека Лондона «Железная пята». За этим последовали разочаровавшийся анархист Джордж Оруэлл и либеральный воитель Карл Поппер. Само же словечко запустил в оборот Муссолини, подразумевая, что его режим – не чета склеротичной монархии и продажному либерализму. Тоталитаризм есть проект полного подчинения государства и народа великой Идее, которую олицетворяет Вождь.
До сих пор вроде бы все было так, но что дальше? Добротная теория должна связно отвечать на вопросы о том, почему в XX в. настолько возрастает число и интенсивность диктатур? Каким образом у власти оказывались дотоле маргинальные интеллигенты вроде Муссолини и Гитлера, Ленина и Мао, либо популисты из младших офицеров начиная с Ататюрка, Перона и Насера? Что общего у Че Гевары и аятоллы Хомейни, кроме оппозиции Америке? Или чем вам не тоталитарна ваххабитская Саудовская монархия, если бы ей не покровительствовали США?
Нелегко спорить с настолько расплывчатой концепцией, как тоталитаризм. Она оперирует философско-публицистическими обобщениями, несет в себе мощный эмоциональный заряд и, главное, идеологична. Поэтому из эмпирической базы заведомо исключены западные демократии, хотя и они в войнах XX в. прибегали к концлагерям, тайному сыску и массовой пропаганде. Последнее сказано вовсе не ради «сами хороши». Это вполне аналитический вопрос. Почему государства и политические движения XX в., невзирая на издержки, предпринимали гигантские проекты переустройства экономик, обществ и самого мира?
«Двадцатый век заставил все правительства править»
Это тоже цитата из мудрого Хобсбаума. Что стоит за ней? В 1914 г. центр капиталистической миросистемы фактически покончил групповым самоубийством. Волны от этого коллапса не утихали в Европе три десятилетия, а на мировой периферии до 1970-х гг. продолжались революциями, партизанскими войнами и националистическими диктатурами. Откуда, думаете, возник Ирак? Из Месопотамии, которую в 1918 г. англичане отобрали у турок-османов, создали там полуколониальную монархию – которую в 1958 г. свергли молодые патриотические офицеры, среди которых был Саддам Хусейн. Такими причинно-следственными цепочками полна история XX века.
Попав в кровавый водоворот Первой мировой войны, западные правительства шли на меры ранее невообразимые. К 1917 г. британский военный кабинет занимался созданием медпунктов и детских яслей при фабриках – вовсе не из социалистических идеалов, а потому, что после отправки на фронт миллионов мужчин к станку приходилось ставить их жен, а значит, заботиться о детях и доступном здравоохранении. Воюющие Англия и Франция импортировали продовольствие морем (тем самым попадая в кредитную зависимость от США). Континентальным же Германии и Австро-Венгрии пришлось вводить карточки и продотряды. Австрияки в 1916 г. сняли с фронта 60 тысяч штыков и направили эту силу искать по деревенским дворам укрываемое продовольствие. Германский же Генштаб превратился в прообраз Госплана, заменившем рынки всех основных товаров.
Это и имел ввиду Ленин, превознося империализм как канун социализма. Хотя в двадцатые годы капиталистические элиты еще надеялись на возврат к нормальным для них либеральным нормам, грянувшая следом Великая депрессия не оставила таких надежд. Государства стали превращаться в осажденные крепости.
Понять эволюцию власти в ходе XX в. помогает необычный американский политолог Джеймс Скотт. С одной стороны он давно признанный классиком профессор элитарного Йельского университета, а с другой стороны убежденный фермер-народник и анархист, регулярно перечитывающий «Бравого солдата Швейка». Что дает, конечно, необычную среди политологов свободу от общепринятых взглядов, как правых, так и левых. Кстати, книга Джеймса Скотта стараниями его друга Теодора Шанина издана и на русском языке под названием «Благими намерениями государства». Подзаголовок ее и вовсе прозрачен: «Как и почему проваливались проекты по улучшению человечества».
Джеймс Скотт выделяет четыре необходимых условия для «апокалипсиса в отдельно взятой стране»: модернистские идеи переделки мира, наличие достаточно сильного аппарата для проведения идей в жизнь, жестокий кризис и неспособность общества сопротивляться. Обратите внимание, что, в отличие от публицистических инвектив в русле тоталитаризма или массовых инстинктов, здесь прописано несколько условий разного уровня, причем все они обязательны. И все четыре условия широко присутствовали именно в XX веке.
Геометрическая Вселенная
Модернистская идеология возникает впервые среди титанов Просвещения. От Ньютона до Дидро и Гегеля, первопроходцы современности были зачарованы логикой, открывшейся им в устройстве мироздания. Как же все стройно и разумно! Бог – великий механик. Но если человек оказался способен постичь законы мироздания, значит ему доверено ими управлять. Более того, исправлять поломки и недостатки – природные и человеческие.
Неверно винить в утопизме исключительно левых революционеров. Эпоха модерна породила три возможных отношения к прогрессу – консерваторов, полных мрачных предчувствий и ностальгии по идеализируемому вчерашнему дню, либералов, предлагающих доверить экспертной элите реформу дел сегодняшних, и радикалов, призывающих массы (но под водительством авангардной партии) совершить прыжок в светлое завтра. Модернистская утопия плановой переделки мира свойственна всем трем идеологиям. Могло ли быть иначе в век пара и электричества? Те, кто не принимали технику, были обречены проигрывать войны и становиться колониями. Отсюда прожекты не только царей Петра, Павла и декабристов, но и действительно тоталитарные военные поселения Аракчеева.
Самый успешный проект инженерии общества – конституция и сама карта Соединенных Штатов Америки, разлинованная Джефферсоном на аккуратные квадратики ферм с непременными участками для школ и университетских кампусов. Апофеоз капиталистического планирования – город Чикаго с геометрически прямыми, пронумерованными улицами. Помните перестроечные возмущения по поводу поворота сибирских рек? Чикаго-ривер еще в 1912 г. была повернута вспять и понесла свои загрязненные скотобойнями воды с глаз (вернее, от носа) долой в Миссисипи. Объем перемещенного тогда грунта превысил рытье Панамского канала! Тот же, кто увидит здание Чикагской биржи, поймет, с какого образца строили московский Госплан, ныне Думу.
А скрепившие воедино Германию железные дороги Бисмарка, где в расписаниях гордо указывались секунды?! А радикальная перестройка Парижа бароном Османом, пробившим широкие бульвары на месте средневековых нагромождений, где слишком легко возникали баррикады? А британские телеграфные линии на дне океанов, связавшие метрополию с колониями даже в Австралии? Вот она – глобализация Викторианской эпохи.
Люди-винтики
Вместе с машинами из металла росли человеческие машины – бюрократии. В идеале это люди, организованные в четко расписанную систему должностей и сфер ответственности, которые вне зависимости от личных интересов и пристрастий не должны иметь возможности не исполнить распоряжения. Если служащий неэффективен, ленив или вороват – трение и сбои случаются в любом механизме – надо просто затянуть потуже или заменить винтики. На сей счет школами управления накоплено немало вполне дельных рекомендаций.
Бюрократия означала гигантский скачок в координации совокупных человеческих усилий. Первые свидетельства – египетские пирамиды и Великая китайская стена, которые собственно и возводились, чтобы поразить возможностями имперской власти. То же самое можно сказать обо всех великих храмах или надолго переживших Рим акведуках и католической церкви.
До современной эпохи бюрократии возникали лишь в центрах цивилизаций. Еще феодальные монархии Средневековья – это скорее вотчинно-патримониальные вождества, где короли лично знали практически всех вассалов, а епископы и помещики и уж точно их экономы, в свою очередь, знали большинство крепостных. Если власть выходила за пределы повседневных личных обязательств (как правило вследствие успешных завоеваний), то через поколение-другое она дробилась обратно до уровня личного контроля. Такова организационная судьба скоротечных империй Александра Македонского и Чингисхана, Киевской Руси.
Британский исторический социолог Майкл Манн, автор многотомной «Истории общественной власти», аналитически делит власть на две составляющие: деспотичную и инфраструктурную. Первая, образно говоря, выражается командой «Голову долой!» Но способность казнить в порыве гнева – вовсе не то же самое, что доскональное знание и контроль ресурсов подданых. Откуда в столице империи знают, сколько податей на самом деле собирают наместники в провинциях? Как добиться повседневного исполнения планов в промежутках между поездками на места для учинения разноса нерадивым?
Тут требуется автоматика, глубоко проникающая в общество, что стало возможно лишь в современную эпоху тотального учета. В передовой стране индивидуализма Америке пронумерованы не только улицы, но и все граждане с младенчества. Social security number (ныне перенятый и в России ИНН) знают наизусть-потому что без него ни в школу, ни в больницу, ни в банк не сунуться. Поэтому от налогов может уклоняться либо нелегальная иммигрантская мелюзга, работающая поденно за наличные, либо корпорации, способные лоббировать в Конгрессе и пользоваться оффшорами.
Бюрократия шире чиновничества. Это и современные армии, бизнес, партии и профсоюзы. По немецкой легенде, однажды после объявления войны старик Мольтке, глава Генштаба, отправился на рыбалку. План кампании прописан в деталях, офицеры вышколены, машина мобилизации запущена – чего же боле?
Капиталисты начиная с кризиса 1870-х гг. учились обуздывать стихию рынков созданием гигантских корпораций. С семейными фирмами раннего капитализма это соотносилось как баркасы с супертанкерами. Возникшие в XX в. школы бизнеса с четкостью и массовостью фордовского конвейера производят честолюбивых и исполнительных «винтиков» для частных корпоративных бюрократий. Бюрократическая плановая рационализация принесла колоссальные результаты. Век XX многократно превзошел все предшествующие эпохи экономического роста. Увы, также и по производству средств уничтожения. Причем не только пушек и бомб. Немецкие концлагеря вели учет заключенных при помощи передовой технологии перфокарт, поставленной американской корпорацией Ай-Би-Эм.
Эпоха крайностей
При всей рациональности, в 1914 г. генштабы не смогли предвидеть последствия собственной мощи. Войдя в клинч, машины войны продолжали поглощать ресурсы, истощая собственные общества. Молох массовой войны захватывает литературное и художественное воображение первой половины XX в.
Средства устрашения и контроля, ранее применявшиеся только против «дикарей» в колониях, теперь применялись против внутренних противников. Первый геноцид XX в. – армян при военной диктатуре младотурок – на самом деле имел прецеденты в британской Родезии и германской Юго-Западной Африке (Намибии). Концлагеря вскоре создаются для интернирования революционеров и контрреволюционеров. В декабре 1941 г. властям США потребовалось всего около недели, чтобы выявить и заключить за колючей проволокой собственных граждан с японскими фамилиями. (Так, кстати, познакомились родители Фрэнсиса Фукуямы, который, несмотря на статус неоконсервативного гуру, умно избегает рассуждений о тоталитарной природе противников Америки.)
Межгосударственые и гражданские войны, оккупации, повсеместные крушения империй, революции, разруха и экономическая депрессия создавали условия, когда со всех сторон раздавались вопли: «Кто угодно, да сделайте же что-нибудь!». Крайний хаос вывел на поверхность крайние политические течения. Массовое производство и контроль сделали возможными ранее утопические проекты массовой трансформации обществ.
Вдумайтесь, что стояло за избитой фразой «потрясения всколыхнули массы». Распадались социальные структуры, которые ранее заставляли смириться со своей неизбежной долей не только пролетариат, но и мелкую буржуазию Запада, не только крестьянство России, но и колониальные народы. Зачем немцам терпеть унижения Версальского мира и платить неподъемные репарации, когда в Германии безработица зашкалила за 45 %, но не пропал еще боевой дух? Зачем мужикам терпеть помещиков и малоземелье, когда в их руки попали винтовки, а царь оказался марионеткой Распутина? Зачем вьетнамцам и алжирцам подчиняться французам, которых с позором побили и японцы, и немцы? Зачем миллионам мусульман, наследникам великого халифата, жить на коленях перед неверными, когда у них есть нефть и столько бойцов, готовых на самопожертвование? Но могут ли США допустить, чтобы вьетнамские коммунисты разгромили французов, а арабы – Израиль? Можно ли оставить землю мужику, если России без индустриализации грозит вражеское завоевание? Что станет с минеральными богатствами Конго после ухода бельгийцев? Кому достанется Индия после англичан, мусульманам или индусам? Все это – главные вопросы страшного и славного XX в.
В сущности, из кризиса XX в. был только один выход – путем чрезвычайного применения бюрократической власти для создания нового общественного баланса, однако реализовали его по-своему совершенно разные политические силы.
Первыми вышли на новую модель никем после 1918 г. не признаваемые два государства-изгоя – Россия и Турция. Социалистическая диктатура в СССР и турецкая националистическая диктатура отличались на самом деле степенью контроля над ресурсами. В СССР к власти пришли радикальные, лишенные собственности интеллигенты, обладавшие заимствованной из Германии марксистской идеологией и организацией. В Турции власть попала в руки среднего офицерского состава, воспринявшего якобинский пример Французской республики. Экономика Турции после резни армянской и греческой буржуазии оказалась целиком в руках государственной элиты, за исключением турецких крестьянских хозяйств и мелких лавок. Поэтому, при относительно скромных ресурсах, индустриализация носила постепенный характер. Ататюрк и его наследники, помня о долгой серии военных поражений предшественников-османов, лавировали на мировой арене, чтобы избежать войн. СССР, напротив, с самого начала оказался в ситуации военной угрозы (чему, конечно, способствовала идеология большевиков), отсюда и необходимость военно-индустриального рывка.
Иммануил Валлерстайн назвал эти две модели, националистическую и социалистическую, «ленинизмом с марксизмом или без». Впоследствии по всему миру множились вариации и гибриды двух моделей. В Китае коммунисты оказались намного более прокрестьянскими, что в конечном итоге позволило после 1979 г. ввести исключительно успешный НЭП путем смычки крестьянской основы Китая с капиталистической глобализацией и, через открытие страны для концессий, запустить устойчивую индустриализацию. В Израиле был получен успешный гибрид военного социализма с национализмом – конечно, при умело выбиваемой помощи США.
При завидно ровном социальном климате Скандинавии в ответ на Великую депрессию прошла социал-демократическая модель марксизма без ленинизма. У отца шведской экономической модели Гуннара Мюрдаля был достойный соизобретатель – польский экономист Михаль Калецкий. Однако ни в тридцатые годы, ни позднее Польша не могла стать полигоном для экспериментов с социальным рынком. Берусь также утверждать, что если бы правительство Альенде пережило 1973 г., Чили и при социалистах испытала бы экономический рост, но с куда меньшей политической травмой. Дело ведь не в Пиночете, а в необычной для Латинской Америки эффективности чилийской бюрократии и специфике аграрного экспорта Чили на растущий Тихоокеанский рынок.
А что представлял собой «новый курс» Рузвельта? Американские элиты, напуганные непривычно долгой и глубокой депрессией, маршами безработных и надвигавшимся вторым раундом мировой войны, приняли социал-демократическую программу во всем, кроме названия. Когда в 1945 г. им вернулась уверенность в себе, левизну «нового курса» значительно подправили, однако модель сотрудничества Большого правительства, Большого бизнеса и (официальных) Больших профсоюзов еще несколько десятилетий определяла новый баланс стран Запада. Нам еще предстоит спокойно и прагматично разбираться с многообразием вариантов XX в.
Благодаря усилиям историков, теперь все достаточно ясно и с фашистами. Чудовищные последствия авантюр Фюрера (но все-таки не Дуче и не Верховного Каудильо) не дают разглядеть, что на деле это была местная политическая мутация, реакционеры нового типа – не аристократические охранительные консерваторы, а наступательные популисты из травмированных средних классов, причем так или иначе связывавших свое благополучие с государством. Приходили они к власти только там, где традиционные элиты были панически напуганы кризисом и перспективой революции. Поэтому не Англия, Франция или Польша – а Италия, где король, морщась, призвал «проходимца Муссолини» на полгода во власть, чтобы справиться с большевистской угрозой, и Германия, где рейхспрезидент Гинденбург божился, что никогда не предложит Гитлеру пост канцлера. Однако в противном случае побеждали бы левые.
Дальнейшая динамика также вполне ясна. Нацисты дерзко воспользовались контролем над военной и экономической машиной Германии, раз за разом идя ва-банк в ослепляющей идеологической надежде обрести контроль над Европой и миром. Они использовали террор и популистскую мобилизацию не только против левых, но и для запугивания прежнего правящего класса. К 1938 г. Гитлер уже не мог не начать войну, потому что военизированная экономика грозила крахом.
Вопрос, как бы выглядел мир, где победил Гитлер, к счастью, лишен оснований в реальности. Геополитический баланс – одновременное противостояние индустриальному потенциалу Англо-Америки и армиям России, давний кошмар немецких генштабистов – был настолько против Третьего рейха (как и Японии), что нападающей стороне оставалось надеяться только на чудесное завершение войны несколькими ударами. Однако мощи германской военной машины было достаточно, чтобы произвести всего за несколько лет людские потери масштаба, возможного лишь в XX веке.
Эпилог: Машина и человечество
Источник зла не в инстинктах – их много разных, они противоречивы и опосредуются социальными структурами. Идеологии также изменчивы, а их крайние формы при нормальных условиях неизбежно остаются с краю. Массовый террор XX в. был результатом сложного и нередко случайного сочетания геополитических и экономических провалов, унаследованной от значительно более мирного XIX в. восторженно-наивной веры в технический прогресс и пророческие схемы, но, главное, многократно возросших возможностей координировать общественные силы.
Бюрократия есть социальная машина, создающая устойчивую и дальнодействующую координацию. Отлаженная бюрократия передает и исполняет команды. Это не зло и не добро, а сложное и мощное орудие двойного применения – как мирно пашущий трактор есть, в сущности, разоруженный танк. Вводится программа – и миллионы детей получают прививки или строится город. Вводится другая программа – и из общества изымаются миллионы идеологически заданных не-людей, а города сжигаются в бомбежке.
Конечно, страшно. И правильно, что страшно. Потому и надо не только помнить, но и рационально понимать причины массовых злодеяний недавнего прошлого.
Кризисы неизбежны, и как с этим бороться
НАУКА социоморфна. Это замысловатое словечко означает, что всякая наука подобна породившему ее обществу. Даже сама постановка научных проблем – что именно ученые пытаются разглядеть и объяснить в своих исследованиях – довольно значительно зависит от текущих общественных настроений, которые могут принимать форму прямого социального заказа со стороны элит и оппозиционных контрэлит, а могут просто воплощаться в «духе времени».
Это касается не только гуманитариев. Основные математические и физико-химические парадоксы из той области, что впоследствии стала называться теорией хаоса, были известны еще с конца XIX в. Однако их долго считали эзотерическим курьезом, досужей игрой ума ученых. От науки середины XX в. ожидали осязаемых, четко предсказуемых достижений, вроде невиданных синтетических материалов, лекарственных препаратов, освоения атомной энергии, могучих машин, научного прогнозирования и управления экономикой и обществом. Таково было требование самоуверенной эпохи научно-технического прогресса. В ответ выводы передовой науки должны были звучать уверенно и четко, как дважды два – четыре, вместо расплывчатого «с определенной долей вероятности, в общем-то да, но это зависит…».
Только в кризисные семидесятые годы прошлого века теории хаоса получают массовое признание в основном благодаря популярным книгам Нобелевского лауреата по химии, бельгийца российского происхождения Ильи Пригожина. (Его бестселлер «Порядок из хаоса» был опубликован в СССР в 1986 г. издательством «Прогресс».)
Точно так же публикация в 1962 г. памфлета Рэчел Карсон «Тихая весна» имела эффект бомбы, потому что четко совпала с поворотом общественных настроений. Карсон описывала наступление весны без гомона птиц, отравленных бешено успешным инсектицидом ДДТ (дустом). Эта мрачная перспектива послужила катализатором мобилизации части общества, чувствовавшей обеспокоенность безудержным наступлением технического прогресса на природу. Такова типичная диалектика – дотоле неявный фон общественной обеспокоенности создал книге Рэчел Карсон громкий эффект многостороннего эха, и тем самым книга спровоцировала лавину. Экология с тех пор стала центральной частью общественного сознания.
В последующие кризисные годы «бомбы» посыпались одна за другой, с уже преднамеренным расчетом на производство алармистских бестселлеров: «Демографическая бомба» Пола Эрлиха (1968), «Футурошок» Алвина Тоффлера (1970), побивший все рекорды мировых продаж экспертный доклад Римскому клубу «Пределы роста» (1972). Из тогдашнего кризиса западных обществ возникла массовая читательская аудитория, стимулировавшая появление новых исследований кризисных явлений.
«Прерывистое равновесие» Гулда-Элдриджа
Душным вашингтонским летом 1968 г. в некондиционируемых подвальных запасниках Смитсоновского музея естественной истории засела пара аспирантов-палеонтологов, Стивен Джей Гулд и Найлс Элдридж. Заметим, что тем временем на другом берегу Потомака, перед Пентагоном, их сверстники бурно протестовали против вьетнамской войны. Гулд, обладавший безукоризненно классическим литературным стилем, впоследствии опубликовал десятки научно-популярных бестселлеров и стал такой знаменитостью, что интерьеры его манхэттенских апартаментов снимали для модных дизайнерских журналов, а самого Гулда, на зависть многим кинозвездам, даже пародировали в культовом мультсериале «Симпсоны» (причем профессор Гулд озвучил сам себя). Так что у академических биологов отношение к Гулду смешанное.
Но в 1968 г. молодые Гулд и Элдридж были патлатыми бунтарями, что выразилось в непочтительности самой идеи их летнего проекта залезть в ящики с ископаемыми образцами докембрийской морской фауны. Не в том непочтение, что окаменелости восходили к первой многоклеточной жизни на Земле. Беда в том, что все это было давным-давно описано и классифицировано одним авторитетнейшим натуралистом, чей портрет висел у входа в музей.
Оказалось, авторитетнейший натуралист с портрета Викторианской эпохи был настолько зашорен тогдашними представлениями о поступательных стадиях эволюционного прогресса, что не смог разглядеть в ископаемых образцах целые отряды и классы (!) совершенно неизвестных науке вымерших существ. Там, где прежний классик видел просто эдакое странное ракообразное с десятком клешней-лапок и непонятными шипами на спине (которые на самом деле росли не из спинки, а из брюшка и, вероятно, служили для передвижения по дну древнего моря), Гулд и Элдридж разглядели чудище вовсе неведомой принадлежности, которое могло привидеться разве что под воздействием модного в те времена наркотика ЛСД. Оттого они весело назвали одно из открытых в запасниках животных галлюциногенией.
Разглядеть в древней фауне совершенно незнакомые нам эволюционные линии развития мешал факт их полного исчезновения. Эволюционные линии вели в никуда. Вдумайтесь, у целых классов первобытных животных не оказалось потомков. Оттого эти окаменелости выглядят настолько неузнаваемо и странно с точки зрения наших дней. Той преждевременно народившейся фауне просто очень не повезло. На нашей еще неустойчивой планете 544 миллиона лет назад случилось первое, но далеко не последнее массовое вымирание (среди которых гибель динозавров – лишь самый известный пример). Не просто большинство, а свыше 90 % видов погибло тогда практически в одночасье. Остается предметом дискуссий, что породило кризис: катастрофичное оледенение планеты или химический выброс из недр, вызвавший нехватку кислорода? Но кризис был таков, что очень мало кто из живых существ успел адаптироваться. Меньшинство видов, которым тогда повезло сохраниться, должны были измениться по геологическому времени мгновенно. В самом деле, в ископаемых пластах ученые не находят переходных форм. Мутация была слишком стремительной, чтобы запечатлеться в окаменелостях.
Тут мы наконец подходим к фундаментальному принципу, по всей видимости общему для всех сложных эволюционных систем, будь то биологических, астрономических или социальных. Гулд и Элдридж в знаменитой статье 1974 г. назвали свое открытие принципом «прерывистого равновесия» (punctuated equilibrium). Сложные системы и их элементы изменяются не плавно и поступательно, неуклонно восходя к более высоким ступеням, как это представлялось в XIX в. классическим эволюционистам либерального толка. Такой оптимистичный взгляд на историю явно не согласуется с фактами. В следующий раз, заметив на кухне таракана, задумайтесь о том, что эти существа куда древнее динозавров и остаются неизменными еще с Каменноугольного периода. Как приспособились к процветанию среди сырых и теплых опавших листьев древних болот, так и живут себе среди наших канализационных труб.
В состоянии системного равновесия случайные изменения, как правило, вытесняются или выбраковываются посредством разнообразных «надзорных механизмов» (policing mechanisms – термин Гулда и Элдриджа). Скажем, в биологии действуют сексуальные предпочтения. Какая нормальная слониха соблазнится на необычно волосатого самца? Но наступает ледник, обычные безволосые особи чаще болеют, и очень скоро из популяции древних слонов возникают мамонты. Заметьте, мамонты при этом ничем не прогрессивнее своих безволосых сородичей из саванны. Они всего лишь удачнее вписались в климатические условия тундры.
Покуда система равновесна и устойчиво самовоспроизводится, она может долго оставаться практически неизменной. Но никакие динамические «живые» системы не могут быть вечны хотя бы потому, что, по законам термодинамики, расходуют энергию. В какой-то момент нормальные колебания системы, ее разнообразные цикличные ритмы выбиваются за верхние или нижние допустимые пределы (асимптоты), где перестают действовать надзорные механизмы. Циклические колебания более не возвращаются к прежнему равновесию, структурные опоры рушатся от перенапряжения, высвобождаются прежде скованные противоречия, система втягивается в воронку стремительного хаотичного перехода – назовите это бифуркацией, кризисом или революционной ситуацией.
Однако переход в иное системное качество вовсе не обязательно ведет вверх, в светлое будущее. В ситуации кризиса чаще возникают всевозможные боковые, обходные маневры, вроде рокировки слонов/мамонтов. Случается регрессивное, попятное движение или же инволюция – «усыхание», скукоживание прежней системы без кардинального изменения. Наконец, возможно вымирание.
Разгадка острова Пасхи
Вернемся к делам человеческим. В мои детские годы у нас в Краснодаре, в колхозном кинотеатре «Колос», часто крутили документально-фантастический фильм Эриха фон Дёникена «Воспоминания о будущем». Швейцарский фантазер объехал свет, снимая всевозможные древние монументальные сооружения, в которых он неизменно усматривал свидетельства посещения Земли инопланетянами. Носатые каменные истуканы острова Пасхи особо преподносились фон Дёникеном как изображения пришельцев. Главным аргументом при этом служил якобы нечеловеческий вес статуй. Само собой, тут не обошлось без какой-нибудь антигравитации! Еще популярнее были книжки норвежца Тура Хейердала, предпринимавшего океанские плавания на бальзовых и папирусных плотах ради доказательства передачи сокровенных знаний древними египтянами или инками. Галиматья, конечно, но в детстве это будило романтическое воображение.
Сегодня вполне научно доказано, насколько скверная история приключилась на тихоокеанском острове. Кевин Костнер даже выступил продюсером зрелищного, но в основе своей достаточно достоверного боевика «Рапа-нуи» (Пуп Земли, как аборигены нескромно звали свой остров). Об этом трагическом кризисе советую подробнее почитать в недавно переведенном на русский язык научном бестселлере «Коллапс» Джареда Даймонда.
Остров Пасхи в самом деле поразительно интересен для науки в качестве клинически чистого случая самозарождения и последующего самоуничтожения архаичной цивилизации. Осознав, что погубило Рапа-нуи, мы получаем серьезный намек на загадки многих утраченных цивилизаций прошлого. Что, конечно, наводит на размышления и о нашем современном обществе.
Итак, как передвигались статуи? Особого секрета нет, хотя продолжаются споры о технических деталях. Древние народы повсеместно перетаскивали и сооружали что-то грандиозное из камней: дольмены, астрономически ориентированные лабиринты, пирамиды, статуи, великие стены. Для этого, как экспериментально доказано, требовалось только некоторое количество бревен и канатов, несколько сотен крепких рук и, конечно, здорово попыхтеть.
Целью передвижения и нагромождения камней было всегда именно то, что и сегодня находится прямо на поверхности – поразить воображение. Все эти мегапроекты служили воплощенной в камне идеологией, статусными символами элит, организовавших постройку, о чем с изобретением письменности непременно писали все цари и вожди: Exegi monumentum, т. е. Я памятник воздвиг – себе, великому.
На боках у гигантских статуй острова Пасхи прорисованы малюсенькие ручки с фантастически длинными изогнутыми пальцами. Фон Дёникен увидел в них то, что хотел увидеть – космические скафандры с манипуляторами. Особой загадки, однако, нет. Руки едва намечены, потому что значения не имели, а заканчиваются они не длиннейшими пальцами, а ногтями. Этот статусно-ритуальный «маникюр» полинезийского вождя, по всей видимости, отращивавшийся годами, символизировал полную отстраненность высшей власти от мирских трудов. Вождя буквально носили на руках, вернее, на роскошно изукрашенных носилках, как живого идола.
На небольшом изолированном от остального мира острове не с кем было воевать или торговать. В результате статусные притязания вождей приняли совершенно гипертрофированные идеологические формы. Вожди уподобились богам.
Примерно полторы тысячи лет назад остров Рапа-нуи был случайно обнаружен и заселен группой полинезийцев. До прочих островов Тихого океана было так далеко (взгляните на карту), что повторить путешествие оказалось не под силу даже таким мореходам каменного века, как полинезийцы. На многие столетия попавшие на остров Пасхи поселенцы утратили контакт с остальным человечеством и сами в итоге поверили, что остались одни в этом мире.
Первые лет шестьсот-семьсот на острове не происходило ничего особенного. Людей первоначально было мало, от силы несколько десятков, а продуктов земли и окружающего моря достаточно. Однако именно потому, что изоляция спасала остров от войн или эпидемий, население постепенно росло и, по подсчетам археологов, достигло со временем пика порядка десяти тысяч человек.
Социальное неравенство и сложная цивилизация начинают возникать только тогда, когда оказались задействованы все природные ресурсы. Потомки легендарного предводителя первого каноэ, открывшего остров, давно установили особые права на лучшие угодья. Теперь, когда новым угодьям взяться было неоткуда, менее родовитым островитянам приходилось идти на поклон к верховному клану.
Идеологически это представлялось как традиционный культ плодородия и мистической силы, воплощенной в вождях. Правитель не просто давал средства к пропитанию, но совершал загадочные священные обряды, призванные даровать изобилие и гармоничный порядок вещей во всем мирке острова. Само собой, вождю причитались все более изощренные почести, лучшие кушания, изукрашенное просторное жилище, всяческие искусные поделки, особые одеяния из роскошных перьев птиц (вполне под стать шубам из соболей). Более того, в какой-то момент на острове Пасхи была даже изобретена собственная письменность – «говорящие дощечки» ронго-ронго, которые до сих пор не удается расшифровать. Собственно эти преднамеренно поражающие воображение атрибуты власти вождей и выставляются в музеях в отделе древних цивилизаций.
Статуи на острове Пасхи начали воздвигать по понятной геологической причине. Подобные, хотя и куда меньших размеров, истуканы можно найти и на других островах Полинезии. Там они обычно изготавливались из дерева, что ограничивало размер. На вулканическом же острове Пасхи были залежи прекрасного, плотного и одновременно относительно легкого туфа, который сам напрашивался под резец. (Кто видел орнаменты средневековых церквей Армении, вытесанные из вулканического камня, сразу поймет, о чем речь.)
Вытесывание, передвижение и установка статуй с завершающим грандиозным пиршеством и раздачей наград и подарков за труды представляли собой длительный ритуальный процесс с участием множества подчиненных и разного ранга руководителей. В ходе ритуала воспроизводили символическую иерархию общества, усваивали свои идеологические роли в своем мироздании, от божественного вождя до последней кухарки.
Статуи поколение за поколением становились все больше и сложнее. У них появились вставные глаза и приличествующие монументальные навершия из красного камня, очевидно, символизировавшие головной убор из перьев. Но также поколение за поколением оскудевала земля острова. Возник жестокий парадокс. Ради обеспечения милости предков и изобилия люди предпринимали все более монументальные усилия, а урожаи падали…
Сегодня на продуваемом океанскими ветрами острове Пасхи растет только трава и чахлые кустарники. (Лишь в поселке, построенном миссионерами, есть несколько пальм, чьи саженцы привезены с континента.) Однако в момент прибытия первых полинезийцев, как показывает анализ пыльцы из археологических слоев, остров был покрыт довольно густыми лесами. Исчезновение деревьев хронологически обратно коррелирует с воздвижением статуй. Иначе говоря, чем больше ставилось статуй – тем меньше оставалось деревьев.
Конечно, деревья рубили с самого начала освоения острова для расчистки участков под поля и просто на дрова. Однако экологический кризис усугубил культ статуй, которые перетаскивали из каменоломни во все концы острова Пасхи. Судя по расчетам археологов, на это занятие у островитян уходило немало катков из бревен и лубяных канатов.
Сведение лесов вело к эрозии почвы, которую теперь смывало в море. Добавьте к этому, что прирожденным полинезийским мореплавателям стало попросту не из чего выдалбливать свои каноэ. Они теперь не только не могли покинуть обреченный остров, но и выходить в открытое море для добычи тунца и дельфинов. Оставалось плескаться в прибое на вязанках тростника и ловить прибрежную рыбешку, которой там не так и много: остров Пасхи – вовсе не коралловый атолл с лагуной, а обрывистый вулканический пик, окруженный глубокими прохладными водами.
Хуже того, на острове Пасхи, в отличие, скажем, от Гавайев, нет ни одного ручейка, на котором можно было бы построить запруды и резко повысить урожайность за счет поливного земледелия и рыбоводства. Спасением могло быть только жесткое ограничение рождаемости в сочетании с защитой лесов. Для этого требовалось сознательное применение централизованной власти. Именно так вышли из аналогичного кризиса другие островитяне – японцы эпохи сёгуната Токугава в XVII–XVIII вв.
Тут мы подходим к самому печальному уроку острова Пасхи. Его правящая элита выдвинула, с нашей точки зрения, совершенно иррациональную стратегию борьбы с кризисом – стали воздвигать еще больше статуй. Впрочем, это прямо вытекало из господствующей идеологии. Бедствия перенаселения и нехватки ресурсов представлялись гневом предков. Задобрить их должны были все более грандиозные монументы, для чего рубили последние деревья.
Восстание голодных простолюдинов, очевидно, вспыхнуло настолько стихийно и внезапно, что несколько гигантских статуй так и остались лежать в каменоломне или на пути к своим пьедесталам. Предания аборигенов сохранили отголоски кровавой бойни, перекликающиеся с недавним геноцидом в такой же перенаселенной Руанде. Свергнутые вожди острова Пасхи были буквально съедены, на чем насилие не прекратилось. Рапа-нуи дает чистейший, изолированный от всяких внешних вторжений пример кризисного самораспада высокоорганизованного общества с последующей деградацией.
В 1772 г. капитан Кук застал на острове Пасхи лишь кучку хилых дикарей, обитавших среди поваленных громадных статуй.
В заключение: кризисы и власть
Не стоит, однако, обольщаться, будто бы в трагедии острова Пасхи повинны лишь суеверие и человеческая глупость. Вспомните «надзорные механизмы» Гулда – Элдриджа. Как они будут выглядеть в случае социальных систем?
Человеческое общество подобно экосистеме, где кооперативные принципы симбиоза и внутривидового альтруизма соседствуют с хищническими и паразитарными стратегиями. От их изменчивого баланса зависит устойчивость системы. Однако, в отличие от систем биологических, системы, созданные людьми, наделены сознательной рефлексивностью. Так или иначе, мы думаем, что делаем. Если же действия и бездействия людей подрывают устойчивость их общества, то заподозрить стоит не когнитивные дисфункции, проще говоря – глупость (вроде «идиоты они все»), и не нехватку информации («эх, знал бы царь-батюшка»). Аналитически продуктивнее будет поискать чей-то статусный и даже вульгарно-корыстный интерес.
В социальной иерархии верхние уровни занимают функционально различные элиты: полководцы, коммерсанты, жрецы и идеологи, администраторы и правители. Пустившие корни элиты становятся склонны к консерватизму попросту оттого, что им есть, что сохранять.
Антропологи-теоретики Аллен Джонсон и Тимоти Эрл полушутя вывели из своих штудий различных эпох и племен эволюционный «принцип наименьшего усилия», гласящий: всякое общество сопротивляется инновациям и не изменяется настолько долго, насколько хватит терпения. Пока элиты обладают значительными ресурсами убеждения и принуждения, они могут повышать степень «долготерпения» основной массы общества. Так может дойти до внезапного коллапса, который наступает с исчерпанием элитных ресурсов. Приближения критического порога часто не замечают именно потому, что ресурсы убеждения и принуждения не в последнюю очередь расходуются на подавление неприятной информации и поддержание иллюзии status quo.
Это, к счастью, не все, что может сегодня сказать наука. Существуют еще два пока не очень доказанных, но перспективных принципа – избыточного разнообразия и оптимальной фрагментации. В эволюции биологических видов и человеческих обществ регулярно возникают кризисные ситуации, в которых наиболее полезными для выживания и перехода в новое качество оказываются некие «левые», побочные черты, ранее казавшиеся избыточными. Проще говоря, заранее нельзя сказать, что именно может пригодится в момент потрясения. Разнообразие, конечно, неэкономично и оттого не может быть бесконечным. Однако узкая специализация лишает систему гибкости и при кризисе ведет к беде.
Второй принцип, принцип оптимальной фрагментации, довольно сходен с идеей избыточного разнообразия, однако относится скорее к механизмам управления и организации различных элит. Слишком много соперничества в системе чревато полным бардаком и беспределом, слишком мало – чванством и косной неадаптабельностью. Это вроде всем понятно. Менее очевидны параметры оптимальной зоны, расположенной где-то между двух крайностей. Там идет соперничество автономных и более-менее равновеликих групп, при этом хорошо знакомых друг другу, подобно активной научной или литературной среде, лиге спортивных чемпионов, либо налаженной многопартийной системе. Оптимальное число участников – от трех до шести, поскольку два есть число фронтальной борьбы, а при числе соперников свыше шести теряется общий фокус внимания.
Данный принцип сформулировали независимо друг от друга социолог Рэндалл Коллинз, изучавший механизмы возникновения новых идей среди философов, и уже упоминавшийся биогеограф Джаред Даймонд, изучавший одомашнивание животных и растений в различных регионах планеты. К удивлению Даймонда, его теории приобрели незаурядного энтузиаста в лице компьютерного миллиардера Билла Гейтса. Ныне принцип оптимальной фрагментации преподается в элитных школах бизнеса. Он стал привлекателен благодаря параллелям между стратегиями гибкой гибридизации в селекции растений и построением сложных организаций.
Это достаточно сложные идеи, чтобы излагать их в одной популярной статье, поэтому лучше читайте книги Рэндалла Коллинза и Джареда Даймонда, недавно переведенные на русский. Мне же позвольте завершить цитатой из старого мудрого социолога Артура Стинчкомба: «Все организации регулярно совершают ошибки и не менее регулярно сталкиваются с кризисами. Умные организации отличаются лишь тем, что быстрее это осознают».
Часть II Вблизи: наше место под солнцем
Траектория СССР: От побед до самоподрыва
В ОБЪЯСНЕНИИ революций и их последствий издавна соперничали два противоположных взгляда, позволительно сказать, левый и правый. Сторонники прогресса считали революции локомотивами истории, славными моментами освобождения и, главное, объективной неизбежностью. Именно эсхатологической борьбой Будущего против Прошлого (все равно, в сознании ли якобинцев, либералов, националистов, социалистов, рыночных реформаторов или иных авангардных групп) оправдывалось героическое революционное самопожертвование, равно как и беспощадная ломка препятствий. Какие могут быть компромиссы, когда законы истории познаны и их надо реализовать?
Противники, особенно проигравшие элиты и эмигранты, напротив, считали революции лишь внезапными приступами массового безумия, «инстинктов толпы», преступного посягательства на устои, веру и собственность. Поскольку те, кому в прошлом было комфортно, ностальгически считали утраченный уклад жизни единственно добродетельным и нормальным, то революцию оставалось объяснять подстрекательством чужеродных смутьянов: либеральных масонов, космополитических евреев, студентов-террористов, иностранных агентов.
Со времен перестройки общественное отношение к 1917 г. и его последствиям качнулось из первой крайности во вторую. Однако именно потому, что мы уже покинули XX век, эту великую «Эпоху крайностей», по выражению ее лучшего историка Эрика Хобсбаума, можно теперь сделать набросок более рациональной реконструкции новейшей истории. Помочь нам в этом могла бы профессор Гарварда Теда Скочпол, чье сравнительное исследование социальных революций во Франции, России и Китае положило в 1970-е гг. начало научному перевороту в объяснении подобных катаклизмов.
Отойдя от левой/правой идеологии, Скочпол показала, насколько все революционные взрывы были обусловлены тектонической динамикой межгосударственных столкновений. Классические революции начинались всеобщим панически нарастающим осознанием неадекватности старого режима и его позорного провала перед лицом внешних угроз. Одновременно возникали альтернативные политические элиты из образованных и при этом «лишних» средних слоев, страстно уверовавших в идеи прогресса и свое право на выведение страны из тупика. Кульминация непременно сопровождалась взрывом неорганизованного, зато устрашающе массового недовольства низов, которые переставали терпеть давние унижения, вдруг увидев, что прежнее начальство более не в состоянии им запретить. Этот взрыв сметал старый режим и расчищал место для нового революционного режима – которому, однако, еще предстояло удержаться в обстановке кровавого хаоса и попыток иностранной интервенции. Успешным итогом во всех случаях было вовсе не наступление царства свободы. В этом все революции, по горькому выражению Троцкого, всегда оказывались «преданы» самими революционерами. Итогом всех победивших революций было значительное усиление государства: наполеоновская империя, советская военно-индустриальная сверхдержава либо восстановление единства и суверенитета Китая при «новом императоре» Мао, победа вьетнамских партизан над армиями самой Америки или превращение Кубы из сахарного придатка в мини-империю. Иначе говоря, в исторической ретроспективе социальные революции были мощными ответами проигравших стран на падение их мирового статуса. Поэтому революции нельзя понять вне мирового контекста.
Причины восхождения Запада
Следуя скочполовскому постулату, давайте вначале представим, как выглядела геополитика где-то около 1500 г. В то время Европа представляла собой не более чем региональное скопление небольших и хаотичных государств, лишь недавно начавших оформляться из феодальной раздробленности Средневековья. Московское царство кристаллизуется на полуобжитом крайнем северо-востоке европейской подсистемы. Подобно испанцам, своим собратьям с юго-западного пограничья Европы, русские давно ведут свою реконкисту, постепенно пресекая набеги кочевой конницы. Испанцы только что вырвались на просторы Атлантики, но пока еще не завоевали громадную империю в Новом Свете. Русским еще только предстоит прорыв в Сибирь и отвоевание плодороднейших черноземов на юге. Но главный и самоочевидный факт – вся эта активность происходит в тени куда более многолюдных, сказочно богатых и могучих империй Азии: Китая, Ирана, Индии, османской Турции.
Теперь перенесемся в 1900 г. Власть и богатство мира сосредоточены всего в нескольких европейских державах, которые обладают обширными колониями. Империи Азии пали. Поделена и колониальная империя Испании, былого первопроходца Запада. Россия пока держится и даже предпринимает впечатляющий инвестиционный рывок в 1890-е гг., при Витте, и еще раз после 1907 г. при Столыпине. Но эти рывки усугубляют зависимость от западных кредиторов и все равно не поспевают за ростом крестьянского населения, которому отчаянно не хватает ни земли, ни рыночных возможностей, ни современной образованности. Россия в 1900 г. опасно балансирует на грани между имперской Европой и колониальной Азией.
Классики социального анализа – Маркс, Вебер, Дюркгейм, которые, конечно, были и современниками экспансии Запада, в сумме дали ответ на вопрос о причинах столь беспрецедентного господства над миром. Во-первых, это был капитализм с его бесконечным стремлением к новым рынкам и техническим инновациям, включая индустриальное производство оружия. Во-вторых, это рациональная бюрократия, способная выстроить государственную власть ранее невиданной глубины проникновения в общество или планировать экономическую деятельность на уровне громадных корпораций, отраслей и целых стран. В-третьих, это Дюркгеймова «органическая солидарность», чувство принадлежности к великой Нации и равноправной Республике, которое в современной Европе заменило традиционное крестьянское послушание авторитетам церкви и монархии.
Царская Россия отставала по всем этим параметрам: лишь очаговая индустриализация, поверхностная бюрократизация и хронический раздрай в идейно-эмоциональной сфере, где крестьянство грозило помещикам пугачевщиной, интеллигенция противостояла власти, а подчиненные национальности мечтали о независимости. Большевики победили потому, что добились прорыва во всех трех направлениях.
Ленин
Большие социальные системы инерционны и в нормальные времена оставляют мало места для роли личности. Иное дело – периоды потрясений, когда рушатся стабилизаторы и ограничители. Ленин представляет на редкость сильный пример. Энергичный провинциальный самоучка, он мог бы стать неплохим аграрным экономистом или адвокатом. Однако узость рынка профессиональных услуг, нехватка университетов и общая бедность специалистов (доходы врачей, агрономов и даже военных в царской России были много ниже доходов аналогичных профессий в Европе) толкали множество образованной молодежи на поиск самореализации в идейном радикализме. Так возникает интеллигенция – во Франции XVIII в., в России XIX в. и далее по всему Третьему миру XX в.
Интеллигенты всегда отчаянно спорили, писали романы, ходили в народ, иногда кидали бомбы. Особенность Ленина в том, что он первым успешно применил немецкую организационную дисциплину к созданию подпольной партии. Партия была невелика и имела мало шансов на приход к власти, если бы в 1914 г. европейские державы не устроили групповое самоубийство. Непобедимая, комфортабельная, технически самая передовая – как «Титаник» – Европа вдруг канула в пучину.
Подлинно удивительно не то, что в момент государственного краха большевики взяли власть, а то, что они ее удержали. Ни парижские коммунары в 1871 г., ни даже самая организованная германская и австро-венгерская социал-демократия в 1918 г. не удержали власть, доставшуюся им в момент военного поражения. Всегда находился реакционный генерал, который устраивал поход на охваченную революцией столицу. В России таких генералов оказалось даже несколько. Результат известен, но в чем причина их поражения?
Уберите Ленина, и почти наверняка большевики бы развалились. На замену Ленину не годились ни пламенные трибуны Троцкий с Бухариным, ни трусоватые Каменев с Зиновьевым, ни догматично-серые Сталин с Молотовым. Россия при Деникине или Колчаке вполне бы вписалась в авторитарную палитру межвоенной Европы, где-то между Польшей Пилсудского и франкистской Испанией. Либеральный режим в государстве с такими классовыми и национальными противоречиями был маловероятен. Скорее, произошел бы дальнейший дрейф вправо, к фашизму. Чем бы тогда обернулась германская попытка реванша во Второй мировой войне? Похоже, одна из великих ироний XX в. в том, что либеральный капитализм выжил благодаря советской военной индустриализации.
Идейно, Ленин был последователем Маркса. На практике, однако, пришлось следовать другим немцам: канцлеру Бисмарку, генералу Людендорфу, пророку планового капитализма Вальтеру Ратенау и самому «германофильскому» из капитанов американского бизнеса – Генри Форду. Уже в ходе Гражданской войны Ленин заложил основы организационной архитектуры СССР: номенклатурный аппарат, военно-плановое хозяйство, национальные республики. Эти институты обеспечивали выживание СССР в течение трех поколений. Они же СССР и похоронили. Но это был диалектический процесс. То, что спасало в одну эпоху, оказалось губительным в другую.
Номенклатура, т. е. список ключевых должностей, вырастает из института политкомиссаров. Эта практика восходит к якобинской революционной диктатуре во Франции и протестантским боевым проповедникам в армии английского парламента времен Кромвеля. Но большевики пошли дальше, сплавив воедино мессианскую идею с методами военной диктатуры и сделав это повседневным госуправлением. В результате, по остроумному выражению американского политолога Стивена Хэнсона, возникает тип власти, не предусмотренный самим Максом Вебером – харизматическая бюрократия.
Программа продразверстки была заимствована бюрократией Российской империи у немцев еще в 1916 г., когда военная инфляция подорвала хлебный рынок и городам стал грозить голод. Временное правительство не решилось применить эту наработку. Она досталась большевикам, которые ввели красноармейские пайки для управленцев, бойцов и рабочих, производивших боеприпасы, и беспощадно оставили голодать все прочее население как «классово чуждое». Принцип бескомпромиссной концентрации ресурсов для достижения стратегических целей станет стержнем советского планового хозяйства, источником его великих модернизационных достижений, равно как и великих лишений для населения.
Наконец, откуда берутся национальные республики? Вовсе не из марксизма, который вразумительной теории национализма не выдвинул. Это была ленинская импровизация.
Осенью 1918 г. Добровольческая армия Деникина громила красных на Кубани и Тереке. Их остатки укрылись в горах Кавказа, где Киров и Орджоникидзе вступили в незаурядный диспут с исламскими авторитетами чеченцев и ингушей. В итоге сравнения учений Маркса и Мухаммеда появилась удивительная фетва, признавшая, что дело большевиков равняется джихаду за справедливость. Когда Деникину оставалась всего сотня верст до Москвы, в тыл ему ударили красно-зеленые партизаны Кавказа, а также украинские повстанцы Нестора Махно. Точно так же переход башкирских отрядов к большевикам подорвал наступление атамана Дутова, латышские стрелки остановили Колчака, армянские дашнаки-маузеристы обороняли Бакинскую коммуну от турок и азербайджанских мусаватистов, абхазские «киаразовцы» помогли справиться с грузинскими меньшевиками. В итоге возникала «империя нацкадров», как описывает СССР историк Терри Мартин. Партноменклатура де-факто централизовала государство, в то время как национальные республики де-юре делали его федеративным. Это был не «пиар», а негласный компромисс центра и периферии. СССР щедро создавал возможности для самореализации национальных элит, тем самым сдерживая сепаратизм. Тот же механизм целых сорок лет удерживал от распада даже куда более противоречивую Югославию.
И, наконец, образование. Это не изобретение Ленина. Народное образование было исконной страстью интеллигенции всех национальностей. Большевистская диктатура поставила образование на самую массовую основу, тем самым перетянув на свою сторону множество рядовых меньшевиков, эсеров и просто земских интеллигентов. Грамотность обеспечивала сильную пропаганду («Рабы – не мы!») и одновременно производство кадров для невиданного модернизационного рывка.
Гражданская война имела не две, а минимум двадцать воюющих сторон, и победа в ней зависела от способности создавать союзы. Коммунистическая идея того времени воздействовала как на чеченцев, так и на десанты европейских держав Антанты. Сегодня во все это трудно поверить, настолько отличаются наши времена. Очевидно, что у большевиков была великая «военная тайна» (вспомним первого Гайдара, писателя). Это именно харизматическая бюрократия, соединившая силу государства с идеей прогресса и преодоления старого мира.
Последний пример, для контраста. В 1915 г. мексиканские повстанцы Панчо Вилья и Эмилиано Сапата после колоссальной крестьянской герильи, стоившей около миллиона жизней, триумфально заняли столицу. Растерянно побродив неделю по Мехико, эти два Чапаева в сомбреро так и не решились занять ни одного министерства. Не было у них комиссара Фурманова с ленинским Интернационалом. Со словами «Эх, компадре, это ранчо для нас великовато», Панчо Вилья ушел из столицы. Ни Тито, ни Мао, ни Фидель таких сомнений уже не испытывали – потому что в 1917 г. был Ленин.
Хрущев
Пропустим Сталина. Надоело спорить об этом сером пятне. Демонизм самолюбивого, но довольно посредственного выходца из грузинского люмпен-пролетариата целиком проистекает из исторической случайности его контроля над ленинским аппаратом диктатуры ускоренного развития. Появление посредственности на вершине власти не было полной случайностью. Сталина вознес тренд к понижению интеллектуального уровня руководства по мере массового выдвижения парткадров из низов. Если ленинский Совнарком был едва не самым интеллектуальным правительством в истории, то к концу 1940-х гг. две трети ЦК не имело даже среднего образования, тем более опыта заграничной жизни. Адекватность Сталина новой партийной массе вовсе не означает неизбежности. Еще адекватнее был бы, например, Киров – сибиряк с ухватками русского мастерового, знанием Кавказа и незаурядным политическим чутьем. Сталин страшно комплексовал из-за своей внешности, акцента, нехватки образования, политических промахов, откуда его болезненная настороженность и мстительность. Но психопатология никогда бы не сыграла такой страшной роли, если бы ее проявления не тиражировала государственная машина, созданная в Гражданской войне. Судить Сталина можно по многим критериям, однако самым суровым в данном случае был бы циничный принцип Талейрана: «Это не преступление, а хуже – ошибка». Промахи Сталин научился прикрывать культовой атрибутикой и репрессиями.
Индустриализация 1930-х гг. в любом случае сопровождалась бы массовым принуждением и ограблением населения во имя государственных интересов. Однако сравните поведение Сталина с далеко не самым гуманным Мао: в Китае оппозиционеров все-таки высылали на перевоспитание, а не расстреливали. Дэн Сяопин пережил две опалы, прежде чем развернуть страну к НЭПу и глобализации. Как бы выглядела политическая борьба в СССР 1950-х, если бы Сталина пережил, скажем, относительно молодой Бухарин?
Мы победили в мировой войне не столько благодаря, сколько вопреки Сталину. СССР был запрограммирован на победу не просто своей мощной идеологией и готовностью к беспощадной борьбе. Одними жертвами, морозами и комиссарскими призывами нельзя было остановить высокотехнологичный Вермахт. Танки Т-34 не уступали в бою монструозным «Тиграм» Порше. СССР поставил производство военной техники на такой поток, что у гитлеровского Рейха не осталось шансов справиться с массой советского металла и теперь уже грамотных бойцов из вчерашних крестьян. Здесь кроется главное достижение СССР. За одно поколение многонациональная и прежде аграрная страна вырвалась на передовой уровень в массовом машинном производстве и массовом образовании.
Теория тоталитаризма в формулировке Фридриха и Бжезинского дает крайне превратное объяснение индустриального социализма XX в. Эта теория, воспринятая у нас с крушением СССР как осуждение прошлого, служила политическим целям холодной войны, оправдывая разворот Америки от союзничества к конфронтации с СССР. В 1941 г. Черчилль говорил, что готов к союзу с самим дьяволом против фашистов. Тоталитарным СССР был заклеймен в 1956 г., когда Хрущев начал десталинизацию. Именно в этот момент СССР вступает в самый оптимистический период своей траектории и превращается в привлекательную модель для Третьего мира, что и испугало США.
Тоталитарная теория не учитывает, насколько изменился социальный состав СССР в течение его истории (отчего эту пропагандистскую концепцию давно отвергло большинство западных историков). Ненаучно строить теорию по инструментальным признакам, вроде тайной полиции, пропаганды и лагерей. Подобные методы в той или иной степени использовали все современные бюрократические государства, а войны и революции XX в. создавали поводы. Концлагерь – британское изобретение времен Англо-бурской войны. США в 1941 г. в ответ на панику после японского налета на Перл-Харбор за неделю поместили в лагеря почти полмиллиона собственных граждан с японскими фамилиями (кстати, и родителей Фрэнсиса Фукуямы). Комиксы о Супермене, громящем коварных «джапов» (япошек), создавались по заказу Департамента военной пропаганды. Или чего стоила французская контртеррористическая операция в Алжире 1956–1962 гг.
Тоталитаризм, наконец, не согласуется с тем фактом, что СССР дважды, при Хрущеве и Горбачеве, начинал демократизацию. Изначально хрущевская десталинизация служила стабилизации самой номенклатуры. Ведь это невозможное напряжение, когда сегодня ты нарком, а завтра – лагерная пыль. Кроме того, разоблачение культа личности и повышение требований к образованности кадров быстро освобождало должности и обеспечивало быстрые карьеры.
Однако хрущевская номенклатура не могла ограничиться собственными интересами. Теперь приходилось управлять обществом, где основную массу составляли уже не фаталистичные крестьяне, а образованные специалисты и рабочие, которые с энтузиазмом осваивали и, по классической концепции Норберта Элиаса, «оцивилизовывали» новую городскую среду. Переход из бараков, крестьянских изб и коммуналок в хрущевские пятиэтажки переживался как экзистенциальный прорыв. Вдруг появилось тесное, зато частное семейное пространство! Отсюда новые городские ритуалы среднего класса, вроде новогодних празднеств с салатом оливье и «Голубым огоньком» по ТВ. Это и книжные шкафы с престижными подписными изданиями и фантастикой братьев Стругацких, транзисторные приемники «Спидола» и магнитофоны с записями Окуджавы и Высоцкого, кинофестивали и ночи под кассами Большого театра, дефицитные бананы и растворимый кофе, спецшколы и всевозможные пионерские кружки, походы на байдарках и летние поездки в Крым и Абхазию.
Все эти ностальгические воспоминания о лучших годах СССР относятся к процессу, который французский социолог Пьер Бурдье называл накоплением символического капитала. Нарождающийся советский средний класс таким образом создавал сам себя, свой стиль потребления и культурных запросов. Пускай пока символически, в обладании лишь высокой культурой, молодые специалисты ставили себя как минимум вровень с номенклатурной элитой и даже начинали свысока смотреть на чиновников. Символическая сфера оказалась такой важной и оттого конфликтной (вспомните бури в искусстве или литературных журналах) именно потому, что новые образованные слои пока не могли претендовать на зарплаты и тем более на политическое участие, соответствующее их возросшему весу в обществе и наукоемком производстве (эх, эпоха НТР, когда компьютеры еще звались по-русски ЭВМ.) Но вскоре Пражская весна 1968 г. покажет направление тенденции.
Никита Хрущев воплотил главное противоречие истории СССР – изначальный порыв отсталой страны к просветительским идеалам современности, что неизбежно для межвоенного периода вылилось в военно-индустриальную диктатуру. Возвращение к ленинским истокам было на самом деле формой движения вперед. Вернуться к Ленину было невозможно хотя бы потому, что страна более не была той бедной, полуразрушенной, осажденной Россией, где партия радикальных интеллигентов пыталась управлять разбушевавшейся крестьянской массой. Хрущев был последним советским лидером, который воевал на той Гражданской и вступал в РКП (б) с реальным риском для жизни. Решительно невозможно представить, чтобы какой-то убежденный фашист критиковал Гитлера за предательство идеалов. В СССР оппозиция такого рода возникала постоянно. Бывший полуграмотный токарь и полковой комиссар Хрущев на изумление сохранил в какой-то глубине своей души восхищение перед наукой и прогрессом, отчего и влюблялся то в синтетику, то в гидропонику. Его постоянно заносило от избытка энтузиазма – как и народ, которым ему выпало править.
Андропов
Номенклатура избавилась от хрущевских затей и вскоре обрела уютный регламентированный рай чиновника. Именно здесь находится источник развала СССР. Ерунда, будто командно-плановая система не совладала с чудесами Интернета. В прошлом она добивалась успеха в овладении средствами механизированной войны, затем атомного оружия и космической техники (где подозревать кражу американских секретов не приходится за явным приоритетом королевского спутника.) Однако, простите за тавтологию, командной системе нужен Верховный Главнокомандующий. Условием выдвижения Брежнева было как раз то, что он таковым не станет. Условие соблюдалось до конца.
Известно два способа достижения технологических прорывов – вертикально-командный и горизонтально-конкурентный (а также множество их гибридов, вроде японского и корейского экономического чуда). СССР завис в междоумье, потому что номенклатура научилась спускать на тормозах любые командные порывы, и подавно пресекая неприятные разговоры о конкуренции. Ведь конкуренция грозила не только потерей отдельных должностей, но и общим прорывом во власть молодых «выскочек», т. е. инициативных специалистов. Конечно, петродоллары, нежданно преподнесенные ОПЕК в 1973 г., дали брежневскому руководству большущую подушку для комфортабельного удавления неприятностей.
Ирония в том, что выход из командной экономики требовал командного начала. Хрущев разбил себе лоб, пытаясь в свои последние годы найти такой выход. Это не означает, будто выхода не было. Китайский пример преодоления маоизма указывает на одну возможность. Были и другие, вроде ныне почти забытого венгерского «эксперимента» Яноша Кадара.
Кадара привел к власти в 1956 г. советский посол в Венгрии Юрий Андропов. В той ситуации советский посол был фактически наместником, которому предстояло как-то разруливать последствия обвала венгерской десталинизации, вылившейся в кровавую попытку антисоветской революции. С контрреволюционным заданием Андропов справился мастерски, без карательного террора, вместе с Кадаром плавно выводя страну к благосостоянию «гуляш-социализма». Бывшие кулаки кооптировались в госхозы на посты председателей, технические специалисты продвигались в номенклатуру, неуклонно разбавляя ряды старых коммунистов из малообразованных рабочих (как сам Кадар), среднему классу позволили ездить туристами за рубеж и заниматься мелким предпринимательством. Режим Кадара продолжал следить за творческой интеллигенцией, хотя и без грубости. Молодой социолог Иван Селеньи, в 1974 г. правдиво описавший подоплеку успеха кадаризма, поплатился эмиграцией в Америку (где стал деканом в Йельском университете). Автор знаменитой «Экономики дефицита» Янош Корнай после некоторой проработки даже сохранил венгерский паспорт, став профессором Гарварда.
Умные активные консерваторы Андропов и Косыгин могли бы реформировать СССР, постепенно создавая рыночные механизмы воздействия на подданных и заставляя номенклатуру поделиться властью со средним классом специалистов. Это бы не предотвратило отделения союзных республик. У национальной номенклатуры и особенно интеллигенции имелись неодолимые стимулы для мечтаний о независимости – суверенный престиж, автономия уменьшенных, зато своих полей политики и культуры, наконец, комфортные дипломатические должности. Однако развод мог пройти менее травматично, по сценарию Чехословакии. Но выпало так, что к власти после Хрущева пришли просто консерваторы, воплощение бюрократической инертности.
Эпилог о будущем
Брежневское правление не оставило шансов на постепенное выведение СССР из предсмертного кризиса. Утратившая цель экономика образца Второй мировой войны; инертная номенклатура, давно отвыкшая исполнять команды; национальные республики, приученные к иждивенчеству и втайне мечтающие о дальнейшем повышении статуса и привилегий; разуверившийся и устало-пассивный средний класс; рабочие, которые за неимением возможности открыто бороться, как все пролетарии, за повышение оплаты труда, втихаря понижали затраты труда, т. е. попросту гнали брак и спивались от безделья; всеобщий цинизм. Как дорого нам обошлась брежневская интерлюдия…
Главная заслуга Горбачева в предотвращении чего-то худшего, вроде югославской смуты или полного коллапса, как в Албании. История его еще оправдает, и пожелаем Михаилу Сергеевичу дожить до этих дней. Горбачев породил момент великой мечты о жизни в «нормальной стране». Тем самым он оставил нам мостик в прошлое, которое обнадеживает будущее.
Однако, подобно многим трагическим реформаторам прошлого, Горбачев, быстро подведя страну к ожиданию перемен, попал в ловушку. Ко времени первого Съезда народных депутатов 1989 г. репрессивно-сдерживающие механизмы перестали работать, а поощрительным механизмом по-прежнему оставались центральный бюджет и система государственного снабжения, которые пришли в полный раздрай из-за лавины требований на фоне неудачной конъюнктуры энергетических рынков.
Неожиданно для всех летом 1989 г. возникла классическая революционная ситуация (см. Теду Скочпол). Революционная ситуация, однако, не разрешилась победой каких-то новых сил, а сама оказалась в ловушке. В отличие от венгров, чехов и поляков, которые пережили свои «генеральные репетиции» в 1956, 1968 и 1980-м г., в СССР остро не хватало опыта гражданской самоорганизации. Затяжное трехстороннее противостояние технократических реформаторов, косно-консервативной номенклатуры и радикальной интеллигенции, демократических и национальных движений привело к параличу и распаду государственных структур вместе с сопряженной плановой экономикой. Отсюда хаотический парад суверенитетов с этническими конфликтами по поводу спорных прав и территорий, отсюда катастрофическое и деморализующее обнищание «бюджетников», которые и были тем самым средним классом специалистов, отсюда и пожарно-мародерский характер приватизации, и разгул оргпреступности. Демократизация утратила смысл – что демократизировать, если государственность пала и растащена на вотчины, когда экономика и образование скатились в Третий мир?
Преодоление подобных катастроф занимает годы. Надежда, если мыслить жестко реалистически, пока только на амбициозность нынешних элит. Все-таки эти люди сформировались внутри сверхдержавы и сохраняют, остается надеяться, статусные установки на управление государством, с которым считаются в мире. Их должна обуревать масса легких соблазнов – сосредоточиться на внутренних интригах, в которых протекает их повседневность, позволить себе показное потребление, как некогда арабские нефтяные шейхи, или поддаться мистическим фантазиям об особом величии некоей Евразии. Это все уже знакомый путь в Третий мир.
Подлинно славная амбиция – и гарантия долгосрочной институциональной безопасности элит – означает создание рационально-бюрократического государства и рационально направляемых рынков. Тогда будет, к примеру, куда спокойно уходить в отставку, можно будет не опасаться непредсказуемых налоговиков, бандитской пули или выезда за рубеж. Выполняя это своекорыстное условие наподобие того, как в хрущевскую «оттепель» номенклатура демонтировала сталинизм, элита неизбежно создает условия для возрождения среднего класса специалистов и интеллигенции. Конечно, тут потребуется своя борьба за то, чтобы наконец заставить нынешнюю элиту делиться доходами и возможностями с собственными рабочими, инженерами, врачами и учителями. Очень бы не помешало нашей элите также испугаться потери интеллектуального статуса страны или просто задуматься о том, как на старости лет общаться с собственными детьми и внуками, слишком хорошо овладевшими английским в зарубежных колледжах.
Надежда в конечном итоге в том, что образованные средние классы предстоит возрождать после долгой депрессии, но по крайней мере не создавать с нуля. Надежда на амбициозность страны, привыкшей к довольно высокому международному статусу. Надежда на то, что вокруг России остаются потенциально дружественные страны с общим опытом XX в. Все это нам досталось в наследие от СССР.
Чеченцы – спартанцы Кавказа
КРЕПКИЙ мужик Ахмад, радушно принимавший нас тревожным летом 1994 г., оказался архетипичным чеченцем[3]. Его просторный кирпичный дом за железным забором был отстроен на деньги, заработанные шабашкой на стройках Сибири и, судя по проговоркам хозяина, еще и какой-то нелегальной с точки зрения советской законности операции по линии подпольного «Треста Ингушзолото» Так, с ухмылкой, именовалась состоявшая преимущественно из вайнахов сеть вывоза и сбыта неучтенки с сибирских золотых приисков, корнями уходившая во времена сталинского ГУЛАГа. «А как семью поднимать, если в совхозах Чечено-Ингушской АССР официальная зарплата была 65–80 советских рублей?».
Семья у Ахмада немаленькая. На неправдоподобно чисто подметенном дворе и кухне суетились несколько улыбчивых, но подобающе молчаливых женщин с волосами, по-сельскому прикрытыми платками. Вокруг них резвились разного возраста дети. Как пояснил Ахмад, гордо перечислив тринадцать (!) поколений своих предков, в детях живут имена родственников, некоторые из которых геройски пали еще во времена газавата имама Шамиля, другие от рук белоказаков в 1918 г., а также дяди Ахмада – красноармейца, убитого весной 1942 г., и тети, которой было всего шесть лет, когда она умерла в вагоне во время депортации 1944 г. В поминальных молитвах непременно благодарили семью русского железнодорожника с безвестного полустанка на пути в Казахстан, которые взялись похоронить девочку по-человечески, если не по-мусульмански. Но не забыли и сталинских конвоиров.
«Наш шибздик Дудаев хочет быть президентом и командовать в Грозном военными парадами, это его дело, – растолковывал мне Ахмад свою философию либертарного индивидуализма. – А мое дело – челночный бизнес с Эмиратами. Мы с Дудаевым друг друга не трогаем. Но Джохар когда-нибудь доиграется со своими разговорами про вековую войну с Россией. Вот что печально, ребята! Когда на моей улице появится солдатик, мне перед памятью предков ничего не останется, как взять вот этот автомат и всадить ему пулю под каску. Понятно, что против армии мы долго не устоим. Дом разрушат, женщинам я дам по гранате на последний случай. Но воевать придется всем. Такая у нас, чеченцев, судьба – каждое поколение гибло и из руин восстанавливалось».
Летом 1994 г. режим Дудаева сжался до полуопереточной диктатуры в пределах Грозного. Остававшиеся в городе бюджетники скорее по советской привычке периодически заходили на работу, а дудаевское воинство казалось парой сотен скучающих рэмбообразных показушников. Были и парни с опытом войны в Абхазии, где отряды Шамиля Басаева и Руслана Гелаева кое-чему научились сами, либо у российских военсоветников. Но сам Басаев признавал в момент откровенности, что в первые дни декабря 1994 г. он сильно сомневался, выдержат ли чеченцы натиск настоящей армии. Вскоре окажется, что армия уже не та, где в советские времена служили многие боевики. В Грозный потянутся тысячи добровольцев со своими автоматами, вроде нашего Ахмада. Пока Дудаев раздавал интервью, молчаливому начштаба Масхадову оставалось лишь раздать ополченцам гранатометы и организовать их в подвижные бронебойно-стрелковые группы.
Вернувшись в Москву, я тогда наивно пытался объяснить, что Грозный – не Прага и не Вильнюс, что в танки бросать будут не тухлыми яйцами. Для загнанных в угол чеченцев их спартанская культура не предполагает иной реакции, как патриотическое единение этого анархичного этноса. В ответ недавно выдвинувшийся из провинции молодой функционер, минуту назад на моих глазах заказывавший по телефону выпивку на госдачу, вдруг процедил с кабинетной важностью: «Ты не понимаешь государственного интереса и какие люди в это задействованы. Войны нам и надо».
Страшно хотелось выдать ему каску и послать вместо новобранцев на ахмадову улицу. Это, конечно, фантазия бессилия. Преимущество социологии в том, что она, по примеру Макса Вебера, направляет эмоции в анализ социальных диспозиций и институтов в надежде помочь обществу обрести сущностную рациональность.
Соотношение интересов
Безусловно, ни в бизнесе, ни в спорте, ни в науке и тем более в сфере государственных интересов не обходится без фракционных и личных амбиций людей, которые формулируют и осуществляют стратегические цели с важной поправкой на их собственный уровень понимания (на выявление которого и направлен веберовский «понимающий» ферштеен-метод).
Как-то в Вашингтоне я едва не слетел от неожиданности с Коннектикут-авеню, когда шестилетний сынишка с заднего сиденья вдруг выдал грубую дворовую правду, подцепленную на Родине во время каникул: «Пап, а Паша-мерседес – муд…к? Чего было на чеченов лезть, если медаль хотел заработать или бабки отмыть? Там же все внатуре боевики». Такова сумма обыденных представлений об истоках этой войны, кстати, широко представленная и с чеченской стороны, где вдобавок упомянут и злокозненных сионистов вкупе с Березовским, стравивших великую православную державу с крутейшими из всех мусульман.
Выдвинуто и множество замысловатых политологических построений: нефть, ислам, криминал, национализм, геополитика имперских пространств. Создается гнетущее впечатление сверхдетерминированности конфликта – хватило бы любой из этих причин, что уж говорить об их совокупности. Однако и в Татарстане в избытке присутствовали все те же самые факторы, но после нервозных 1992–1993 гг. как-то покончили устойчивым компромиссом.
Логическое правило бритвы Оккама предписывает, что из объяснений следует выбирать простейшее и проверять его соответствием известным сущностям. Наверняка имели место запутанные интриги, которые свойственны тому типу личной и слабо институционализированной власти, которые возникли из распада СССР. Однако на каждый стратегический расчет приходился и колоссального идиотизма просчет.
Напомню, в августе-сентябре 1994 г. президент Ельцин побывал с визитами у «друзей» Клинтона и Коля. Эмоциональные ельцинские эскапады вроде дирижирования немецким оркестром, которые его советники либо разоблачитель Коржаков приписывали единственно злоупотреблению горячительным, могли быть и своеобразной реакцией на новоподтвердившуюся ельцинскую веру в свою удачу и предназначение московского собирателя земель.
Ради стабилизации потенциально крайне опасного района мира на Западе признали Ельцина единственным легитимным правителем, обещали кредиты и символическую поддержку в виде приглашения России в «Большую восьмерку». Вне протокола госсекретарь США Уоррен Кристофер, как признают дипломатические источники, одобрил действия Ельцина по вооруженному подавлению октябрьского мятежа 1993 г., итогом чего стало превращение красно-коричневой угрозы в мирную думскую оппозицию. Правительства Запада отнеслись бы с пониманием, если таким же образом пришлось бы покончить с наиболее опасными видами организованной преступности, этнических конфликтов и сепаратизма. По словам осведомленного британского журналиста, Запад летом 1994 г. «давал желтый свет» на вторжение в Чечню, который Ельцин истолковал как безусловно зеленый.
Преодоление в 1994 г. гиперинфляции и общее ощущение наконец-то достигнутой стабилизации (особенно на фоне позора и бедствий республик СНГ), казалось, открыли дорогу восстановлению государственного порядка на всем постсоветском пространстве. Несомненно, такие перспективы воодушевили традиционно мыслящие фракции правительственных элит и особенно людей в катастрофически обесценившихся погонах.
Поэтому полезнее задаться вопросом не о том, почему Ельцин решился на войну, а о том, какие комплексы сделали именно Чечню самой неудобной сепаратистской территорией, откуда такая вооруженная анархия, и что задает ее трагическую устойчивость. Есть ли нечто «имманентно-пассионарное» в кавказских горцах, или дело в более поддающихся анализу демографии и социальной организации, подвергшихся лишь частичной модернизации в советские времена? Современный классик Чарльз Тилли доказывает, что без точного картографирования путей из прошлого в настоящее нельзя проложить рациональный курс в будущее. Нам придется углубиться в историю и кое-какую теорию, что я обещаю сделать как можно доступнее.
Стереотипы
Опрос, проведенный осенью 1994 г., в самом начале ельцинского наступления на Ичкерию, показал, что тогда среди горожан России треть с трудом отличала чеченцев от чувашей и тем более черкесов. Лишь 7 % россиян лично знали кого-то из чеченцев, и среди таковых, кстати, большинство осталось с положительным мнением. Остальные примерно 60 % опрошенных основывали свои представления на текущей журналистике или литературной классике: Лермонтове, Толстом, Солженицыне. Конечно, в центре тут Хаджи-Мурат – который, между прочим, не был чеченцем.
Войне уже почти десять лет. Представления россиян о чеченцах менялись от отстраненных, если не сочувственных, в 1995–1997 гг., до преимущественно опасливых и негодующих в последние годы. Однако центральным оставался образ неукротимых боевиков.
Одновременно в массовом обиходе закреплялась целая галерея стереотипов: тейпы, горы, ислам, гранатометы, работорговля. За этими псевдообъяснительными мифами стоял социальный механизм, хорошо известный по распутинской легенде. Весной 1917 г. российская публика жаждала простого и сильного объяснения внезапного крушения монархии Романовых. Оно было найдено в кознях Распутина, наделенного якобы нечеловеческими качествами. Петроградские газеты той первой весны российской гласности 47 раз живописали, скажем, невосприимчивость Распутина к цианиду. По правилу многостороннего эха, рассказ стал восприниматься как общеизвестный факт, хотя тем временем в широко распахнутом архиве упраздненной охранки лежал акт анатомического вскрытия, не обнаружившего признаков яда в теле оглушенного и утопленного мужика-мистика.
В случае с чеченцами действует не просто многостороннее, но и многослойное эхо. Поэтому будем разбираться по пунктам.
Древности
Национальные права принято обосновывать исконностью. На Кавказе этой материи вдоволь. Древнеармянские христианские географы упоминают народ нохчиматьянов, что звучит прямо как самоназвание чеченцев – нохчи. Еще ранее греко-римлянин Страбон, чей дядя губернаторствовал в Абхазии, описал разноплеменность кавказских горцев, среди которых патриотические историки непременно находят и своих предков.
Языки и этнография Кавказа – радость ученого, эдакий Затеряный мир. С появлением в Великой Степи кочевой конницы примерно в IX–VIII вв. до нашей эры в горы были оттеснены народы, обитавшие в тех местах, наверное, еще с неолитических времен. Наряду с дагестанскими и адыго-абхазскими, чеченский принадлежит к экзотическому семейству языков, на которых некогда говорили и какие-то древние народы Средиземноморья, предположительно даже троянцы. Афинские грамматики возводили имя тирана Драко (дракон) к языку пеласгов, которые населяли Аттику до прихода индоевропейских греков. В абхазском языке лингвисты вроде бы находят тот же корень в слове, означающем гусеницу. Уважаемый во всем мире востоковед И. М. Дьяконов обнаруживал кавказские отзвуки даже в шумерском, но это скорее соседственные заимствования. Нет оснований для смелого вывода, будто бы клинопись изобрели кавказцы – им и без того есть чем действительно гордиться.
Суровый ландшафт Кавказа предопределил и сохранил многообразие языков, равно как и заставил людей научиться выживать при скудости ресурсов. Возникла очень экономная, даже минималистская материальная культура и соответствующий физический тип, кстати, близкий древнегреческому идеалу, отчего так ценились за красоту, неприхотливость и гордую выдержку рабыни и наемники-мамлюки из «черкесов» (как турки и генуэзцы собирательно именовали всех горцев Кавказа).
С античных времен на Кавказе захватывали невольников для выкупа или на экспорт через Крым, Анапу и Геленджик. Вывоз рабов – удел периферии древних мироэкономик. В этом деле соотношение издержек и прибыли было несопоставимо с любой мирной торговлей. При хроническом малоземелье на Кавказе, молодцу, мечтающему о шикарной сабле и более завидной карьере, чем мотыжить каменистые склоны, оставалось подстеречь девушку у источника и перепродать ее в ближневосточные гаремы либо самому продаваться в придворные гвардейцы в Багдад или Каир. При отсутствии государственной власти такого рода силовые предприниматели могли опасаться только мести кровников. В наши дни те же бойцовские навыки и диспозиции пригодились сельским молодцам, очутившимся в городах России в период, когда почти целиком государство ушло «налево», обычный труд обесценился, зато появились шестисотые мерседесы.
Феодальный рэкет
Веками Кавказ оставался зажат между жерновами всемирной истории: древние империи с юга, кочевники со стороны степи. Индоевропейских скифов, сарматов и аланов сметали тюркоязычные гунны, хазары, половцы. Остатки былых хозяев степи уходили в горы и там смешивались с исконными кавказцами. Видимо, так появились осетины, чей язык восходит к скифскому и аланскому, или кумыки, карачаевцы и балкарцы, которые по всем признакам совершенно кавказцы, только вот почему-то изъясняются на половецком наречии.
Последний удар из глубин Азии нанес узбекский воитель Тамерлан. В 1390-х гг. он опустошил Кавказ и добил Золотую Орду, уже ослабленную чумой и внутриэлитной конкуренцией. Полтора столетия спустя выдвижение русских стрелецких гарнизонов в нижнее Поволжье окончательно сняло вековую угрозу кочевников.
Возникший в предгорьях Кавказа геополитический вакуум на пару столетий заполнили местные тяжелые кавалерии из дагестанских кумыков и кабардинцев. Их власть в XV–XVII вв. укреплялась благодаря дани, которую профессиональные конники взимали с общин земледельцев за охрану в первую очередь от самих себя, а также от аналогичных воинств, чей княжеско-рыцарский образ жизни основывался на регулярных набегах, захвате пленников и наездах «в гости». Для чеченцев, ингушей, осетин и прочих горских народов, у которых не хватало средств на дорогие кольчуги и пастбищ для разведения боевых коней, доступ в плодородные предгорья оказался сопряжен с риском и унизительной зависимостью от соседей ниже по благодатному склону.
Сложился тот тип власти, который исторический социолог Чарльз Тилли классифицирует как упорядоченный рэкет. В европейском средневековье раннефеодальный рэкет (сравните с полюдьем на Руси) постепенно эволюционировал к государственности и замене набегов и дани долевым налогообложением на содержание постоянных армий и бюрократии. Однако даже в Европе с ее богатым римским наследием городов, монастырей и дорог были области, где централизаторская эволюция не прошла. Это Шотландия, Албания, страна басков, Швейцария. Общее у этих совершенно разных местностей – горы.
Горы + оружие = клановая демократия
Здесь нам придется сделать теоретическое отступление. Впитанная со школьной скамьи эволюционная схема, изложенная Энгельсом в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», не выдержала проверки современной наукой. Равно опровергнуты и либеральные схемы вроде «Стадий экономического роста» Ростоу. Общая их беда в однолинейности, предполагающей единый и необратимый перечень исторических ступеней на пути от первобытности к цивилизации.
Современные теории основаны на нелинейной многовариантности, экологической приспособляемости человеческих сообществ и допускают роль исторического случая. Иначе говоря, надо смотреть на конкретные комбинации природных, социальных и технологических факторов, которые люди реализуют – далеко не всегда мирно – в рамках достаточно широких эволюционных потоков. Попробуем прояснить эти положения на удивительном примере чеченцев.
К XVII в. в краю, позднее именуемом Чечней, сложились феодальные отношения с этническим элементом. Вайнахские крестьяне пахали и пасли стада, а кабардинские и кумыкские княжеские конники периодически наезжали для сбора дани. Однако централизованная монархия как-то не возникала, хотя попытки были. Горы препятствовали установлению централизованного аппарата изъятий и ведению войны большими армиями.
Более того, в XVIII в. крестьяне начали восставать с нарастающим успехом, покуда феодальные повинности не были уничтожены, а князья на вечевых сходах не были ритуально приравнены к бродячим псам, которым вообще не оказывают гостеприимства. Вольные общины теперь создавали собственные ополчения. Все общинники (что куда многочисленней княжеской дружины) обязывались обзаводиться вооружением на свой счет и воевать на равных. Фактически вместо феодального рэкета возникали кооперативы мелких собственников по совместной обороне отчих домов и полей. Предводителей избирали на основе личной доблести, а не по наследству. Возникла демократическая организация, которой немало аналогов в истории: раннее «беглое» казачество, ополчение-коммандо у южноафриканских буров, племена древних кельтов и германцев, но также и установление республик-полисов в Греции и Риме.
Дагестанский ученый М.А. Агларов первым обосновал эту историческую параллель, детально показав применимость античных терминов к описанию аульских республик Нагорного Дагестана. В советские времена такая теория граничила с ересью. Во-первых, она противоречила Энгельсу. Во-вторых, кавказским обществоведам хотелось подогнать свою историю под европейский стандарт. А тут вдруг попятное движение, от феодализма назад к первобытности? Наконец, где чеченцы и где древние эллины?
Однако вспомним, что наряду с высокой городской культурой Афин существовали и спартанцы, не занимавшиеся философией, а также пастушествующие македонцы, у которых вообще не было городов. Но оставим античность. Вот как эволюционный археолог Тимоти Эрл объясняет обычаи викингов: «Верность побратимам и сородичам, щедрое гостеприимство и непременная кровная месть служили единственными гарантиями жизни в этом безгосударственном и поголовно вооруженном обществе».
Откуда взялось вооружение у чеченских крестьян? По данным чикагского историка Михаила Ходарковского (не путать с олигархом), снаряжение кабардинского князя обходились в баснословную сумму, эквивалентную тысяче голов скота. Зато такой верховой витязь в броне сам выступал эквивалентом танка. Баланс сил изменило огнестрельное оружие. Вначале его завозили из Европы через турок, но вскоре и местные оружейники научились варить прекрасные нарезные стволы из сабельного полотна. Развилась целая индустрия и цена упала до дюжины овец – дороговато, но уже доступно горским крестьянам.
Такая винтовка заряжалась со ствола много медленнее гладкоствольного солдатского мушкета, зато пуля била точнее и, главное, сводила на нет преимущество княжеской кольчуги. На мужской Черкесске появилось типичное для горцев простое и остроумное изобретение – нагрудные газыри, по-адыгски «готовые» заряды.
Вопреки романтизации джигитовки, горцы, как правило, сражались пешими. Тактика по сути была охотничей, из обыденной жизни – скрадывание, засада из-за камней и деревьев и точный выстрел на подпорке из шашки. Не только княжеские конники, но и колонны солдат в лесу и горной местности страдали от невидимого противника. Как говорили русские офицеры XIX в.: «Легко в Чечню войти, трудно выйти».
Тейпы и народный ислам
Религиозность и клановая структура чеченцев – вовсе не архаические пережитки, а организационно-идеологические адаптации, сопровождавшие огнестрельную революцию. С ликвидацией феодального закона и прорывом групп поголовно вооруженных земледельцев на равнину потребовались коллективные нормы сдерживания и солидарности.
Кланы (именуемые в Чечне арабским термином тейп) существовали в децентрализованных обществах горцев от Шотландии до Балкан и Афганистана. В принципе, это не более чем объединение своих – людей, признающих себя дальними родственниками. В отличие от племени или гражданской общины, у клана нет четкой территории, вождя, жречества, формального совета старейшин, либо иной структуры управления. Поэтому не стоит приписывать тейпам тайное влияние на политические расклады.
Здесь происходит подмена понятий. Клан, весьма аморфная категория родства, сливается с патронажными сетями, которые периодически выстраиваются под конкретного родственника, добившегося того или иного вида социальной власти: военной, религиозной, экономической или бюрократической. Проще говоря, если кто-то стал начальником, бизнесменом или удачливым командиром, то ему и рулить в родственном кругу – если не забудет опираться на своих, которые, конечно, ему напомнят. Нарушений этого правила тоже хватает, потому что не все нужные люди бывают родственниками и земляками, а некоторые сородичи могут оказаться соперниками. Так что тейпы – не вещь в себе, а арена своей собственной сложной политики.
Сегодня, как и в былые времена, на тейпы возлагаются две функции. Во-первых, укреплять доверие среди своих в анархичной и нередко опасной социальной среде. Во-вторых, являть перед чужими репутацию коллективной силы и достоинства. Оттого столько времени чеченцы (как и шотландцы, и древние греки) проводят за выяснением родословных дел, либо подшучивая над клановыми репутациями друг друга или хвастаясь подвигами. То идет торг на бирже символических капиталов. В зависимости от котировок, кланы растут или хиреют, разделяются или поглощаются – поэтому точно неизвестно, сколько их в Чечне. В жизни бывает всякое, особенно в трудные времена.
Чеченские тейпы слабо изучены. В советские времена такая тематика не поощрялась, а потом наступила эпоха безудержной мифологизации на фоне социальных потрясений. Однако похоже, что кланы активизировались именно в эпохи потрясений, когда людям особенно требовалась защита. Это касается и религиозных объединений.
На Северном Кавказе до XVIII в. очень поверхностный ислам уживался с остатками еще византийской христианизации и традиционным языческим поклонением священным дубам и могилам предков (что и сегодня сохраняется у осетин и особенно абхазов). В борьбе с княжескими привилегиями вожди повстанцев обратились к изначальным исламским идеям равенства и главенства рационального шариатского закона. Это была типично простолюдинская моральная контридеология, аналогичная крестьянским войнам Европы и Реформации.
Роль протестантских проповедников на Кавказе сыграли самодеятельные наставники, поднимавшиеся из низов благодаря харизме, социальному чутью и организаторским талантам. В отличие от ближневосточных монархий, где духовенство состояло на государственной службе, кавказские проповедники собирали вокруг себя кружки последователей-мюридов, которые, в свою очередь, объединялись в саморасширяющиеся социальные сети. Ислам давал надежду на спасение после смерти, но уже при жизни ислам давал бойцу престиж праведности и сдержанности плюс социальные практики и солидарность, куда шире клановых. Отсюда организационная и идейная сила имамата Шамиля.
Завоевание
Российская империя вступила на Кавказ в довольно утопичном понимании геополитики и стремлении к центрам мировой торговли Персии и Индии, поскольку туда стремились все европейские державы. Сопротивления горцев в Петербурге не ждали, донесениям бывалых офицеров с мест предпочитали победные реляции штабных карьеристов и наместнику Ермолову предоставили всего 15 тысяч человек плюс нестойкое ополчение из туземных князей, однако с пониманием, что действовать можно не вполне по-европейски, как голландцы в Ост-Индиях.
Ермолов, как и наш современник генерал Лебедь, практиковал образ звероподобного вояки, способного внезапно блеснуть умом и очаровать грубовато-колоритной фразой. Обстоятельства представили одного генерала безжалостным завоевателем, а другого – миротворцем, но оба руководствовались громадными амбициями и правилом, что лучше сразу убить сотню человек, чем потом положить тысячу.
Будучи деспотом эпохи Просвещения, Ермолов читал в оригинале «Записки о галльской войне» Цезаря, пока его солдаты стратегически выжигали села и посевы бунтовщиков. Стратегия блестяще провалилась. Динамика Кавказской войны нарастала в течение 1810–1820-х гг. по раскачивающейся амплитуде – жестокие военные успехи Ермолова производили ошеломление, но затем в отместку происходили еще более дерзкие восстания и набеги, в ответ на которые следовали новые карательные меры. В 1830-х гг., уже после отзыва Ермолова, в Дагестане и Чечне разразился газават.
Эпопея имама Шамиля предельно замифилогизирована. (Хотя наконец в 2000 г. была опубликована лежавшая под сукном со сталинских времен блестящая монография Н. И. Покровского.) Ограничимся двумя не совсем обычными наблюдениями. Именно из-за общей для горцев угрозы Ермолова и под демонстрационным эффектом русской армии имаму Шамилю впервые удалось построить в Нагорном Дагестане и Чечне настоящее государство с налоговой базой, администрацией, армией и военными поставками. Ислам, в силу исторических обстоятельств его формирования, отличается законничеством и военно-государственной практичностью – Шамиль легко находил оправдание и прецеденты своим решениям в борьбе ранних мусульман Аравии против Византии и Персии. И, во-вторых, именно благодаря структурам управления, созданным Шамилем за 25 лет восстания, России в конце концов удалось покорить этот край. В 1859 г. измученный имам сдался на условиях, напоминавших почетную отставку. Часть его последователей, превратившихся в ходе долгой войны в профессиональных боевиков, погибли либо ушли вместе со многими тысячами горцев в изгнание в турецкие земли. Но немало кадров имамата перешло на российскую службу.
Перелом в Кавказской войне обеспечил совершенно штатский граф Воронцов, прежде отстроивший Одессу и Ливадию. Новый наместник, добившись у царя особых полномочий, защищавших его от кавказских генералов и петербургских чиновников, начал с обустройства Тифлиса, открывал гимназии и давал балы для местных элит. Благодетель Воронцов не просто щедро раздавал должности и бюджетные синекуры. Его цивилизующие меры начали изменять структуры повседневности и сам менталитет грузинского и затем всего кавказского дворянства. Заниматься набегами и кровной местью стало неловко, а тем временем новое поколение уже превращалось в интеллигенцию – впрочем, с предсказуемым уклоном к революционности.
Издержки воронцовского управления дадут себя знать позднее, когда набравшиеся европейских манер дворяне наберут и долгов на поддержание нового стиля жизни. Ради тех же элит империя обделила крестьян землей, тем самым жестко ограничив пределы роста товарных рынков. Особенно обделили чеченцев, у которых князей не было вообще, зато нашли нефть, которая привлекла в Грозный массу русских и европейских специалистов.
Истоки этнических конфликтов
На Кавказе много народов и мало земли. Между 1860 и 1914 г. прекращение войн, введение новых сельхозкультур и элементарной санитарии привели к настоящему демографическому взрыву. При узости рынков и городского найма, избыток в основном молодого, потенциально активного и при этом не находящего трудового применения населения превратился в социальный динамит, который взрывался, как только имперские власти давали слабину – в 1905-м и опять после 1917 г. Это, конечно, общий диагноз царской России. А ведь на Кавказе, помимо классов и сословий, еще и много разных народностей…
Исследование истоков постсоветских этнических конфликтов в Карабахе, Абхазии, Юго-Осетии, Ингушетии и Чечне повсеместно выявляет причинно-следственные цепочки, уходящие не в самое дальнее прошлое, а к периоду 1905–1921 гг. Дело не в культурных дискурсах, этнополитике или пресловутых цивилизационных разломах. Дело в том, что под воздействием военных поражений, паралича самодержавного управления и разброда в господствующих классах империю охватили аграрные мятежи, нередко сопровождавшиеся иррациональным насилием. Механизм массовых революционных паник и избиений подозреваемых хорошо изучен на примере Франции грозным летом 1789 г. Нечто подобное видится в волнах резни, которые сопровождали стихийный передел земли на Кавказе в период русских революций.
Сложности сословного землепользования стали совершенно непонятны нашим современникам. В памяти отпечаталось лишь простейшее «они жгли наши села». Значит, будут жечь опять, если ослабнет государственный порядок, как и случилось в страшном 1989 г. Надо самим готовиться, и тут лучшая гарантия – собственные суверинетет и оружие. Такая, вкратце, схема.
Национальные же суверенитеты, как классически показал американо-армянский историк Рональд Григор Сюни, сами были результатом некогда очень успешной стратегии большевиков по совладанию с аграрно-этническим насилием. Как гласит заглавие книги Р. Г. Сюни, СССР настигла «Месть прошлых успехов».
Революция тем отличается от бунта, что находится политическое движение, способное направить энергию против своих противников и на создание нового государственного устройства. Белогвардейцы проиграли во многом потому, что ввязались в борьбу на многих фронтах – против красных, против национальных формирований и всевозможных «зеленых». Соответственно, красные победили потому, что смогли увязать классовые и национальные конфликты и направить их против белых, а затем институционализировать национальности посредством республик и коренизации кадров.
Осенью 1918 г. деникинцы гнали с Кубани и Терека воспетый Серафимовичем «Железный поток». Часть разгромленных красных укрылась в горах Чечни и Ингушетии, где товарищи Киров и Орджоникидзе вступили в удивительный диспут с местными исламскими авторитетами на тему соотношения социальных учений Карла Маркса и пророка Мухаммеда. Итогом стало и вовсе удивительное богословское постановление, или фатва, признавшее рабоче-крестьянский красный полк под командованием тов. Николая Гикало армией газавата. Помогло и то, что деникинцы перед выступлением на Царицын для острастки смели артиллерийским огнем десяток чеченских и ингушских сел, враждовавших с терскими казаками из-за земли. Когда в 1919 г. белым оставалось едва сто верст до Москвы, Деникину пришлось отпустить терцев домой для борьбы с красно-зелеными (мусульманскими) партизанами. Так начался стремительный откат деникинской Доброволии.
Мобилизующая травма геноцида
Сталинская диктатура предала вайнахов, как предала их ельцинская демократия. В 1919 г. чеченцы и ингуши воевали за советы, потому что социалистическая Россия обещала превозмочь участь, постигшую их предков в Кавказской войне. В 1991 г. с демократической Россией связывали надежду превозмочь последствия сталинской депортации. Летом 1991 г. за Ельцина в Чечено-Ингушетии голосовали так же единодушно, как в его родном Свердловске.
По мудрым словам Чеслава Милоша, малые нации остро ощущают, насколько легко они могут исчезнуть. Это чувство достигает запредельной остроты у наций с трагическим прошлым. При наличии организационно-военных ресурсов, оно может стать мощнейшим фактором – как у армян, абхазов, южных осетин, или вспомним становление Израиля. Однако крайние эмоции легче мобилизуются крайними политиками.
Сталинская коллективизация столкнулась с особым сопротивлением чеченских крестьян, для которых кинжалы, винтовки и исламско-клановая солидарность служили залогом земельной собственности и самостоятельности. Но жестокая ломка тридцатых предоставила многим чеченцам и совершенно новые возможности войти в современность. Отсюда и противоречивость их реакции – под угрозой ареста комсомольцы и бывшие партизаны бежали в горы к родне. Одни становились абреками, другие писали отчаянные письма Сталину. С точки зрения ОГПУ, все это было повстанчеством. По горькой иронии, эмигрантский политолог Авторханов, а за ним и ичкерийские идеологи, оказались не менее заинтересованы в преувеличении антисоветского духа. (Молодые американские историки недавно показали, что сам знаменитый эмигрантский историк Абдурахман Авторханов во время коллективизации, вероятно, служил в органах, во всяком случае по должности имел доступ к сводкам ОГПУ.)
Трудно понять, как на самом деле рассуждали Сталин и Берия, высылая кавказские народы в 1944 г. Военной угрозы в тылу уже, безусловно, не было. При катастрофе фронта в 1942 г. немцам удалось завербовать несколько тысяч чеченцев, но им удалось также завербовать несколько миллионов среди русских и других национальностей СССР. Куда больше чеченцев сражалось в Красной армии геройски, как истинные горцы. Вероятно, Сталин решил упростить традиционно сложное управление Кавказом и заодно переместить рабочую силу на казахстанскую целину. Людские потери он считал издержкой модернизации.
Высылка 1944–1957 гг. оказала на вайнахов еще более противоречивое воздействие, чем коллективизация. Потеря трети населения сопоставима с геноцидом, даже если такой задачи не ставилось. Насильственная модернизация, напротив, укрепила в подполье религиозно-клановые структуры и задала стойкое отторжение от государства и его законов, особенно в маргинальных слоях. С другой стороны, в ссылке чеченцам пришлось овладеть современной техникой, профессиями, русским языком. Во многих семьях вспомнят русского железнодорожника, бросившего буханку хлеба в вагон, или раскулаченного казака, поделившегося шубой в страшную первую зиму. В девяностые годы в дудаевском Грозном одну из площадей назвали именем Хрущева. Так чеченцы объясняли себе, что Сталины приходят и уходят, а с русскими предстоит жить рядом.
Национальная революция
Из всех областей РСФСР только в Чечено-Ингушетии номенклатурная власть была свергнута восстанием. Взрывной потенциал был полностью обусловлен институциональными (на уровне органов власти), психологическими (загнанная внутрь трамва) и социальными (безработица на селе, отчуждение от советской законности) последствиями депортации.
В 1944 г. было выслано четверть миллиона человек, по оценкам демографов, до четверти из них погибло, но в 1957–1962 гг. в восстановленную Чечено-Ингушетию вернулось более трехсот тысяч человек. Видимо, сработала компенсаторная рождаемость, которой люди отвечают на страшные потери предшествующего поколения. К 1991 г. численность чеченцев перевалила за миллион при значительном преобладании сельской молодежи. Городские чеченцы по стилю жизни и, соответственно, рождаемости в 1–2 ребенка на семью уже приблизились к современной европейской норме, но за пределами городов и элитных групп продолжался демографический переход. (С мобилизационной точки зрения аналогично обстояли дела среди русских в 1900–1950 гг., когда население быстро усваивало современное образование и навыки, но еще сохранялся молодой и мощный людской потенциал для революции, индустриализации и войн.) Структура занятости в Чечено-Ингушской АССР не справлялась с притоком рабочей силы, при этом капвложения, особенно на селе, хронически недовыполнялись. Ежегодно по 20–40, если и не все 100 тыс. мужчин уходили на шабашку, в основном на стройки знакомых по ссылке Сибири и Казахстана.
Отходничество существовало в горах всегда. В патриархальных условиях Кавказа бездельному мужику не дадут запить, а заставят добывать средства на дом любым промыслом, пусть не самым законным (повторяю, депортация подорвала представления о законности, одновременно укрепив традиционные стратегии выживания). Это объясняет явное несоответствие между добротными современными домами, которые росли в чеченских селах в мирные 1960–1980-е гг., и официальной статистикой, по которой сельская Чечено-Ингушетия делила последние в СССР места с Таджикистаном.
Летом 1991 г. чеченские шабашники вдруг обнаружили, что им некуда ехать – союзная экономика разваливалась. Многие из них в конце августа оказались на площадях Грозного в толпе, слушавшей речи генерала Дудаева о независимости и собственной нефти, которые с лихвой заменят шабашку.
Город Грозный стоял особняком, что создавало другой источник напряженности. В период послевоенного восстановления и далее бурного промышленного роста пятидесятых годов чеченцы пребывали в ссылке, после которой они обнаружили, что городские должности и жилье уже распределены среди русскоязычных поселенцев. Среди грозненских русских довольно многие, в том числе в партаппарате, вполголоса оправдывали свои привилегии сталинской риторикой о ненадежности чеченцев, что сыпало соль на раны. До 1989 г. чеченцев редко допускали на первые должности, а в населении Грозного их доля составляла 17 % при 54 % от общего населения республики. Чеченские партийцы писали в Москву о вопиющем нарушении ленинской национальной политики, но по брежневской практике Москва спускала жалобы местным парторганам.
В перестройку первым секретарем наконец-то стал чеченец Доку Завгаев. Но чеченской номенклатуре не хватило времени, чтобы закрепиться и пережить бурю 1991 г., как пережили ее номенклатуры Татарстана, Дагестана, Кабардино-Балкарии и прочих автономий, где по ходу выстраивались патронажные механизмы внутриполитического контроля и перераспределения экономических активов и шла торговля в понятном аппаратном стиле с коллегами в Москве.
Как и повсюду в Восточной Европе, авангард революции составила интеллигенция, технические кадры и управленцы среднего звена, которые выросли из социалистической модернизации. Начиная с хрущевской оттепели, эти субэлитные группы мечтали о творческой автономии, более эффективном применении своих навыков, доступе к мировой культуре, управлению производством и самим государством. Демократизация возникла как программа преодоления несоответствия растущего статуса и важности образованных слоев их грубому подчинению партийному чиновничеству.
Среди чеченских лидеров 1991 г. не было ни одного крестьянина или богослова, зато были инженеры, преподаватели, провинциальные поэты, актеры, журналисты, бывшие милиционеры и генерал Дудаев. Он сыграл в Чечне роль, поразительно похожую на роль Ельцина – оба, в детстве испытав невзгоды, поднялись по советской служебной лестнице; оба пользовались репутацией требовательных, даже грубых начальников, способных, однако, преодолевать трудности; и оба зарвались в своих амбициях, когда перестройка ослабила элитные ограничения. Изгнанные из номенклатуры Дудаев и Ельцин обрели новую платформу в оппозиционной интеллигенции, которой недоставало статусных фигур, способных к твердому лидерству и популистской риторике. Оба революционных лидера, неожиданно ставшие президентами, разогнали парламенты, где собрались многие из их бывших интеллигентских союзников, и окружили себя силовиками и доверенными бизнесменами, тем самым повернув в типичный постреволюционный бонапартизм. Оба верили в удачу и практиковали конфронтационный, кризисно-командный стиль. В геометрии параллели не пересекаются, однако нельзя сказать то же самое о политике.
Как и повсюду, передел власти и собственности в Грозном привлек кооператоров перестроечной поры, ловких проходимцев и силовых предпринимателей, которых тогда называли рэкетом. Их роль невероятно преувеличена и демонизирована. Конечно, они поставили на кон финансовые и силовые ресурсы, которые особенно необходимы для захвата власти в отсутствие революционной партии. Но все же главное то, что в Чечне имелась масса социального динамита и острое желание наконец преодолеть стигму гонимого народа. Любая революция – это взрыв. Иное дело, куда пойдет его энергия и кто оседлает хаос. А может статься, что с хаосом не совладает никто.
Война
Теория Артура Стинчкомба обобщающе определяет революции как периоды, когда властные позиции меняются резко и непредсказуемо. Революции завершаются, когда степень политической неопределенности понижается путем заключения достаточного числа сделок и соглашений, вписанных в политические структуры, которые способны обеспечить выполнение соглашений. По Стинчкомбу, следующие виды режимов могут завершить революцию: консервативная реставрация (по-французски Термидор), национальная независимость, оккупационное правление, тоталитарная диктатура, демократия и, наконец, более всего известный по Латинской Америке каудильизм, при котором главный предводитель (caudillo) заключает личные неформальные сделки с местными предводителями в обмен на предоставление им свободы править по собственному усмотрению.
Получается, что чеченская революция так и не завершилась. Реставрация старого порядка имела место, к примеру, в Кабардино-Балкарии под властью Валерия Кокова после серии революционных событий, до определенного момента очень походивших на чечено-ингушские. Подобная реставрация в Чечне провалилась минимум дважды. Осенью 1991 г. крайне сумбурное вмешательство Ельцина и Руцкого дискредитировало попытку чеченской номенклатуры вернуть себе власть. Летом 1994 г. промосковские «контрас» Умара Автурханова проявили себя и слабее бойцов бонапартиста Бислана Гантамирова, и никудышними политиками против жаждавшего вернуться во власть Руслана Хасбулатова.
Тем временем Дудаев не добился ни признания независимости, ни эффективной диктатуры. В принципе, он стоял на пути, типичном для режимов догоняющего развития стран Третьего мира в 1940-е – 1960-е гг. Но, в отличие от Насера, Сукарно, Каддафи или Фиделя Кастро, Дудаев более не мог рассчитывать на антиимпериалистические союзы, советскую помощь и поэтому не смог провести национализацию ресурсов, создать армию и далее править сочетанием пропаганды, репрессий и популистской экономики.
Во многом по тем же причинам плюс при активной поддержке Дудаева наименее образованной частью чеченцев, не прошла и демократизация, которую пыталась осуществить интеллигенция и управленцы в период революции 1991 г. и еще раз во время парламентского противостояния весной 1993 г. Современные элиты Чечни были физически расформированы и превратились в беженцев.
Оккупационное правление 1995–1996 гг. со вторым пришествием Завгаева не имело шансов ни против патриотического сопротивления чеченских низов, ни против российского генералитета, который никак не считался с промосковскими чеченцами, чем выставил их никчемными марионетками.
В межвоенные 1997–1998 гг. Аслан Масхадов мог создать нечто подобное аушевскому «просвещенному военному деспотизму» в Ингушетии, если бы смог вернуть образованные кадры и найти ресурсы для демобилизации боевиков. Масхадов намеревался создать при грозненском университете «бойфак» для переобучения боевиков, но когда декан спросил его о средствах на зарплаты и стипендии, не говоря уж о рабочих местах, услышал в ответ лишь горько-ироничное предложение ввести ранг бригадного генерала Ичкерии ради пущего уважения среди такого рода студенчества. Даже Басаев одно время собирался в Буденновск просить прощения, но когда – очень вскоре – полностью выяснилась его несостоятельность в качестве министра, ушел обратно в свой чегеваровский образ жизни и ударился в международный исламизм (который сам ранее высмеивал). Мы вряд ли выясним, какова здесь вина московских интриг того времени, самого Масхадова и общего ослабления государственности. Но шанс упущен.
С 2000 г. в Чечне начал оформляться кадыровский каудильизм под опекой России. Поначалу казалось, что клин вышибается клином, как некогда удалось замирить Чечню благодаря доставшимся от имамата Шамиля наместникам-наибам, судьям-кадиям и сельским старостам-мухтарам. Но, очевидно, пореформенная царская Россия 1860-х гг. была более сильным и динамичным государством, чем Россия нынешняя.
Да и победили царские покорители Кавказа не одной лишь силой новых штуцерных винтовок и милютинской военной реформой (хотя это, конечно, сыграло свою роль) и уж никак не ермоловскими экзекуциями. В не меньшей степени самодержавие достигло успеха, интегрируя и оцивилизовывая кавказские элиты на европейский манер – по-воронцовски.
Советская власть добилась еще более впечатляющих успехов, несмотря на сталинскую кровавую паранойю и брежневское парадное лицемерие. Если бы Советский Союз существовал по сей день, Дудаев жил бы в отставке где-нибудь в Прибалтике, Масхадов руководил бы ленинградским военкоматом, Удугов редактировал бы «Грозненский рабочий», Яндарбиев распределял бы путевки в дома творчества по линии Союза писателей, Ваха Арсанов и Арби Бараев служили бы в ГАИ и, как водится, брали в заложники водительские права, а Басаев руководил бы совхозом у себя в Ведено, если бы не сидел в тюрьме за хулиганство.
Урок данной утопической картинки в том, что военной победы в Чечне не будет. Даже если на место покойного каудильо Кадырова подыщется новая сильная личность, будет продолжаться политика посредством вендетты на манер вечной колумбийской виоленсии – таковы правила конкуренции в рамках этого типа власти. Мир наступит только тогда, когда Россия нарастит на Кавказе обывательские структуры повседневности. С ними придет и закон.
О национальной гордости грузин
В БУРНЫЕ перестроечные времена довелось оказаться за настоящим грузинским столом, с изысканным тостованием, сациви, «Боржоми» и «Киндзмараули»[4]. К середине банкета, когда каждый присутствующий уже узнал о себе от радушного тамады столько лестного, что оставалось покраснеть и почувствовать мощный прилив дружеских чувств, слово взял один из уважаемых присутствующих. Поднимая бокал божественного напитка, говорил он задумчиво, с расстановкой: «Если бы каждая нами выпитая бутылка… продавалась не за… три… советских… рубля… а хотя бы… за десять… долларов!». Заметим, речь шла не об экономических реформах, а о элементарном переводе на иностранную валюту монопольной аграрной ренты, классическим примером которой как раз и служит престижная надбавка в виноторговле. Но черт же дернул встрянуть со своими наивными учеными пожеланиями успеха в конкуренции с традиционными французскими и итальянскими марками! Сидевший напротив грузин, неожиданно помрачнев, поставил свой непригубленный бокал на стол и процедил леденяще: «Ты полон имперского менталитета».
Более чем непросто рассуждать о Грузии, где переход от любви к ненависти происходит мгновенно. Тем более мне, родившемуся в России армянину, чьи предки со времен краха Крестовых походов многие поколения обитали в той части горной Аджарии, которая после 1921 г. отошла Турции. И тем более сегодня, когда между близкими мне, да и всем нам, странами идет ожесточенная холодная война на грани чего-то еще худшего.
Чего стоит сегодня проехать из Еревана в Тбилиси на машине… У пограничной деревни Садахло (населенной, кстати, этническими азербайджанцами) армянский таксист прощается и передает вас в руки своего грузинского напарника, который уже ждет по ту сторону шлагбаумов. Проходите через армянских пограничников, одетых в советскую форму, только с национальными кокардами, и попадаете к грузинам, одетым в американскую форму, только с национальными кокардами. Такой вот постмодернистский симулякр чекпойнта «Чарли» между восточным и западными секторами Берлина.
И все-таки необходимо попытаться рассуждать рационально, поскольку географию изменить, увы, можно. Однако в отношениях между соседними народами изменения географии оборачиваются трагедией этнических чисток. Нашему поколению, пережившему распад СССР, должно хватить опыта, чтобы рассуждать и действовать рационально.
Древности
Начнем с легендарного вина. Неточен рекламный слоган, будто грузинскому виноделию три тысячи лет. По данным моего чикагского коллеги археолога Адама Смита, одомашнивание виноградной лозы началось на Южном Кавказе как минимум пять тысяч лет назад.
Были ли это предки грузин? Видные лингвисты Тамаз Гамкрелидзе и Вач. Вс. Иванов показали, что в индоевропейских языках само слово «вино» (армянское гини, греческое инос, латинское vino, древнегерманское Wein), вероятно, образовано из заимствованного грузинского слова гхвино. Оговоримся сразу – лингвистические реконструкции небесспорны, а древнегреческие путешественники по территории западной Грузии упоминают, что местное население варило экзотическое для греков пиво. И все-таки заявка на грузинский приоритет в виноделии серьезна.
Некогда считалось, что грузинский язык может быть родственным языку пиренейских басков, но эта гипотеза не подтвердилась. Однако бесспорно, что грузинский язык присутствует на Кавказе как минимум с бронзового века и составляет самостоятельную языковую семью, наряду с индоевропейскими, афразийскими (семитскими), тюркскими или финно-угорскими языками. В этой картвельской семье всего несколько языков: собственно грузинский (картули), языки мегрелов и лазов, соотносящиеся с картули примерно как русский с украинским и болгарским, и намного более удаленный, примерно как литовский от русского, язык горных сванов.
Райски благодатны долины и холмы Грузии. Но что это означает геополитически? С одной стороны высится стеной Кавказский хребет, прикрывающий страну от холодных северных ветров и от степных нашествий. С другой стороны – труднопроходимое Армянское нагорье. Широкий путь открыт лишь со стороны степей нынешнего Азербайджана и, на западе, с Черного моря. Этим и определялась региональная геополитика на протяжении двух тысячелетий. С востока давили древний Иран, сменивший его Арабский халифат и затем средневековая Персия. С запада им противостояли греки-римляне-византийцы и, наконец, турки-османы. Местным правителям оставалось бесконечно маневрировать, отстаивая свои феодальные притязания попеременно под покровительством той или иной внешней силы, и одновременно воевать между собой за спорные территории. Как грустно заметил уважаемый эмигрантский историк Кирилл Туманов, «битвы те продолжаются и поныне – на страницах трудов национальных историков».
Вот вам несколько примеров того, насколько отличался длительный алгоритм феодального соперничества от современных представлений о национальной гордости. Церковно-грузинский алфавит появляется в надписях с V в. н. э. Он совсем не похож на греческий, хотя отдаленно напоминает армянский и сирийский алфавиты. Многие армяне почитают самоочевидным, что монах Св. Месроп Маштоц, создав армянскую письменность, по-братски помог и грузинам. На что, однако, нет никаких достоверных указаний. Армянская церковь в те далекие времена находилась под сюзеренитетом сасанидского Ирана, где официальной религией был зороастризм (или, в просторечии, огнепоклонничество). Для сохранения христианства и, соответственно, особого статуса в пределах Иранской империи, армянам никак нельзя было идентифицировать себя с византийским православием, тем более что христианство в Армению пришло непосредственно из Сирии, а не от греков.
Грузинское же православие возникает в византийской орбите, однако столь удаленной, что оказалось возможным с самого начала утвердить грузинскую самостоятельность изобретением собственного алфавита. Подсказал ли этот шаг прецедент Месропа Маштоца? Вполне вероятно. Был ли сам Св. Месроп или кто-то из его учеников автором грузинского алфавита? Этого мы скорее всего не узнаем никогда, да и зачем по большому счету?
Сколько пролито чернил, если не крови, доказывая национальную принадлежность того или иного древнего правителя, крепости, собора или нынешнего грузинского флага с пятью крестами! Однако крепости занимали все, кто стремился контролировать территорию вокруг них, соборы восстанавливали и перестраивали неоднократно во славу очередных дарителей. Династические браки приводили к такому смешению, что совершенно пустое дело спорить, была ли династия Багратуни/Багратиони армянской или грузинской, а абхазские/грузинские цари настолько регулярно женились на хазарских и печенежских царевнах, что, скорее всего, имели монголоидные черты лица, и неизвестно еще, какой язык воспринимали от матерей – может статься, и тюркско-кипчакский.
Еще один выдающийся пример. В 853 г. Арабский халифат направил войско под командованием тюркского наемника по прозвищу Аль-Кебир покарать мятежного эмира Тбилисского. К тому времени Тбилиси уже почти два столетия был исламским эмиратом, и вполне мог остаться эмиратом, как и еще более древний Дербент в соседнем Дагестане. Но к карательной экспедиции Халифата тогда примкнул армяно-грузинский отряд местного воеводы Баграта. Дотла разорив город и казнив эмира вместе с его двором, Баграт утвердил собственную династию – и тем самым навсегда предотвратил превращение Тбилиси в центр исламского государства.
Апогей грузинской монархии наступил при царице Тамаре (1184–1212). Это ее воспел в стихах Шота Руставели, один из удивительных поэтов Средневековья, стоящий в одном ряду с Данте и Чосером, а также Низами и Фирдоуси. Только не ищите в строфах «Витязя в тигровой шкуре» каких-либо реалий Грузии. Действие поэмы перенесено в мифологизированную Аравию, а деяния и мысли героев суть синтезированная аллегория рыцарства Запада и суфийской мудрости Востока.
Что же до реальной царицы Тамары, этой незаурядной женщине прежде пришлось победить грузинского Католикоса Микела и не только развестись с навязанным ей русским мужем (кстати, сыном Андрея Боголюбского), но и выдержать гражданскую войну, в которой западногрузинская знать поддерживала пришлого несамостоятельного мужа против своей грузинской супруги.
Подобных примеров еще множество. Один грузинский князь успешно воюет у Петра I против турок и шведов, пока его родной брат во главе персидского войска геройски обороняет Кандагар от афганских племен. Или генерал от инфантерии грузинский князь Цицианов, убитый в 1806 г. при необдуманной попытке взять с налета Баку. Все это не примеры двурушничества. У феодальной политики, повторяю, собственные алгоритм и этика, не укладывающиеся в современные национальные представления. Впрочем, сходные алгоритмы воспроизводятся и сегодня, когда постсоветский Кавказ постигла катастрофичная демодернизация.
Под сенью дружеских штыков
Позднее средневековье длилось в Грузии вплоть до российской аннексии в 1801 г. Предшествующие столетия были для Грузии совсем мрачными. После 1500 г. на Ближнем Востоке оформляются две новые мощные империи – османская Турция, где официальной верой провозглашен суннитский ислам, и Иран, восстановленный шиитской династией Сефевидов. Два исламских тяжеловеса вступают в жестокую двухсотлетнюю войну, буквально раздирая и вытаптывая Кавказ.
В 1610–1620-х гг. персидский шах Аббас планомерно выжигает восточные области Армении и Грузии, чтобы устроить барьер туркам. При этом местное христианское население вырезалось либо депортировалось во внутренние области Ирана. В Араратской долине практически не остается армян, а потери Грузии оцениваются в две трети населения – такого не достигали ни Сталин, ни даже Пол Пот в Кампучии. Французский путешественник Де Шарден, проезжавший через Мегрелию в 1670-е гг., насчитал там всего 20 тысяч совершенно разоренных обитателей.
Среди таких катастроф деморализация местных феодальных элит доходит до баснословных низостей. Чего стоила усобица мегрельского князя Дадиани с родным дядей, владетелем Абхазии, чью жену он возжелал. Множество грузинских дворян и даже царей принимает ислам, стремясь заслужить привилегии у иноземцев. Собственных крестьян массами продают в рабство туркам, поскольку в разрушенной экономике это оказалось самым выгодным делом. Даже храбрый и харизматичный рыцарь Георгий Саакадзе, герой патриотического кинофильма сталинских времен, в реальной истории переходил на службу к персам, тем самым спасаясь от грузинских придворных завистников, затем бежал от персов, узнав из перехваченного письма о грозящем ему убийстве, и начал партизанскую войну с опорой на народные массы (фактически стал благородным разбойником), поскольку больше никому доверять не мог. Потерпев в конечном итоге поражение, Саакадзе бежал к туркам, где был казнен как слишком опасный перебежчик.
Даже когда к началу XVIII в. иранская держава выдохлась в бесконечных войнах и отдельным грузинским царям удавалось возобновить собирание земель, результаты оставались эфемерны. Все целиком зависело от личности правителя, который неизбежно старел или погибал. В Картли-Кахетии, Имеретии или Менгрелии совершенно не было аппарата чиновников. Цари этих областей сами издавали указы, вершили суд, водили войско на войну, нередко лично объезжали села, собирая подати через местных князей. При этом каждое восстановление шахской власти в Иране грозило Грузии очередной катастрофой – в последний раз в 1795 г., когда от Тбилиси оставили пепелище.
Идея заручиться помощью России постоянно витала с 1550-х гг? когда войско единоверных православных утвердилось в Астрахани и вышло на подступы к Дагестану. Впервые в истории на Кавказе появилась третья имперская сила, причем пришла она с севера, поборов традиционную и для всех кавказских народов угрозу степняков.
Однако давайте рассуждать трезво. Московиты зачитывались мифическим «Сказанием о царице Динаре» (т. е. грузинской Тамаре), поражаясь, что за басурманскими землями, оказывается, сохранились православные царства. Русские послы, навещавшие Грузию со времен Ивана Грозного, неизменно преувеличивали союзнический потенциал кавказских христиан, и еще более – возможности самой русской державы. Но взгляните на карту. Кавказ высится неприступной стеной, которую крайне трудно преодолеть даже сегодня. Если вам не доводилось любоваться суровыми красотами Дарьяльского ущелья или древней Дербентской крепостью, запирающей горловину между отрогами дагестанских гор и пустынным берегом Каспия, припомните хотя бы сочинские пляжи. И прикиньте, можно ли по этим узким, зыбучим пляжам протащить обоз с пушками. Учтите, что вы при этом более не видите малярийных болот, осушенных при советской власти. Не зря декабрист Бестужев-Марлинский, сосланный в Гагрский гарнизон, заклеймил те места «проклятой теплой Сибирью».
Россию постоянно обуревали внутренние проблемы. Иван Грозный среди Ливонских войн и опричнины не мог отрядить достаточно стрельцов на выручку единоверным грузинам. Что говорить о Смутном времени, когда в Грузии боролся Георгий Саакадзе? Войско Петра в 1722 г. действительно входило в Азербайджан почти без боев – потому что именно в тот момент афганским племенам удалось захватить сефевидскую столицу Исфаган. Однако к концу петровского правления Россия была разорена не столько шведской войной и реформами, сколько безумным проектом строительства новой столицы на Неве. Вдобавок традиционный соперник Ирана, турки, сами стремились заполнить геополитический вакуум на Кавказе и грозили отрезать русские войска от тылов. В тот раз армянские князья-мелики Карабаха и грузинские цари жестоко поплатились за свою готовность встретить русских – которые до них так и не дошли. Даже Екатерине на пике потемкинских побед оказалось не до спасения грузин от очередного нашествия персидских кызылбашей, ибо в самой России разразилась Пугачевщина. Затем на престоле оказался взбалмошный Павел… Честно признаем, что как в самой Грузии сегодня воспроизводится алгоритм феодальной междоусобицы, так и в России воспроизводится непоследовательность политики, чьи цели и возможности столь же бездумно преувеличиваются.
Средневековье в Грузии закончилось лишь после 1801 г. Российское самодержавие наконец стабилизировалось, а Грузии, надо признать, очень помог географический факт расположения ее столицы на другом конце единственного пути через Кавказский хребет, который стал называться Военно-грузинской дорогой. В принципе, центр российской администрации мог оказаться и где-нибудь в карабахской Шуше, поближе к новым границам, либо наоборот, в Ставрополе или Моздоке. Но у Тифлиса (как стал называться тогда Тбилиси) было все же явное стратегическое преимущество.
Знаменитого очарования, однако, в Тифлисе еще не было. Русские офицеры сетовали на скуку и одичание столицы нового наместничества. Последнее персидское нашествие на поколение оставило город в развалинах, населенным по сути беженцами и погорельцами, притом на 90 % армянами. Османо-персидские войны объясняют печальный парадокс, что в то же самое время население Еревана на 80 % состояло из мусульман, чьих потомков уже в советские времена назовут азербайджанцами.
Приток армян начался еще в XI в. и продолжался по мере того, как христианское население вытеснялось завоевателями с Армянского нагорья. Грузинские цари обычно приветствовали таких беженцев и даже специально для них отвели город Гори. Горожане-армяне занимались ремеслами и торговлей, платя грузинским царям неплохие налоги. Но для грузинских крестьян и мелкого дворянства армяне выступали противной стороной на городском рынке, следовательно, хитрованами и наживалами.
Об этнических стереотипах лучше всего говорить без политкорректного стеснения, но при этом не сходя с рационально-социологических позиций. Записки русских и европейских путешественников по Кавказу полны презрительных слов обо всех кавказских «туземцах». Конечно, многие из этих авторов, особенно не всегда уверенных в своей европейскости русских, таким образом тешили собственную принадлежность к просвещенной современной элите. Наблюдается, тем не менее, четкое отличие в характеристиках тифлисских армян («сноровистые, оборотистые, хитрые, расчетливые») и грузин («беспечные, веселые, ленивые, суеверные»).
Конечно, простодушных и косных армян в избытке можно было наблюдать там, где еще сохранялись армянские деревни и традиционный сельский уклад. Откройте хотя бы «Раны Армении» известного интеллигента-просветителя Хачатура Абовяна. В этническом стереотипе, как правило, происходит подмена социально-классовой роли якобы национальным характером. Тифлисские армяне были именно бюргерами-горожанами и агентами рыночных отношений, наступавших на исконный сельский уклад грузинских дворян и земледельцев. Пресловутая праздность грузин имела вполне рациональную мотивацию. Дополнительные усилия в натуральном хозяйстве, к тому же отягченном крепостничеством, чреваты завистью соседей, порождающей деревенские сплетни, мелкое воровство, а то и поджоги, и вдобавок вполне могли побудить барина увеличить оброки. Куда безопаснее слыть бедным и простодушным, как все. Известный американский крестьяновед Джеймс Скотт называет такую поведенческую стратегию «оружием слабых», по примеру бравого солдата Швейка.
Грузинское крепостничество разительно отличалось от русского необременительными и почти отеческими отношениями. Акакий Церетели не без поэтической ностальгии вспоминал детство в имении, где хозяйство фактически вела его мать, а отец только спал, ел и пил с друзьями. Обслуживало их неимоверное число поголовно ленивой челяди. Для большинства грузинских крепостных было выгоднее откупиться от барских притязаний, предложив одного из своих детей в слуги («все сыт будет»), от чего барин по традиции не мог отказаться. При этом один из крестьян согласно некоей дедовской привилегии платил годовой оброк размером всего в пол-яйца: на Пасху он торжественно являлся с крашеным яичком, тщательно его чистил, разрезал пополам и подносил дань хозяину, после чего они целовались.
Такие пасторальные картинки типичны для аграрных систем, лишенных выхода на рынок. Работы американских историков показали, что на старом Юге патриархальные отношения между плантаторами и рабами-неграми действительно имели место – но только в тех местностях и в те периоды, когда плантационное производство не сулило рыночного дохода. Раба, как и крепостного, ведь нельзя уволить. Жестокость русского (и, еще раньше, польского) частного крепостничества прямо связана с выходом на мировые рынки, когда возникала экономическая рациональность крайних степеней эксплуатации.
С точки зрения царских генералов и администраторов, крепостное право по-грузински выглядело едва не распутством. Наместничество, как любая структура колониального управления, должно было в идеале само себя содержать, если не приносить доход в центральную казну. Но как собирать налоги в стране, где до 1840-х гг. практически не было денежного обращения, а монеты, если и встречались, то турецкие? Как кормить армию, если местные крестьяне вместе со своими сомнительного статуса дворянами настаивают по какому-то своему обычаю на натуральных поставках кукурузы и фасоли, от которых русские солдаты могли и взбунтоваться? Как научить такой народ подлинному почитанию начальства? Добавим, что русское начальство, особенно в нижних чинах, было плоть от плоти того, что увековечено в гоголевском «Ревизоре» – у которого «рыльце в пушку» и вдова сама себя высекла. Такими вот культурно-хозяйственными коллизиями в основном и объясняются периодические восстания против установления русского владычества, которые сегодня в грузинских учебниках представляются борьбой за национальную идею.
Коренной перелом приходится на наместничество князя М. С. Воронцова в 1844–1853 гг. Завзятый англофил, баснословно богатый и оттого независимого характера вельможа, Воронцов к тому времени успел отстроить Одессу, стремительно превращавшуюся в третий по величине город империи. (Только не надо цитировать эпиграмму Пушкина из школьной хрестоматии – ссыльный поэт зло ревновал вельможу.)
Воронцов служит наглядным примером того, как в Российском госаппарате, крайне инерционном, поскольку надежнее не делать, чем отвечать потом за сделанное, все-таки случались новации. Уже престарелый Воронцов уклонялся принять от царя новое назначение, пока не получил право прямого доклада на августейшее имя, т. е. поверх всех министерств и ведомств. По прибытии в Тифлис он прославился фразой: «Ежели бы на Кавказе требовался Свод законов, то Государь бы прислал не меня, а Свод законов».
В харизматическом волюнтаризме Воронцов походил на своего раннего предшественника генерала Ермолова, но на этом сходство между кавказскими наместниками заканчивается. Ермолов практиковал образ звероподобного вояки, презирающего полумеры и притом не лишенного солдатского юмора и даже светского шарма. Ермоловские шуточки и афоризмы сотнями переписывались в альбомы юных дворян и дворянок. Благо не было тогда журналистов и правозащитников, способных донести информацию о военно-карательной стратегии Ермолова. Несмотря на местные успехи в подавлении восстаний, именно ермоловское скоординированное удушение горцев в конечном итоге спровоцировало в ответ не менее скоординированное и жестокое восстание Шамиля.
Воронцов же первым делом разрешил проводить в Тифлисе традиционный карнавал (запрещенный было русскими священниками по подозрению в язычестве), начал ремонтировать мостовые, открывать школы, устраивать балы, привез театр и, главное, щедро раздавал местной знати чины и должности. К началу Крымской войны в 1853 г. (когда Воронцов подал в отставку, поскольку военным министром недружественной Великобритании служил его родной племянник), самый тепло вспоминаемый в Грузии русский начальник мог твердо заверить Николая I в преданности грузин. В самом деле, единственный фронт Крымской войны, где России удалось одержать победу – Западная Грузия, оборонявшаяся грузинским ополчением и даже партизанами в тылу турецкого десанта. Нынешние школьные учебники истории Грузии по стилю недалеко ушли от кондовых советских образцов. В них лишь переставлены знаки – присоединение к России вместо навязчивого «прогрессивного фактора» стало угрозой национальному духу. Идеологические нестыковки в этих учебниках тоже вполне знакомые и забавные. Те самые грузинские аристократы, которые в 1832 г. составляли тайное молодежное общество для освобождения родины путем убийства всех русских в Тифлисе, буквально через две страницы с гордостью показаны зрелыми мужами в мундирах русских генералов.
Крайне важно осознать, что Воронцов не купил грузинскую знать – в отличие от персов и турок, он сумел подвергнуть этот слой тому процессу, что германский социолог Норберт Элиас назвал «оцивилизованием». Воронцовские балы, школы, сама застройка города коренным образом изменили структуры повседневности и социального сознания. Для кавказской аристократии становится попросту зазорно наряжаться в стародавнее платье персидского образца, не пускать дочек на балы или заниматься феодальными набегами и поставлять рабов туркам. Теперь надлежало продвигаться на дворянской службе или заниматься в имениях оцивилизованием на французский манер дедовской виноградной лозы, изобретая по ходу сортовые рыночные брэнды «Саперави» или «Александрули».
У воронцовского переустройства бытового сознания была и обратная сторона. За девять лет его правления на Кавказе долги дворянства Тифлисской губернии выросли со 100 тысяч до 1,8 миллиона рублей. Содержать городские особняки, ходить в театр и заказывать французские платья оказалось совсем не то, что пировать у себя в деревне. Деньги в основном уходили к армянским купцам, которые тем временем стали выбираться за товарами не только на Нижегородскую, но уже и на Лейпцигскую ярмарку. Сама Грузия при этом производила крайне мало товаров (кахетинские вина начали выходить на рынки как раз к 1914 г.) Расходы на дворянское престижное потребление покрывались за счет жалования на русской службе и стремительно растущих долгов. Так что коллизия в основе сюжета товстоноговской постановки «Ханумы», когда разорившийся князь вынужден искать себе армянскую невесту с приданным, типична для второй половины XIX в.
Американский социолог Джек Голдстоун, виртуозно анализирующий процессы, приводившие к революциям в Европе в эпоху Раннего нового времени, показал, насколько был важен фактор демографического переизбытка мелкого дворянства. Когда абсолютные монархии положили конец усобицам, религиозным войнам и дуэлям, рост численности дворянства начал обгонять рост прочего населения, поскольку эта группа питалась лучше остальных. Через поколение или два дворянским детям становится все труднее находить источники существования по своим элитным притязаниям, особенно когда рядом растет конкурирующая элитная группа буржуазии. В ответ на свое «оскудение», дворяне, не попавшие или не желающие идти в офицерство, духовенство и чиновничество, начинают превращаться в престижных современных специалистов (адвокатов, врачей, инженеров) и в творческую интеллигенцию. Отсюда столько поэтов, романистов и особенно публицистов самого разнообразного толка, от крайне реакционных «стародумов» до самых левых прогрессистов. Этот процесс хорошо отслеживается на материалах Франции, где накануне революции 1789 г. почти полтора процента населения входило в дворянское сословие.
В Российской империи накануне 1917 г. было около 3 процентов дворянства (включая, напомню, многих, получавших звание вместе с продвижением по службе). В Тифлисе перепись 1891 г. дает 17,3 % дворянства! Конечно, это включает русских офицеров, но все равно по губернии, где уже точно было грузинское большинство, получаем 7 % дворянства. Подобные уровни притязания на благородное звание и соответствующие «чистые» занятия наблюдались только в царстве Польском с его знаменитой шляхтой. Теперь добавим к этому оскудение крестьянства, которое после отмены крепостного права столкнулось с рыночными силами, продолжая платить выкупные платежи дворянам. Крестьяне тоже переживали колоссальный демографический рост – за пореформенный период их численность более чем утроилась. А ведь на Кавказе так мало земли…
Другой социализм
Лидер грузинских меньшевиков Ной Жордания часто вспоминал потрясение от своего первого приезда на учебу в Варшаву. Хотя Польша виделась грузинским студентам страной совершенно западной, ее проблемы оказались им до боли знакомы: порывистая молодая шляхта, живущая в студенческой нищете надеждами на большое будущее для своей страны и себя во главе этой страны, скупые и хитрые еврейские коммерсанты, так напоминающие тифлисских купцов-армян, темная крестьянская масса и над всем этим – царские держиморды. Ответ – борьба за свободу! Только от кого?
Социал-демократия в условиях Грузии решала сразу четыре проблемы: давала оружие против русского чиновничества и самодержавия, армянской буржуазии, воссоединяла грузинскую дворянскую интеллигенцию с крестьянством, и, наконец, придавала национальному освобождению четкую прогрессивную ориентацию на Европу, точнее, Германию. Сочетание потрясающе сильное, тем более что грузинское крестьянство никогда не было общинным и потому оказалось более восприимчиво к европейскому индивидуализму, нежели фантазиям русских народников и эсеров. (Кстати, поэтому же в конце советского периода в Грузии так легко исчезают колхозы.) Наконец, меньшевистская платформа в РСДРП давала грузинской интеллигенции большую свободу и несколько меньший риск каторги, чем большевистская «партия профессиональных революционеров».
Успех меньшевиков в Грузии был настолько полным, что уже к 1905 г., они фактически стали массовой национальной партией. Немногим грузинским большевикам, вроде Сталина, оставалось перебираться в Баку, где удалось создать базу среди некоренных русских и армянских рабочих. Отсюда такой интернационализм будущей Бакинской коммуны, впрочем, сильно зависевшей от боевых отрядов армянских дашнаков-маузеристов.
Сегодня вовсе не принято вспоминать о революционной ситуации на Кавказе, а зря. Именно оттуда, а не из далекого прошлого, растут этнические конфликты. Кое-что полезное можно вычитать даже в официально опубликованных «Материалах к 50-летию первой русской революции», изданных в 1955 г. в столице Южной Осетии Сталинири (чего только не найдется в библиотеке Корнеллского университета!) Как-то осенью 1905 г. некий грузинский князь, прожигавший жизнь в духанах провинциального городка Гори, едет в горное село собирать платежи со своих осетинских крестьян. Крестьяне, прослышавшие о революции, платить отказываются. Князь в сердцах ударил нагайкой пожилую женщину, за что ему накинули на голову бурку и устроили «темную». Взъяренный князь скачет в жандармское управление, где русский офицер ему объясняет, что в стране революция, а у него всего несколько казаков. Тогда князь набирает в духане группу собутыльников-добровольцев и сам едет разбираться со своими крестьянами. На сей раз дело заканчивается стрельбой и убитыми, кто-то из осетин уходит в горы и становится разбойником-абреком. В 1907 г. его все-таки ловят и отправляют в Сибирь, откуда он возвращается в 1917 г. убежденным большевиком – и врагом грузин. История типичнейшая. Аналогичны каналы рекрутирования первых большевиков и в Абхазии, и в Аджарии. Детали тех поземельных конфликтов сегодня забыты или стали непонятны. Где те князья, кто помнит крестьянскую долю дедов? Однако жива самая базовая память о пролитой крови, о том, что «они убивали наших».
Гражданская война 1918–1921 гг. велась на Кавказе не между белыми и красными (грузинские меньшевики, кстати, тоже ведь считались красными), а на несколько десятков фронтов, возникших по классовым, национальным и религиозным признакам. К примеру, на Батуми, тогда важнейший нефтепорт, претендовали одновременно Грузия (потому что аджарцы тоже грузины, только мусульмане), Азербайджан (потому что аджарцы, хотя и говорят по-грузински, тоже мусульмане), Армения (нужен же Армении выход к морю), Турция (обладавшая Батумом до Русско-турецкой войны 1878 г.), Добровольческая армия Деникина (боровшаяся за «единую и неделимую Россию»), а также немцы и затем англичане, предлагавшие устроить нейтральную территорию типа «порто франко».
Западные державы, собравшиеся в 1919 г. в Париже на мирную конференцию о послевоенном устройстве мира, явно без особого умысла подлили масла в огонь. Перед лицом таких «географических новостей», как независимые Грузия, Армения, Азербайджан и Горская республика, западные дипломаты решили действовать осторожно (очевидно, надеясь, что Деникин тем временем победит) и дали кавказским делегациям ровно год на выполнение трех весьма либеральных условий их дипломатического признания: доказать исторические права, обязаться решать пограничные споры путем плебисцита и продемонстрировать контроль над своей территорией, или как это тогда называлось, «эффективную оккупацию». Конечно, историки со всех сторон принялись доказывать исторические права. Говорят, что в 1919 г. один впоследствии видный советский ученый заверял Жордания: «Господин президент, исторические доказательства будут найдены в архивах, даже если их там нет».
С плебисцитами и «эффективной оккупацией» оказалось куда трагичнее. Не имея регулярных армий, новые правительства посылали в спорные области слабо контролируемые отряды особо пылких добровольцев, которые в свой черед вербовали деревенские ополчения из крестьян своей национальности, тем самым превращая споры политические в межевые драки, погромы и резню. Масштаб кровопролития на порядок превосходил этнические войны постсоветского периода. Порой всего за два-три страшных дня и ночи гибли десятки тысяч человек.
Надо отдать должное грузинским меньшевикам. Среди кровавого хаоса им удалось создать более-менее функциональную государственность, провести аграрную реформу и заложить механизмы регулирования рынков товара и труда. За экспериментом пристально следили европейские социалисты. Каутский написал целую книгу о первом социал-демократическом правительстве (в самом деле, раньше Скандинавии), которое пошло не-ленинским путем и обходится без диктатуры. Грузия, скажете, не Норвегия или Швеция – однако чем именно? Разница в темпераменте и традициях есть важный, но скользкий фактор. Шведы тоже не всегда были мирно-нейтральным народом. Уровень промышленного развития и общего образования? Но как быть с финскими лесорубами и норвежскими рыбаками, кстати, не менее склонными к самостоятельности, чем грузины?
Разница, скорее, в геополитическом контексте. Национальные меньшевики, на удивление прочно объединив в те годы грузинское общество, имели теоретический шанс на успех. Правительство большевиков в Москве не случайно так колебалось со вторжением в Грузию в феврале 1921 г. Сопротивление могло оказаться столь же серьезным, как в Польше и Финляндии. Однако Грузия оказалась уязвима из-за невозможности решить проблему собственных национальных меньшинств. Большевики вторглись в Грузию со стороны Армении, Абхазии и Осетии.
Национальная тектоника
Академик Андрей Сахаров, в перестроечные годы заклеймивший Грузию «мини-империей», следовал логике либерально-диссидентского максимализма. На самом деле почти все западные демократии некогда были империями. Бавария запросто могла остаться вне Германии, Каталония – выйти из Испании, а двуязычной Бельгии вообще могло не быть и, похоже, скоро не будет. Национальную карту Европы кое-как упорядочила лишь Вторая мировая война, приведшая к чудовищному холокосту, переносу границ и послевоенному выселению миллионов немцев.
Советская власть консолидировала Грузию и сделала национальными ее центральные области – начиная с самого Тбилиси, откуда на протяжении всего XX в. шел отток армян в направлении Еревана и Москвы. Но советская власть не могла не консолидировать и этнические автономии на территории Грузии. Это вовсе не было хитрым умыслом Сталина, которого Ленин не зря подозревал в имперском шовинизме. Если бы Сталин мог, то, вероятно, никаких республик не было бы вообще. Но таковы оказались итоги Гражданской войны, пересмотр которых грозил ненужными потрясениями. Приоритетом советского государства стала военная индустриализация, поэтому республики остались в качестве исторически сложившихся объектов управления. Конечно, предпринимались попытки насильственно ассимилировать Абхазию, Аджарию и Юго-Осетию, в чем Берия несомненно действовал с ведома Сталина. Но даже столь небольшие и уязвимые автономии как-то сохранились благодаря упорному сопротивлению их советских элит и титульного населения. После смерти Сталина и казни Берии эти автономии взяли реванш, надолго закрепив свои привилегии в отношениях с Тбилиси.
Роль Сталина склонны преувеличивать, особенно в отношении Грузии. Диктатор был мстителен и крайне подозрителен, но далеко не всевластен. Ради сохранения власти и управления державой ему приходилось маневрировать на игровой доске мировой геополитики и собственной географии. Равно как оказалось невозможным полностью выселить из Грузии ее многочисленные этнические меньшинства (притом, что Берия очень старался), точно также и факт, что Грузия менее других республик пострадала от коллективизации, нельзя отнести лишь на счет тайного патриотизма кремлевских грузин. Попросту природа не позволяла превратить Грузию в массового производителя зерна, хлопка или чего-то другого, необходимого для армии и промышленности СССР.
С природой грузинам, конечно, повезло. Как только в послевоенном СССР начала налаживаться жизнь и возник платежеспособный спрос на фрукты, вина и места у теплого моря, Грузия приобретает воистину общесоюзные источники монопольной ренты. Очень быстро складываются теневые рынки и целые иерархии вторичных неформальных монополий: при поступлении в вуз, обращении в больницу, в любую контору. Через эти неформальные институты идет перераспределение рентных потоков, благосостояние Грузии поражает приезжих не менее гостеприимства и климата. Да и сами грузины начинают видеть в климате и своем особом положении подтверждение национального достоинства, даже избранности. Складывается нация с одной из самых высоких самооценок, под стать разве что французам.
Израильские антропологи Джерард Марс и Йоханан Альтман еще в конце 1970-х гг. провели на основе опросов эмигрироваших из СССР грузинских евреев очень интересное исследование теневой экономики в советской Грузии. Их главный вывод парадоксален: теневая экономика носила нестяжательский характер. Главной целью внезаконной экономической деятельности было обеспечение показного потребления, «умение жить красиво», соответствовать и превосходить статусные ожидания («Какой ты прокурор, если водишь позорно дешевый “запорожец”»?). Сложились и четкие иерархии соотношения престижа, доходности и рисков, связанных с различными профессиями. Наилучшее сочетание оказалось у высококлассных врачей и деятелей культуры, которых при всем уважении к их статусу, имевшем прямые финансовые выгоды, еще и подвергали ревизиям реже, чем презренных товароведов. Так, по количеству медицинских дипломов на душу населения советская Грузия опередила все страны мира. О количестве кинорежиссеров и скульпторов просто нет сравнительных данных.
Тут мы находим прямые отголоски былой княжеской культуры. Даже если непосредственных потомков дворянских родов после страшных потрясений первой половины XX в. осталось безусловно меньшинство, «воронцовская» высокая культура, стиль жизни, аристократические светскость и доблести оказали непропорционально большое влияние на формирование культуры современных грузинских горожан и даже колхозников, не говоря о ворах в законе, которых Грузия произвела намного больше любой другой республики.
Вместе с благосостоянием росло и презрение к советской власти. Казалось, от достойного европейского положения и доступа к благам отделяли только московские чиновники да пограничники. Грузины стали видеть себя нацией, избранной природой и богом, культурно под стать Италии и Франции (особенно если судить из интеллигентских салонов Тбилиси), и лишь волей злого случая оказавшейся в пределах «Совка». Фрондерство, перерастающее в диссидентсво, есть также способ утверждения статуса, когда нет политических выходов для самовыражения.
Перестройка открыла неслыханные возможности для политического самовыражения. Крайняя радикализация грузинского общественного мнения в 1985–1988 гг. объясняется как длительной латентной подготовленностью к символическому отвержению всего советского, так и динамикой внутриэлитной конкуренции за то, кто первым преодолеет цензурные ограничения и станет властителем национального сознания. Отсюда обескураживающее число микропартий, возникающих при грузинской демократизации.
Присутствие в Грузии национальных меньшинств (не только абхазов и осетин, но и целых районов, населенных этническими азербайджанцами и армянами) воспринималось как досадная случайность, если не провокация коммунистической власти, не желающей усиления грузинской нации. Однако не было «мин замедленного действия», ибо не мог Сталин глядеть так далеко вперед. Впрочем, было самоисполняющееся пророчество. В ответ на рост грузинского национального самосознания, которое меньшинства воспринимали как угрожающий шовинизм, начались контрмобилизации. Москва, утрачивавшая контроль над Тбилиси, лихорадочно искала в контрмобилизациях южных осетин и особенно абхазов рычаги давления и шантажа грузинских националистов. Но списывать все только на Москву, в чем совершенно уверено большинство грузин, было бы преувеличением возможностей центральной власти и серьезным искажением политической картины. Все без исключения автономии в тот период старались выторговать себе максимум привилегий и гарантий, поскольку центры власти ослабевали на глазах и нарастала грозная неопределенность.
Если в Москве после 1989 г. возникает двоевластие, которое, пройдя через несколько хаотических циклов, завершилось только в октябре 1993 г. разгоном перестроечного парламента, в Тбилиси возникает даже многовластие, притом все более насильственное. Какие-то силы в Москве по-прежнему пытались играть на грузинском поле, поддерживая ту или иную фигуру, но хаос достигает такого уровня, когда говорить об исполнении чьих-то планов становится по меньшей мере наивно. Удары в этой мешанине наносились со всех сторон и чаще всего мимо цели, что, увы, не делало удары менее разрушительными.
Государственность, начиная с 1801 г. насаждаемая и подпитываемая с севера, рухнула в Грузии вместе с советской властью. В Грузии как нигде в бывших республиках СССР воспрянула национальная интеллигенция, обладавшая колоссальным престижем и совокупным символическим капиталом грузинской культуры. В борьбе за влияние на народ интеллигенция практически не встречала сопротивления номенклатуры, потерявшей моральное право на власть буквально за одну трагическую ночь в апреле 1989 г., когда поддавшаяся на провокацию Москва послала войска на разгон всенощного квазирелигиозного бдения на главной площади Тбилиси. За отсутствием крупной промышленности и сильных совхозов-латифундий, директорский корпус не стал консервативным противовесом национальной интеллигенции, как это происходило в Молдове, Украине, Белоруссии или Татарстане. Хотя Грузии досталось больше вооруженных конфликтов, чем любой другой из постсоветских республик, ни одна из этих войн не виделась поводом для патриотического единения, подобно армянской войне за Карабах.
Едва возникнув, политическое поле независимой Грузии фрагментировалось по принципу внутриинтеллигентской интриги, не сдерживаемой никакими централизующими институтами. В своем бессилии и унижении грузинская интеллектуальная элита страстно обвиняла Россию, которую, в самом деле, нельзя заподозрить в беспристрастном отношении к грузинской национальной идее. Бывшим метрополиям, будь то Москва или Париж и Лиссабон, всегда очень мучительно дается потеря прежней сферы влияния. Но, рассуждая трезво, не менее травматичным для Москвы был и уход прибалтийских республик. Однако там просто ничего нельзя было поделать, потому что прибалтийские советские номенклатуры и директорские корпусы быстро заключили пакты с национальными интеллигенциями ради скорейшего вхождения в Евросоюз. Россия оказалась бессильна, как в общем-то бессилен оказался и Евросоюз перед лицом дисциплинированного лоббирования прибалтов и их внешних союзников-покровителей, США и Скандинавии.
Вслед за невероятно эмоциональным всплеском надежд на независимость и воссоединение с западной цивилизацией, грузинская нация впала в десятилетнюю депрессию. Серия проигранных войн, братоубийственные конфликты, падение производства на две трети – антирекорд среди республик бывшего СССР. Достижением выглядело уже то, что Шеварднадзе удалось одного за другим нейтрализовать националистических политиков и боевиков. На их место он вернул своих старых товарищей. Но это не было восстановлением государства, а только возвращением патронажной группы, которая некогда обитала внутри советского государства. Лишенные государственной оболочки, эти пожилые люди и их родня превратились в квазифеодальных соперников в борьбе за источники ренты. Тем временем Шеварднадзе требовался реформистский либеральный фасад, призванный обеспечить приличия и поступление западной помощи. Так патриарх грузинской интриги привез из Нью-Йорка международного скитающегося студента Михаила Саакашвили.
Восстановитель
Американский дипломат в приватной беседе поведал, как в Пентагоне узнали о том, что Грузия направляет в Ирак свои войска. Президент Саакашвили позвонил через час после объявления о будущем выводе британского контингента, когда американские военные соображали, как прикрывать брешь. Внезапное предложение трех тысяч штыков казалось им манной небесной, пока кто-то из дипломатов не спросил, знают ли они вообще, что такое Грузия? Знали не все. По ходу внутреннего брифинга, в котором впервые прозвучала мысль, что следовало бы просчитать и возможную реакцию Москвы, вдруг выяснилось, что три тысячи солдат – это вообще вся армия Грузии. Поэтому Тбилиси попросили все-таки оставить для караульной службы и на всякий случай хотя бы один батальон.
В этом весь Саакашвили, чье главное преимущество перед старой номенклатурой состоит в понимании того, как надо выбивать западные гранты. Он не марионетка и не плод спецоперации, как злопыхательски считают многие московские комментаторы. Саакашвили, которого мне довелось наблюдать в Америке еще до «революции роз», куда более амбициозный, наступательный и азартный политик, интуитивно чувствующий настроения западного истеблишмента. Да, его часто заносит. Неосмотрительно называть дорогу из тбилисского аэропорта George W. Bush Avenue. В Европе поморщатся. Но Саакшвили действовал по принципу «пан или пропал». Кстати, он сам первым триумфально проинформировал посольство США в Тбилиси о предстоящем визите их собственного президента – договорился с Белым домом напрямую.
Механизм революции ноября 2003 г. вполне понятен. Саакашвили верно уловил усталость и раздражение Запада от стареющего Шеварднадзе и его жадной, неэффективной свиты. Саакашвили совершенно точно просчитал на примере Хорватии, Словакии, Болгарии и Сербии, какова будет реакция Вашингтона и мировой прессы. Западные правительства не столько будут помогать повстанцам (хотя, конечно, дадут организационные гранты по линии развития гражданского общества), сколько демобилизуют правящий режим заявлениями о недопустимости насилия, а затем быстро признают молодого реформатора, если противостояние примет достаточно драматичный оборот. В соответствии с этим молодой повстанец из ближнего окружения и строил свой образ. Политтехнологи Михаилу вовсе ни к чему.
В политике Саакашвили противостоит Путину. Но типологически они весьма сходны. Оба – националисты и восстановители государства, борцы с сепаратизмом, оба вышли из тени патрона, которого сменили/свергли, оба разрушили прежние отношения олигархического патронажа и создали свои собственные, более «силовые» и централизованные, оба умело используют популистские тактики и добиваются невероятных рейтингов популярности, наконец, оба принадлежат к уже постноменклатурному поколению лидеров, владеющих западными языками и внутренним пониманием Запада. Остаются, конечно, явные отличия в степени самоконтроля. Но главное отличие попросту в том, что Грузия – не Россия.
Помимо всех культурно-исторических особенностей, обрисованных в данной статье, грузинский лидер не имеет ни экспортных поступлений, ни армии, способной преодолеть сопротивление сепаратистов (хотя и регулярно использует свои новоприобретенные силовые ресурсы на грани фола). Саакашвили остается превращать слабость в источник силы. Не поддается грузинская ГАИ рационализации – упразднить автоинспекторов как класс. Вымер в Тбилиси общественный транспорт – попросить голландцев помочь троллейбусами. Не поступают налоги – значит, надо добиться чрезвычайной помощи Запада на спасение многообещающей демократии и тратить эти средства в самом Тбилиси, куда приезжают западные гости и где, между прочим, начинаются все революции. Не хватает собственных дипломатических кадров – взять взаймы у Франции.
Главную ставку Саакашвили сделал на отчаянное желание вашингтонских неоконсерваторов продемонстрировать хотя бы частичный успех своей глобальной миссии по распространению демократизации, борьбе с терроризмом и, по памяти еще холодной войны, сдерживания России. Так Грузия превращается в любимого клиента, играющего на слабостях патрона. Игра безусловно рискованная, поскольку покровитель может сам вскоре скатиться с политического Олимпа. Но и у Саакшвили не безграничный лимит времени. У него нет такой эшелонированной базы власти, как у Путина.
Структурные условия, приведшие к потрясающе стремительному падению грузинской советской власти в 1989–1990 гг., затем Звиада Гамсахурдия в 1991–1992 гг. и, в свою очередь, Шеварднадзе в 2003 г., до сих пор не преодолены. Саакашвили вполне может оказаться Гамсахурдия-3 – мессианская энергия и массовый восторг на взлете, оборачивающиеся столь же глубоким разочарованием и падением авторитета власти. Парадоксальным образом, крайняя амплитуда грузинской политики задается именно подавляющим влиянием национальной интеллигенции. В Прибалтике, затем в Молдове и теперь, возможно, на Украине элементам национальной интеллигенции, проникшим во власть, пришлось выстраивать союзы с теми или иными элементами бывшей номенклатуры и новоявленных олигархов, которые поставляли экономические и административные ресурсы. Поскольку одновременно возникало несколько таких интеллигентско-олигархических блоков, им приходилось договариваться о нормализованном разделе политического поля. Сделки не самые этичные и красивые, однако так исторически и возникали по крайне мере многие либеральные демократии. В Грузии же харизматическая тотальная монополизация власти сменялась фазами столь же полной демонополизации, чреватой переворотами.
Скандал, сотрясающий сегодня Тбилиси, выявил главную слабость режима Саакашвили, которую совершенно невозможно превратить в источник силы. Ужас в том, что обвинения Окруашвили звучат правдоподобно, и не менее правдоподобно звучат обвинения, предъявленные самому Окруашвили. Выходит, за фасадом прозападных реформ и государственного восстановления действует все та же модель личной патронажной власти. Само по себе это не столь и удивительно. Конечно, об этом прекрасно осведомлены западные дипломаты и давно говорят на улицах Тбилиси. Но теперь нам явлено, что король не только голый, но и неспособен контролировать собственное политическое окружение. Покаяние Окруашвили уже мало что меняет, а скорее лишь добавляет мрачных подозрений.
В ближайшем будущем уже станет известно, сохранится ли режим Саакашвили. Скандал нельзя разрешить легальными методами, ибо независимых институтов государственной власти при лидерах типа Саакашвили и Путина быть не может. Многое в этих условиях будет зависеть от политической элиты Тбилиси, в которой теперь могут возникнуть новые претенденты на власть и спасение чести страны. Едва ли это будут менее прозападные политики, но и едва ли это будут еще более радикальные националисты и поклонники неоконсерваторов, чем азартные бонапартисты Саакашвили и Окруашвили. Если исходить из теории, что демократия есть способ нормализованного взаимного контроля меж соперничающих элит, нынешние разоблачения еще могут открыть дорогу к преодолению бонапартизма Саакашвили. Это не самая вероятная, но все-таки обнадеживающая перспектива.
Циклы неовотчинного правления (и «цветных» революций)
РАЗВАЛ правящего режима Киргизии застал врасплох даже телекомпанию CNN[5]. В прошлую (впрочем, предпасхальную) пятницу редакторы новостных каналов лихорадочно обзванивали экспертов, способных прокомментировать невнятные картинки народной стихии в Бишкеке. Отыскали, несмотря на каникулы, Андерса Ослунда, успевшего в девяностые годы побывать советником также и при некогда демократическом Акаеве. В отведенные ему две минуты телевизионного времени, Ослунд произнес знакомую литанию о прискорбной непоследовательности либеральных реформ, чиновной коррупции, авторитаризме правителей и прочих «старых дурных привычках» номенклатурного начальства. Такова, вкратце, подновленная формула «вашингтонского консенсуса»: к предписанию шоковой либерализации экономики теперь добавились морализаторские требования прозрачности бизнеса и госуправления. Как будто в образцово растущем Китае этой прозрачности вместе с демократией навалом!
Отечественные политологи, конечно, куда лучше чувствуют постсоветские реалии. Наша беда не в догматизме абстрактной веры, а в избытке его противоположности – цинизма в отношении социальной реальности всех уровней. Причастные к околополитической среде эксперты и «технологи» купаются в спекулятивном анализе элитных интриг, клановых раскладов и иностранных интересов. Эти более активные политологи ищут себе применения на рынке прикладных услуг, где конкуренция строится вокруг сиюминутных догадок (не исключено, порою проницательных) и выдвижения столь же быстро забываемых рекомендаций.
Тем временем наша академическая политология, отринув марксистско-ленинскую схоластику развитого социализма, либо все еще переваривает западную переводную схоластику развитого капитализма, либо по собственному разумению конструирует вычурные геополитико-цивилизационные схемы. Между полюсом абстрактного теоретизирования и полюсом прикладных рекомендаций у нас – пустота. Однако именно там, на стыке конкретно-политического анализа и структурно-исторической теории, возникают более плодотворные и интересные объяснения происходящего в бывших советских республиках.
Полураспад СССР: революционная ситуация без революционной перестройки власти
Вооружившись этим грубоватым компасом для навигации в разноголосье оценок, попробуем по-иному разобраться в значении киргизских событий. Во-первых, революции в Киргизии (как и в Грузии или на Украине) пока не произошло – налицо была лишь революционная ситуация, состоящая из раскола в элитах, который открыл дорогу стихийному восстанию городских масс и свержению прежнего руководства. Это типичная первая стадия, начало и пик протестов. Остается неясно, сумеет ли теперь какая-то политическая фракция консолидировать власть для действительно революционного переформирования государства и общества.
Революции, согласно ныне уже классической схеме Чарльза Тилли (на русский, увы, долго не переводившегося), начинаются внутриэлитным конфликтом верхов, затем взрываются снизу, но завершаются опять же сверху. Обычно в конце революционных потрясений приходят какие-нибудь Джордж Вашингтон, Наполеон, Бисмарк, Сталин, Франко, Де Голль, Кастро или Хомейни, способные направить развал в те или иные устойчивые институты власти. Соседство столь разных имен неслучайно – способность власти к решению исторических задач в прежние времена достигалась несколькими совершенно разными путями, от демократии до национальной независимости и диктатуры левого или правого толка.
Хуже всего бывает, когда старый режим разваливается, а новому не хватает ни политической энергии, ни материальных ресурсов.
Собственно, эта беда и постигла большинство бывших республик советского блока. Удачливее других оказались страны Центральной Европы, которые по стечению истории и географии быстро переключились с зависимости от исчерпавшей свою щедрость Москвы на зависимость от Евросоюза. Смена вектора зависимости стала их стратегией выхода из революции. Теперь в очередь на периферийное членство в европейском кооперативе безопасности и благосостояния надеются встать Грузия, Украина, даже воронинская Молдова. За ними из почти безнадежного далека, вероятно, попытается встроиться и Киргизия.
Приватизация государства
Другую стратегию выхода из революции израильский теоретик Шмуэль Айзенштадт назвал по-ученому неопатримониализмом. На латыни patrimonium означает феодальную вотчину, поэтому более по-русски было бы сказать неовотчинность.
Перед лицом развала привычных советских структур управления, новоизбранные президенты (номенклатурные начальники вроде Кравчука и Каримова либо оппозиционные интеллигенты вроде Гамсахурдии, Тер-Петросяна, Ардзинбы, Эльчибея, даже того же генерала Дудаева) использовали неожиданно на них свалившуюся независимость для выстраивания вертикалей личной власти. То, что настолько разные люди с совершенно разным жизненным и профессиональным опытом делали одно и то же, четко указывает на жесткую заданность политического курса общими историческими условиями. Вспомним, в какой отчаянной ситуации им приходилось действовать после 1991 г.: обвал плановой экономики и всплеск насилия этнического либо криминального, не имея под собой реальных партий (какая была некогда у Ленина) и описывая будущее лишь самыми общими идеологическими лозунгами национального суверенитета.
А вы думали, консолидированная эффективная диктатура – это легко?
Контроль над государством, как показывает тот же Чарльз Тилли, достигается тремя способами. В нормальных условиях – когда государство существует на прочной основе и всем кажется, что никуда оно не денется, как и никуда вам от этой власти не деться – создается кадровый состав чиновников и офицеров. Они эффективно работают при двух базовых условиях: долгосрочное надежное вознаграждение по выслуге лет (плюс, с обратной стороны, реальный риск лишиться карьеры и самой свободы в случае нарушения правил) и, как ни романтично может прозвучать второе условие, это Идея служения как некоей общей пользы. Чиновник, который может не только прожить на свою зарплату, но еще и гордиться своим трудом – самый эффективный чиновник. Вспомните знаменитое «За Державу обидно!» из уст вымышленного, но вполне правдоподобного русского таможенника в фильме «Белое солнце пустыни», либо то, что в британской традиции чиновники госаппарата так и именуются – public servants, т. е. слуги общества.
Можно обрести контроль над госаппаратом, расставив на ключевые посты фанатически преданных людей. Институт комиссаров впервые придумали не Керенский и Ленин и даже не французские якобинцы, а английский революционный диктатор Оливер Кромвель, который приставил к каждому батальону своей новой армии протестантского проповедника – для воодушевления и для присмотра за душами. Кстати, на Кавказе по тем же принципам строилось войско имама Шамиля.
Но как быть, если нет ни достаточно прочного аппарата, ни достаточно сильной идеи? Остается расставлять своих назначенцев на доходные должности в обмен на ожидание политической поддержки и доли с собираемых ими на местах доходов. Ожидания сплошь и рядом оборачивались обманами и конфликтами, поскольку доходных синекур на всех не хватало, а те, кому они достались, находили пути дальнейшего обособления в полуфеодальные уделы. Отсюда своеволие губернаторов и экономических олигархов – типичные коллизии постперестроечной эпохи.
Издержки коррупционного метода властвования
Бороться с издержками неовотчинного правления можно было по-разному. В Третьем мире типичным способом стала опора на армию. Однако армия и тайная полиция – очень опасные орудия для самого правителя. Ведь военные сами могут захватить власть. Волны таких переворотов вскоре после независимости прокатились по многим арабским и африканским странам. Очевидно поэтому в странах СНГ не предпринималось серьезного военного строительства – а в Армении, где война заставила это сделать, президент Тер-Петросян в конечном счете поплатился фактическим (пускай и «бархатным») переворотом.
Можно, конечно, полагаться на гражданскую бюрократию. Но, повторяю, чтобы сделать ее эффективной, требуется политическая воля и ресурсы для защиты и продвижения добросовестных чиновников. Значит, требуется серьезное ограничение коррупции, а это не просто сложно. Это смертельно опасно для любого правителя. Ведь придется отбирать синекуры не только у врагов, но и у друзей, и собственных назначенцев. Именно в этот момент возникает множество причин свергнуть или убить такого лидера, и мотивация подкреплена ресурсами влиятельных людей. Стоит ли удивляться, что многие правители перед лицом такой дилеммы предпочитают просто плыть по структурному течению своей истории, наслаждаясь плодами власти?
Более того, создание правового государства в современных условиях непременно порождает демократические ожидания, следовательно, власть уже не гарантирована от превратностей на выборах. А тут еще эти иностранные наблюдатели, от мнения которых может пострадать кредитный рейтинг страны, обремененной внешним долгом и зависимостью от западной помощи.
Остается полагаться на ближний круг – «семью» или собственный «клан» из земляков, приятелей, сослуживцев. В терминах мадридского двора это называлось камарилья – толпа интриганов в палате (сатara) перед опочивальней монарха.
Однако здесь поджидают свои издержки! Склоки случаются и в семьях, особенно по поводу старшинства и наследства умершего дядюшки (в данном случае, советской власти). Но потенциально куда опасней недовольство тех, кто некогда был в приближенном кругу, а затем оказался за порогом. Само по себе массовое обнищание и даже недовольство народа (вопреки догматике народников и марксистов) политически не так уж и опасны. Угнетение и нищета могут регулярно уходить в нереволюционные формы: социальную апатию, эмиграцию, рост сердечно-сосудистой заболеваемости под воздействием социального стресса, алкоголизм, мелкую преступность, распад семей, падение рождаемости и прочие социальные патологии. Все это превращается в социальный динамит только когда возникает детонатор – неподконтрольные властям религиозные проповедники, интеллигенция, организовавшаяся в революционное движение, или выпавшие из неовотчинной обоймы начальники и особенно молодые харизматические личности, которым не удается встроиться во власть.
Социолог Джефф Гудвин, пересчитавший типичные факторы всех революций, произошедших в мире с 1945 по 1990 г., показал, что чем больше концентрация личной и семейной власти, тем, соответственно, выше отчуждение среди элит и населения и, в среднесрочном плане, выше вероятность насильственного переворота. Другой известный социолог, Джек Голдстоун, показал, насколько велика была роль демографического давления во всех европейских революциях Нового времени. До тех пор пока западные общества не начали стареть, практически никто не замечал, что революции совершают преимущественно молодые мужчины, особенно те, кому не только не удается реализовать свои возросшие надежды, но даже не хватает земельных участков, ремесленных мастерских, торговых лавок или должностей, чтобы воспроизвести трудную, но прежде размеренную и знакомую жизнь своих предков, предписанную традиционными ожиданиями и практиками.
Наконец, очевидно, что все режимы личной власти подвержены старению – как организационному накоплению противоречий, так и чисто физическому износу правителей. Легендарный мексиканский диктатор дон Порфирио Диас после почти сорока лет у власти впал в старческий маразм, иранский шах в решающий момент оказался болен неизлечимым раком, филиппинский самодержец Фердинанд Маркос совершенно утратил чувство реальности и фактически отдал власть своей эксцентричной жене Имельде, нигерийский генерал Сани Абача умер от разрыва сердца, как говорят, в компании двух индийских проституток-акробаток и после принятия лошадиной дозы виагры. Поскольку же такие «султанистские» (по типологии Макса Вебера, развитой Альфредом Штепаном) режимы полностью и целенаправленно завязаны лично на Верховного, то рушатся они катастрофически быстро.
Скорое будущее СНГ
Оставим киргизстанским авторам ответить на эмпирический вопрос о том, каким именно образом потерял самообладание и власть бывший академик и перестроечный демократ Аскар Акаев. Объективно в Киргизии сложились все условия для восстания – власть Акаева запуталась в семейных делах и начала проявлять склонность к патетической мегаломании, гражданские управленцы и силовики утратили стимулы к подчинению, оказавшиеся за порогом власти бывшие соратники и соперники Акаева вывели на улицы свои собственные группы поддержки, и тогда плотину прорвали потоки сельских или недавно сельских парней, та самая демографическая масса, у которой не просматривается никаких приемлемых перспектив в постсоветской жизни. Добавим, что государство, бюджет которого в последние годы почти целиком зависел от иностранной помощи, не могло проявлять особой самостоятельности и пойти, с одной стороны, на отмену выборов, а с другой – наверняка не получило внешней санкции на применение силы.
Наконец, есть ли закономерность или даже злой зарубежный умысел в раскручивающейся серии однотипных восстаний в Грузии, Украине, Киргизии (добавим сюда неудавшиеся попытки в Азербайджане, Армении, и полууспех в Абхазии)? Несомненно, есть внешняя составляющая, но она скорее в передаче опыта мобилизации и попросту в демонстрационном эффекте – одни окрыляются осознанием, что могут победить, другие, как могут, укрепляют свою власть и, вероятно, уже готовят пути к отходу. Важнее скорее то, что внешние акторы – не только Запад, но и Москва – сдерживают применение силы, обоснованно опасаясь непредсказуемых последствий. Все-таки сейчас не 1991 год, и с тех пор были усвоены важные уроки.
Впечатление синхронизации падения режимов создается от того, что все они возникали примерно одновременно и в аналогичных неовотчинных формах. Настает предел износа этой модели правления.
Поскольку в завуалированной или открытой форме регулярно возникает вопрос о путинской России, особо отмечу, что здесь отсутствуют две важнейшие предпосылки восстания. Во-первых, в России и, самое главное, в городе Москве и близко нет такой демографической массы неудовлетворенной молодежи. Во-вторых, едва ли не важнее, что Путину удалось восстановить централизацию бюрократического аппарата (с его эффективностью дела обстоят пока хуже). Все остальные политические и психологические факторы имеют второстепенное значение, хотя и они пока работают на стабильность российской власти. Если что-то ей и грозит, то не свержение, а скорее неспособность наполнить смыслом рецентрализацию государства и диверсифицировать экономику. Это чревато очередным застоем и в какой-то момент будущего новым кризисом финансов и идеологической легитимности власти с очередным воспроизведением раскола элит на державно-традиционалистскую и западно-либеральную фракции, вероятно, также с политически значимым размежеванием по регионам и хозяйственным секторам. Впрочем, динамику отдаленного кризиса предсказывать всегда очень трудно.
Главный сегодня вопрос заключается в том, что придет на смену неовотчинной модели. Альтернатива по сути одна и очень нелегкая. Это соглашение среди победителей о создании системы формальных правовых гарантий прежде всего против друг друга – как заслона неовотчинному принципу организации власти. Это предполагает нелегкое осознание возможности проигрыша на следующих выборах, но также гарантий собственности и вообще существования в оппозиции. Более того, такая система элитного соглашения о взаимном неуничтожении не будет работать без ответственной и относительно независимой от политиков бюрократии. Печальный парадокс наших дней в том, что демократии без дисциплинированно и законно действующей бюрократии не бывает.
Увы, намного легче представить себе, что на смену неовотчинности единого хозяина может прийти остро конкурентная форма неовотчинности нескольких соперничающих кланов или коалиций элит. Тогда процессы износа власти перейдут на следующий виток, неизбежно чреватый полукриминальным насилием, грабежом ресурсов и, вероятно, новыми восстаниями. Как это и происходит во многих странах Третьего мира, вплоть до распада государства на враждующие банды, области и уделы. Тогда мародерство в Бишкеке окажется не разовым всплеском, а началом новой волны постсоветского распада.
Неовотчинные режимы укреплять нельзя, их надо аккуратно демонтировать. Вопрос – как, кто и с чьей помощью будет это делать.
Суверенная бюрократия: тезисы к изучению наших властвующих элит
Государственный аппарат у нас – это и самый большой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия, и сам себе в конечном счете народ.
Дмитрий Медведев, ПрезидентРоссийской ФедерацииI
Кто, как и почему оказались обладателями власти в результате распада СССР?[6] Это подводит к следующему вопросу: какие варианты дальнейшей эволюции просматриваются из нашего нынешнего момента во времени, уже два десятилетия спустя после перестроечных надежд на либеральные реформы и отрицания «административно-командной системы»?
С теми или иными оговорками, с разными чувствами, почти все сегодня согласны, что произошла некая частичная реставрация. Восторжествовали не либеральные интеллигенты и не сталинисты, не местные бароны и не красные директора, не капиталисты и не рабочие, не иностранные корпорации и не вожди националистических движений. Главные источники власти, контролирующие горловины на потоках материальных и статусных обменов, оказались в руках высшего персонала постсоветского госаппарата. Одновременно происходит восстановление привычных социальных практик и представлений, от международного статуса государства до социальной иерархии его подданных и соответственных рангу способов жизнеобеспечения. Иначе говоря, после потрясений как будто восстановился порядок, притом достаточно знакомый. Как все это корректно описать и осмыслить, не повторяя при этом уже пройденного в перестроечных дебатах?
II
Сразу надо сказать, чем мы заниматься не собираемся. Во-первых, политической полемикой против либо апологией за возникший порядок вещей. Это вовсе не значит, что мы отказываемся от собственных мнений. Напротив. Без ложной скромности, мы вкладываем свою профессиональную гордость ученых, включенных в мировой исследовательский процесс, в формулирование оценок и прогнозов на основе дисциплинированного, логически последовательного изучения социальной среды. Мы стремимся понять, как возникла социальная экология, в которой на сегодня доминантным видом оказалось суверенное чиновничество (особенно в России, но не только в России), что представляет из себя эта элитная группа, как воспринимают они себя и окружающий мир? Что они могут и чего не могут совершить? Каковы по большому счету возможности и, еще важнее, ограничители возможностей данной исторической конфигурации?
Предлагаемый нами термин «суверенная бюрократия», конечно, подсказан Владиславом Сурковым. Однако, по зрелому размышлению, это определение оказалось куда глубже и полезнее пародийного ерничанья. Речь идет об аппарате управления и населяющем его персонале, которые добились независимости как от различных господствующих классов (последние феодалы ликвидированы столетие назад, личная диктатура преодолена в 1950-х, новейшие кандидаты в капиталисты побеждены), так и от нейтрализованной народной демократии вместе с критической интеллигенцией по причине ее распада. Данной бюрократии удалось освободиться (особенно в богатой ресурсами России) и от внешнего контроля в форме мягкой силы гегемонии западных норм либо в более прямых формах империалистического диктата. Возникла именно суверенная от всех бюрократия.
Во-вторых, мы совершенно не собираемся рассуждать отвлеченно и, как водится, бездоказательно о национальном характере и особых традициях. Суверенная не означает вовсе самобытная. Наверняка найдутся частичные аналогии (все исторические аналогии частичны, поскольку история общественных систем слишком сложна для геометрических параллелей.) Мы предполагаем, что сравнительно-исторический анализ может прояснить очень многое насчет наших дел сегодняшних.
Наконец, в-третьих, мы не стремимся создать абстрактную нормативную теорию того, что должна представлять собой «нормальная», «настоящая» бюрократия (равно как и интеллигенция, демократия или прочие социальные учреждения). Опять же мы не отказываемся от нормативных суждений о желательном порядке вещей. Такие суждения имеют смысл в научном анализе только после подведения итогов изучения социальных явлений. Более того, добросовестная и ответственная наука об обществе должна показывать варианты социального выбора. К этому мы еще придем и сверхзадачи забывать не станем. Но сейчас нам надо определить программу исследования, сформулировать рабочие гипотезы, вытекающие из них вопросы и методы получения ответов на наши вопросы.
III
Прежде всего нам потребуются базовые рабочие определения, набор инструментов, которые могут пригодиться в работе. Относиться к теориям и предлагаемым ими аналитическим инструментам лучше эвристически, т. е. пользоваться до тех пор, пока сохраняется полезность данных инструментов и, при необходимости, их модифицировать и комбинировать. Эта предварительная часть неизбежно перегружается профессиональным жаргоном, в основном для краткости.
III-а. Для макроуровня можно принять подход «неосмитовских» (скорее, броделевских) неомарксистов И. Валлерстайна и Дж. Арриги[7]. Они не относятся к марксистам более традиционным, которые завязли в споре об относительной автономии государства от буржуазии или, вслед за Мишелем Фуко, склонны психологизировать и до предела экзистенциально расширять понятие власти. Сомнительна и аналитическая полезность постмодернистской критики. Тем более нам не по пути с эстетизированным неоанархизмом Антонио Негри. Однако предстоит всерьез подумать о направлении Роберта Бреннера[8] и Дэвида Харви[9], которые с 1970-х гг. выступают наиболее последовательными критиками Валлерстайна с позиций классового анализа власти и отрицания миросистемного детерминизма.
Гипотеза миросистемного уровня предполагает, что в ядре современной миросистемы ресурсная и инфраструктурная сила капиталистических элит такова, что они могут обходиться даже минимальным по размеру, однако изумительно эффективным аппаратом координации, во многом за счет организационной силы на местах капиталистических семейств, корпоративных гильдий и церкви. Тому примером служат Нидерланды классического периода XVII в., викторианская Британия XIX в., США вплоть до рузвельтовского «нового курса». Напротив, на периферии государства крайне слабы, поскольку эффективные госструктуры там не просто непомерно дороги, но и потенциально, в случае политической революции, грозят экспроприацией местных элит (Латинская Америка).
Парадокс в том, что государство подменяется властью элитных семей как в самом центре системы, так и на ее глубокой периферии. Только в ядре капиталистическая олигархия кооперируется и действует заодно, а на периферии олигархии постоянно дробятся и жестоко интригуют друг против друга, по ходу не позволяя оформиться сильной власти, чтобы не подпасть под нее. Это согласуется с общим положением миросистемного анализа о том, что ядро есть зона комфортабельной монополизации рынков, где ресурсов, как правило, достаточно всем крупным участникам рынка и возможно договорное, более цивилизованное поведение. Периферия же есть зона, откуда ресурсы утекают, поскольку нет силы их удержать, отчего рыночная и политическая конкуренция приобретает жестокий характер вплоть до взаимного уничтожения. Отметим загодя, что здесь возникает очень перспективная возможность перекинуть аналитический мостик к веберианским концепциям неопатримониализма и оцивилизования/расцивилизования Норберта Элиаса.
Наиболее же активистские, классически государственнические бюрократии возникают в промежуточной зоне полупериферии (точнее, на внешнем периметре ядра, в странах наподобие Германии, Италии, России и Японии), где видится надежда догнать капиталистических лидеров, но приходится группироваться и концентрировать ресурсы, нередко насильственно. Это революции сверху, наподобие бонапартизма и фашизма, либо революции снизу, в первую очередь ленинизм. Именно там, на полупериферии, изобретаются диктатуры догоняющего развития.
Преимущество подхода Валлерстайна и Арриги по отношению к теориям модернизации здесь становится очевидно – миросистемная «картография» полей власти преодолевает нормативные абстракции и дает четкую объяснительную классификацию. Недостаток прямо вытекает из достоинств и также давно известен по критике как веберианцев (Скочпол), так и некоторых неомарксистов (Бреннер). Арриги и особенно Валлерстайна занимает макроскопическая панорама, из которой нелегко последовательно перейти к анализу конкретных примеров, вариаций и исключений.
III-b. Поэтому на среднем уровне наиболее полезны разнообразные неовеберианцы в широком русле Роккана, Скочпол, Лахманна, Голдстоуна, Манна и, конечно, Тилли. Их инструментарий замечательно приспособлен для сравнительного анализа государств и социальных групп в исторической динамике. Из-за большого разнообразия неовеберианцев нелегко сформулировать гипотезу общего охвата. Нам бы пригодилось нечто подобное: бюрократия исторически возникает как механизм формальной рационализации власти и ее централизации за счет вытеснения/кооптации всевозможных нотаблей-посредников среднего и местного уровня. Но реальный процесс, в отличие от близкого к нормативной идеологеме идеального типа, исторически бывает весьма непоследователен, неравномерен в пространстве (миросистемы?) и, более того, как недавно показал Венелин Ганев на материале посткоммунистических стран Восточной Европы, процесс этот еще как обратим вспять[10]. При каких обстоятельствах возникает непоследовательность? Как бюрократия становится самоосознанной статусной группой, и как порою теряется этот облик?
Здесь полезно вспомнить о «процессе оцивилизования» Норберта Элиаса[11]. Модель Элиаса также работает вспять, когда происходит «расцивилизование». Эта концепция может нас вывести из давнего спора о классах и статусных группах. В более широком толковании, процесс оцивилизования помогает ухватить эмпирическую динамику становления самоосознанных статусных групп на основе общности структурного положения, т. е. классов. Элиас же перекидывает мостик от веберианской традиции исторического анализа к социологической культурологии и интеракционизму неодюркгеймианцев Гоффманна, Рэндалла Коллинза и Бурдье. Здесь мы находим инструменты для описания и аналитического разбора повседневной бытовой реальности элит, как и не-элит, их механизмов распознавания «свой-чужой», а также навыков, ритуалов, «ухваток», которые в совокупности составляют предосознанное, дошедшее до автоматизма поведение – тот самый габитус.
Придется хорошенько подумать и о том, как интегрировать сравнительно-исторический вариант новейшего веберианства образца 1970–2000 гг. с тем полезным, что можно вынести из более ранних (конца 1960-х гг.) веберианских дебатов о неопатримониализме в Третьем мире. Это, прежде всего, проницательные, хотя порою крайне сложно сформулированные предположения израильтянина Эйзенштадта[12], впоследствии – французских африканистов Лемаршана и Медара, индологов супругов Рудольф[13], наконец, это и корпус знаменитых работ «крестьяноведа» Джеймса Скотта, начиная с его первой книги о коррупции в Юго-Восточной Азии[14]. Эти исследователи предшествующего поколения пытались преодолеть очевидный тупик теории модернизации, постулировавшей четкую дихотомию между современностью и традиционным обществом. Властные реалии стран Азии и Африки к концу 1960-х гг. явно перестали вписываться в такую идеологическую оппозицию, их «несовременные» элементы не были дисфункциональным пережитком. При этом внешне современные институты, вроде парламентов, правящих партий, правительственных министерств, судов и особенно армии, явно работали по принципам личных патронажных связей, а не формального закона.
На Западе эти дискуссии не получили никакого развития, а были попросту оставлены и позабыты с приходом моды на транзитологические модели демократизации. Это оказалось шагом назад, по сути вернувшим политологию к идеологемам теории модернизации. Объективно такой сильнейший откат в науке соответствовал откату бывших соцстран в Третий мир. Это вторично поставило Запад в положение благосклонного ментора, указывающего, как подтянуться до его уровня «современности» путем одного лишь заимствования трансакционных технологий для политических и экономических рынков. Поэтому контртеории, возникшие в конце 1960 гг. из кризиса первой волны модернизации/транзитологии, могут показать нам нечто весьма существенное из нашего собственного будущего[15].
III-с. Говоря о социальной группе, правящем классе, элите мы неизбежно вступаем на минное поле дебатов об определениях. Чтобы не завязнуть в излюбленных препирательствах ученых-обществоведов, модифицируем наши определения при помощи инструментария, разработанного Пьером Бурдье. Тем более что подход, которым пользовался Бурдье, выводит нас от макроисторических концепций на конкретно-социологический анализ повседневности.
Элита понимается здесь попросту как группы индивидов, занимающих верхние эшелоны, «командные высоты» тех или иных институтов социальной организации: экономических рынков и предприятий материального производства, политических партий и движений, организационно более-менее оформленных полей символического производства (религия, культура «высокая» и массовая, наука, журналистика, образование, а также спорт) и, конечно, государственных структур. Всякая элита, если воспользоваться аналитическим орудием Бурдье, обладает капиталом высокой концентрации, что, собственно, и определяет элиту. Если растолковывать и операционализовать понятие капитала при помощи прагматичного подхода Валлерстайна, то капитал – это способ накопления и сохранения успеха, достигнутого вчера, в предшествующих раундах социальной игры, с тем чтобы воспользоваться преимуществом в будущем раунде. В каждом роде деятельности свои специфические формы капитала. Капиталист превращает результаты успешных, т. е. прибыльных операций в денежные средства, которые затем может инвестировать в новые операции. Это и есть капитал в традиционном понимании.
Для пояснительного контраста, феодальное семейство накапливает права на сбор ренты с крестьян в вооруженной борьбе с соперниками-феодалами (война, усобица, интрига) и с крестьянами и горожанами (подавление восстаний). Феодальные права затем узакониваются в формальных привилегиях и семейной символической репутации (родовитость, легенды о подвигах предков, целомудрии женщин). В этом случае нередко бывает рациональнее расстаться с деньгами и натуральными доходами (конвертировать экономический капитал), чтобы приобрести, конечно, военную силу (вооружить, оплачивать, контролировать своих бойцов и охранников), а также внешние признаки элитности (роскошная одежда, оружие, драгоценности, коллекционные предметы искусства, дома, кареты), и подкрепить репутацию щедрого патрона в отношении клиентов, хлебосольного хозяина для собратьев по элите и жертвователя на общественные нужды (возведение церквей или, позднее и особенно в США, университетов и частных фондов). Возникает типично феодальная смесь юридических и традиционно-символических заявок на элитные права. На самом деле это не столь архаичные, как может показаться, виды инвестирования в престиж и социальное признание. Возьмем для примера «новых русских» или чеченских полевых командиров.
Современные формы символического капитала – это всевозможные разновидности престижной репутации (мэтр, знаменитость) в сочетании с формальными дипломами (ученые степени, медали и призы арт-фестивалей или спортивных чемпионатов, либо промежуточные формы вроде рейтингов популярности среди элитных знатоков и более широкой публики). Как Бурдье показал на примере скандала вокруг публикации флоберовской «Мадам Бовари», формы капитала – вовсе не абстрактно данные категории. Они выделяются в конфликтном процессе создания новых социальных полей (к примеру, профессиональной литературной деятельности, отделения литературы от контроля церкви и светских вкусов).
Капиталы (или разновидности социальной «валюты») основаны прежде всего на взаимном признании участниками данной сферы деятельности правил игры и друг друга в качестве игроков, даже если и противников. Иначе говоря, капитал должен быть прочно укоренен в достаточно емкой социальной сети. Принцип взаимного признания работает как на уровне статусных групп (тех, кого основная масса интеллигенции, художников или банкиров признают своим), так и на уровне межгосударственном. Как показал Артур Стинчком, в современном мире главное условие суверенитета – всего лишь признание суверенности данного государства со стороны большинства прочих суверенных государств[16].
Повторим, ибо важно: всякая форма социального капитала должна быть укоренена, встроена в социальное сообщество со своей историей возникновения, конфликтов, внутренними рангами. Миллион среди дикарей, не знающих денег, равняется нулю. Все это уже можно изучать: как возникает «валюта» того или иного социального сообщества, какие у нее свойства, какие формы ценнее других, как и когда проводятся обмены валют (денег в престиж, ста друзей в сто рублей и, может быть, обратно), как формируется социализованный характер, типический «нрав» (в научном определении – «габитус») в зависимости от рода деятельности, необходимых и ценимых в данном деле навыков и связанной с ним валюты.
Кадровый пролетариат, рядовые профессиональные спецы (инженеры, врачи, преподаватели), даже мелкие служащие стремятся и могут, при достаточно стабильных условиях, создавать свои формы символического капитала – признание мастерства, выслуги лет, опыта, а также формальные права (скажем, на пенсии, премии, различную «социалку»), выторговываемые и выбиваемые у начальства в обмен на качественный труд или в ходе забастовок и прочих форм производственных конфликтов. Для постсоветской ситуации важно отметить, что исчезновение стабильности и перенос основных источников власти из сферы производства в сферы обмена резко, даже катастрофично сказался на условиях функционирования подчиненных, малых и распыленных форм капитала, которые вдобавок приобретают эффективность в основном через коллективное действие и сознание (один в поле не воин, не забастовщик и не политическое движение).
Таким образом, элиты достаточно многочисленны и разнообразны. Элитный статус ситуативен, зависит от обстановки, статус преходящ, как любой успех – юный хулиган, верховодящий большим двором, со временем, скорее всего, сделается люмпеном с укороченным сроком жизни, а если повезет, то заурядным пролетарием или ментом. Огромная забота, тревога и доля повседневных практик всех элит состоит именно в поддержании своего элитного статуса, в диверсификации набора активов, в приобретении дополнительных средств, союзников и форм капитала. Соответственно, у всякой успешной элиты мы, скорее всего, обнаружим не один вид, а целый набор форм капитала и далеко ветвящиеся сети связей с по-разному полезными людьми.
Концепцию капитала не следует доводить до абсурда полного релятивизма. Форм капитала несколько, но далеко не бесконечное множество. Формы капитала соответствуют источникам социальной власти, которых, по инструментальному делению, используемому, скажем, неовеберианцем Майклом Манном, всего четыре: военная, экономическая, культурно-идеологическая и политико-административная. Показательно, что и сам М. Манн, как и многие теоретики до него, особенно амбивалентен в отношении последнего источника власти. В самом деле, политическая и административная власти – двуедины, различны или являются подвидами способности организовывать и контролировать общественные усилия? А может быть, административная и политическая функция исторически были едины (в лице вождя, монарха), но позднее разделяются на отдельные ветви, публично-политическую и аппаратно-административную?
V
Бюрократии должны быть свойственны некие собственные формы капитала и практики его накопления, связанные со специфичным, по нормативной идее совершенно формализованным организационным существованием и объектом распорядительной деятельности. Что это за формы капитала и практики?
С виду бюрократия есть формально организованные служащие, единственным источником доходов которых должна быть должностная зарплата и социальные блага, предоставляемые работодателем по совершенно формальной росписи. Заострим до парадокса: бюрократия теоретически мало чем отличается от кадрового пролетариата и наемных спецов. Бюрократия, по идее, не должна быть элитой, тем более властвующей и суверенной. В ранние эпохи это были «слуги государевы». В Новейшее время, когда легитимный суверенитет переместился от монарха к абстрактному народу и нации, это «общественные служащие» (civil либо public servants). Наивность – или лукавство – таких слов очевидны. И все-таки дело куда сложнее, чем лукавство. Бюрократия есть механизм – как и всякое орудие, предназначенный усиливать физические и умственные возможности человека. В данном случае усиливаются возможности человека не рядового, а правителя.
Первые протобюрократии древности возникали там, где размер территории и подчиненное население в какой-то момент превысили возможности прямого личного управления, т. е. вождество переросло в раннее государство. Именно здесь (а не в идеологии, принципе прогресса или накоплении прибавочного продукта) кроется главный источник эволюционного перехода на новый уровень организации власти. Возникла непреодолимая потребность передоверить особо рода грамотным слугам сбор податей и хранение царских закромов, подсчитывать податные сословия и надзирать за войском, замещать царя вдали от столицы. В реальности механизм оказался очень проблематичным, дорогостоящим, подверженным постоянным поломкам – будет полезно обсудить перечень типично бюрократических патологий.
Бюрократия, несмотря на колоссальный потенциал, лишь ограниченно применялась в досовременных государствах в основном из-за своей дороговизны и технической сложности (для начала требуется развитая письменность и рекрутирование кадров, не связанных ни с каким племенем и родом, желательно вообще из чужеземных рабов, воспитываемых сызмальства, как в Османской системе девширме). Проще было опираться на всевозможные лично-договорные системы власти, наподобие феодального вассалитета.
Качественный рост и распространение бюрократических аппаратов по всей планете относится ко временам завоевательного роста капиталистической миросистемы с центром в Западной Европе. Поэтому ведется столько дебатов о том, что здесь первопричина: капитализм, военная революция, общая рационализация Нового времени либо некие культурные особенности Запада? Более действенной представляется комплексная модель со-эволюции властных организаций, где различные механизмы (капиталистические, военные, легально-политические, административные, идеологические) вступают в восходящую спираль взаимоусиления. Очевидно, что сочетание сложное, и потому не стоит удивляться, что случилось ему запуститься в самоподдерживаемый рост, возможно, лишь однажды и по определенному везению именно в Западной Европе. Что вовсе не означает, будто успех Запада был абсолютно за пределами возможностей других зон мира и его нельзя было скопировать. Россия (как и культурно иная Япония) – тому один из наиболее полных и периодически успешных примеров.
Бюрократическую организацию, вопреки представлениям о культурной уникальности, оказалось возможным имитировать в странах, которые исторически не относились к капиталистической колыбели Запада. Это означало распространение бюрократических принципов вширь. Не менее важно, что бюрократическую инновацию можно было распространить на совершенно новые сферы деятельности, приспосабливать для неожиданных целей. Капиталистическая корпорация, акционерное общество суть частная бюрократическая организация, преследующая прибыль. Кто теперь частный хозяин «Дженерал электрик», Стэнфордского университета или злополучно обанкроченного «Энрона»?
Профсоюз или ленинская партия нового типа также есть применение преимуществ бюрократической организации в революционных целях, т. е. колоссальный качественный скачок в сравнении с бунтами прошлого. Однако у бунтарей теперь появились и типично бюрократические «заболевания», в особенности тенденция к олигархизации аппарата профессиональных политактивистов, как предсказывали столетие назад Махайский и Михельс.
VI
Бюрократия не может восприниматься отвлеченно, как некое зло или благо. Бюрократия есть именно механизм, предназначенный для координации общественных ресурсов и усилий. Это крайне сложный, капризный, но и потенциально мощнейший механизм. История его применения на самом деле пока очень недлинная. За вычетом имперских и церковных протобюрократий, с помощью которых управлялись лишь изолированные сегменты досовременных обществ, история бюрократизации насчитывает всего около пары столетий. Более чем паровой двигатель и электричество, именно бюрократическая машина произвела беспрецедентную трансформацию Нового времени. Современное образование и здравоохранение, транспортная инфраструктура, города, наука – все это просто не будет работать без какой-либо степени бюрократической координации.
Одна из главных дилемм Третьего мира – нехватка эффективных, инфраструктурно сильных аппаратов, способных генерировать и распределять общественные блага в виде массового индустриального строительства, здравоохранения, образования, городского транспорта, поддержания порядка. Эти функции, лишь частично и с неизбежно высокими политическими издержками, берут на себя всевозможные мафии[17], квартальные банды, религиозные фундаменталистские сообщества, этнические землячества, босяцкие «короли трущоб» и сети патронажной зависимости, неомиссионерские благотворительные неправительственные организации, коммерческие структуры и ростовщики, прочие формы люмпенской самоорганизации. Без действенной исполнительной бюрократии невозможна никакая сколь либо серьезная демократия (во всяком случае, в группах людей численностью свыше деревни). Там, где уже невозможно обойтись личными дружескими и соседскими взаимообязательствами, исполнение общественной воли придется возложить на бюрократический аппарат.
В отличие от механизмов неодушевленных, сколько ни обзывай бюрократов винтиками, на деле они одушевленные существа со вполне осознанным, хотя (и это важно!) подвижным, изменчивым в зависимости от социального контекста спектром личных интересов и групповых предпочтений. Поэтому бюрократическая машина управляется вовсе не инженерно-механически и даже не кибернетически. (Это распространенное заблуждение теорий управления.) Как бюрократические патологии, так и способы их лечения всегда были и будут видом политической борьбы. На деле это самый сложный из видов политической борьбы, где на кону находится не разовая победа и ни в коем случае не уничтожение противника, а инфраструктурный контроль на долгий срок.
Действенная политическая мобилизация нуждается в моральной идеологии, способной выдвигать общественные ценности и задачи. На самом деле здесь, возможно, и находится точка, в которой пересекаются интересы общества и бюрократической элиты (не говоря уже об основной массе бюрократического персонала на подчиненных должностях). Это, на техническом жаргоне, проблема коллективного действия. Нормализация бюрократического аппарата требует подчинения его сил большой легитимной задаче, в которую смогут встраиваться личные карьерные амбиции, элементарные интересы самосохранения, предполагающие высокую предсказуемость служебной деятельности, и социализованное самоуважение (по известным формулам «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «За державу обидно…»).
В противном случае, без внешней направляющей возникает порочный цикл, также самоусиливающийся, но с негативным вектором. Частные и ведомственные интересы, каждый из которых рационален в узкокорыстном плане, в итоге производят коллективно иррациональный результат, подрывается воспроизводство общественных структур, теряются коллективные блага, деградирует материальная и человеческая инфраструктура. Собственно, это и есть модель упадка СССР. Его аппарат управления избавился в 1960-е гг. от координации деспотической и одновременно смог пресечь возникновение со стороны новых средних слоев образованных специалистов альтернативных форм координации, основанных на политической и рыночной конкурентности. Остальное было уже делом времени.
VII
Литература по государственному развитию, бюрократии и связанными с этим политическими конфликтами практически безбрежна. Нам остается надеяться на синтетическое теоретическое понимание (если, пока, и не цельную теорию), которое даст нам ориентиры в море зарубежной эмпирики. Кроме того, при всей важности исторического опыта Запада (который, в конце концов, несет основную долю ответственности за возникновение современной миросистемы), следует ожидать, что какие-то другие регионы мира могут нам дать даже больше для сравнительного изучения политических формаций Восточной Европы. Это, в первую очередь, Турция, по сути, – пограничный член Восточной Европы и одновременно Ближнего Востока[18].
Несмотря на завораживающую всех экзотику совершенно иной цивилизации Японии и Китая плюс колоссальную разницу в экономических успехах последних десятилетий, страны бывшего советского блока и особенно Россию все же полезно рассматривать в сравнении с тем, как государства Дальнего Востока реагировали на наступление Запада сто пятьдесят и пятьдесят лет назад. Предполагается, что мы найдем больше аналогий, чем обычно замечается. Конечно, здесь мы находим и некоторые важные точки дивергенции. Распад СССР неизбежно сравнивали и будут еще сравнивать с рыночным успехом по-прежнему коммунистического Китая. Как показывают недавние работы, уникальной лабораторией для тестирования гипотез об относительной силе государств и поведении правящих элит оказалась Юго-Восточная Азия (с перспективой расширения сравнительно-исторического фокуса на Индию, Иран и арабские страны). В самом деле, почему Сингапур обошел Филиппины, монархический Таиланд разошелся путями с монархической же Японией, а коммунистический Вьетнам так успешно воспользовался военной мощью для успешного выхода на мировые рынки, в то время как военная хунта Бирмы впала в почти северокорейскую изоляцию?[19].
Наконец, как говорят англичане, the last but not the least, надо научиться дифференцированно воспринимать и сам Запад с его пресловутым опытом. Италия – не одна страна, а как минимум две или три. Несмотря на сходство климата, Канада – не Швеция, а Норвегия, несмотря на сопоставимый размер и мореходные традиции, вовсе не Португалия. Франция прошла совсем иным маршрутом, нежели Испания, игрушечная сегодня Австрия – как и Россия с Турцией – тоже бывшая империя, а Британский исторический опыт демократизации трудно привести к общему знаменателю со швейцарским. Вся же Европа даже в сумме не равняется Америке. Еще важнее научиться принимать за эмпирический факт, что демократия на уровне городов наподобие гангстерского Чикаго, немытого южного Неаполя или даже чинно-мещанского Бордо скорее может нам помочь прояснить, каким путем двигаются российские регионы.
Таковы предварительные наброски. О конкретике исследовательской программы, ее составляющих и последовательности стадий предстоит договариваться и неизбежно поспорить. Важно оставаться при этом открытым для непредвиденных ходов мысли, одновременно не теряя главных ориентиров[20].
Россия на подвижном горизонте Америки Механизмы неэквивалентного обмена в геокультуре
НА ПЕРВЫЙ взгляд дела с интеллектуальными потоками между Россией и Америкой обстоят парадоксально, если не попросту обидно. Людские массы с очень высокой пропорцией высокообразованных специалистов двигаются в одном направлении, а идеи и образы – ровно в противоположном. Но не станем впадать в новейший грех бытового антиамериканизма, выводы из которого столь же просты, насколько поспешны и огульны, и оттого мало эффективны в социальной практике. Лучше последуем наставлениям почтенного теоретика и не менее известного ворчливого скептика Артура Стинчкома и попробуем разобраться в социальных механизмам, т. е. устойчивых и регулярно воспроизводящихся в аналогичных исторических контекстах причинно-следственных взаимосвязях, действующих на подтеоретическом уровне. В данном случае, согласно Стинчкому, мы имеем дело с типичными механизмами монополистической конкуренции между организациями такого порядка, как национальные государства, ведущие университеты и бизнес-корпорации (включая книгоиздание, кино и телевидение)[21]. В случае интеллектуальной диффузии между Америкой и Россией (как и множеством прочих стран мира) социальные механизмы культурной и символической деятельности складываются в явно неравновесную структуру, которую в политэкономии миросистемной зависимости называют неэквивалентным обменом[22]. Проще говоря, согласно этой теории, мировые рынки сформировались и действуют таким образом, что периферийным и новововлеченным участникам регулярно приходится покупать и продавать с минимальной прибылью и порой даже себе в убыток, в то время как наиболее прибыльные ниши их внутренних рынков подвержены конкурентной колонизации более ресурсными и эффективными фирмами из центра миросистемы. Рынок идей и символических капиталов-репутаций, по терминологии французского социолога Пьера Бурдье, структурно гомологичен рынкам политической власти и экономических обменов[23].
Но трижды обиднее и ошибочнее было бы впадать в пессимизм перед лицом якобы неодолимых структурных конфигураций. Если сегодня Россия для американцев – далеко не самая важная и интересная страна (особенно в сравнении с экономически возрождающимся Китаем или смертельно опасным и непостижимым исламским миром), это вовсе не означает, что Россия стала заурядно «нормальной среднеразвитой» страной, согласно последнему упрощению известных либеральных экономистов. Совокупный культурный капитал, накопленный поколениями, не поддается статистической оценке в денежных единицах и процентах ВНП, отчего он не перестает быть базовой исторической реальностью с вытекающими из нее будущими возможностями. Собственно, в этом и заключается главная функция любой формы капитала – накопленного и соответствующими способами институционализированного успеха, который можно инвестировать в будущие успехи[24].
Здесь полезно будет вспомнить пример Франции, которая в 1945–1960 гг. пережила собственную череду глубоких потрясений, сопровождавшуюся среди прочего мощным вторжением престижных американских моделей на дотоле закрытые и даже косные французские интеллектуальные рынки. Однако спустя одно поколение это обернулось контрвторжением в Америку французских интеллектуальных продуктов нового гибридного типа, возникших в ответ на послевоенную ситуацию. Механизм французского контрэкспорта был проанализирован в ставшей классической статье американо-канадского социолога Мишель Ламон «Как стать господствующим французским философом: пример Жака Деррида», к которой мы еще вернемся[25]. Пока же отметим: в качестве индикатора самой возможности создания турбулентности в культурных потоках с возникновением гибридных явлений нового поколения – неожиданно шумный (во всех смыслах) успех рок-группы «System of a Down», которую в 2000 г. создали четыре молодых армянина: Серж Танкян, Шаво Одаджян, Дарон Малакян и Джон Долмаян (один из них из Армении, двое из Ливана и еще один – уроженец Калифорнии). Эта рок-группа, которая сейчас занимает верхние строчки хит-парадов и даже удостоилась удивленного внимания на интеллектуально-солидном Общественном радио Америки, поет, конечно, по-английски, но в том числе и о трагически важном для армян геноциде 1915 г. И теперь она выводит толпы американских фанатов на пикетирование турецких дипломатических представительств. Так что есть еще место для подвига.
Защищенный континент
Казалось бы, никогда прежде между Америкой и Россией не существовало такой плотности коммуникативных каналов. Чего стоил один лишь доступ к Интернету, социальные последствия которого (даже с поправкой на безудержный «хайп» и переоценку, свойственную всякой моде на новшества), несомненно, уже изменяют самые структуры повседневности. Несмотря на эпидемию банкротств среди авиакомпаний и рост цен на билеты, сегодня расстояние между континентами физически сократилось до прежней поездки из Москвы в Ленинград. (Во всяком случае, московские приятели регулярно иронизируют, что с автором данной статьи они видятся чаще, чем со многими москвичами и тем более киевлянами или ереванцами.) Кто только не слетал в Нью-Йорк или какой-нибудь Милуоки «по делу срочно» – соответственно, и я постоянно держу наготове комнату для гостей в своем чикагском доме.
Русскоязычные (бывшие советские) ученые, преподаватели, студенты и специалисты со всевозможными временными и постоянными визовыми статусами составляют сегодня весьма заметную в интеллектуальном и поведенческом плане группу иностранцев в американских кампусах. Наши соотечественники немалым числом представлены практически во всех исследовательских университетах США, число которых превышает шесть сотен, плюс в тысячах начальных колледжей и техникумов, а также в прикладных лабораториях и компьютерных отделах коммерческих фирм, в симфонических оркестрах, картинных галереях или спортивных школах. Уже не выглядит курьезом, что, к примеру, научным руководителем американского Национального научного фонда в Антарктиде служит россиянин Владимир Папиташвили.
И все же посмотрим мультсериал про семейку Симпсонов, с успехом идущий по российскому телевидению, – пародийную квинтэссенцию американского обывательского сообщества. Основная масса нормализованных американцев выглядит в этом сериале удивительно провинциальной, закрытой от ненужных им иностранных влияний и даже подозрительной ко всему культурно чужому (во многом оттого и настолько патриотичной). В чем тут причина?
Америка – не национальное государство и не Европа. Прежде всего в силу своих континентальных размеров. Городки, из которых за три года не доскачешь ни до какой границы (разве что канадской), составляют географическую и социальную массу американского образа жизни, особенно того воинственно-провинциального варианта, который политически разрабатывает администрация Буша-младшего. Лишь примерно пятая часть американских граждан имеет на руках загранпаспорта, владение иностранными языками распространено минимально за ненадобностью, радиоприемники традиционно выпускаются с настройкой только на местные длинные и средние волны. Америка играет в свой американский футбол, бейсбол и профессиональный баскетбол. Масса зрителей в столь большой стране вполне достаточна для поддержания рыночного спроса. Равно американская промышленность и торговля с очевидно протекционистской выгодой продолжает использовать футы, унции, галлоны, болты и гайки под недесятичные доли дюйма или архаичные градусы Фаренгейта – притом называя все это стандартной системой мер в пику метрической, на сегодня уже принятой во всем мире, кроме США. Понятие иностранной валюты отсутствует в быту (евро обменивают только в больших банках), главные политические и экономические решения, затрагивающие повседневность, принимаются в национальной столице Вашингтоне или на своей собственной Уолл-стрит, и уж совершенно невозможно представить себе иностранные военные базы на территории США. Переводные программы не смогут пробиться на телевидение (англоязычная Би-би-си, транслируемая на некоммерческих публичных каналах, служит единственным приемлемым образцом старой высокой культуры). По данным небольшого импрессионистического обследования, которое я предпринял в компьютерном каталоге трехэтажного видеосалона, не обнаружено ни единого упоминания таких кинозвезд, как Луи де Фюнес, Пьер Ришар и Челентано. (Впрочем, «Высокий блондин в черном ботинке» выходил в голливудском ремейке, где героя-растяпу Ришара невыразительно изображал американский актер среди знакомых американских реалий.) Нашелся лишь Бельмондо – в фильме о Холокосте.
Ядро миросистемной гегемонии
Итак, первейшая причина американской неприступности лежит на поверхности – это сам географический размах страны, ее многомиллионное население и заключенная в границах США экономика, откуда и самодостаточность культурных рынков. Но размер и заокеанская удаленность страны недостаточное объяснение. В принципе, границы США достаточно открыты, а согласно официальной идеологии, и подавно должны пасть все барьеры обмена, однако это лишь усиливает американский интеллектуальный экспорт. Превращение мира в открытую площадку – как при сегодняшней глобализации, так и при фритредерской глобализации, которую проводили британцы в XIX в., – увеличивает возможности прежде всего самого сильного игрока на поле и почти без видимого нажима, как природная данность, распространяет его правила и нормы на менее значительных игроков, которые желают участвовать в мировых процессах накопления экономического или культурно-символического капитала. Собственно это Джованни Арриги и называет периодами гегемонии в миросистеме – не грубого господства, но общепринятого лидерства, вызывающего подражательный эффект[26].
Здесь действует связка социальных механизмов, совокупность которых подобна зоне устойчиво высокого давления – оттуда дует во все стороны, но туда редко пробиваются поветрия извне, и там вообще больше кислорода (или, по метафоре Фернана Броделя, в центре мира-экономики солнце светит ярче). Если окинуть взором заседание кафедры или конференцию в американском университете, возникает сложное ощущение, что ты оказался в некоей сборной мира, хотя многие из окружающих скорее беженцы, которым возвращаться особенно некуда. Это могут быть интеллектуалы из бывшей Югославии или распадающихся государств Африки, либо из арабских деспотий, из котла латиноамериканских социальных движений или просто из стран, чьи правительства и фонды более не готовы финансировать науку выше прожиточного минимума – примером тут может служить та же тэтчеровская Великобритания. Особый случай представляет Китай, который с 80-х гг. XX в. экспортировал массу молодых ученых. Долгосрочной целью при этом было создание транснациональной китайской диаспоры интеллектуальных кадров, объединенных культурно и патриотически, часть которой могла бы вернуться на родину после достижения высокого положения за рубежом. Материальные структуры полей науки и культуры пострадали во всем мире от сдвигов в финансовых приоритетах правительств и рыночных организаций. Америка столкнулась с подобным кризисом в конце 70-х гг., но затем, начиная с рейгановского периода, активная глобализация финансов привела к денежному оживлению всех областей деятельности в США. Гегемония воспряла.
Механизмы, образующие интеллектуальную «зону высокого давления» в начале XXI в., с необходимой поправкой на современное ускорение транспортных и информационных потоков, все-таки остаются теми же, что и в цивилизациях прошлого. Согласно подробнейшим образом документированному исследованию Рэндалла Коллинза, центры цивилизаций всегда были зонами высокого престижа и социального контакта[27]. Сочетание престижа главной сцены мира и постоянного притока талантливых ищущих провинциалов с ближних и дальних орбит цивилизации создает генератор творческой энергии, причем не столько через подражание, сколько в коллективной конкуренции избранного числа ведущих в данный период идейных школ. Такими центрами цивилизационного притяжения были классические Афины, Александрия и имперский Рим, буддийские монастыри Северной Индии в начале общей эры, дворцы и медресе Багдадского халифата, салоны и более демократичные кофейни Парижа и Вены. Или американские университеты сегодня.
Не-переход количества в качество
Повторяю, в американских кампусах нас весьма немало, особенно со стороны технических и естественных наук. (Необходимо напомнить, что университеты в США существуют как интегрированные интеллектуальные городки и служат, помимо прочего, основными материальными базами литературы и искусств.) Академические, артистические и спортивные контакты между двумя странами как будто налажены беспрецедентным образом. Конечно, математика или физика не связаны с национальной спецификой – хотя школы, производящие исследователей, все же растут не в абстрактном пространстве. Равно в космополитичном спорте или опере все-таки существует, пусть не всегда очевидная, связь атлетов и музыкантов со страной их происхождения. Павла Буре называют «russian rocket» («русская ракета»), прямо намекая на былое сверхдержавное соперничество в космосе. А успех Дмитрия Хворостовского так же связан потоком ассоциаций с самым популярным классическим композитором Америки Петром Чайковским, как невозможны без «Щелкунчика» и «Увертюры 1812 года» оба главных американских праздничных ритуала – рождественский шоппинг и фейерверк Четвертого июля.
Эти примеры, однако, есть дивиденды со старого культурного капитала, прямо выраженного как в виртуозных навыках исполнителей и игроков, так и в традиционном престиже породивших их школ. Напротив, в современной литературе, кино, архитектуре, популярных и авангардных жанрах музыки или практиках, традиционно именуемых изобразительным искусством, насколько можно судить по внешним индикаторам этих творческих полей, Россия сегодня представлена минимально с тенденцией к быстрому убыванию. Во всяком случае здесь присутствие России заметно меньше, чем Бразилии, Польши или Ирана.
Российская мысль в Америке сегодня едва различима в общественных и гуманитарных дисциплинах (за некоторыми исключениями вроде структурной лингвистики, которая в позднесоветский период оформилась в мудреные интеллигентские катакомбы вне идеологического и институционального контроля). Очень небольшому числу выходцев из бывшего СССР, которым удалось добиться устойчивого положения в перенаселенных полях университетской психологии, истории или философии, оставалось лишь усваивать господствующие в американской среде стандарты и способы выражения – дискурсы (скажем, гендерных исследований). В экономике и политологии, где особенно сильно воздействие официальной американской идеологии (как, например, в теориях демократизации или свободных рынков), где, соответственно, плюрализм ограничен схоластическими рамками канона и конформистское давление через механизм конкурентности особенно велико, успешные выходцы из России, особенно с математическим, а не гуманитарным багажом, ассимилируются наиболее быстро и полно. Порой и по-русски они начинают говорить с акцентом, в избытке вставляя английскую терминологию. Это вполне ожидаемый результат успеха через подражание.
Траектория славистики и советологии
Центры по изучению Восточной Европы и отделения славистики, с которыми непосредственно сталкиваются носители российской интеллектуальной культуры, в настоящее время представляют собой ограниченные площадки с тенденцией к убыванию. Институционально это продукты холодной войны. После 1945 г. американское правительство и частные корпоративные фонды (Карнеги, Рокфеллера, Форда) направили поток средств на создание, тогда практически с нуля, экспертного знания о вероятном противнике. Вполне объяснимо, что в первом поколении советологов преобладали антикоммунисты. И даже просто русофобы вроде Бжезинского, который популярно упростил и сдвинул вправо теории тоталитаризма франкфуртской школы и Ханны Арендт или коллеги Бжезинского по Гарварду и также сына польских эмигрантов Ричарда Пайпса, который вывел из идей Данилевского историческую предопределенность русского деспотизма.
Антикоммунистическая «тоталитарная школа» подверглась внутреннему восстанию младших тогда преподавателей в бурные 60-е, что было частью общего движения протеста против официальной идеологии. Произошедшая тогда переоценка роли внутрибольшевистских альтернатив сталинизму (например, в знаковой работе принстонского профессора истории Стивена Коэна о Бухарине) имела полемический оттенок. Движение «ревизионистов» (по отношению к тоталитаристской ортодоксии) в итоге достигло серьезных успехов в своей борьбе за научную реконструкцию социальной истории СССР 20-х – 30-х гг. и со временем даже стало господствующим мнением в советологии.
В 80-е гг. американский интерес к СССР пережил последовательно целых два всплеска, сопровождавшихся соответствующим притоком финансирования, молодых кадров и ростом относительного веса и престижа советологии внутри университетов. Один всплеск произошел с возобновлением холодной войны в первые годы президентства Рейгана, когда на противостояние «империи зла» были мобилизованы федеральные ресурсы. Со своей стороны, леволиберальные фонды (прежде всего, Макартуров) сделали приоритетом всяческое сопротивление программе «звездных войн». Что, в свою очередь, дало средства и эмоциональный заряд американским исследователям, стоявшим в моральной и профессиональной оппозиции к антикоммунистическому «тоталитаристскому» лагерю гарвардских и стэнфордских стариков и к экспертам оборонного истеблишмента. Вслед подоспел второй, намного больший всплеск интереса и энтузиазма по поводу реформ Горбачева, которые открыли новые возможности для исследований внутри СССР. В университетах создавались вакансии, щедро выделялись гранты, резко возросло число аспирантов и студентов, изучающих русский язык. В этот период главный журнал сообщества «Slavic Review» («Обозрение славистики») достигает пика тиражей и по академическому статусу встает почти вровень с главными изданиями профессиональных научных ассоциаций, такими как «Обозрение американской политической науки» или «Американский социологический журнал», публикации в которых определяют репутации и дают доступ к конкурсам на должности в ведущих университетах.
Советология провалилась в историческую яму вслед за Советским Союзом. Диссертации по политике и экономике СССР к моменту защиты превращались в работы по истории. Пришлось срочно придумывать новое название. Удовлетворительной замены не нашли, и пришлось остановиться на вариациях «Евразии» и «посткоммунизма», поскольку Россия продолжает рассматриваться в совокупности с бывшими странами советского блока. При этом поляки, венгры, чехи, прибалты, а затем и многие украинцы стали себя выделять в особую зону Центральной Европы. Примерно с середины 90-х гг. явной стала смена приоритетов университетов и фондов. Ставки, ранее выделенные на изучение России, при возникновении вакансий заполнялись специалистами по Китаю, а с 2001 г. – по исламским странам. Численно большое поколение аспирантов времен перестройки столкнулось с жесткими ограничениями в поисках работы. Вдобавок именно в то время на американских рынках интеллектуального труда стали появляться выходцы из бывшего СССР, которые особенно успешно потеснили американцев в филологии и связанных с нею гуманитарных областях. Многие экономисты и политологи предпочли переквалифицироваться, уходя в бизнес на административные и консультационные должности. Историки остались в рамках обычного поколенческого воспроизводства (новый наем строго связан с уходами на пенсию). Пожалуй, больше всех пострадали аспиранты-антропологи, изучавшие народы СССР: среди них работу по специальности нашел примерно один из двадцати.
Сегодня ситуация стабилизировалась на новом, значительно пониженном уровне. Преподавание русской классической литературы и кино плюс истории дореволюционной России и отчасти СССР занимают традиционные ниши в университетских программах. О Чайковском уже говорилось. Имена Толстого и Достоевского остаются в списке обязательного чтения образованных американцев. (Хотя среди преподавателей престижных школ бизнеса встречаются и такие, кто путает Dostoevsky с водкой Stolichnaia, говоря в извинение, что подобного рода информация ничего не дает специалисту по японскому экспорту.) Наиболее искушенные читатели также знают, как оказалось, Виктора Пелевина, и можно прогнозировать умеренный рост поклонников Б. Акунина. Однако читать интеллектуально-отточенные детективные истории о России, стилизованные под Викторианскую эпоху, станет, вероятнее всего, лишь та (а скорее всего, это будет именно читательница), которая в колледже сталкивалась с Толстым.
Но ничего нельзя предрекать наверняка. Год назад немалый сюрприз преподнесла негритянская суперзвезда телевидения Опра Уинфри, ток-шоу которой ежедневно с подлинным благоговением смотрят миллионы женщин среднего возраста. Опра начала свою кампанию за чтение качественных книг с призыва познакомиться по ее примеру с удивительной «Анной Карениной». К потрясению славистов, роман, недавно заново переведенный на хороший и общедоступный английский, вдруг сделался массовым бестселлером, а в университеты пошли звонки из воскресных женских клубов при церквях с просьбами прислать им лекторов по Толстому.
В заключение: может ли дерридов земля российская рожать?
Ответ на сей вопрос, по теоретическому рассуждению, должен быть положительный. Потенциал такой есть, вернее, он создается. Постперестроечный развал несущих структур интеллектуального производства и, главное, расформирование самих отечественных аудиторий привели к массовому вымиранию прежних культурных практик. Далее наступили смутные годы имитационных ассимиляций, которые не подлежат реэкспорту по причине своей подражательности. Это равно относится как к отечественным вариациям на усложненные постиндустриальные и постмодернистские темы, так и к продуктам массовой культуры вроде «Ночного дозора» (продюсеры которого, слывущие в российском быту довольно зубастыми существами, немало удивили пионерскими заявками на вторжение в вотчины Голливуда). Вопрос о положении дел в полях российской интеллектуальной деятельности лежит за пределами задач данной главы, хотя и имеет к ней прямое отношение: что, собственно, будет экспортироваться на мировые интеллектуальные рынки помимо продуктов традиционного спроса вроде Толстого, физики, хоккея и балета?
Вернемся к статье о невероятном случае Жака Деррида. Ее автор, Мишель Ламон, показала, что взлет популярности Деррида, начавшийся в 1970-х гг., был связан с принципиально различными механизмами, действовавшими на американском рынке идей и в самой Франции. У себя на родине Деррида начинал как аутсайдер – все-таки сын маляра из колониального Алжира не обладал связями и культурными навыками, которые могли бы обеспечить ему парижскую карьеру. Точно так же как и его университетский приятель – социолог Пьер Бурдье, сын почтальона из беарнской глубинки, Деррида пробивался в Париже, умело нарушая устоявшиеся конвенции, которые именно в это время подвергались ломке во многом под воздействием мощной культурно-политической диффузии из Америки. Деррида впервые обрел свою аудиторию не в высокостатусной академической среде, контролируемой сорбоннской профессурой, а среди массы читателей интеллектуальной публицистики, аналогичной публицистике журналов «Новый мир» или «Искусство кино» советского периода.
В ходе своего продвижения на Париж через средние интеллектуальные слои Деррида выработал новый стиль и даже сами предметы философствования, нередко действуя на грани эпатажа. Гибридное скрещивание навыков прежней высокой культуры вкупе с американизированными приемами и темами масс-медиа стало секретом успеха Жака Деррида (как во многом и Бурдье). Однако в Америке, где отсутствует массовая аудитория интеллектуальной публицистики, механизм успеха был совсем иной. Деррида сразу стал популярен именно в высокостатусной академической среде отделений филологии и философии в качестве новой европейской моды, которая удачно совпала с кризисом англосаксонского эмпиризма и протестными настроениями среди младших преподавателей и аспирантов американских университетов. Программа постструктуралистской деконструкции Деррида (в чем она состояла – не суть важно) стала платформой в борьбе за смену поколений среди американских ученых. Впоследствии прием продвижения философии в массы (но не интеллектуальную программу) неожиданно успешно применил на правом фланге американской политики один из слушателей парижского семинара Жака Деррида Фрэнсис Фукуяма.
Какие уроки можно извлечь из случая Жака Деррида? Конечно, если бы он боролся за место не в Париже, сохраняющем налет былого величия, а где-нибудь в столице второго ранга в мировой интеллектуальной иерархии вроде Праги, Киева или Стамбула, то он бы не стал тем, кем он стал. Однако Москва или Петербург пока еще сохраняют свой мистически высокий статус – в этом заключена частица совокупного культурного капитала, накопленного российской традицией. Необходимо сразу оговориться, что существуют примеры практически полной потери даже более высокого статуса в результате длительных исторических потрясений – это прекрасная и, увы, сегодня мертвенная Вена или некогда славные германские университеты (вроде Тюбингена). Интеллектуальная жизнь вместе с потоком беженцев от нацизма и войн ушла из этих мест в те же Гарвард и Голливуд.
И все-таки принцип обновления творческой энергии в ядре мировых цивилизаций путем гибридизации и вторжения напористых талантов с более отдаленных орбит в центральную зону ресурсов и престижа сегодня продолжает действовать, как он действовал и в прежних цивилизациях, описанных Рэндаллом Коллинзом. В центрах регулярно возникают интеллектуальные пустоты, очаги исчерпания эмоциональной энергии, без которой невозможно творческое движение, как, впрочем, невозможно и удерживать внимание аудитории – философской, шахматной или, если угодно, фанатов на рок-концертах. Рок-группа из экзотичных армян на самой вершине американской концертной иерархии могла возникнуть только там, где истосковались по настоящему крутому драйву.
Суммируя, в Америке ныне все спокойно, но далеко не все здорово. Российская интеллектуальная жизнь представлена в основном традиционными наработками XIX в. (классическая литература) и XX в. (наука и спорт). В общественных и гуманитарных науках Россия представлена только в сжимающемся сообществе специалистов-страноведов. Но вполне возможно, российской культуре еще предстоит освоить позиции в мировых интеллектуальных полях и занять положение наподобие того, которое после 1945 г. заняли интеллектуальные державы Европы: Франция, Британия, Испания, те же Венгрия и Польша. Быть может, у нас даже есть то, что русский экономист Александр Гершенкрон некогда называл «преимуществом отсталости».
Весьма проницательный наблюдатель Крэйг Калхун, президент американского Совета по исследованиям в общественных науках (более известный грантополучателям по сакраментальной аббревиатуре SSRC), видит из своего манхэттенского кабинета едва ли не всю мировую науку. Зрелище представляется Калхуну отнюдь не самым отрадным. Генерирование новых идей в западной (не только американской) науке сегодня находится на самом низком уровне едва ли не за столетие. Наиболее интересные работы последних лет (а такие все-таки в потоке появляются) написаны преимущественно старшими учеными, которые продолжают свои разработки 70-х гг. Научной продукции производится масса, притом даже по нарастающей, поскольку среднее поколение ученых как никогда велико, но эта масса, грубо говоря, сильно измельчала и поскучнела. Это говорится не к вящему злорадству себе в успокоение – вон, де, у самих американцев какие проблемы. Проблема в значительной мере возникает от избытка профессионализации, которая ведет к узкой специализации и преобладанию надежных технических методов над всегда рискованным воображением. Многие из рисковавших в результате лишились работы путем профессионального отсева. Короче, оформился академизм, всегда чреватый эпигонством и застоем.
Когда Крэйг Калхун (кстати, прекрасно знавший и Деррида, и Бурдье, и многих прочих знаменитостей) воздевает руки к небу и восклицает: «На вас, русских, теперь надежда!» – он вполне прагматично подразумевает приток свежей крови. За пределами Америки и Западной Европы Россия и ближайшие соседи остаются едва ли не единственной серьезной базой интеллектуального воспроизводства, несмотря на потрясения последних лет, сохранившей достаточно автономные традиции и энергию. (Другой такой базой гуманитарного производства служат крупные страны Латинской Америки, но едва ли Китай и, увы, арабские страны.) В частности, как считает Калхун, у нас есть навыки развитой школы, при этом еще возможно знание, не специализированное по дисциплинам, и все еще почитается самоценной эрудиция, выходящая за пределы узкопрофессиональной компетенции, что типично для капиталистических рынков экспертных услуг. Такое недоинституционализированное положение дел создает необходимое условие для гибридизации культурного производства. Притом сегодня Россия вполне открыта контактам с другими интеллектуальными полями, а новые идеи возникают преимущественно на стыках полей со значительными потенциалами. Наконец, недавнее возникновение большой диаспоры бывших советских ученых в Америке еще может сыграть роль катализатора. Это не предсказание, но оценка возможностей, исходя из которых можно действовать.
Часть III В уме: наука о мире
О нашем месте в истории
Сергею Александровичу Арутюнову,
предшественнику и вдохновителю
НАМ ВЫПАЛО жить в период нескольких исторических переломов, происходящих одновременно на разных уровнях[28]. Переломы подчас настолько грандиозны, что мы их либо не замечаем из своей повседневности, либо отделываемся модным, поверхностным и излишне усложненным дискурсом про «глобальные проблемы современности».
Я беру на себя обязательство говорить по возможности доступно и призываю к этому всех остальных участников обсуждения. Наша задача как профессионалов научного знания – установить вразумительное общение между собой и затем попытаться сделать добытое знание полезным. В случае общественных наук это предполагает популяризацию как осмысленную цель и мерило успеха нашего занятия. Здесь я попытаюсь обрисовать, в каком положении сегодня оказались общественные науки и наметить возможности для, простите за неизбежно громкие слова, объяснения наших смутных времен. Но прежде я попробую указать, где источники этой смутности.
Возьмем преднамеренно обыденный пример. Где-то на улице большого города сегодня русская женщина покупает заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, результаты коренной трансформации ее общества в период советской военно-промышленной индустриализации.
Бананы выросли на индустриальной плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной корпорацией, для чего вырубили немало гектаров тропического леса и регулярно вносят массу химикатов, смываемых дождями в реки и далее в мировой океан. Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском дальнобойном грузовике.
Продает бананы азербайджанский торговец. У него аж пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках где-то в России. Учитывая известные нам обстоятельства, воплощенные в милицейском наряде у входа на рынок, азербайджанский микропредприниматель скорее всего действует под прикрытием фиктивной жены из бывших ивановских ткачих. Милиционер, сам родом из пришедшего в упадок уральского промышленного поселка, все это видит насквозь и вдобавок знает, что никто на этом рынке не платит даже десятой части налогов, но не эти налоги и пошлины собирает милиционер. Его начальство предполагает такое поведение, благодаря чему благополучно ездит на престижных иномарках, многие из которых, наверное, числятся в угоне где-то в Германии.
Братья-азербайджанцы меж собой зовут милиционера шакалом, снисходительно презирают своих местных временно-фиктивных жен и при любой возможности обсчитывают покупающую у них бананы москвичку. Эти персонажи не принадлежат к их моральному сообществу, на которое распространяются традиционные нормы. Конечно, милиционер и москвичка платят инородцам тем же презрением, но более открыто, поскольку находятся на своей территории обитания. Тем временем торговцы все еще лелеют надежду поднакопить и когда-то вернуться на родину, чтобы сделаться главами настоящих традиционных семейств, обзавестись четками и ходить в мечеть с другими почтенными людьми или проводить время за чаем и нардами. Только где их очаг? Они родом из села, которое давно под контролем армии карабахских армян и скорее всего полностью разрушено. Да и в самом Азербайджане есть полиция со своими представлениями о пошлинах и социальной иерархии.
Думаю, этого вполне уже достаточно и для бытовой узнаваемости и для выхода на большие теоретические вопросы. Итак, какие глобальные процессы мы наблюдаем в этой обыденно повторяемой микроситуации? Рыночную глобализацию, демографические тренды, экологическое давление на природу планеты, мировую миграцию, эрозию государственности, столкновение цивилизаций? Конечно, можно легко отделаться стандартным ответом из американских тестов – all of the above, все перечисленное выше. Но в какой системной взаимосвязи, в какой причинно-следственной последовательности анализировать эмпирическую картинку? Что вытекает из чего? И не упускаем ли мы чего-то главного?
Думаю, главное здесь – не отдельная проблема, а метаусловие большинства мировых проблем. Это ломка деревенских структур жизнеобеспечения. Вымирание деревенских сообществ происходит в сочетании и во многом по причине исторически беспрецедентного демографического давления. Взрывание и обрушение традиционных способов организации жизни сопровождается недостаточностью государственных и рыночных структур перед наплывом нуждающейся в новом жизнеустройстве человеческой массы. Жители преимущественно северных стран мира, чьи предки два-три или четыре поколения назад пережили аналогичную ломку (но в совсем других условиях), сегодня превращаются в стареющее и сокращающееся меньшинство. Однако это меньшинство унаследовало лучшую часть мира, где сегодня сосредоточены главные политические структуры, экономические и культурные капиталы.
Оставим нормативную полемику о справедливости или несправедливости такого положения дел. Она, скорее всего, попросту неразрешима, если ставить вопрос в виде взаимоисключающего выбора, который прямо соотносится с позиционными жизненными интересами людей, оказавшихся в разных социальных классах и регионах мира. Главное, подобная поляризация в нашем тесно взаимодействующем мире будет постоянно порождать конфликты и кризисы, пока не будет достигнуто какое-то более устойчивое и воспроизводимое состояние. Вероятно, потенциально устойчивых состояний несколько, но пока не ясно даже, как бы они могли выглядеть. В такой опасной и по меньшей мере неудобной неопределенности нам предстоит жить еще достаточно долго. Кризисы исторических систем могут продолжаться столетие и более. Но впервые системный кризис происходит на глазах у социальной науки, которая сама есть результат системной рационализации последних двух-трех столетий. Здесь, по моему мнению, находится основная задача всех разделов социального знания сегодня – от нормативно-утопического до сравнительно-аналитического и прикладного управленческого. Попытаемся прояснить, какие сдвиги происходят в мире и затем какие сдвиги происходят в нашем знании об этом мире.
Проницательный Эрик Хобсбаум в своей истории XX в. отмечает важнейшую веху: «Для 80 % человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-е гг.»[29]. По всему миру быстро исчезает сельский уклад жизни, который с наработанным автоматизмом организовывал социальное и хозяйственное воспроизводство значительного большинства человечества. Так продолжалось в течение нескольких тысячелетий, минувших со времен Неолитической революции. Традиционный сельский уклад с его «средневековыми» (на самом деле куда старше) чертами предполагал довольно трудную и, как правило, краткую жизнь. С другой стороны, та жизнь нередко была расцвечена теплыми эмоциями, возникающими в привычной среде между родными или давно знакомыми людьми с глубоко усвоенными и предсказуемыми поведенческими ролями. Откуда и ностальгия по деревенской простоте.
Наши консервативно-ностальгические или, напротив, прогрессистские предпочтения имеют очень незначительное влияние на происходящее. Деревня сделалась демографически невозможной с появлением современной санитарии и макрогеографических структур (будь то государства или рынки), способных достаточно эффективно доставить массу продовольствия в случае угрозы голодного вымирания. Деревня стала также и экономически невозможна с индустриализацией сельского хозяйства. На смену крестьянам пришли намного более производительные и оттого малочисленные фермеры. За истекшее столетие страны периферии утратили роль аграрного придатка, при этом мало кому удалось пока обрести новые устойчивые роли в мировой экономике. Аграрное производство из трудоемкого сделалось капиталоемким и потому сместилось в центры капиталистического накопления.
Где-то до 1970-х гг. процесс отмирания сельских сообществ приветствовался как прогрессивный модернизационый переход к современному типу общества. В тот оптимистический период это многим казалось верным и подтверждало исторический оптимизм. Настроения резко меняются после нефтяного шока 1973 г.? за которым последовало замедление экономического роста и повсеместные кризисы государственных финансов. В сумме это вызвало резкое падение доверия к властям и снижение уверенности властей в самих себе. Отсюда многочисленные демократизации последующих лет и либерализации экономик, нередко провальные – политики разных стран, имитируя друг друга и воспринимая ставшие популярными в тот момент либеральные идеологемы, искали способы ослабить давление на себя и продемонстрировать, что они предпринимают усилия против кризиса. Из этого также вытекает рост коррупции и ослабление едва ли не большинства государств мира в последние два десятилетия. Вместо трудностей госуправления в условиях кризиса и элементарной опасности оказаться свергнутым, многие правящие элиты избрали сверхкраткосрочную, пожарную стратегию «хватать и бежать» либо, оставаясь у власти, делиться ее плодами только со своими непосредственными клиентами в обмен на поддержку патрона с их стороны. Действенные полиция и суды, бюрократический надзор и реальные демократические процедуры были бы тут досаднейшей помехой. (Главным исключением служат страны Восточной Азии, где в ответ на американские поиски способов понижения производственных издержек началось такое экономическое возрождение, при котором даже коррупция оказалась не особенно вредна, а то и полезна для действенного управления.)
Трезво рассуждая, кризис 1970-х гг. так и не был преодолен. Этот, надеюсь, достаточно узнаваемый набросок основных черт и причинно-следственных связей последних трех десятилетий показывает, что мы по-прежнему живем среди разнообразных последствий того кризиса. В данном случае все еще модные сегодня приставки «пост», похоже, соответствуют нашим смутным реалиям. Одна эпоха закончилась, но наступила ли другая? Возникло ли достаточно структурных определенностей, чтобы можно было говорить о новой системной конфигурации? Ближайший пример дает наша страна – Россия остается именно постсоветской. Но и даже всем на зависть растущий Китай остается пока постсоциалистическим. Несмотря на активное включение в мировые рынки, еще предстоит увидеть, кому в Китае будет принадлежать собственность и как распределятся блага.
Что тем временем происходит со многими миллионами мировых мигрантов, которые по-прежнему, но теперь еще более массово и куда более отчаянно устремляются в города? Вернее, в хаотичные трущобные «посады», разрастающиеся в последние десятилетия вокруг и внутри практически всех городов мира, от Парижа до Калькутты, от Москвы до Душанбе. Что и каким образом заместит культурные комплексы, социальные сети взаимоподдержки, структуры жизнеобеспечения, утрачиваемые бывшими крестьянами? От классической социальной теории нам не досталось даже классификационных концепций для понимания этой людской массы, покинувшей село, но не находящей себе места в чуждой для них городской среде. Люмпены, маргиналы, субпролетарии?
Пример более-менее преодоленной дерурализации стран Запада в XIX в. едва ли предоставляет адекватные аналогии. Тогда Запад господствовал над остальным миром и мог экспортировать избыточное население в колонии. Сегодня куда большая демографическая масса устремляется из бывших колоний в их городские центры и, при всякой возможности, далее в сами метрополии. Нищета имущественная и культурная приобретает глобальный характер и притом явно отмечена расовыми и религиозными признаками. Конечно, мы это видим и нередко чувствуем на личном микроуровне. Но насколько мы сегодня способны внятно рассуждать на такие темы, не впадая в фобии и проповеди? Какие теории дают нам языки описания и аналитические приемы, способные продвинуть понимание проблем?
Что происходит с мировой демографией? Грядет ужас, или все-таки страхи были преувеличены? Что на самом деле творится с экологией? Можно ли что-то поделать с потеплением климата, и вообще, как и к чему готовиться? Есть ли возможности для общемировой координации? Или прежде должен грянуть какой-то разрушительный кризис, который может нас попросту убить, но, хотелось бы надеяться, лишь потрясет различные устои и тем самым создаст политические условия и побудительные мотивы для общемирового ответа?
Как быть с той же пресловутой глобализацией рынков, о которой столько и в основном триумфально говорилось до недавних пор? Похоже, главным результатом глобализации оказалось не экономическое возрождение Запада после кризиса 1970-х гг., а возвращение Китая на позиции неоспоримо крупнейшей производственной базы мира – чем Китай, судя по недавним открытиям экономических историков, был по крайней мере до 1800 г. С одной стороны, это грозит таким усилением конкуренции на мировых рынках, что становится проблематичным устойчивое извлечение высокой прибыли. Отомрут ли корпоративные гиганты Запада? Как будут на это реагировать население и политики ныне богатых стран?
С другой стороны, материальный рост Китая порождает диффузионные эффекты, начинают выбираться из затяжной стагнации другие страны мировой периферии. Появилась ли вдруг надежда на выравнивание мировых уровней доходов и политического влияния? Быть может, нынешней структурно безработной люмпенской массе предстоит найти новые источники существования и включиться в самовоспроизводство? Сколько всего тогда начнет самообустраиваться! Впрочем, кто сказал, что возобновление экономического роста означает политическую стабильность? Опыт индустриализации и урбанизации Запада показывает, что как раз в этот более оптимистичный период и стоит ожидать острой борьбы за право определять политику и распоряжаться общественными ресурсами. Только политику и ресурсы чего? Национальных государств, транснациональных олигархических корпораций, или возникнут принципиально новые арены политического взаимодействия?
И не забудем: пока новый виток индустриализации и урбанизации не выйдет на стабильное плато, как быть с экологией? Кто заплатит за экологическую перестройку мировой экономики, если это вообще возможно? А если, упаси боже, прогнозы ломки климата нашей планеты все-таки подтвердятся? Как будут реагировать на, казалось, преодоленную и полузабытую угрозу массового голода различные регионы мира, социальные группы, политики и военные? Будет ли в этом случае кому-то дело до науки и культуры?
Хотелось бы надеяться, что лет через тридцать буду жив и стану перечитывать эти апокалиптические вопросы с неловкой усмешкой. Вот же, бывали пугалки! Но сегодня, в наши смутные времена, я нахожу долю оптимизма в науке. Кое-что мы все-таки знаем.
Рэндалл Коллинз, который видит социальные науки шире и четче большинства из нас, со своим обычным спокойствием утверждает, что мы живем в Золотом веке исторической макросоциологии[30]. В 1970-е гг. были совершены прорывы в понимании исторической динамики древних обществ и современного капитализма, институциональных условий и нишевосетевой природы рынков, неформальных экономик, роста (а также распада) современных государств, возникновения революций, мобилизации общественных движений, источников и динамики демократизации, в понимании национализма и этничности, причин коррупции и организованной преступности или в объяснении самого научного и художественного творчества. Наступает, по словам Коллинза, этап более массового научного освоения теоретических прорывов предшествующего поколения и синтеза различных исследовательских направлений.
На первый взгляд, откуда такой оптимизм? Со всех сторон слышны жалобы на скуку и измельчание интеллектуальной жизни в конце XX в. Но стоит серьезно прислушаться к словам Рэндалла Коллинза хотя бы потому, что он был одним из совсем немногих ученых, именно теоретически (т. е. не политически декларативно и не по-экспертному интуитивно) предвидевших распад СССР. В начале 1980-х гг. это также воспринималось, мягко говоря, с недоумением в профессиональной среде советологов.
Обнадеживает, что оптимизм Коллинза и его призыв к «кумуляции социального знания», добытого различными школами, перекликается с оценками другого важнейшего на сегодня макросоциолога – Джованни Арриги, который также не был замечен ни в полемической запальчивости, ни в опрометчивости прогнозов[31]. Напротив, Арриги в своем фундаментальном исследовании исторической эволюции центров капитализма «Долгий двадцатый век», написанном в начале 1990-х гг., теоретически предсказал и наступление финансового «вторичного процветания» США, и вероятность попытки силового закрепления американской гегемонии путем создания мировой военной империи[32]. Сегодня Арриги предлагает искать зоны взаимного усиления между различными школами социального анализа современности, прежде всего экономической социологии рынков и миросистемного анализа капитализма, восходящего к Фернану Броделю, а также сравнительно-исторической социологии государств, начало которой положили исследования Теды Скочпол и Чарльза Тилли.
Оценки Коллинза и Арриги относятся к более детальному уровню анализа состояния дел в социальной науке, нежели известная и всеохватывающая эпистемологическая критика Иммануила Валлерстайна[33]. Тем и лучше – из такого взаимодополнения начинает вырисовываться более четкая и многоуровневая картина.
Отдельный исследовательский прорыв связан с уже упоминавшимися именами Чарльза Тилли (который продолжил линию историко-социологического объяснения европейской политики норвежца Стайна Роккана), а также Теды Скочпол (в свою очередь ученицы Баррингтона Мура) и неовеберианцев Джека Голдстоуна и Майкла Манна. Предмет их исследований – формирование современных централизованных бюрократических государств и одновременно общественное сопротивление этому процессу в виде мятежей элиты и народных восстаний, национальных сепаратизмов и фабричных забастовок, оформления массовых партий и социальных революций эпохи Нового времени. Из такого сложного, исторически изменчивого, неоднозначного взаимодействия двух трендов – формирования бюрократической государственности и общественного сопротивления растущей власти государства – в результате и возникают либеральные демократии Запада.
Наряду с миросистемным анализом капитализма, это наиболее успешное из новых направлений исторической макросоциологии. В обоих случаях были преодолены канонические схемы либерализма и марксизма, исходившие из типичных для XIX в. однолинейных эволюционных представлений о непреложных законах истории. Там, где ранее господствовала идеологическая телеология (в виде стадий модернизации или общественных формаций), где историю вершили абстрактные персонажи и фетишизируемые принципы (классовая борьба, технический прогресс либо идея свободы), теперь исследуются и «картографируются» сложные и изменчивые экологические ландшафты. Они наполнены социальными сетями, классами и статусными группами (идентичностями), политическими движениями, государственными учреждениями и капиталистическими организациями и не в последнюю очередь – конкретными людьми, действующими в насыщенном историческом контексте по своему культурно обусловленному разумению.
Картина перемен в социальных науках усложняется, но и становится рельефнее, если попробовать прочесть под данным углом зрения теоретиков «дискурсивно-культурного поворота» в социальной науке: Джорджа Стайнмеца, Билла Сьюэлла, Маргарет Соммерс, Эмили Хауптманн, Майкла Даттона, Тимоти Митчелла, Филиппа Мировски[34]. К тому же ряду относится, скажем, и прекрасный критический разбор теории модернизации, предложенный Нильсом Гилманом[35]. Культурологическая критика направлена на выявление идеологических основ и дискурсивных практик господствующей парадигмы неоклассической экономики и позитивистского мейнстрима политологии. Тут культурологи добились неоспоримых успехов. Сегодня это отдельный фронт интеллектуального сопротивления, чьи позиции весьма прочны на гуманитарном фланге науки.
Вместе с тем на данном направлении противостояние приобрело характер затяжной позиционной войны. Культорологическая критика сильна в обороне своей области знания, но менее эффективна в объяснении материальных структур современного мира. Поэтому экономисты и политологи в большинстве случаев могут попросту игнорировать гуманитарного противника, пользуясь своим подавляющим превосходством институционального контроля над господствующими высотами и главными материальными ресурсами интеллектуального поля.
Вполне возможно, что мостом между историко-социологическими и культурологическими школами может послужить социология Пьера Бурдье. Этот исключительно влиятельный и энергичный француз двигался своим особым путем и создавал свой собственный научный язык. Притом Бурдье был известным забиякой и полемистом. Но даже и сам Бурдье признавал, что его мысли и поиски двигались в том же направлении, что историческая социология Чарльза Тилли.[36]
Бурдье сделал очень много для систематического заполнения того места в анализе социальных структур, стратегий социального господства и их соотношения с практиками культуры, которое традиционно занимали марксизм, особенно в его поздней грамшианской версии, и либеральные теории, связанные прежде всего с именем Карла Маннгейма. По сути Бурдье создавал политическую экономию культуры – понимаемую вовсе не как набор непреходящих ценностей и шедевров искусства, но как поле конкурентно-конфликтных взаимоотношений по поводу того, что считать ценностями и шедеврами. Школе Бурдье после его неожиданной смерти в 2002 г. предстоит доказать свою способность развиваться без великого основателя и вождя. Но даже если круг его учеников распадется и на какое-то время имя Бурдье окажется непопулярно (прежде всего именно потому, что еще недавно оно казалось таким модным), концепции габитуса, символического капитала и индивидуально-групповых траекторий в социальных полях останутся очень полезным инструментарием в арсенале новой социальной науки.
В научных дисциплинах, которые более удалены от поля власти и занимают относительно маргинальные позиции в современной академической среде – в социальной антропологии и экономической географии – соответственно, оказался и больше зазор для свободы теоретического экспериментирования. Сошлюсь на знаковые работы лишь двух видных ученых. Это теоретический археолог Тимоти Эрл, прямой продолжатель эволюционной политэкономии архаических обществ Маршалла Салинса и Элмана Сервиса. Тимоти Эрл применил очень элегантную версию синтеза концепций Майкла Манна, Пьера Бурдье и миров-экономик Фернана Броделя к объяснению изменчивости структур власти в предгосударственных образованиях (вождествах). При этом брались преднамеренно удаленные друг от друга примеры: древних инков, вождества Скандинавии и Придунайской равнины эпохи Бронзового века, а также Гавайских островов накануне контакта с европейцами[37]. Среди географов сегодня одним из наиболее влиятельных теоретиков является англичанин Питер Тэйлор, который отслеживает на протяжении последних веков пространственное измерение современности в эволюции рынков, капиталистических городов и государств. При этом политико-экономическая география Питера Тэйлора удивительно органично сопряжена с трансформацией современной культуры – как материально-бытовой, так и «высокого» искусства[38].
Это уже не единичная удачная попытка сопряжения миросистемного анализа с культурологией. Итальянский филолог Франко Моретти в последние годы очень продуктивно и, надо добавить, провокативно разрабатывал идею картографирования литературы, прежде всего западноевропейского романа. Притом Моретти сосредоточен не на интерпретации единичных высоких достижений, признаваемых литературной классикой, а стремится описать целиком хаотически самоорганизующийся эволюционный поток творческого производства[39]. Выходившие в последние годы одна за другой книги и статьи Моретти произвели фурор в литературоведческой среде, где, несмотря на постмодернистский скептицизм, на самом деле остаются весьма сильны жанровые традиции и механизмы профессионального контроля внутри гильдии посредством сохранения определенного канона и представлений о подобающем стиле. Впрочем, темпераментный Моретти (к тому же защищенный званием профессора Стэнфордского университета), похоже, с удовольствием использует фурор для продвижения своих новаций.
Наконец, очень важно, что мощные и принципиально аналогичные подвижки проявились в естественно-исторических науках. Об этом замечательно писали Стивен Джей Гулд, гарвардский профессор эволюционной биологии и при этом в последние двадцать пять лет – несомненно, самый знаменитый популяризатор науки, и также не чуравшийся популяризации лауреат Нобелевской премии по химии бельгиец Илья Пригожин (кстати, оба великих ученых, для интересующихся, происходили из семей еврейских эмигрантов из Российской империи)[40].
Так в чем же состоит сдвиг парадигмы? Одной фразой можно сказать, что идет переосвоение интеллектуального пространства и тематики, ранее занятых историческим материализмом. Политическое вымирание марксизма-ленинизма в 1970-е – 1980-е гг. произвело колоссальный освободительный эффект. Появилась возможность для экспериментирования и дальнейшего продвижения там, где прежде господствовала ортодоксия, подкрепленная не только собственной политической организацией и идейным надзором, но и куда сильнее бинарной оппозицией холодной войны. Как любил повторять Пьер Бурдье, самая мощная ортодоксия не выступает в одиночку, а является нам в виде антиномии, как пара якобы взаимоисключающих положений. Интеллектуальные критики, инакомыслящие и экспериментаторы автоматически воспринимались как отступники и перебежчики, место которым в противоположном лагере. Одновременное преодоление обеих ортодоксий было настолько же трудным, насколько и необходимым условием для развития науки об обществе.
В интеллектуальном поле холодная война началась не после 1945 г. и не в 1917 г., а сразу после европейских революций 1848 г., когда в ответ на вызов слева формируется либерально-консервативный канон социальной науки. Наиболее отчетливо это видно на примере неоклассической экономики, поскольку в современном западном обществе это одновременно наиболее идеологически востребованная и наиболее прикладная из дисциплин[41]. Для коммунистических партий и государств аналогичную роль играла философия, достигшая положения метадисциплины и вобравшая в себя едва не целиком все знание об обществе. Противостояние мощно подкреплялось организационными и материальными ресурсами соответствующих политических движений и государств, полемика генерировала заряды эмоциональной энергии, и интеллектуальное производство двигалось в течение нескольких поколений с впечатляющими успехами в накоплении эмпирических знаний, теорий, исследовательских методологий – наряду с колоссальным численным ростом научных сообществ по обе стороны политического раздела. Развитие массового университетского образования в течение всего периода с середины XIX в., особенно в 1950-е – 1960-е гг., создало беспрецедентную организационную базу для профессиональной научной деятельности. В самом деле, сегодня есть, что вспоминать с ностальгией – хотя при этом хорошо, если взор не затуманен.
Социальная наука и на Западе, и в соцлагере в начале 1960-х гг. одновременно столкнулась с внутренним сопротивлением, переходящим в восстание. Восстание было направлено против ортодоксального канона, который оформился с обеих сторон в основном в 1930-e – 1950-e гг. Двигателем протеста выступало тогда молодое и численно беспрецедентно большое поколение молодых мужчин и женщин, в основной массе технических специалистов и нередко интеллигентов в первом поколении из числа нацменьшинств, провинциалов, которые наряду с обретением высшего образования прошли в период взросления через мощное социальное продвижение и, соответственно, приобрели заряд оптимизма. Новые образованные слои стремились сломать барьеры, традиционно удерживавшие статусно «младших» в подчинении статусно «старшим» (т. е. начальству), и привести структуры политической власти и культурные нормы в соответствие со своим возросшим весом в общественном воспроизводстве.[42] В самых общих чертах, оставив пока конкретные сюжеты, мы здесь находим объяснение общемирового феномена «шестидесятничества».
Демографическое и культурное давление «младших» привело к скачкообразному росту всевозможных нонконформистских проявлений: в моделях личного поведения и массовой моде, в сексуальных предпочтениях и в семейном быту, в искусстве, в сфере религиозной догматики и ритуала (откуда как и размытый «новый спиритуализм», так и воинственно антиструктурный фундаментализм), наконец, в интенсификации рыночного и политического предпринимательства где-то с конца семидесятых годов. Обычное отождествление нонконформизма шестидесятых с движением «новых левых» упускает из виду, что к той же волне или ее вторичным накатам принадлежат и неоконсерваторы, и неонационалисты (в России выступающие преимущественно в жанре богемно-поэтизированной геополитики и конфликтологии), и фундаменталисты различных религий, и рыночные младореформаторы всех стран. Так или иначе, все это было формами вызова истеблишменту и начальственной опеке, предписывавшим вести себя «в рамках». Отсюда и ошеломляющая легкость, с которой многие из бывших Новых Левых превращались в Новых Правых, в националистов, в венчурных капиталистов и т. д.
В поле социальной науки нонконформизм младшего поколения вылился прежде всего в критику ортодоксальных интерпретаций путем возврата к изначальным идеям основателей. Отсюда разнообразные движения с приставкой «нео»: более всего, конечно, неомарксизм, противостоявший догматизму компартий, но также неовеберианство, отвергавшее техницистскую интерпретацию Талкотта Парсонса, или неолиберализм в экономике, направленный против гегемонии кейнсианства. (Отметим, что полного возврата не деле не произошло и, учитывая сильно изменившиеся реалии, не могло произойти – как неомарксисты не упоминали о диктатуре пролетариата, предпочитая гуманистические наброски молодого Маркса или Грамши, так и неолибералы предпочитали умалчивать об идеале золотого стандарта, который бы лишил современные правительства Запада важнейшего механизма социальной регуляции.)
Знаковые фигуры возрожденческих движений порой принадлежали к старшему поколению – Дьёрдь Лукач для неомарксистов шестидесятых или Фридрих фон Хайек и Милтон Фридман для рыночных неолибералов семидесятых. Но знаковыми этих уже почтенных профессоров, надолго изолированных в период ортодоксии, сделали именно их молодые и энергичные читатели. В том же русле возникает «крестьяноведение», лидерами которого выступили Джеймс Скотт и Теодор Шанин, который заново ввел в научный оборот идеи Чаянова и политэкономии русского народничества, а также сравнительно-филологическое движение на Западе, чье вдохновение питалось от других полузабытых русских авторов: фольклористов Бахтина и Проппа либо «формалистов» Тынянова и Шкловского и историко-структурного лингвиста Романа Якобсона (в конце своей жизни оказавшегося в Гарварде, где он также сыграл роль знаковой фигуры возрождения).
К началу восьмидесятх годов возрождение с приставкой «нео» начинает угасать. На смену ему приходят движения уже не возрождения, а отхода от традиции и ее критики. Многие тогда обзавелись приставкой «пост»: постструктурализм, постгуманизм, постреализм, постфеминизм, постмарксизм, постколониализм, франко-английская школа постфордизма в политэкономии и, конечно же, самый популярный из «постов» восьмидесятых – постмодернизм.
Критический вектор «пост» движений был направлен против фундаментальных положений и самих способов построения классической теории. Достигалось это в основном методом «деконструкции», направленным на выявление скрытых, предрациональных и обычно неосознаваемых предпочтений и презумпций так называемых классиков и их последователей. Главным результатом стала критическая атака на всю парадигму социальной науки XIX в. и особенно на сциентизм, достигший пика в 1950-е гг. Гуманистическая критика на самом деле, конечно, служила предупреждением современникам. Предупреждение было важным, но его ничто не отделяло от абсолютного сомнения в самой возможности обобщающей теории. Вслед за первыми раскатистыми залпами «постам» оказалось трудно двинуться в каком-либо направлении. Возникла заминка, если не тупик, что сегодня во многом (не во всем, но все-таки в очень многом) характеризует ситуацию и особенно в гуманитарно-философских областях.
Наиболее отчетливо признаки спада интеллектуальной активности проявились за пределами США. В шестидесятых-семидесятых годах европейские интеллигенции предприняли славную и очень впечатляющую контратаку на послевоенную гегемонию англо-американского сциентизма. Но затем наступает спад активности и Европа едва ли не пуще прежнего провинциализируется по отношению к США. Помимо общей теории происходили изменения и в других сферах творчества, которые я здесь не рискну определять. Однако с 1980-х гг. спад и провинциализация явно наблюдались также в художественных полях, в частности, в европейском кино.
Явно не в одной материальной базе тут дело. Бедность осложняет творческие занятия и привносит в них горечь. И все-таки сама по себе бедность не может воспрепятствовать интеллектуальным занятиям, даже таким относительно капиталоемким, как кино, журналистика или, в другой области, теоретическая физика и химия. В 1980-е и особенно в 1990-е гг. что-то случилось с самим интеллектуальным тонусом, куда-то подевалась эмоциональная энергетика.
Еще раз оговорюсь. Всегда есть опасность пережать в обобщениях и упустить из виду важные контрпримеры. Говорить о полном спаде только в социальных науках и в культурном поле было бы и огульно, и аналитически ошибочно. Однако представляется, что общие понижательно-измельчательные тенденции именно таковы.
В Латинской Америке перепад был еще драматичнее. Если где-то в районе 1970 г. этот прежде удаленный континент оказался представлен именами мирового значения практически во всех областях, от социологии до музыки и литературы (возможно, следует добавить сюда и футбол), то ничего подобного уже нельзя было сказать в 1990 г. или 2000 г. От былого сочетания колоритной местной самобытности с виртуозностью мирового класса остались ностальгические воспоминания, хотя и воспоминания о былом успехе могут послужить культурным капиталом на другом витке истории. Господствующие позиции в интеллектуальных полях стран Латинской Америки, и особенно в университетах, перешли к подражателям ортодоксальных англо-американских образцов (факультеты экономики представляют, конечно, самый разительный пример), в то время как наиболее известные и оригинальные латиноамериканские интеллектуалы сами мигрировали в США и Канаду.
То же самое произошло и с Африкой, где наибольшие успехи были связаны с шестидесятнической литературой (вспомним хотя бы Чинуа Ачебе) и социальной критикой (Махмуд Мамдани). Теперь африканская (как и арабская) общественная мысль практически целиком оказалась в диаспоре, вернее в европейских столицах и американских университетских кампусах. С соответствующими поправками, нечто подобное можно не без горечи сказать и о нашем уголке мира – Восточной Европе.
Свято место большой теории оставаться пусто не могло уже хотя бы потому, что в англо-американской науке (в континентальной Европе конкурентность несколько ниже) индивидуальные научные карьеры напрямую связаны с количеством и престижным рейтингом публикаций. Надо постоянно придумывать темы диссертаций, конференций, монографий. Но как? В новых формулировках началось восстановление сциентистских подходов и сюжетов из предкризисного периода. Скажем, неоинституционализм фактически возродил программу структурного функционализма, теории рационального выбора восприняли наиболее сциентистские и схоластические аспекты системных амбиций школы Талкотта Парсонса (но без указания на источник и далеко без прежнего парсонианского охвата). Другой крайне распространенной стратегией, типичной для периодов спада, оказалось перетолковывание признанных теорий на относительно новом материале и общее измельчение тематики. Отметим, однако, что полного возврата к ситуации 1950-х гг. не произошло. Гуманитарно-текстологические дисциплины и более «социальные» из социальных наук (антропология, социология, история) закрепились на рубежах, достигнутых ими в семидесятые годы или в начале восьмидесятых. На тех позициях, в целом, они и остаются сегодня.
Наряду с внутренними для социальной науки проблемами в 1980-е гг. мощно проявились две новые тенденции. Во-первых, общемировое вымирание политических альтернатив, марксизма в первую очередь, но также и более оптимистичных вариантов национализма (антиколониализм Третьего мира, европейские патриотические течения) резко сузило пространство для нонконформистских проявлений и восстановило господство одной из сохранившихся ортодоксий. Это было провозглашено концом идеологической истории. Нонконформизм всевозможных видов не столько подавлялся, сколько стал казаться устаревшим и ненужным, поскольку за пределами академической среды исчезли соответствующие референтные аудитории, протестные политические настроения и движения. Соответственно, вплоть до отрицательных величин понизился заряд эмоциональной энергии в общественной сфере, откуда подпитывалась публицистика, но также большинство видов искусства и социальная наука. Катастрофически резкий перепад настроений и интеллектуального производства в Восточной Европе после пика 1989 г. – лишь крайний пример.
Во-вторых, общемировое давление в сторону сокращения государственного финансирования (хотя в различной степени в разных странах) побуждает университеты и исследовательские институты искать способы самофинансирования. Развивается коммерческое образование, рыночно-применимая наука (информатика, биотехнология), и та прикладная отрасль социальной работы, которая в новый период превращается в «надомную индустрию» неправительственных организаций. Самым мощным примером самофинансирования науки и образования стал рост и преобладание школ бизнеса. Элементарная статистика: только номинальные зарплаты в американских школах бизнеса вдвое-втрое выше зарплат на гуманитарных факультетах, не говоря о высокодоходных консалтинговых возможностях. Все, что может себя выдать за полезное для бизнеса знание, начинает мимикрировать в этом направлении – от прикладной психологии и социологии рынков и потребительского вкуса до деловой этики и офисной эстетики.
Дифферент в доходах, однако, сам по себе не дает удовлетворительного объяснения. Куда важнее, что резко изменился общественный климат. Точнее, при сужении и утилитаризации общественных представлений о полезности науки, культурных навыков и абстрактного знания оказались обесценены типичные для прежних поколений интеллигенции формы символического капитала. В новых условиях стало очень трудно чувствовать и (употребляя гоффмановский жаргонизм) социально репрезентовать себя бедным, но при этом благородным, либо полезным для человечества, либо изобретательным в поведении и самовыражении, либо романтичным и виртуозно культурным. Притом, следуя общей тенденции, сами предметы и практики высокой культуры (книги или опера) стали требовать куда больших затрат.
Довольно причитаний. Давайте лучше проведем мысленный эксперимент. А как бы выглядела та самая, Томасом Куном описанная коперниковская революция в объяснении мироздания из середины периода, который историки зовут кризисом XVII столетия, из года эдак 1650 или 1660-го? Сам Николай Коперник к тому времени благополучно упокоился в своем костеле, не оставив учеников, Галилей поплатился за дерзкие публикации и тогда еще мальчишка Ньютон не знал, что Кеплер оставил ему в наследие законы движения небесных тел, которые сам Кеплер не смог теоретизировать. Конечно, это имена тех, кого много позднее провозгласят плеядой титанов научной революции Нового времени. Только титаны при жизни не были плеядой. Они жили выдающимися одиночками в мире, где господствовали средневековые представления, которым и сами они отдавали должное: Кеплер зарабатывал на жизнь астрологией, Ньютон большей частью искал философский камень.
Астрология представляет нам, быть может, очень полезный пример. Напомню, это была удивительно мощная дисциплина, за которой стояли классические авторитеты древности, масса добротных эмпирических данных, накопленных за долгие века, а также стройная логика и математический аппарат. Это было подлинно транснациональное интеллектуальное поле, центры которого располагались на межцивилизационном пространстве от Японии до Самарканда и от Индии до Парижа. Более того, центры взаимодействовали между собой посредством переводных публикаций. Это была дисциплина с мощной теоретической базой и регулярным, престижным применением в политической практике. Едва ли не во всех дворцах и правительствах прислушивались к экспертному мнению звездочетов. Чем не параллель с современной экономической наукой?
Да, в основе прежнего экспертного знания лежало ныне сомнительное (но даже сегодня не для всех) допущение, что наблюдаемое и теоретически предсказуемое движение небесных тел обладает причинно-следственным воздействием на политические и личные выборы людей. В основу неоклассической экономики также заложены аксиомы о том, что сельская ярмарка может служить прообразом капиталистической экономики, что все в этом мире стремится к равновесию, а человеческое поведение следует неизменным абстрактным моделям сродни поведению атомов.
Если отвлечься от титанического статуса, позднее приобретенного Коперником, его даже не открытие, а предположение было удивительно просто – если сменить перспективу, то многое в наблюдаемой системе встает на свои места. Собственно, к этому и сводятся теоретические прорывы 1970-х гг. в социальной науке, будь то миросистемный анализ Валлерстайна, сравнительно-историческая политология Тилли или социология культуры Бурдье. Сопротивление также совершенно предсказуемо. Во-первых, действует коллективный интерес первой гильдии интеллектуальных специалистов, астрологов в одну эпоху или экономистов в другую. Куда серьезнее, что научный переворот неизбежно подрывает легитимацию существующей власти. Галилея преследовали далеко не мракобесы[43]. Его осудили при папе Урбане VIII, одном из самых просвещенных глав Римской церкви. Несмотря на личную дружбу и покровительство, тот прекрасно видел, насколько Галилей его «подставил» (современное выражение тут уместно, поскольку коллизия совершенно аналогична отношениям советских диссидентских интеллектуалов с просвещенным крылом высшей номенклатуры). Предположить посреди Контрреформации, что небосвод не строится по канонической иерархии?! Что дальше, множественность центров власти вместо Божественной империи? Возможность рационального переустройства мира? Политический анализ Урбана VIII был безупречен, даже если и оказался тщетным. Конечно, все именно так и вышло в истории.
Сегодня мы живем в свою эпоху контрреформации и исторического кризиса. «Коперниковский» сдвиг перспективы произошел уже почти поколение назад и не единожды. Как часто бывает в науке, прорывы были параллельно совершены несколькими учеными. После прорывов идет накопление знания и попытки соединения самих прорывов. Но пока не родился или не проявился Ньютон нашего времени и тем более пока далеко до момента, когда новое знание превратится в азбучные истины.
Идейная эволюция столетия крайностей
ДВАДЦАТЫЙ век – совершенно исключительный период в истории идей. Такого бурного и широкого разлива не случалось никогда и, вероятно, больше никогда не случится. Почему так, откуда берутся и зачем нам вообще нужны идеи?
Идеи, конечно, возникали и в прошлом, начиная с самой далекой первобытности. Рисунки мамонтов на стенах пещер, женские фигурки «палеолитических венер» с гипертрофированными детородными органами, следы тщательно спланированных погребений древнейших охотников или регулярно чередующиеся, скорее всего календарные, зарубки на обломках бивней представляют собой отголоски архаических верований относительно не просто самого важного для первых хомо сапиенсов – добывания пищи, цикла жизни и смерти, наступления весны – но уже и стремления целенаправленно воздействовать на земной и потусторонний мир, сделать человеческое существование более предсказуемым, полным и осмысленным.
Без идей человечество просто не может нормально существовать. Мы – коллективный биосоциальный вид, который изначально стремился не просто выжить, но и переделать самих себя и окружающий мир в некую лучшую сторону. Задумайтесь хотя бы на минуту над очевидным и все же поразительным фактом. Нам не известно ни одного, даже самого «дикарского», человеческого общества, не обладавшего довольно сложной культурой. Абсолютно все общества придумали те или иные формы религиозных верований и ритуалов. С научной точки зрения главное тут не в вопросе о существовании бога. Людям во все эпохи необходимы коллективные представления, которые создают, освящают и изнутри скрепляют социальные группы – семью, дружеский круг, деревенскую общину, нацию, в скором, наверное, времени и самоосознанное глобальное человечество. Кстати, как не бывает социальных групп без верований и ритуалов некоего «высшего» трансцендентального порядка, так не известно и ни одного общества без какой-либо формы музыки, танца, героических легенд, бытовых историй и смешных анекдотов, без вроде бы никчемных игр, изготовления украшений и поделок. Похоже, что все человеческие группы также склонны сплетничать и совать свой нос в чужие дела. Вспомните и об этом, когда половину страны усадит перед телевизором очередной сериал, полный идиотских страстей – хотя, конечно, лучше бы читали/смотрели «Анну Каренину» или «Войну и мир», по сути ведь мастерски сочиненные многоуровневые сериалы.
Зачем нужна культура и в чем смысл изобретения идей? А вы попробуйте как-нибудь оглянуться на себя нагишом. В анатомическом плане мы, грубо говоря, недоделанные обезьяны. Зубы вроде бы есть, только куда нам до клыков какого-нибудь бабуина? Кто из наших лучших гимнастов сравнится ловкостью с гиббоном? Но с другой стороны, никакая стая даже самых умных и свирепых шимпанзе не завалит мамонта, не изловит рыбу на удочку, не подоит корову и не оседлает коня. Тут требуется длительное экспериментальное накопление и передача опыта от поколения к поколению, довольно сложное планирование и координация внутри социальной ячейки.
Задумайтесь, наконец, и над тем, как невероятно долго, по меркам природы, длится наше детство. Это ведь период крайней уязвимости, потому что детеныши требуют регулярного кормления, они подчас опасно болеют и, чуть только подрастут, начинают шалить и совершать безрассудные поступки. Однако детство дает нам важнейший период для усвоения навыков и идей. Без длительного ученического детства не может быть социально и технически компетентных взрослых. Этим мы не просто отличаемся от громадного большинства прочих видов, но и, главное, с лихвой компенсируем свою физическую недоделанность.
Традиции и инновации
Созданием идей и, более широко, культурных практик человечество занимается испокон веков. Без идей не было бы и самого человечества. Съели бы наших предков самым вульгарным образом по ходу эволюции. Но до недавних пор идеи, как и их прикладная реализация в виде технических и организационных инноваций, возникали в истории лишь эпизодически. Кто-то (наверное, не один раз) придумал, как добывать и поддерживать огонь, и многие тысячи лет горел он красиво, дымно и неэффективно в элементарных кострищах и очагах. Всего лишь пару тысяч лет назад придумали, наконец, домашние печки, а отопительные батареи или тем более электрические обогреватели появились буквально вчера.
Точно так же выдумали в незапамятные времена замысловатый мир, густо населенный духами и демонами, и одновременно разные способы-уловки общения и обхождения со своенравными потусторонними существами, да так это и передавалось из поколения в поколение в целом без особых изменений. Передается, между прочим, и по сей день. Что, по вашему, кроется за неистребимым соблазном вызвать при свечах дух Наполеона, погадать на картах, бросить в водоем монетку или «получить установку» от шаманствующего экстрасенса? Очевидно, существует принцип сохранения идей и представлений, которые не исчезают совсем, а, скорее, откладываются напластованиями. Почитайте-ка замечательную «Морфологию волшебной сказки» Владимира Яковлевича Проппа, одну из подлинно прорывных научных работ XX в., и узнаете не только для чего бабе Яге костяная нога, но, может быть, и найдете золотой ключик к пониманию кое-чего фундаментального в современной массовой политике, рекламе, культе спортивных и эстрадных звезд или в компьютерных играх.
Большие идеи и инновации до наступления современной эпохи возникали лишь эпизодически – очевидно потому, что очень долгое время оставались практически неизменными базовые структуры повседневности. Похоже, в самой сердцевине противоречий человеческой натуры заложены разнонаправленные векторы как к любопытству и изобретательству ради самореализации и улучшения жизни, так и к воспроизводству глубоко консервативной нормальности существования.
Рациональный смысл обнаруживается даже в иррациональной приверженности традициям. Традиция в современном языке приобрела негативный оттенок из-за противопоставления прогресса модерну. Но традицией ведь становится все, что люди сделали успешно или с удовольствием больше двух раз. До очень недавнего времени жизнь большинства людей балансировала на грани реального голода и отступление от традиции, как правило, означало абсолютно неприемлемый риск. Выбор «пан или пропал» может привлечь авантюрного воителя или, позднее, биржевого игрока, только не крестьянскую общину. Впрочем, и в наши дни позволительно и даже необходимо уметь рисковать капиталом или научной репутацией, но никак не будущим детей.
Идеи начинают возникать валом с наступлением Нового времени. За этой вроде бы простой фразой кроются такие давние, запутанные и острые идейные дебаты, что страшновато открывать тему. Однако надо хотя бы обрисовать их в общих чертах, потому что это те же самые представления и дебаты, в которые упирается сегодня любой разговор о модернизации экономики и рациональном переустройстве общества.
Что возникает первым, новые идеи или Новое время, т. е. капитализм? Отмахнуться от вопроса, сказав, что это очередной спор о курице и яйце, не удастся. Слишком насущные последствия обнаруживаются у этих абстрактных диспутов, потому-то они и оказались в центре социальной науки XX в. Какое условие современного общества первично по значению, современные идеи или современный образ жизни? Новые технологии порождают рынки или, наоборот, рыночный спрос порождает технологическое предложение? Создают ли демократию пылкие демократы, или демократия создала самих демократов? От ответа на такие вопросы могут зависеть очень серьезные решения и очень серьезные ошибки.
Опыт социальной науки XX в. показывает, насколько непродуктивна постановка вопросов в абстрактной антиномии «или – или». Одной логикой проблема не решаема. Надо глубоко влезть в историческую эмпирику, покопаться в деталях, но при этом ни в коем случае не теряя из виду общей картины, проводя контролируемые сравнения (поскольку экспериментальный метод в истории и эволюции невозможен), для чего регулярно приходится возвращаться к теории, спорить с доказательствами в руках, а не одними только эффектными фразами и ссылками на авторитеты, перепроверять себя и других, быть постоянно готовым переделывать теорию. Короче, заниматься нормальной современной наукой.
Кстати, с курицей и яйцом теперь вроде все ясно. Ответ – яйцо, потому что яйцекладущими были динозавры, от одной из ветвей которых, как ныне доказано, происходят все современные птицы. Заказывая цыпленка-табака, будьте готовы вкусить динозаврятинки. Вот вам наглядная разница между абстрактной логикой и логикой эволюционной.
Так что же теперь стало понятно с бурным возникновением идей в современную эпоху? Считается, по крайней мере в сегодняшней России, что если Маркс оказался неправ, значит, прав был Макс Вебер, связывавший модернизацию с духом протестантизма. Историки Европы с самого начала были не согласны с Вебером (который, заметим, сам вырос в истово протестантской семье). Чем, спрашивали историки, тогда объясняется Ренессанс в папской Италии? Историки были правы. Это подтвердилось уже после смерти Вебера модернизацией Японии, Кореи, Китая, но прежде них России в советский период.
Однако не спешите вовсе списывать Вебера – как, впрочем, и Маркса с Энгельсом с их первопроходческой «Немецкой идеологией». Идеи, похоже, в самом деле имеют материальные и даже классовые основы в широком смысле укорененности в социальных группах, явно или чаще неосознанно преследующих политические интересы.
Мартин Лютер был далеко не первым еретиком, обличавшим Ватикан. Вспомните хотя бы чеха Яна Гуса, в 1415 г. сожженного на костре за аналогичные идеи. Разница в том, что едва Лютер приколотил к дверям церкви свои подрывные тезисы, как его взяла под вооруженную защиту целая коалиция немецких князей. Оставим историкам выяснять, какие уж там были у князей конкретные интересы и претензии к Ватикану. Важнее, что на сей раз у них оказалось достаточно наемных пикинёров, пушек и, главное, капиталов, инвестируемых купечеством северной Европы в восстание против имперской власти и беспредела позднего феодализма, т. е. в коллективное понижение охранных издержек.
Не менее важно, что идеи тиражировались теперь на печатных станках и благодаря невиданным ранее книжным рынкам расходились среди беспрецедентной массы читателей. Согласитесь, с учетом таких классовых интересов и материальных факторов, картина возникновения европейской модернизации становится сложнее и как-то реалистичнее.
Теория организационного материализма
Исследовать механизмы возникновения и распространения идей начали в поколении, идущем непосредственно за классиками. В 1920-е гг. первые эскизы устойчивой теории предложили Карл Маннгейм и Норберт Элиас, учившиеся в Германии у Альфреда Вебера (брата того самого Макса), и даже несколько раньше – итальянский марксист Антонио Грамши. Их судьбы отражают конфликты тех лет. Евреи Маннгейм и Элиас бежали в Англию, где их долго не замечали. Грамши умер в фашистской тюрьме, но, несмотря на ореол мученика, коммунистические идеологи долго замалчивали идеи Грамши, которые не вписывались в ортодоксию.
Знаменитыми эти мыслители (как, кстати, и советский фольклорист двадцатых годов В.Я. Пропп) стали только в вольнолюбивые 1960-е гг., когда их теоретические эскизы оказались востребованы уже следующими поколениями исследователей. На этом примере нам становятся видны практически все важнейшие закономерности идейного поля, которые и составляют современную теорию творчества. Здесь стоит развернуть аргументацию, потому что в дальнейшем это поможет также понять, почему мы сегодня живем, как многим кажется, в безыдейную эпоху, и к чему мы идем.
Прежде всего, Маннгейм, Элиас и Грамши работали на основе сильных и всеобъемлющих теорий, выдвинутых классическими предшественниками. Это, собственно, и делает классиками Вебера, Маркса или, в случае Элиаса, также Фрейда. Классики стремились объяснить все, потому что им довелось открыть идейную целину. Продолжатели усвоили их идеи, но также неизбежно и многочисленные противоречия и недосказанности. Поэтому они видели, где требуется достроить или перестроить усвоенное, как лучше парировать критику соперников и оппонентов.
Обратите внимание, что в двадцатые годы ни марксизм, ни веберианство, ни фрейдизм еще не оформились в ортодоксию, строго предписывающую почтительное цитирование и толкование в рамках только своего канона. Более того, мыслители двадцатых годов получили громадный заряд эмоциональной энергии от катаклизмов своей эпохи, которые, казалось, смели прежние структурные ограничения и открыли новые горизонты. Грамши мог еще всерьез ставить вопрос о том, почему народные массы не особенно поддерживают революцию, рассуждать о характере идейной гегемонии и общественном воображении как одной из главных арен политической борьбы. Маннгейм мог анатомировать германский консерватизм и выявлять его связи с военными, клерикальными, деловыми элитами. Недавний фронтовик Элиас отверг абстрактное философствование по поводу Человека вообще (это в немецком-то университете!) и вместо этого придумал фрейдо-веберианскую программу конкретно-исторического исследования становления современной европейской культуры и социальной психологии.
Итак, что мы тут видим? Новые идеи, в том числе идеи о возникновении и роли самих идей, возникают 1) из изобретательной рекомбинации прежних идей, 2) в условиях серьезного конфликта и социального запроса на новое, взламывающего ортодоксальные каноны и генерирующего эмоциональную энергию – проще говоря, побуждающего увлеченно создавать нечто дотоле невиданное, 3) с возникновением активной образованной аудитории, включая сомневающихся и оппонентов, до которой пытаются достучаться изобретатели новых идей, и, наконец, 4) при наличии институциональных площадок и работающих сетей распространения, т. е. в наши дни – университетов, профессиональных ассоциаций и конференций, научных издательств и массовой прессы, политических движений, дискуссионных клубов.
Впервые эти условия возникают и укрепляются на Западе в XVII–XVIII вв., в эпоху Просвещения. В XX в. они распространяются в изобилии и даже вопреки цензурным мерам, которые в какой-то степени лишь раззадоривают инакомыслящих, потому что всякое удачное преодоление барьеров мысли создает чувство полета и делает самих творцов ведущими фигурами в том или ином творческом поле.
А теперь вы будете смеяться, если еще помните всем обрыдшие советские семинары по обществоведению. Западные социологи окрестили данную теорию творчества организационным материализмом. Доля шутки тут несомненно присутствует – о диамате и истмате, уверяю вас, кое-что знают и ведущие современные теоретики Майкл Манн и Рэндалл Коллинз (проведший, кстати, часть детства в стенах американского посольства в Москве). Но помимо самоиронии наличествует и серьезное основание.
Идеи не проистекают просто из гениальных мозгов. Гении возникают там, где есть только что перечисленные условия для их возникновения. Коллинз обратил историю мировой философии в колоссальный массив данных (не всем философам, надо признать, это пришлось по душе) и показал, что гениальность есть командная игра, в которой форвардами, т. е. признанными гениями, становятся те, кому удается организовать и воодушевить свою команду, повести ее к цели или на прорыв обороны противника.
Импровизация в научном и художественном творчестве играет такую же громадную роль, как в любой спортивной игре. Но не меньшую роль играют классические предтечи и наставники-тренеры (в творчестве не обязательно присутствующие во плоти), упорные тренировки, голевые передачи от второстепенных игроков, что не делает их менее важными в команде, научной школе или поэтическом движении. Творчество, если продолжить метафору, это своего рода чемпионат, который невозможен без полей, норм и правил, устойчивых сетей социальных взаимоотношений между игроками, соперниками, рефери и комментаторами, и, особенно важно, болельщиками. Наконец, хорошая игра требует профессионализма, который обеспечивается материальной и организационной возможностью целиком посвятить себя игре. Все это, собственно, и предлагает изучать организационный материализм.
Метафору игры, надо отметить, предложил французский социолог Пьер Бурдье, который шел к аналогичной теории творчества своим собственным путем. Он всю жизнь играл в регби, что в рафинированных парижских кругах почитали мужланством. В ответ Бурдье бравировал своим крестьянским происхождением из горного Беарна, и это здорово сказывалось в беспардонном анализе столичных интеллектуалов, которые, по его грубому разумению, занимались игрой в модные фанты. Как бы то ни было, представление о творчестве как об игре, азартной и жесткой, либо полной виртуозных маневров и галантных подножек, сегодня может считаться установленным научным результатом, подкрепляемым эмпирическими наблюдениями. Попробуйте и вы сами смоделировать в уме, а лучше на листе бумаги, эволюцию, скажем, современной живописи или музыки.
Приливы и отливы
Идеи, однако, даже в последнем столетии, богатом на организационные условия и общественные разломы, возникали неравномерно. Ситуация, конечно, разнится по областям творчества, потому что они достаточно автономны и обладают внутренней динамикой. Наблюдаются и индивидуальные всплески, что осложняет обобщения. И тем не менее в XX в. можно выделить две мощные приливные волны – 1920-х и 1960-х гг. Они начинаются подъемом в предшествующем десятилетии и продолжаются какое-то время в десятилетии последующем, но пики достаточно ясно видятся в промежутках между 1914–1929 и 1956–1968 г. Даты, конечно, символически важные для современной истории нашей страны, однако ими отмечены интеллектуальные подъемы и спады далеко не только в СССР. Скорее, СССР двигался в общемировом потоке, хотя и сам в какой-то мере явно влиял на характер и направление потока идей. Неизбежно рискуя впасть в ложное обобщение, все-таки возьму смелость сказать, что это относится ко всему спектру творчества, от физики до лирики.
Что-то тут несомненно связано со сменой поколений. Поглядите, насколько меняется стиль одежды и поведения между 1914–1929, 1956–1968 г.! Но что порождает сами поколения? Ведь одежда и стили поведения оставались в общих чертах неизменными многие века, и даже еще в предшествующем столетии, между 1815 и 1914 г., скорее преобладает преемственность. И все-таки уже шло неуклонное накопление нового. К 1914 г. мир не только жил в эпоху пара и электричества. Колоссально выросла, хотя пока в основном только на Западе, численность людей, чьи занятия и статус определялись не одной лишь сословной наследственностью, но все более современным образованием и навыками. Иначе говоря, себя стало можно сделать в английском смысле self-made man (самостоятельного мужчины, а затем и женщины), состояться благодаря упорству и таланту. Не случайно один из типичных персонажей романов того времени – пробивающий себе дорогу романтический или, напротив, циничный, или просто «лишний» одиночка, вступающий в конфликт со светскими условностями и жизненными обстоятельствами.
Но в 1914 г. обстоятельства и условности рушатся. Высвобождается громадная эмоциональная энергия, накопленная к тому времени благодаря беспрецедентному расширению образованных слоев. Жизненные траектории развиваются сколь стремительно, столь и непредсказуемо причудливо. Поскольку предыдущая фраза может вызвать романтический восторг, предложу задуматься, где бы были без 1914 г. амбициозный австрийский художник Адольф Гитлер и не вписавшийся в режим духовной семинарии поэт и публицист Сталин? Поскольку теперь возникает опасность противоположного крена в охранительство, задумайтесь, сами они реализовали свои наклонности, или их случайно взметнуло волной от коллапса прежней западной цивилизации, чьи консервативные сословные структуры не совладали с беспрецедентной мощью новых рынков, бюрократий, техники и идей?
Взлет шестидесятничества, по всему фронту от физиков до лириков, имел нескольку другие причины и динамику. Они скорее напоминают романтизм 1820-х гг., первого поколения с ярко выраженной молодежной культурой – карбонарии, декабристы, Байрон, Пушкин и Шопен лишь наиболее яркие примеры. Оба поколения «непоротые», оба приходят уже после гигантских и славных войн, оба со школьной скамьи влюблены в науку и поэзию, оба полны пылких и неоформленных надежд на самореализацию, которые наталкиваются на косность и конформизм правящих стариков, которым как раз довелось пережить ужасы террора, голода и войн.
Шестидесятников, конечно, было во много, много раз больше. Производство образованных кадров работало с ускорением уже полтора столетия и распространилось по всему миру. Всплеск энергии был, соответственно, куда больше и шире. Однако есть и еще одна структурная черта, роднящая молодых романтиков 1820-х и 1960-х. В обоих случаях учителей и источники вдохновения они находили не в своих отцах, а двумя-тремя поколениями раньше – в энциклопедистах эпохи Просвещения и в различных модернистских течениях начала XX в. Это, похоже, еще одна закономерность, обнаруживаемая исторической социологией. Поколения в современном мире чаще отталкиваются, нежели следуют опыту непосредственных предшественников.
Ни к чему тут сетовать на молодость и якобы извечную проблему отцов и детей. Это бытовое наблюдение, не подкрепленное ни анализом, ни эмпирическими данными. Дело скорее в двух отличительных чертах современности – возросшей продолжительности жизни и характерном для эпохи модерна динамизме распределения социальных ролей и позиций. Каждое поколение склонно занять все доступные и в первый черед, конечно, наиболее привлекательные позиции. Но ведь люди стали жить довольно долго, а тем временем следующее поколение ожидает и требует своей доли социального статуса и ресурсов. В прошлом проблему демографического давления молодежи обычно снимали войны, голод и эпидемии. К счастью, этого уже нет. Конкуренция между поколениями сместилась в область символического, что порождает молодежное иконоборчество, экспериментирование, чередование «мод».
Наиболее наглядно это прослеживается в такой традиционной сфере, как религия. Секуляризация мощно развернулась по всей Европе с конца XVII в. прежде всего в качестве реакции на религиозные войны и нетерпимость предшествующего столетия. В вестернизированных верхних слоях России времен Петра и Екатерины религиозность если и сохраняется, то на чисто ритуальном уровне, где-нибудь во Франции того же времени многие прелаты церкви едва не открыто исповедуют вольнодумство, а американских отцов-основателей Франклина и Джефферсона сегодня бы не потерпели в Республиканской партии США. Но в начале XIX в. происходит возрождение религиозности, новая генерация богословов, мистиков и проповедников во всех христианских конфессиях отвоевывает себе изрядную долю паствы. Поколение спустя возникает новая волна нигилистического «вульгарного» материализма, которую на рубеже нового столетия сменяет контрмода на различные формы обновленчества и спиритуализма. Такие колебания продолжались и в XX в., теперь уже по всему миру, и если они что-то предрекают нам в ближайшем будущем, то это, вероятно, скорый спад волны религиозного фундаментализма, длящейся уже почти поколение.
Сдвиг парадигмы модерна?
Здесь мы подходим к проблеме наших безыдейных дней. Всплеск шестидесятничества был настолько ярким, скорым и бурным, насколько затяжной, бессобытийной и блеклой представляется наступившая затем эпоха. Постмодерн? Это модное словечко на самом деле ничего не объяснило, хотя и запечатлело в себе кое-что наверняка важное. Приставка «пост» пристала ко всему. Посткоммунистические режимы, экономика постиндустриального постфордизма, пострационализм, постструктурализм, постутопизм, постсекуляризм, постпотребительские ориентации продвинутых слоев, «пост» что угодно. Не пытайтесь понять, что все это могло бы означать. Пустое. Нанотехнологии, да только кто их видел? Интернет, куда переместились расписания, коммерческие каталоги, укороченные письма, дамские дневники и то, что раньше писали на партах и заборах? Возникает ощущение, что странно долго не появляется ничего действительно нового и интересного. Недавно коллега-парижанин жаловался, что из столицы мира они превратились в большую туристическую деревню. Идеи и стили XX в. как бы разом увяли, превратились едва не в самопародию, однако же никуда не исчезают, потому что на смену им не приходит ровно ничего.
Возможно, это нам лишь кажется. Мы пока просто не знаем, как разумнее употребить Интернет и какие перевороты готовят нам нанотехнологии. И все-таки пауза затянулась.
Вернемся к нашей теории, которая, согласно принципам проверяемости и переносимости, должна объяснять как всплески, так и отливы творческой активности. Пойдем по пунктам. Классика вроде бы осталась с нами, разве что стало ее многовато для нормального студента – что только не запихали сегодня в список обязательной литературы, потому что никто не знает, где остановиться, что важнее. Рэндалл Коллинз между тем замечает, что в каждой области наиболее продуктивно соперничество двух-трех и никак не более шести направлений. При большем числе исчезает фокус внимания, распыляется интеллектуальная энергия, игроки и аудитория впадают в апатию.
Это, однако, не главное. При сохранении прочих условий команды в любом творческом поле должны были бы сгруппироваться вокруг нескольких перспективных идей и заново развернуть захватывающее дух соперничество. Этого не происходит, потому что серьезно истощены материальные основы творческих полей. Наука и искусство в целом дотационны. Конечно, есть коммерческие окраины полей, но в интеллектуальном плане это именно окраины, пользующиеся идеями из центров, где обычно генерируются фундаментальные знания и авангардные концепции.
В прошлом ведущие ученые и художники пользовались покровительством меценатов вроде королей и кардиналов. (Впрочем, сами творческие личности издавна боролись за избавление от капризного меценатства.) В последние два столетия престижная функция поощрения науки и искусства перешла к государствам, что, конечно, чревато цензурой и бюрократизмом. Но более важно, что в последние тридцать лет многие государства столкнулись с бюджетными трудностями, конца которым не видно. Однако возрождение частного меценатства проблемы не решает. Их ресурсы несопоставимы с исторически беспрецедентной численностью образованных специалистов, готовых заниматься искусством и добыванием абстрактного знания. Американский опыт здесь настолько же своеобразен, как и спортивный бизнес колледжей. Впрочем, и в Америке начинает чувствоваться жестокая недокормица и перенаселенность науки.
И тут вступают в дело два тесно связанные между собой фактора, которые в основном и вызвали затяжной кризис в производстве новых идей. Только дело здесь не в обесценивании дипломов и степеней, размывании фокуса внимания и даже не в деньгах самих по себе – мыслители прошлого нередко терпели нужду. Главное, как видится, в резком падении престижа и социальной востребованности творческого труда.
До недавних пор интеллигентность служила высоким альтернативным статусом. Родовитости, богатству, связям довольно успешно противопоставлялись ум, талант, общественное признание и служение идеалам. Ради такого можно было и страдать, и дерзать. С идеалами и признанием ныне главная проблема. Горькая ирония заключается в том, что идеалистическое поколение шестидесятников (в наших условиях перестроечников) в своей сумбурной борьбе произвело такой грандиозный натиск, что его политический провал произвел не менее грандиозный вакуум, заполнившийся как минимум на следующее поколение эгоистическим расчетом и уходом в личные дела.
Статусная группа интеллигенции распалась повсюду вместе со своим коллективным статусом. Более подвижная ее часть мигрировала в другие социальные поля, прежде всего в бизнес, либо превратила интеллектуальную деятельность в разновидность биснеса. Но поскольку в бизнесе успех имеет сугубо частное и денежное измерение, а творчество и изобретательность служат подчиненной и, откровенно говоря, не всегда обязательной стратегией, то эмоциональный градус общества резко упал. По всему миру это еще более усилило эффект постшестидесятнического вакуума. Идейные и эстетические баталии, чистые наука и искусство в глазах большинства утратили смысл.
Идеи на завтра
Нет необходимости заканчивать на столь смутной ноте. Если изложенная здесь теория верна, то можно прогнозировать очередной подъем. Каковы основания для такого неожиданного оптимизма?
Производство идей в современную эпоху имело волновой характер. Чередование подъемов и спадов приблизительно соответствовало поколениям. Фаза спада, начавшись еще в семидесятые годы прошлого века, значительно усугубилась вторичным фактором обвала советской перестройки (учитывая, что сама перестройка и восточноевропейские антибюрократические восстания 1989 г. были вторичны по отношению к мировому протестному всплеску 1968 г.) Депрессия, таким образом, необычно затянулась, что многими воспринималось как наступление некоей принципиально иной эпохи постмодерна. Это едва ли так.
Возникновение любых творческих идей, научных или художественных, требует определенных материальных условий (прежде всего базы для профессиональных сообществ) плюс подпитки эмоциональной энергией. Материальные предпосылки в целом не просто сохраняются, но и, несмотря на кризис, продолжают накапливаться, поскольку существование современного общества невозможно без массового образования и информационной инфраструктуры. Сегодня уже вовсе не является футуристикой говорить о мировой коммуникационной сети. Проблема отчасти в освоении новых возможностей, на что всегда уходит время, но более всего проблема все-таки в нехватке эмоционального заряда.
Серьезные политические противоречия и встающие перед обществом проблемы являются сильнейшим стимулом к творчеству. Это не парадокс и не профессиональный цинизм социолога. Это основа предсказания следующего интеллектуального подъема.
Рационализация кардинально отличает современное общество, в чем Макс Вебер был совершенно прав. Мы отвечаем на проблемы поиском рациональных решений. Даже если кому-то в качестве первой реакции на проблемы хотелось бы воззвать к традициям предков или к мистике, в конечном итоге все-таки большинство идет к специалисту, и специалист чувствует себя вознагражденным и востребованным. Кто-то сомневается, что в новом столетии нам предстоит столкнуться с проблемами и в экологии, и в экономике, и в организации политики, и в извечных поисках прекрасного и смысла жизни?
Но пока что это – совсем общие фразы. Рискну под конец предсказать что-то поконкретнее и интереснее.
Учителя и вдохновители следующего поколения, по логике обрисованного в этой статье, почти наверняка будут шестидесятниками, хотя, наверное, и не все. Именно в атмосфере тех бурных лет, насыщенной спорами, сомнением в авторитетах и надеждами на скорое познание и изменение мира, началась научная революция, которая, вероятно, еще получит мощное продолжение.
Шестидесятые были вроде рыночного «пузыря», который стремительно быстро возник и еще более внезапно лопнул. Но, как показывает неошумпетерианская теория исторического экономиста Карлоты Перес, «пузыри» иногда имеют серьезные последствия, если они возникают в моменты первичного освоения новых технических идей и пока неясных возможностей. Новинки, какими некогда были железные дороги, пароходы, автомобили или совсем недавно появившийся Интернет, вызывают ажиотажные мании инвестирования, когда всем кажется, что надо непременно оказаться в новом секторе. «Пузыри» неизбежно лопаются, но после них остаются брошеные заделы, которые очень пригодятся и обеспечат устойчивый рост где-то поколение спустя. Примерно таким мне представляется положение дел в социальной науке сегодня.
В шестидесятые-семидесятые было поразительно много сделано для капитального «ремонта» классической социальной науки – тех дыр и упущений, которые обнаружились в корпусе идей, унаследованных от XIX и начала XX в., когда совершались первые прорывы. Оглядываясь на достигнутое в шестидесятые – и затем большей частью заброшенное – просто поражаешься, сколько всего было тогда заново понято. Теперь мы гораздо лучше видим, как на самом деле работают рынки и политическая власть, какую роль здесь играют конфликты элит, как устроены коррупция и мафия, как возникают нации и государства, каковы механизмы протестных мобилизаций и революций, из чего формируется демократия или откуда берутся наши собственные художественные вкусы и творческие идеи. Все это пока довольно разрозненный ворох теорий, которые сформулированы на разных концептуальных языках разными учеными и школами, которые, как водится, зачастую ревниво игнорировали друг друга. Но если толком разобраться в этом добре, вполне может быть открыта заветная дорога к неоклассическому синтезу в социальных науках, к целостному и детальному пониманию человеческих обществ.
Понять еще не значит научиться изменять и направлять, не вызывая при этом катастроф. Но все-таки следующему поколению должно быть в чем-то легче нас, потому что депрессия и тотальное разочарование последних лет расчистили площадку от идеологических утопий и ортодоксий недавнего прошлого. На такой площадке можно будет построить что-то большое, новое, интересное, тот же неоклассический синтез. Какие это будет иметь политические последствия – пока предсказать трудно, хотя антиавторитарный вектор студенческих движений шестидесятых годов, возможно, что-то подсказывает.
Если данная гипотеза верна, то с созданием неоклассического синтеза в социальной науке закрывается целая эпоха в развитии идей. Но кто сказал, что бурное идейное строительство эпохи модерна – норма на все будущие времена? Быть может, наладив свои социальные взаимоотношения, наши потомки начнут просто жить в гораздо более стабильном и сбалансированном обществе. О чем, собственно, и мечтало большинство мыслителей современности.
На протяжении столетий люди мечтали летать – и вот сегодня, с изобретением алюминия и реактивного двигателя – все мы запросто летаем. Пусть это не приносит полного счастья, но, как видим, мечты человечества все-таки сбываются.
Современное обществознание От теоретических прорывов к неоклассическому синтезу?
Фаза интеллектуального хаоса
С КОНЦА 1980-х гг. во всем мире и особенно в избавившейся от коммунистической догматики Восточной Европе возникает враждебно-скептическое отношение к любым формам социально-исторического макроанализа, хотя бы отдаленно напоминающим марксизм. Заодно с былыми марксистами пострадали даже последователи совершенно буржуазного либерала Вебера, христианского солидариста Поланьи, откровенно консервативного едва ли не монархиста Шумпетера или французского патриота-республиканца Броделя. Поскольку эти теоретические направления, так или иначе, отталкивались от добросовестной критики марксизма, они неизбежно отражали тематику и категории критикуемого Маркса: классы, капитализм, исторические формации. Карл Маркс оставил такой след в различных областях обществознания, что обойти его стороной также невозможно, как и его соперников и продолжателей в троице классиков-основателей современного обществознания – Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма.
Вполне понятно, наибольшее стремление к отходу от всего, даже отдаленно напоминающего марксизм, наблюдалось в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Однако вместе с почти религиозной ортодоксией «исторического материализма» канула в бездну и сама его проблематика – вот в чем беда. Происхождение семьи, частной собственности и государства перестали исследовать как раз в тот момент, когда с распадом СССР лавиной пошла роскошная в своей первозданной неприглядности эмпирика. В соответствии с логикой перевертывания идейной парадигмы, материалистический анализ капитализма и социализма переместился из официальной догмы прямиком в табу. Изучать такие материи сделалось неприличным. Взамен импортировали из стандартных западных учебников, возродили из далекого дореволюционного прошлого, либо самодельно изобрели массу мудреных нормативно-идеализированных учений о том, что должно быть (например, истинная демократия или истинно национальное самосознание) – эмпирико-теоретический анализ заменило то, что реально имеет место быть.
Тем не менее именно в макроисторическом анализе может заключаться «естественное преимущество» восточноевропейских ученых в мировом научном поле. Это исторически накопленный задел интеллектуальной инфраструктуры и широкой образованности плюс дисциплинарная неограниченность и все еще сохраняющаяся позиционная автономия восточноевропейской науки. Здесь вполне просматривается возможность преодоления комплекса интеллектуальной отсталости нашей части мира.
Теорию «преимущества отставания» сформулировал известный русский экономист из Гарварда Александр Гершенкрон еще в 1950-е гг. Представьте себе, что вы сзади приблизились к автомобильной пробке. Те, кто встрял в нее первыми, не могут видеть обходных путей, а если бы их и увидели, то слишком зажаты в голове пробки, чтобы совершить маневр. Отставшие герои всегда идут в обход – учил Гершенкрон, известный своим остроумием и еще, между прочим, критикой набоковских переводов Пушкина на английский. Гершенкрон обладал типично восточноевропейской широтой интересов, – в чем состоит наш основной источник преимуществ, как, впрочем, и профессиональных слабостей.
В этой статье я попытаюсь обрисовать, как возникал затор на путях современного обществознания и какие тут проглядываются обходные маневры.
Рубка подлеска
По всей видимости, «историческая макросоциология вступила в свой Золотой век»[44]. Такое неожиданно триумфальное утверждение Рэндалла Коллинза может вызвать скорее печальное недоумение у многих обществоведов, знакомых с положением дел в наших дисциплинах. Однако Коллинз очень строгий и корректный теоретик, давно известный энциклопедической эрудицией и парадоксальными прогнозами.
В легендарном ныне эпизоде, относящемся к 1980 г., Коллинз выступил в Колумбийском университете в Нью-Йорке с публичной лекцией, где на основании анализа закономерностей геополитической динамики, фиксируемой историческими атласами Китая и Ближнего Востока, предсказал, что Советский Союз так или иначе распадется в течение ближайших десятилетий. Американские советологи, занятые в основном ежедневным чтением между строк передовиц «Правды» и отслеживанием расстановки членов Политбюро на трибуне мавзолея, вполне ожидаемо подняли на смех макротеоретический прогноз Коллинза. В США тогда только начиналось массированное наращивание оборонных ассигнований с целью преодолеть последствия поражения в Индокитае и кризиса семидесятых и дать ответ на глобальный военный вызов СССР, тем временем расширявшего свою сферу влияния в Африке, Никарагуа и Афганистане. Именно в геополитическом перенапряжении советской экспансии Коллинз усмотрел признаки грядущих потрясений[45]. Поэтому отнесемся всерьез к словам Коллинза о Золотом веке теории и попробуем разобраться, что происходит сегодня с гуманитарными и общественными науками. Тем более что основные теоретические прорывы 1970-х – 1980-х гг. научные сообщества Восточной Европы (за отдельными исключениями) упустили из виду, погрузившись в циничную апатию брежневского застоя, затем на короткое время вспыхнув перестроечной полемикой, обернувшейся глубоким синдромом хаотической фазы.
Но прежде нам придется изрядно поработать топором критики, чтобы расчистить густой и цепкий подлесок, заслоняющий перспективу. Это в основном два совершенно не схожих друг с другом вида плевел – критико-культурологический постмодернизм и неолиберальный экономико-утилитарный индивидуализм. Их максималистские позиции вполне можно выразить словами «весь мир – театр» (он же дискурс) и «весь мир – рыночная сделка». Здесь мы рассмотрим не содержание теорий, а их обычно игнорируемые социальные и политические аспекты. Ведь научные направления при ближайшем рассмотрении организуются подобно политическим партиям и движениям.
Расчистка первая: мир как текст и театр
В начале 1980-х гг. под общей маркой постмодернизма и «французской философской теории» (о которой так скопом и говорили: French theory) интеллектуальное поле захлестнула волна деконструкции, интертекстуальности и радикального сомнения в любом макродискурсе. Волна превратилась в подлинное наводнение с подключением к постмодернистскому движению массы американских философов, литературоведов и культурных антропологов. Эти дисциплины остро переживали утрату традиционных объектов своих исследований – давно описанных и перетрактованных классических философий и литератур либо исчезающих «примитивных» племен. Если предмет изучения давно описан и переописан, что остается делать следующему поколению, как достичь интеллектуального признания и удовлетворения? Но это лишь одна и, видимо, не главная причина.
Важнейшую роль в подъеме волны постмодернизма сыграло изменение гендерно-возрастного состава американских гуманитариев. В 1970-е – 1980-е гг. молодые энергичные женщины, многие из которых были бунтующими студентками шестидесятых, начинают повсеместно занимать преподавательские позиции на гуманитарных отделениях университетов стран Запада. Процесс феминизации гуманитарных отраслей протекал наиболее ярко и массово в США. Притом настолько бурно потому, что прежде там безраздельно господствовали пуританские нравы, предписывавшие женщинам заниматься исключительно семьей и церковной благотворительностью. К примеру, первая женщина среди профессуры Стэнфордского университета появилась лишь в 1974 г. Или такой, пардон, удивительный факт – долгое время в здании Конгресса США не было женского туалета.
Новая гендерная трансформация возникает на Западе в послевоенные годы под непосредственным воздействием беспрецедентно бурного роста государственных и частнокорпоративных бюрократий. Без всякого идейного умысла рост всевозможных учреждений и офисов создавал для молодых образованных женщин множество новых рабочих мест. В начале траектории это были лишь должности рядовых учительниц, секретарш, продавщиц, ассистенток, лаборанток, медсестер, телеграфисток, стрелочниц, конвейерных сборщиц и учетчиц. Тем не менее уже эта постоянная работа по найму создавала серьезную альтернативу традиционно предопределенным занятиям фермерской жены, повседневно следящей за скотиной, кухней, стиркой-глажкой и рожающей много детей. Демографы шутят со знанием дела, что самое эффективное противозачаточное средство – профессиональное образование для женщин. Получение постоянной должности в каком-либо учреждении в большинстве случаев также означало переезд в город или регулярные поездки с пролетарской окраины в деловой центр. С этими социальными подвижками возникали исторически беспрецедентные в своей простоте и массовости возможности расстаться с семейной опекой, перестать целиком зависеть от отца, мужа или мнения соседей, делать самостоятельные карьеры, выбирать собственную одежду и развлечения, включаться в новые стили жизни и общественные движения, а также решать, когда и сколько иметь детей. Несомненно, в самой высокой степени все это относится и к социальным последствиям громадного роста систем высшего образования и науки.
Где-то к концу 1960-х гг. была достигнута критическая масса. И тогда американки, европейки и вслед за ними даже намного более скованные своей национальной культурой японки стали двигаться вверх по организационным лестницам вертикальной мобильности внутри государственных аппаратов, корпораций и университетов. Заданные прежними (в том числе викторианскими) традициями институциональные и культурные барьеры на пути продвижения молодых женщин более не принимались за данность и не обходились личными микростратегиями приспособления. Барьеры теперь преодолевались коллективно, всевозможными способами политической мобилизации, созданием ассоциаций и лоббистских групп, а также выработкой гендерной идеологии и интеллектуальной критики. В совокупности, все это и породило феминистское движение.
Стремительное распространение в интеллектуальной среде Запада разнообразных вариантов постмодернистской критики и гендеризованной культурологии, таким образом, оказалось в весьма значительной степени обусловлено глубокой трансформацией обществ и возникновением женского движения, искавшего себе идеологическую платформу. С этими же процессами был сопряжен и взрывной рост исследований по дискурсивному конструктивизму и «сокрытым» культурным микропрактикам власти и сопротивления ей, которые долго оставались неявными или игнорировались как незначительные для традиционно материалистических подходов к анализу политики и классовой борьбы, причем как в марксистском, так и либеральном лагере.
Необходимо хотя бы вкратце обрисовать истоки и достижения конструктивистского направления, которое часто не вполне обоснованно смешивается с постмодернизмом. Довольно неожиданно символами этого направления стали яркие заголовки работ трех специалистов по экзотическим странам Юго-Восточной Азии. Все трое, заметим, мужчины более старшего поколения, работавшие в ведущих университетах США. Все трое в разное время активно участвовали в разных политических мобилизациях шестидесятничества, однако постмодернистами никогда не были.
Во-первых, это книга принстонского антрополога Клиффорда Гирца, заглавием которой сделан загадочный и непереводимый традиционный балийский термин «Негара». Вводя свой собственный антропологический метод «насыщенного описания» (thick description), Гирц искусно интерпретирует театрализованный символизм петушиных боев и царских процессий на удаленном индонезийском острове Бали и через подобную процедуру выявляет традиционную космогонию балийцев, их понятия о порядке в мире, стране и семье, о добродетели и о властвовании[46].
Во-вторых, это «Оружие слабых» очень необычного политолога из Йельского университета Джеймса Скотта. На собственном опыте нескольких лет жизни среди малайских крестьян он продемонстрировал, как даже среди самых обездоленных и забитых социальных категорий возникает «бунт на коленях», подспудное осмеяние начальства и неявный, но оттого не менее эффективный саботаж его статусов и высокомерных распоряжений[47]. Эпиграфом к монографии Скотта поставлена малайская пословица: «Когда на дороге появляется помещик, крестьянин отступает на обочину и низко кланяется. Когда помещик проехал, крестьянин поворачивается задом и пердит ему вслед». Едва ли стоит удивляться, что самый любимый литературный персонаж анархистского крестьяноведа Джеймса Скотта – не кто иной, как бравый солдат Швейк.
Наконец, в-третьих, это «Воображаемые сообщества» проработавшего многие годы в Корнельском университете эксперта по Индонезии Бенедикта Андерсона[48]. Написать это книжного формата эссе о происхождении и распространении национализма в современном мире его подговорил родной брат, известнейший неомарксист и многолетний издатель влиятельного интеллектуального журнала «New Left Review» Перри Андерсон. Поводом послужила война 1979 г. между двумя коммунистическими государствами Азии – Китаем и Вьетнамом. В этом скоротечном, но ожесточенном столкновении якобы братских коммунистических режимов национализм грубо и зримо опроверг фантазии на предмет социалистического интернационализма. Бенедикт Андерсон удивительно элегантно, эрудированно и наблюдательно показывает в своем эссе, что национальные и патриотические чувства вовсе не даны от рождения. Национализм, за редкими исключениями, совершенно отсутствовал в мире прошлого, где жизнь людей протекала в повседневном родном мирке деревенской общины, и на другом уровне (вернее, по праздникам, описанным Клиффордом Гирцем) в рамках больших разноязыких империй и религиозных миров. Бенедикт Андерсон далее показывает, как формирование территориальных государств с их представителями на местах, армий на основе патриотической всеобщей обязанности, современных рынков, включая рынок печатных изданий с его усредненными и надстроенными над разнообразием диалектов литературными национальными языками, распространение государственных школ, национальных музеев, рисование карт родной страны и написание ее сугубо собственной, национальной истории, – все это в сумме кумулятивно создает мощные предпосылки для общего национального самосознания. Эмоциональный же заряд национализму дает его функция новой объединительной идеологии интенсивного сопереживания, которая приходит в современном мире на смену традиционной религии (с чем, вероятно, согласился бы и Дюркгейм с его ритуалами «органической солидарности», и даже Фридрих Энгельс, в сердцах обозвавший польский национализм «ложным сознанием»).
Парадокс неожиданной популярности книги дотоле безвестного страноведа Бенедикта Андерсона (как книг и Гирца, и Скотта), по всей видимости, объясняется не столько несомненной интеллектуальной изобретательностью и красотой этих ныне классических текстов, сколько их неожиданной идеологической востребованностью на рубеже 1970-х и 1980-х гг. Лично мне сдается, что многие гуманитарии, восторженно цитирующие заголовок эссе Б. Андерсона в оправдание самых абстрактных и волюнтаристских интерпретаций конструктивизма, саму книгу не читали или не захотели понять. Ключевое слово «воображаемые» в знаковом заглавии вовсе не означает поддельные, ненатуральные, искусственно и злонамеренно придуманные. Оно означает, что нации есть коллективный идеологический проект. В современном мире нации возникли и захватили воображение масс путем описываемых Андерсоном процессов и усилиями вполне конкретных деятелей культуры и политики, рядовых активистов и поиском новой веры и смысла среди простых людей, сталкивающихся с открывшимся им большим современным миром. Как говорили классики, идея, охватившая массы, становится материальной. Все это вполне исследуемо эмпирически.
Тем не менее надо признать, что работы Гирца, Скотта и Андерсона приобрели основную долю известности именно благодаря их определенной созвучности идеологиям гуманитарной интеллигенции из числа радикальных феминисток, расовых и сексуальных меньшинств. Для них главным стало показать сконструированный и не извечный (следовательно, поддающийся сопротивлению и изменению) характер господствующих общественных представлений, которые традиционно угнетали и стигматизировали их групповые идентичности. К этому движению примыкают все новые направления – к примеру, деконструкция постколониализма и рассуждения о культурной гибридизации в глобальных диаспорах. Их основными лидерами и носителями выступили гуманитарии из стран Третьего мира, давно и постоянно живущие на Западе. Достаточно назвать два известнейших в своих кругах имени – теоретическую феминистку индийского происхождения Гаятри Чакраборти-Спивак и политического философа Хоми Бхабху, выходца из древней религиозной общины зороастрийцев (парсов), сохранившейся в Индии в качестве одного из изолированных (но оттого, как нередко случается, весьма преуспевших в бизнесе) кастовых меньшинств. Оба преподают в элитных университетах США.
Импортированные из Франции новейшие философские идеи Лиотара, Делеза, Деррида, Фуко в начале 1980-х гг. послужили в Америке идейной платформой для широкой мобилизации младшего, все более женского и «цветного» преподавательского состава гуманитарных отделений против традиционного, пожилого и практически целиком мужского и белого университетского истеблишмента. Механизмы возникновения и транснационального распространения интеллектуальной моды на постмодернизм были описаны в известной статье «Как стать доминантным французским философом: пример Жака Деррида», которую в 1989 г. опубликовала преподающая в Гарварде канадская исследовательница Мишель Ламон (кстати, родившаяся в некогда глубоко католической фермерской среде франкофонного Квебека)[49]. Детальный же разбор интеллектуальной генеалогии данного движения можно найти в небольшой книжке Перри Андерсона «Происхождение постмодерна»[50].
Дэвид Харви (британский антрополог-урбанист, не менее известный как прекрасный лектор, критик и эссеист) еще двадцать лет назад указывал на причинно-следственную связь между постмодернизмом и неолиберальными рыночными реформами, которые ассоциируются с именами Пиночета, Тэтчер и Рейгана. Постмодернизм на этой более поздней стадии выступил символически оборонительной (если жестче, то самооправдательной) реакцией гуманитарной интеллигенции на поражение прежних левых движений и исчезновение идеологических альтернатив[51]. С одной стороны, деиндустриализация и вывод заводского производства на мировую периферию привели к сокращению прежнего рабочего класса и, следовательно, связанных с ним партий и идеологий, прежде дававших вдохновение и сюжеты немалой доле творческой интеллигенции Запада. С другой стороны, рыночные реформы последних лет и поиски новых высокоприбыльных секторов вызвали развитие множащихся и все более разнообразных потребительских ниш. Наряду и вместо прежнего, во многом себя исчерпавшего поточного «Фордистского» производства и соответствовавшего ему массового потребления стандартных товаров возник новый вид бизнеса, специализирующийся в индивидуалистическом символизме. Новый потребительский бизнес сам активно провоцирует посредством изощренной рекламы (где теперь находят работу социологи и культурологи) возникновение все новых вариантов в стилях потребления новых средних классов. Прежде всего, это и воспринимается в постмодернизме как превращение мира во фривольный пастиш, обманку-симулякр вроде телевизионных «реалити-шоу», вольную игру дискурсов либо медийную манипуляцию избирателями и потребителями – подобно коммерциализации иконообразного лика Че Гевары.
Если переформулировать проблему так называемой эпохи постмодерна более широко, трезво и без «симулякровых» неологизмов, то в самом деле в мире последних 20–30 лет произошли глубокие и не до конца пока понятые подвижки в геокультуре, хотя и вполне очевидно связанные с атакой рыночной идеологии и поражением всех остальных универсалистских проектов переустройства мира. Как следствие, произошло понижение статуса интеллигенции всех стран и в целом гуманитарного знания. Традиция интеллигентов-гуманитариев и философствующих активистов сжалась до пределов гуманитарно-академической среды и литературно-художественной богемы. После резкого спада радикальных шестидесятнических движений студенчества, молодых женщин и этнических меньшинств, культурологическая критика капитализма вылилась в крайние проявления скептицизма в отношении к существованию объективной реальности и самой возможности ее изменить. Добавьте к этому фактор поистине экзистенциального ужаса смерти с распространением эпидемии СПИДа, которая в первые годы воспринималась как безжалостно загадочная и непомерная расплата за прежние эпатажные практики раскрепощения.
Одной из первых знаковых жертв эпидемии пал философ Мишель Фуко. По большинству свидетельств, это был крайне нелегкий в общении человек, с детства страдавший от психических недугов и социальной изоляции, – но при этом гениальный самоучка. Во всяком случае его формальное философское образование в парижской Эколь Нормаль не сказывается напрямую в его работах, далеко отошедших от канона. Скорее, большее влияние на Фуко в молодости оказал период личного менторства со стороны марксистского философа Луи Альтюссера, который подрабатывал в Эколь Нормаль, и интеллектуальное товарищество (если только и это не слишком сильное определение для взаимоотношений с таким человеком, как Фуко) с учившимися на два курса младше Пьером Бурдье и Жаком Деррида. Эта пара впоследствии знаменитых интеллектуалов Франции также состояла в изоляции от однокашников, однако не столько по психологической, сколько по социально-статусной причине – Бурдье и Деррида были очень талантливыми и пробивными выходцами из низших малообразованных слоев общества. Сила философствования Фуко видится теперь не столько в ее критической беспощадности и личной харизме, захватывавших воображение слушателей его знаменитых лекций, сколько в том, что Фуко заново для себя открыл исторические сюжеты и стихийно социологический подход – как раз этому не учили в тогда классицистской Эколь Нормаль. По всей видимости, Фуко совершенно не знал классических теорий Макса Вебера, не был знаком с идеями Норберта Элиаса, не читал работ американского социолога Ирвина Гофмана[52] по «тотальным институциям» психиатрии, армейских казарм и тюрем. Как ни странно, Фуко не встречался с Гофманом во время неоднократных приездов в Калифорнийский университет в Беркли. Фуко тогда уходил в многодневные садомазохистские загулы в обширном гомосексуальном мире Сан-Франциско. Гофман же, вопреки впечатлению, которое может возникнуть от его исследований, был довольно старомодным консервативным профессором. Фуко находил свои собственные непрямые пути к идеям, во многом перекликающимся с теориями Гофмана. Однако более категоричный Фуко придавал своим мыслям о власти, насилии и тотальном контроле гораздо более радикальную и эстетизированную тональность. Все это полезно осознавать при восприятии наследия Мишеля Фуко, лишь впоследствии и не вполне правомерно причисляемого к расширительно воспринимаемой «французской философской теории» и культурологической критике постмодернизма.
Постструктуралисты, постмодернисты, постфункционалисты, постмарксисты и многие прочие интеллектуальные движения с некогда такой модной приставкой «пост» так или иначе существенно изменили ландшафт гуманитарного знания. По вполне понятным причинам и в тот момент совершенно оправданно они перефокусировали внимание на механизмы неявного символического и дискурсивного господства посредством установления допустимых пределов смысла. Там, где прежние ортодоксии марксизма и либерального структурного функционализма видели лишь непоколебимую и всеопределяющую силу объективных и детерминистских макроструктур общества, гуманитарные повстанческие движения желали увидеть незаданность и неопределенность, культурные символы и человеческое переживание, творческую энергию, личный исторический микроопыт простых людей, женщин и этническо-расовых меньшинств. Эти движения в период своего бурного подъема поставили множество критических вопросов – и куда реже могли найти ответы. Они не без пользы взмутили застойные воды. Однако вода осталась мутной.
Постмодернизм, начинавшийся ересью против академического истеблишмента и ортодоксии, сам где-то на рубеже 1980-Х-1990-Х гг. превратился в истеблишмент и ортодоксию. Тем он теперь и держится. В чем есть, конечно, регулярно воспроизводящаяся в науке ирония. С начала 1980-х гг. не возникало никаких новых теоретических движений, что обеспечивает господство постмодернизма. В литературоведении остаются, конечно, значительные исключения – к примеру, старый мощный неомарксист Фредерик Джеймисон[53] или очень своеобразно пишущий итальянец Франко Моретти, который ищет пути соединения истории литературы с эволюционными идеями известного генетика Кавалли-Сфорца и броделевским пространственно-временным видением глубоких структур поля[54]. Трудно предсказывать, что сохранится в интеллектуальном остатке от постмодернизма после его будущего исчезновения. Однако можно предсказать, что исчезновение постмодернистской философии и культурологии скорее всего произойдет удивительно быстро, поскольку их остаточная сила заключена в институциональных позициях. Это лишь на первый взгляд мощные факторы. На самом деле они оказываются очень ненадежными, когда возникает массовый отток последователей в новый идейный лагерь. Так некогда случилось в начале 1980-х гг., когда масса молодых гуманитариев приняла различные варианты постмодернизма, разом забросив как вчерашнюю моду знаковые для семидесятых годов имена неомарксистов Антонио Грамши, Вальтера Беньямина, Луи Альтюссера, Никоса Пуланцаса – как, впрочем, и структуралистов Пиаже, Леви-Стросса или Тынянова, Шкловского, Бахтина.
Это вовсе не означает, что с постмодернизмом должна исчезнуть критическая направленность гуманитарных исследований, внимание к дискурсивным практикам либо гендерная составляющая. Но, скорее всего, следующее поколение гуманитариев пойдет в направлении более внятного и более увязанного с другими социальными полями анализа культурной и символической сферы – ибо постмодернизм как вчерашняя мода будет до неловкого маркирован предельной жаргонизацией, абстрактностью и философским волюнтаризмом. Этих «торговых марок» и станут тогда избегать.
Расчистка вторая: мир как чисто выгодная сделка
Если постмодернисты выглядели пестрой ватагой варваров, низвергающих статуи и пирующих ранее запретными и неприкасаемыми темами, вроде сексуальности, то с другого фланга двинулось войско куда более дисциплинированное, закованное в броню и уверенное в своей правоте, под стать религиозному ордену. Его авангард составили экономисты-неорыночники, воодушевленные своей политической востребованностью в период новейшего расширения капиталистической мироэкономики, которое с начала 1990-х гг. стало обозначаться глянцевым и довольно скользким словом «глобализация». Следом двинулись политологи транзитологической школы демократизации. Они распространили алгебраизированные формулы транзакционных деловых технологий на сферу властных отношений, а в перспективе – и всех прочих полей социальной деятельности. Рыночно-технократические политологи упорядочили и фактически возвели в теоретизированную норму текущие представления господствующих элит о самих себе и о способах элитного действия времен глобализации. Получилась довольно простая – если отвлечься от профессионального жаргона и алгебры – и жестко телеологичная картина исторической неизбежности глобальной экспансии рынка абстрактных стоимостей. За атомарную микрооснову глобализационного макропроцесса берется индивидуалистический принцип максимизации утилитарной выгоды. Это еще Адамом Смитом названная «невидимая рука», но доведенная до абсурдного предела.
При всей демонстративной изощренности научного аппарата, экономические теории глобальных рынков покоятся на фундаменте идеологической веры. Не составляет особого труда показать, что вера в непреложный прогресс капиталистических рынков оставляет непроясненные лакуны и противоречит массе фактов. Начать с того, что господствующие теории не имеют удовлетворительного объяснения причин экономического роста Запада в последние столетия и отставания остального мира. Поляризация между периферийными и центральными зонами современной миросистемы списывается на технологические инновации, которые, в свою очередь, возникают неизвестно откуда, буквально как Deus ex machina. Обычно указывается на те или иные культурные особенности Запада или правовые гарантии частной собственности – действительная роль и происхождение которых остаются непроясненными экстерналиями. Но почему тогда Запад так долго, вплоть до 1830-х гг., уклонялся от инновационного экономического роста, при этом успешно завоевывая мир?
Например, подробные исследования британских историков последних лет показали, что до этой даты темпы роста валового внутреннего продукта и тем более реальных доходов массы британского населения не превосходили показателей XIII–XV вв. Более того, сегодня уже не вызывает сомнений, что вплоть до 1800 г. Китай, Япония и прибрежные регионы Индии как минимум не отставали от Запада по душевому потреблению. Или почему, вопреки предписываемому «вашингтонским консенсусом» включению в глобальные рынки на основе либеральных демократий, свободы торговли, приватизации, фискальной сдержанности, низких налогов, институтов собственности и борьбы с коррупцией (т. е. стилизованного представления об Англии и Америке XIX в.), такой потрясающий пример роста в последние десятилетия дает коррумпированная номенклатурно-коммунистическая диктатура в Китае? Если дело в диктатуре, то не меньшими темпами расти должен бы Пакистан. Очевидно, дело и не в образованности населения, научной базе, наличии изобретателей, современной инфраструктуре и прочих недавно еще модных элементов постиндустриальной «экономики знаний» – в этом случае после падения косных коммунистических бюрократий расти должны были бы мы, страны Восточной Европы.
Если в теории обнаруживается столько непроясняемых лакун и произвольно вводимых эпициклов, то налицо, по известному определению Томаса Куна, предпосылки для научной революции. Однако Нобелевские премии в экономике продолжают присваиваться за работы либо частно-технического порядка, либо по довольно очевидным политическим соображениям. Институциональные и идеологические основы господствующей англо-американской версии экономической науки пока достаточно сильны для поддержания практически неоспоримых позиций.
Экономическая ортодоксия предполагает прежде всего отказ по умолчанию от исследования властной и конфликтной составляющей в истории капиталистической мироэкономики. Здесь, если говорить без обиняков, находится источник как политической неуязвимости, так и аналитического тупика экономической науки.
Капитализм действительно отличается от прочих рыночных систем прошлого своим глобальным размахом (но не только в наши дни, а с самого начала – возьмите генуэзских и венецианских купцов или голландских мореходов), интенсивностью операций и масштабом хозяйственной экспансии – чего стоит индустриальная революция и ее последствия! Все это готовы были признать и либеральные экономисты, и марксисты. Однако капитализм также разительно отличается от предшествующих рыночных систем регулярным употреблением власти – в первую очередь неосязаемой власти, которую дает распоряжение деньгами, но также средствами политико-административного предписания, военного принуждения и идеологического давления. Власть целенаправленно и постоянно используется для обеспечения условий успешного воспроизводства капитала, в первую очередь достижения устойчиво высоких норм прибыли. Это ясно осознавал и предтеча современного экономического анализа Адам Смит, сетовавший по поводу «дифференциала силы», применявшегося европейскими бизнесменами со времен Великих географических открытий. Именно конфликтная сторона ранней теории Маркса сохранила в определенной мере свое значение, хотя прочие элементы его анализа капитализма в дальнейшем приходилось пересматривать, отвергать, уточнять и достраивать блестящей плеяде ученых от Вебера до Шумпетера, Поланьи, Грамши и Броделя и уже наших старших современников: Валлерстайна, Арриги, Стинчкома, Тилли, Бурдье, Голдстоуна, Манна, Коллинза.
Проблема и просто беда современной экономической науки, как настаивали ее видные внутренние критики Роберт Хейлбронер и Альберт Хиршман[55], именно в том, что по явно идеологическим причинам из неоклассической экономики оказалась экстернализирована, вынесена за скобки конфликтно-властная динамика капитализма. Когда в 1890-х гг. первое поколение профессиональных университетских экономистов бралось за амбициозный проект создания точной математизированной науки о рынках, были отброшены все рассуждения классиков политической экономии о политической власти – как донаучные и не имеющие отношения к узко и строго определенному предмету. В те годы за образец научности была взята термодинамика, отчего, скажем, понятие стоимости из сложного и конфликтного социального взаимоотношения стало трактоваться подобно атомарным весам и зарядам субъектов рынка (о чем полезно почитать в монографии американского историка экономики Филиппа Мировски с остроумным названием «Больше жара, чем света»[56]).
В среде экономистов и политологов периодически возникают возмущения господством схоластики, которая предписывает все более изощренное алгебраическое моделирование идеологической абстракции свободных рынков. Пока я пишу эти откровенные строки, где-то в Америке или Европе стонет аспирант или аспирантка, пытающиеся втиснуть свои эмпирические наблюдения и собранные данные откуда-нибудь из Аргентины или Кыргызстана в формалистическое доказательство некоей неоинституциональной схемы principal/agent или теоремы рационального выбора. Роскошный ворох эмпирики никак не умещается в маленький жесткий чемоданчик, а сроки подачи диссертации все ближе – и уже маячит безработица по окончании аспирантуры, страх за потраченные годы и чувство собственной ненужности. Протесты случаются как со стороны впадающей в отчаяние научной молодежи (несколько лет назад посредством Интернета широко передавалась анонимная прокламация за подписью Mister Perestroika), так и со стороны некоторых мэтров ранга Нобелевских лауреатов Джозефа Стиглица и Амартьи Сена. Надо отметить, что большинство критиков не подвергало сомнению саму экономическую парадигму. Чаще это были «ереси», вызывающие на диспут текущую ортодоксию и порицающие ее с позиций гетеродоксии в рамках той же церковной доктрины – скажем, в вопросе о соотношении роли рынка и государства, о преобладании формального моделирования или исторического институционализма. Профессиональные ассоциации экономистов и политологов реагировали в лучшем случае созданием специальных комиссий для рассмотрения оппозиционных петиций.
Дело в том, что в американской дисциплинарной среде действует горизонтальный механизм перекрестного контроля. Это вовсе не официальная цензура, а контроль равномерного качества мастерами ремесленной гильдии. Эффективно отсекаются откровенно слабые и дилетантские работы. Однако взаимный контроль в основной массе случаев неявно и как бы сам собой предрасполагает к конформизму в пределах «мейнстрима», к написанию более проходных заявок и статей. Это происходит посредством обязательных анонимных внешних и внутренних отзывов, которые пишутся и воспринимаются всерьез, а не как формальные советские характеристики. На основе таких обстоятельных и нередко критических отзывов принимают свои решения комитеты по найму, выдвижению на следующую должность и выделению исследовательских грантов. Наиболее высокие и жесткие барьеры установлены в головных журналах профессии, где рутинно отвергается до 90 % присланных рукописей. Однако без такого рода журнальных публикаций молодые ученые имеют ничтожно мало шансов на получение перспективной должности в ведущем университете.
Об истоках и механизмах передачи нынешней теоретической моды на формалистический рационализм лучше всех, пожалуй, написал экономический политолог Дэвид Вудрафф, который прекрасно знает как ныне господствующую ортодоксию, так и теоретические парадоксы, возникающие в ходе ее применения. Вудрафф вспоминает и вовсе немодного Николая Бухарина, некогда обозвавшего австрийскую экономическую школу маржинализма «политэкономией рантье». По аналогии с бухаринским определением, Вудрафф характеризует современный экономистический анализ как «социальную теорию мира с позиции трейдера ценных бумаг»[57]. Трейдеру в самом деле не должно быть разницы, вкладывать ли деньги в ценные бумаги Техаса, Гватемалы, Кореи или Эстонии. Главное, чтобы везде были примерно одинаковые, привычные для трейдера правила ведения деловой игры, смоделированные по центральным (сегодня американским) образцам, чтобы везде присутствовали сопоставимые абстрактные стоимости, институциональные и инфраструктурные условия для беспрепятственного движения капиталов по миру в виде правовых норм, благоприятствующих бизнесу, бирж, отделений мировых банков, инвестиционных фондов, компьютерной связи и вездесущих отелей «Мариотт». В самом упрощенном виде, это и есть глобализация.
Позвольте особо подчеркнуть, что сарказм и критика Дэвида Вудраффа, к которым я полностью присоединяюсь, направлены не против моделей рационального выбора как таковых. Эти модели имеют свою довольно ограниченную применимость, кстати, в анализе исторических ситуаций атомизации обществ, подобных Восточной Европе после развала коммунистических государств. Протест наш направлен не против рынка. Рынок есть один из исторически возможных и, более того, практически неизбежных на уровне сложных обществ механизмов широкой социальной координации. Структурированный, «глубокий» рынок с действенными, а не формально провозглашенными гарантиями доступа неотделим от свойственных нашей эпохе форм демократии, включая демократию в потреблении. Протест наш направлен конкретно против идеологической схоластики, представляющей рынки чисто техническими рациональными механизмами, а также против абсолютизации текущей фазы «глобализации» в качестве ортодоксальной нормы и конечной цели предшествующей истории.
История будет длиться столько, сколько существуют создаваемые людьми социальные системы, которые, как все сложные системы, изменчивы и невечны. Исследовательская программа наших дней должна продолжить задавать фундаментальные вопросы, которые ставили в свою эпоху первопроходцы социальных наук. Тогда индустриальный капитализм среди множества конфликтов изменял облик Европы. Сегодня это происходит уже на уровне всего мира. Поэтому ничуть не устаревают вопросы, которые некогда ставили Адам Смит, Маркс, Вебер и Дюркгейм: каким образом возникают социальные системы? Что такое государство? И что такое революции? Почему возникает демократия? В чем состоит динамика рынков? Как институционализируются противоречия? Как организационно закрепляются признаки и морфологическое строение обществ? Что создает чувства групповой принадлежности, этические нормы поведения, что позволяет нормально функционировать человеческим сообществам? Почему возникают варианты и локальные различия? Откуда берется и почему сохраняется социальное неравенство? Наконец, как происходят изменения внутри социальных систем, как рушатся старые и возникают новые системы? Для ответа на эти вопросы необходимо вначале сделать несколько теоретических отступлений, в которых мы рассмотрим такие, казалось бы, хорошо известные хрестоматийные категории, как нация, государство, капитализм.
Автономная власть государства и головоломка Nation building
Исследуя Восточную Европу и пространство бывшего Советского Союза, мы неизбежно сталкиваемся с национальным вопросом, окутанным грозовыми тучами эмоций и густым туманом идеологической мифологии. Разобраться с этим явлением нам помогут такие великие ученые, как Эрнст Геллнер и Эрик Хобсбаум – оба некогда беженцы из многонациональной Австро-Венгерской империи, состоявшиеся как ученые в британской университетской эмиграции[58].
Нация, как показывает масса недавних исследований, есть не исконная родовая данность, а массовый политический проект. Не столько нации создают государство, сколько наоборот – реально существующие либо проектируемые государства создают собственные нации. Национальное сознание, по большому счету, есть способ идеологического соединения масс со своей национальной бюрократией и армией. У национальных проектов при некотором исследовательском усилии находятся вполне конкретные и изучаемые авторы – национальные просветители из среды исторических романистов, собирателей народных сказок, музыковедов, этнографов и краеведов. Следом появляются низовые активисты на уровне учителей и приходских священников, пламенные публицисты и пропагандисты и, со временем, политические вожди национальных движений. Их основная работа – создать из диалектных наречий, местных вариантов фольклора и крестьянских обычаев, изолированных в своем деревенском быту локальных этнических сообществ, общую национальную культуру, осветить ее публичные ритуалы (праздники, концерты, выносы флага), написать под определенным углом историю своего края – короче, выработать политико-культурные механизмы массового самосознания и чувства коллективной принадлежности (идентификации). Если эта работа по «пробуждению» нации оказывается успешна (а она, в силу различных исторических обстоятельств, далеко не всегда бывает успешна), то в итоге достаточно большое число людей принимает национальное самосознание как свое родное. Возникает сильное чувство национальной солидарности и преданности своему государству и его флагу. Процесс формирования наций может происходить как снизу, путем национально-освободительной борьбы за создание новых государств, так и сверху, когда уже существующее государство начинает упорядочивать своих подданных и прививать им общие патриотические представления через школьное образование, службу в армии и регулярные публичные ритуалы.
Государство представляет собой куда более ясный предмет анализа. Государство есть формально определенная иерархическая организация, которая стремится установить на четко очерченной территории суверенный законный контроль и различные виды социально-экономической координации. Здесь надо оговориться, что азбучное социологическое определение государства по Максу Веберу как «монополии на легитимное насилие» верно, но недостаточно. Координация экономических и социальных процессов на подвластной территории или, по выражению Герберта Спенсера, налаживание масштабной «принудительной кооперации» в обществе, есть не менее важное условие существования государственной власти.
Государства строят свою власть на двух взаимоусиливающихся основах. Во-первых, это вооруженный контроль, сдерживающий внешнее, завоевательское, а также внутреннее, безвластно-анархическое, насилие. Тот же вооруженный контроль используется для подавления восстаний, критики и прочих проявлений недовольства правителями. Наш современник Майкл Манн в уже классической статье «Автономная власть государства: происхождение, механизмы и последствия» называет эту вооруженную сторону государственности более древней и великой «деспотической властью»[59].
Вторая и по ходу истории все более важная основа относительно автономной власти государства заключается в уникальной способности территориально координировать хозяйственную деятельность и социальное воспроизводство своих подданных, налаживать и направлять то самое «принудительное сотрудничество». Манн называет это «инфраструктурной властью». Чтобы не вдаваться в теоретические подробности, прибегнем к метафоре Пьера Бурдье, который писал, что у государства есть две руки. Правой рукой государства держат меч и изымают налоги. Это старинные деспотические функции власти. Левой рукой, которая выросла позднее под воздействием восстаний, революций, забастовок и политических протестов, государства возвращают блага обществу в виде налаживания денежной и судебной системы, присмотра за поведением рынков и безопасностью улиц, регулирования социальных конфликтов, создания систем общественного транспорта, здравоохранения, образования, экологической защиты. При этом правая и левая рука государства регулярно попадают в конфликт друг с другом, что служит основным источником политических коллизий современности на уровне правительств и парламентов, гражданских обществ и внутри самой государственной бюрократии[60].
Деспотическая сторона государственной власти предполагает преимущественно карательные меры для достижения целей повиновения и изъятия ресурсов. Завоевательные империи прошлого регулярно прибегали к показательным экзекуциям в основном оттого, что не имели других средств, – грозные гиганты были слишком слабы инфраструктурно. В отсутствие постоянной администрации и полиции на местах оставалось запугивать население покоренных областей периодическими военными походами, постоями и публичными порками. Спектр возможных стратегий начинается с элементарного раннефеодального полюдья и наездов татарских баскаков для выбивания дани и захвата пленников на продажу. Далее в середине спектра находятся походы турецких султанов, которые каждое лето, при хорошей погоде, двигались из Стамбула на расстояние не далее двух месяцев пешего марша (чтобы вернуться до наступления зимы) то на запад, то на восток – в приграничные земли за Дунаем, в Закавказье или в Месопотамию. В верхней части спектра деспотических стратегий находится уже регулярное расквартирование китайских императорских гарнизонов или римских легионов, которые на деле и правили провинциями с лишь мизерным аппаратом гражданских чиновников.
Инфраструктурная власть намного избирательнее, точнее, эффективнее как в своем направленном захвате, так и в широте возможного охвата. Однако это требует многочисленного обученного персонала, дорогостоящего аппарата, регулярной административной работы и постоянной коммуникации. Именно это подразумевал прусский король-солдат Фридрих Великий, вынужденный глубоко заполночь визировать постоянный поток докладных записок и рапортов с мест, когда восклицал с гордостью и отчаянием: «Я всего лишь первый слуга Государства!» Печально знаменитые прусские шпики, гитлеровское гестапо или всепроникающие органы штази в ГДР – конечно, олицетворение деспотических функций, однако подкрепленных мощно эшелонированной инфраструктурной способностью к глубокому проникновению в общество и детальной информированностью о его элементах вплоть до отдельных граждан. Здесь нам напрашивается в качестве следующего примера сталинский режим со всеми его парткомами, профкомами, домкомами, участковыми и паспортными столами, спецотделами, кадровиками, военкоматами, сельсоветами и правлениями колхозов. Однако для предотвращения распространенных иллюзий насчет тоталитаризма, покажем потенциал инфраструктурной власти на менее ожидаемых примерах.
В декабре 1941 г., вслед за налетом японской авиации на Перл-Харбор, властям США потребовалось всего несколько недель, чтобы в ответ на массовую параноидальную шпиономанию разыскать и интернировать в спецлагеря почти четыреста тысяч собственных граждан японского происхождения. Еще всего четырнадцать месяцев заняло полностью возместить потерю боевых кораблей в Перл-Харборе – настолько быстро и эффективно Вашингтон сумел перевести частные корпорации на военные рельсы. Столь титаническое усилие создало заодно и массу хорошо оплачиваемых рабочих мест, что окончательно вывело экономику США из последствий Великой депрессии.
Если хотите, главное занятие государства – строительство стен. Это стены крепостей, дворцов и темниц, но также речные плотины и портовые молы, общественные убежища (в прямом и переносном смысле) и склады ресурсов на случай всевозможных бедствий, это, наконец, стены публичных зданий и домов. Этим государства отличаются от капиталистических предприятий, другого основного сосуда власти эпохи Нового времени. Капиталистические предприятия создают и контролируют товарные потоки. Впрочем, они всегда готовы воспользоваться государственными стенами для обеспечения спокойного течения деловой активности, решения своих проблем с конкурентами или бастующими работниками. В ответ государства ожидают получить от капиталистов пользу в виде налоговых поступлений, налаживания производств и поставки товаров, которые имеют приоритет для государства, и финансирования госзаймов (ну и, конечно, не без разной степени густоты и грязности коррупционной смазки во взаимоотношениях бизнеса с чиновниками и политиками). В реальной жизни здесь далеко не все бесконфликтно, как и при всяком дележе ресурсов.
Капитализм – враг рынка?
Взаимодействие логики государственной власти с логикой капиталистического накопления главнейшим образом и определило форму современного мира. Капиталистическое предприятие, как и государство, есть формальная организация – торговый дом, банк, посредническая контора, завод, семейная микрофирма или бюрократически обезличенная макрокорпорация. Однако в отличие от государства, питаемого сбором налогов с подвластной ему территории, капиталистическое предприятие извлекает прибыль из контроля над рыночными отношениями производства и обмена. Чтобы снять прибыль с экономической операции, требуется товарная форма обмена. Здесь Маркс был неправ, – капитализм произрастает не из специфически индустриального производства, т. е. фабрик с пролетариатом и буржуазией, за образец которых бралась Англия времен индустриальной революции. В «Капитале» зафиксирован лишь логически завершенный вариант капитализма, что вытекает из Марксовой методологии. В действительности же исторический капитализм есть скорее особо сложный тип отношений экономического обмена ради извлечения прибыли и накопления капитала с целью не потребления, но дальнейшего инвестирования в новые прибыльные операции.
Как показали австро-венгерский экономист Карл Поланьи и обладавший потрясающим знанием прошлого французский историк Фернан Бродель, далеко не все рынки обменов работают по капиталистической логике. Полное отождествление капитализма с рынками и рыночной динамикой есть распространенное и в основе своей идеологическое заблуждение[61]. Крупные капиталистические организации, в прошлом и в настоящем, обладают достаточной властью и влиянием, чтобы регулярно изменять условия рыночной игры в свою пользу. Конкуренция со всеми ее непредсказуемыми рисками, издержками и напряжениями – удел массы мелких собственников и менее влиятельных периферийных участников рынка. Преимущество же лидеров – в их способности делать погоду. Бродель в полемическом запале даже называл капитализм системой «контррыночной» (contremarche). Это вполне соответствует шумпетеровской модели делового цикла, где главный приз – периодическое создание монопольных позиций, комфортно гарантированных от конкуренции. Конечно, Шумпетер и Бродель прекрасно знали, что никакие монополии не вечны, что все гиганты рано или поздно падут. Однако ротация внутри капиталистических элит, ведущих городов и отраслей не меняет того факта, что сама система остается вертикально иерархичной. Господствующие высоты павших капиталистов рано или поздно занимают новые крупные и сильные хищники.
Капиталистический рынок руководствуется не соображениями потребительной стоимости, подобно исконной деревенской ярмарке, где пекарь сходится с горшечником, рыбаком и пахарем. В компактном кругу межличностных обменов, где практически все всех знают и живут бок о бок, нельзя ожидать устойчиво высокой прибыли. Здесь неизбежен сильный общинно-моральный элемент взаимного обмена одолжениями. Капитализм также разительно отличается от древней торговли высокостатусными предметами роскоши. В те времена эпизодически возникала ситуация, когда источники товаров нельзя было попросту завоевать (в основном из-за их удаленности). Поэтому «царские» товары приходилось весьма церемонно выменивать – как в случае с драгоценным ливанским кедром, минеральными компонентами бронзы или заморскими шелками.
Капиталистический обмен с целью получения прибыли как минимум на несколько веков старше капиталистического фабричного производства. Это вполне очевидно в реальной истории Европы, начиная уже с городов-государств северной Италии эпохи Ренессанса. Более того, товаризируемый на рынке продукт можно и даже, как правило, предпочтительнее производить первоначально вне капиталистического рынка. Надстраивание глобального капитализма над пестрым множеством местных некапиталистических «укладов» существенно снижает издержки и, следовательно, повышает норму прибыли в главном капиталистическом секторе. Основные непроизводственные издержки – особенно на социальное воспроизводство семейно-поколенческого цикла – остаются где-то в «традиционных» укладах, скажем, на уровне мелкотоварного крестьянского хозяйства или ремесленничества. Ни тебе пособий на ребенка, ни пенсий, ни налоговых отчислений на школы и городское благоустройство. «Социальные блага» обеспечивают по мере своих возможностей семейные домохозяйства, соседские общины деревень и сменяющих их сегодня по всему миру трущобных пригородов, земляческие и этнические сети взаимоподдержки среди мигрантов, религиозная благотворительность, даже в какой-то мере местные мафиозные формирования и дворовые банды либо изобретение последних лет – неправительственные организации. Здесь тем более нет никаких видимых экологических издержек, когда рядом еще остается первозданная природа с ее «примитивными» обитателями. Крайние в своей наглядности примеры из не столь далекого прошлого дают плантационное рабство в Новом Свете и товарно-экспортное крепостничество в Восточной Европе. Якобы атавистические рабство и крепостничество потому сохранялись так долго и пали лишь в ожесточенной борьбе, потому что оставались экономически достаточно эффективны – по крайней мере, для контролировавших их элит. Нечто подобное наблюдается сегодня в индустриализации азиатских стран, как некогда в Японии, затем Южной Корее и Тайване и теперь в Китае, Камбодже или Бангладеш. Молодые работницы швейных фабрик и сборочных цехов приходят как бы в «готовом» виде из деревни, откуда им в случае нужды обычно могут подбросить мешок риса, и куда эти девушки после нескольких лет исчезают, чтобы стать домохозяйками и матерями следующего поколения дешевой рабочей силы.
Важно уяснить, что товары в капиталистической мироэкономике современности производились и производятся совсем не обязательно пролетариями. В основе производственной цепочки могут быть плантационные рабы и крепостные крестьяне, независимые ремесленники и фермеры (если не считать, конечно, их долгов банку), сезонные мигранты-отходники и женщины-надомницы, вольнонаемные рабочие и специалисты, да хоть самые продвинутые компьютерные кустари-одиночки наших дней. Все это не разные способы производства и давно не пережитки местных традиций, а лишь возможные способы организации и контроля рабочей силы. Главное, чтобы был отлажен механизм, собирающий произведенные продукты в потоки и поставляющий их в сети обмена, на рынки, где они превращаются в товар. Механизмы товаризации продукта, его обмена, институтов и методов контроля над обменом, собственно, и составляют основной интерес в анализе реально существующего капитализма. Организация и контроль товаропотоков (commodity flows) и есть основная капиталистическая деятельность.
Там, где товаропотоки собираются в густые скопления, располагается центральная зона, более уплотненное всевозможными ресурсами ядро (core) капиталистической мироэкономики. Сохранение привилегированного положения ядра капиталистической мироэкономики вполне объяснимо динамикой сложных систем. Инерционность в пределах нормальных для системы циклических колебаний задается при возникновении системы едва ли не случайностью.
Однако когда современная миросистема установилась и прошла первые циклы своего развития, возникают механизмы самоподдержания. Инерционная устойчивость задается в социальных системах преимуществами тех сил, которые создали систему, и оттого изначально занимали ее центральные позиции.
Последующая их экспансия, торговая и военная, привела к расширению до пределов всей планеты изначально лишь Атлантического мира-экономики. Прочие локальные мир-системы были поглощены в ходе этого (напрашивается игра слов) отнюдь не мирного процесса – подобно тому как враждебно поглощаются фирмы в процессе капиталистической конкуренции. Те, кто расширяют систему и вовлекают в нее других, имеют значительно больше возможностей для дальнейшего отстраивания системы в своих интересах.
Преодоление либерально-марксистской парадигмы стадий прогресса
Итак, куда дальше могло бы двигаться обществознание? Очевидно, самым непродуктивным было бы продолжать идеологически заданные дебаты недавних лет на темы глобализации, постмодерна, либерально-демократических «транзитологий», постиндустриального и информационного общества. Неолиберальная глобализация оказалась не началом новой футуристической эры, кладущей конец истории, а последней великой утопией XX века. Она имела поразительно много общего со своим единоутробным собратом и заклятым соперником – марксизмом.
Марксизм и либерализм родились непосредственно из идей Просвещения. Великие умы той эпохи, от Ньютона до Огюста Конта, были потрясены открытием законов природы и собственной способностью объяснить, а значит изменить мир. Если, согласно знаменитой формуле тех времен, Бог – механик, и мироустройство постижимо так же, как устройство часового механизма, значит, возможно и необходимо отыскать те кнопки и рычаги, которые управляют нашим миром.
И либерализм, и марксизм постулировали, что все развитие человеческих обществ идет по ступеням прогресса. Они лишь спорили с догматическим апломбом о количестве этих ступеней и их определении: рабство-феодализм-капитализм-социализм или аграрное-индустриальное-постиндустриальное общество. Главный же спор был о том, достигнута ли уже высшая ступень истории в современной рационалистической «цивилизации Запада» или еще предстоит революционный прыжок в светлое будущее, когда история уж точно кончается и наступает окончательное воплощение исторической программы. Марксисты считали двигателем прогресса рабочий класс, либералы – средний класс. Для первых главным способом исторического движения была революция, для вторых – эволюционная реформа.
Обе стороны марксистско-либеральной ортодоксии достигли зрелого выражения в середине XX в. и особенно после 1945 г., с возникновением четкой биполярности холодной войны. Учебным катехизисом одного лагеря стал «Анти-Дюринг» Энгельса, другого – «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера. Обоих классиков при этом покрыли изрядным слоем мертвящей бронзы. Тем, кто в студенческие годы настрадался от советских курсов научного коммунизма, было бы весьма забавно и поучительно поглядеть, что происходило при переводе Вебера на английский: как, к примеру, слово «господство» (Herrschaft) плавно превращалось в куда менее грубое «политический авторитет» (political authority). Американским переводом и, по ходу, увековечиванием Вебера руководил Талкотт Парсонс, убежденный американский патриот и сын сельского протестантского проповедника. Крайне наивно было бы воспринимать усилия научной школы Парсонса по построению системной теории общества лишь как абстрактную социологию. Сказанное вовсе не означает отказа от попыток построения системных теорий. Парсонс велик именно своим размахом и успехом в построении сильной научной школы. Но у великих же и великие ошибки, на которых лучше учиться, чем повторять чужую ортодоксию.
Теоретические прорывы 1970-x годов
Обе стороны двойной догматики, марксистская и либеральная, были взорваны изнутри в бурный период 1968–1974 г. Обычные объяснения всплеска молодежного инакомыслия и иконоборчества тех лет страдают поверхностным и излишним вниманием к внешним проявлениям: рок-музыка, переход от формальных костюмов и причесок к джинсам и длинным патлам, сексуальное раскрепощение, якобы стимулируемое изобретением противозачаточных таблеток. На самом деле все было проще и куда серьезнее. В послевоенные годы начался колоссальный демографический бум, который в сочетании с массированным государственным инвестированием в науку привел к беспрецедентному в истории развитию образования и исследовательской инфраструктуры. Повсюду, от Калифорнии до Новосибирска и от Мехико до Уганды, возникали новые университетские центры. Шло массовое рекрутирование нового поколения в исследователи и высокообразованные специалисты. Вступая в жизнь, они искали себе достойного применения – и отказывались встраиваться в прежние структуры почитания чинов и авторитетов. Времена были, конечно, хаотические, но в результате совершенно не случайно происходят прорывы практически на всем интеллектуальном поле, от киноискусства до естественных наук.
В последние два-три десятилетия была достигнута критическая масса на том направлении, которое Коллинз зовет исторической макросоциологией, а Иммануил Валлерстайн предлагает именовать исторической социальной наукой. Начало продолжающегося подъема этой исследовательской парадигмы относится ко второй половине 1960-х гг., когда одновременно подверглись внутренней атаке обе прогрессистские идеологии XIX в. – либерализм и марксизм, и соотносящиеся с ними господствующие теоретические школы. Внезапное ослабление идеологической заданности общественных наук в 1960-х – 1970-х гг. происходило в период беспрецедентного расширения систем высшего образования и науки во всем мире, в его условно названных «капиталистическом», «социалистическом» и «развивающемся» политических блоках. Росла численность профессионалов, добывающих социально-исторические знания, расширялась география и тематика исследований. К концу 1970-х гг. начали появляться результаты нового теоретического синтеза и эмпирических обобщений.
Рэндалл Коллинз выделяет четыре основных прорыва в понимании макроисторических процессов. Это новые теории возникновения и развития государств, революций и гражданских обществ, нишевая теория рынков и миросистемная перспектива. Коллинз скромно упускает из этого перечня самого себя. Постараюсь это восполнить. Также следует причислить к этому ряду политэкономию культуры Пьера Бурдье. Попытаюсь показать, почему это справедливо и полезно для дальнейшего теоретического синтеза. Рассмотрим теперь подробнее, как, кем, против кого и из чего формировались эти теории, а также что их объединяет.
Новая теория государства
Первым достижением выступает теория исторического возникновения государства как военно-рэкетирской организации. Американец Чарльз Тилли и норвежец Стайн Роккан, начинавшие свои исследования еще в рамках однолинейной модернизаторской парадигмы, восстали против собственных наставников и в результате коренным образом изменили наши взгляды на историческое развитие современных государств[62]. В том же направлении работали в своеобразной соперничающей спарринг-паре два незаурядных англичанина, дружащие и спорящие уже третье десятилетие – неовеберианец Майкл Манн и его верный оппонент неомарксист Перри Андерсон[63] (упоминавшийся выше его родной брат, Бенедикт Андерсон, создал одну из наиболее влиятельных сегодня теорий национализма).
Независимо от этих историков, политологов и социологов развивал свои идеи своеобразный политический теоретик Манкур Олсон[64]. Он приобрел немалую известность в основном благодаря запоминающимся теоретико-метафорическим образам «бандита рыщущего» (roaming bandit), т. е. примитивного набегового грабителя-охотника, и «бандита оседлого» (stationary bandit) – собственно государства, которое ведет себя по отношению к подданным скорее как рачительный скотовод, периодически подвергая их принудительной налоговой «дойке» для оплаты своего покровительства. Однако построения Олсона остались на абстрактно-метафорическом уровне и в дальнейшем формировании новой теории государства не участвовали.
Так называемая военно-налоговая теория развития государства, впервые сформулированная в начале 1970-х гг. Чарльзом Тилли и Стайном Рокканом, сегодня принимается практически всеми историческими социологами. Она гласит, что у истока государственности стоял элементарный рэкет феодальных баронов, которые выдавали гарантии защиты в первую очередь от самих себя в обмен на согласие подданных регулярно и без особого сопротивления платить фиксированную дань. Основные положения нового подхода изложены в ныне классической статье Чарльза Тилли «Война и создание государства как организованная преступность»[65]. Около тысячи лет назад ранне-средневековые государства Европы представляли собой вооруженные группы (дружины) с лишь зачаточной бюрократией в лице монахов, поддерживавших римские традиции. Основные действия воинских дружин той эпохи вполне подпадают под статьи современных уголовных кодексов, например: сговор с целью насильственного присвоения имущества, вооруженное ограбление, поджог, захват заложников, изнасилование, убийство и, конечно, рэкет или вымогательство дани.
Примерно до XVIII в. у европейских государств было всего две основные заботы: война (как средство обогащения элиты плюс «спортивный» элемент подтверждения власти и престижа королей), а также подготовка к войне, т. е. сбор дани, создание военно-мобилизационных схем на основе раздачи феодальных держаний, наемничества либо рекрутских наборов. Подданные в этой схеме власти рассматривались исключительно как податная база, от которой единственно следовало отсекать прочие рэкетирско-государственные организации путем постоянных феодальных войн, укрепления рубежей и подавления слишком самостоятельных баронов.
С началом огнестрельной военной революции в XV–XVI вв. начали резко возрастать стоимость и численность армий нового типа. Французский государственный финансист Кольбер при короле Людовике XIV оставил нам известную сентенцию, гласящую, что для успешного ведения войны требуется три условия: деньги, деньги и еще раз деньги. Теперь королевская власть была вынуждена так или иначе создавать устойчивые союзы с купеческими капиталами, служилым мелким дворянством и впоследствии с рядовыми подданными, которые в новую эпоху постепенно превращаются в политически мобилизованных налогоплательщиков и поставщиков рекрутов для национальных армий. Именно из-за постоянной инфляции стоимости военного дела после появления дорогостоящих в производстве и содержании пушек, регулярных флотов и массовых армий королевская власть оказалась вынуждена договариваться и торговаться с различными классами и сословиями своих подданных.
Вооруженное принуждение по-прежнему широко применялось всеми правителями. По печально-ироничному замечанию Тилли, принуждение так часто встречается в исторической практике государств потому, что оно, как правило, срабатывает. Однако задолго до теоретика Чарльза Тилли видный практик военной власти Наполеон Бонапарт заметил, что со штыком можно делать множество всего, кроме как на нем сидеть. Вооруженная сила есть орудие дорогостоящее и не всегда самое эффективное в осуществлении целей властвования. Кроме того, армия часто требовалась на внешних фронтах. Поэтому правительствам абсолютистских монархий ради бесперебойного снабжения войск и в обмен на послушание подданных приходилось теперь принимать на себя производство некоторых общественных благ вроде дорог, школ и госпиталей, безопасности городских улиц, ведущегося по четким правилам судопроизводства и стабильной национальной валюты. Со временем, далеко не сразу и далеко не ровным и бесконфликтным путем, эти тенденции привели на Западе к институционализации парламентов, современных правовых систем, гражданской бюрократии, расширению избирательных прав, а также национальной идеологии, дотоле совершенно ненужной и чуждой космополитично-кочевой феодальной верхушке и латинизированному духовенству.
Убедительность данной аналитической схемы заключается, прежде всего, в ее неочевидности и одновременно в наглядности – успешная теория должна уметь понятно сказать что-то новое и необычное, чего мы раньше не знали. Здесь обойдены прежние спекулятивно-идеологические допущения об «общественном договоре», благодетельной дальновидности отцов-основателей либо о необходимой борьбе государственного Левиафана с якобы присущей человеческой природе склонностью к анархическому насилию и вседозволенности. Вернее, теория способна детально продемонстрировать, как и откуда в реальной истории возникают политические действия и институции, принимаемые за «общественный договор» и растущую власть Левиафана. Военно-налоговая теория развития современной государственности ясно указывает на эмпирически проверяемые причинно-следственные связи и цепочки передаточных механизмов, через которые двигался данный исторический процесс от элементарно грабительских дружин раннего Средневековья к централизованным монархиям эпохи абсолютизма и далее – к современным демократиям, как, впрочем, и к периодически возникавшим в новейшей истории Европы различным популистским диктатурам.
Теоретическая схема Тилли – Роккана неплохо работает применительно к совершенно иным историческим контекстам и в обратной последовательности. Это продемонстрировал работающий в США болгарский политолог Венелин Ганев на примере посткоммунистических режимов Восточной Европы[66]. Катастрофическое ослабление государственности после начала рыночных реформ, трезво рассуждает Ганев, не могло быть вызвано одной неолиберальной идеологией. Она действительно предписывала резкое понижение роли государства, – но могла ли интеллигентская идеологическая программа свержения партократии сама по себе добиться такого результата? Ганев показал на примерах Болгарии и Румынии, как срабатывает модель Тилли – Роккана в реверсе, пущенная обратным ходом.
В хаосе начала 1990-х гг., в отсутствие непосредственных угроз иностранного завоевания и народных восстаний перестали выполняться и два условия, которые Тилли считал ключевыми стимулами в становлении современного государства. Стало ни к чему заботиться об эффективности войска и сбора налогов. Катастрофически резко понизилось предоставление государством общественных благ – поскольку особенно не за чем и не с кем стало торговаться в гражданском обществе, впавшем в политическую апатию из-за внезапно обрушившейся атомизации, потери веры в коллективные действия, массового обесценения социально-профессиональных статусов и возникновения состояния аномии, когда люди более не могли быть уверены не только в будущем себя и своих детей, но и в своем настоящем положении. Сами посткоммунистические элиты, среди которых по-прежнему преобладала бывшая номенклатура, остро ощущали свою нестабильность и уязвимость. Это вполне рационально направляло элитные действия на немедленное, без мысли о долгосрочном укреплении коллективных позиций, разграбление накопленных прежним государством ресурсов. Если воспользоваться метафорическими образами Олсона, из прежде прочно сидевших «бандитов оседлых» стали возрождаться примитивные «бандиты рыщущие». По ходу подобных действий посткоммунистическим правителям и их приближенным неминуемо приходилось ослаблять органы государственного контроля и коррупционно развращать персонал, вербуя среди них клиентов, исполнителей и деловых партнеров.
Все это, конечно, печально знакомые явления недавних лет, анализируемые также Вадимом Волковым в монографии «Силовое предпринимательство» на материалах оргпреступности в Петербурге 1990-х гг.[67] Однако обратите внимание, что аргументация Вадима Волкова и Венелина Ганева есть, во-первых, не просто наблюдение проницательного современника, а неочевидная теоретическая вариация, тем не менее, последовательно выводимая из общей теории Тилли – Роккана. Во-вторых, важное достоинство данной теории в том, что и Тилли с Рокканом, как и впоследствии Ганев и Волков, совершенно спокойно обходятся без морализаторских указаний на личную психологию тех или иных порочных/добродетельных персон. Схема не нуждается в такого рода допущениях и вполне достаточна для последовательно логичного объяснения, отчего политики могут так менять свой облик и поведение со сменой эпох: Ельцин, Назарбаев, Шеварднадзе или некогда слывшие европейски образованными прогрессивными технократами югославский аппаратчик Слободан Милошевич и болгарский премьер Андрей Луканов, павший в конечном счете жертвой мафиозного заказного убийства.
Наконец, государственная теория Тилли – Роккана обладает достоинством модулярной совместимости с теориями из других областей макроисторических исследований. Она прекрасно стыкуется и взаимоусиливает теоретические прорывы семидесятых годов XX в.
Истоки революций современности
Наиболее тесное взаимодействие с военно-налоговой теорией Тилли – Роккана возникает в исследовании механизмов социальных революций, массовых движений и протестной политики Нового времени. Предтечей нового подхода послужила опубликованная в 1966 г. и по сей день влиятельная монография Баррингтона Мура, чей заголовок можно перевести как «Исторические истоки демократий и диктатур XX века: вариации в исходах борьбы помещиков и крестьян в Европе эпохи раннего Нового времени»[68]. Основной теоретический прорыв к новому пониманию революций наступил с конца 1970-х гг. с публикациями работ Теды Скочпол, Джека Голдстоуна, Майкла Манна, Роджера Гулда (прожившего совсем недолго, но успевшего перевернуть представления о Парижской коммуне), Джона Маркоффа, плюс того же Чарльза Тилли и его многочисленных последователей в США и Европе[69]. Эти исследования, беря за эмпирическую основу материалы столь драматических и многосторонне описанных событий, как перевороты, восстания и революции, высвечивают обратную сторону военно-налогового развития современных государств: различные варианты противостояния населения растущим государственным изъятиям, от петиций и забастовок до локальных бунтов, партизанских движений и великих революций, и то, какими путями из этих нередко кровавых коллизий возникали демократии и диктатуры, оппозиционные политические партии, профсоюзы, расширение предоставления гражданства и права голоса, трудовое законодательство и разнообразные механизмы государственного соцобеспечения, процедуры сменяемости правительств и регулируемые законом поля политической власти. Короче говоря, то, как наряду с ростом государств росли политические системы и современные гражданские общества. Революции, как наиболее полные и драматичные пики в протестной и социально-трансформационной политике, оставались в центре теоретического внимания.
Долгое время в объяснении революций и их последствий противоборствовали с сильнейшим эмоциональным накалом два по сути идеологических подхода – революционный и контрреволюционный. Сторонники быстрейшего прогресса считали революции локомотивами истории, славными моментами освобождения и, главное, совершенно объективной неизбежностью, знаменующей собой переход от старого общественного порядка к новому, от одной исторической формации к другой, более прогрессивной. Именно эсхатологической борьбой светлого Будущего против темного Прошлого (будь то в идеологическом сознании якобинцев, ранних либеральных заговорщиков, повстанческих националистов, социалистов, диссидентов убежденных неолиберальных рыночных реформаторов или иных авангардных групп) оправдывалось героическое революционное самопожертвование – и столь же беспощадная ломка препятствий. Если законы истории познаны и их остается реализовать ради наступления общего блага, то компромиссы равняются предательству самой истории человечества. Революционный подход можно назвать стадиально-детерминированным – революции расцениваются как исторически неизбежные, объективно нарастающие (и, конечно, желанные) прорывы на более высокие ступени прогресса. Эти представления восходит к первым либеральным историкам Французской революции и к подвергшимся их влиянию Марксу и Энгельсу.
Противники революций, особенно мемуаристы и публицисты из стана проигравших элит и изгнанников-эмигрантов, напротив, считали эти явления ничем объективно не вызванными, внезапно случающимися приступами массового безумия, преступного посягательства на устои, веру и собственность. На консервативном политическом полюсе, среди тех, кому в прошлом жилось комфортно и статусно престижно, утраченный старый уклад жизни ностальгически воспринимался естественно добродетельным, устойчивым и нормальным. Поэтому революции оставалось объяснять сугубо внешним фактором проникающих откуда-то из заграницы или из подполья смутьянов: заговорщических масонов, космополитических евреев, студентов-террористов, агитаторов-интернационалистов, агентов иностранных подрывных центров. В более интеллектуальных версиях контрреволюционной теории предполагалось воздействие более абстрактных, но не менее опасных и заразных «синдромов психодрамы», «инстинктов толпы» и «ниспровергательного невроза». Контрреволюционная теория, таким образом, имеет два типичных варианта – конспирологический и девиантно-психологизирующий – причем оба видят причину революций вовне, за пределами нормального функционирования общества.
Марксистские и консервативные взгляды на революцию господствовали почти полтора века, вплоть до 1950-х гг. Либералам как представителям идеологической позиции изначально радикальной, но впоследствии, после появления марксизма, значительно более осторожной и консервативной, как правило, оставалось маневрировать где-то посередине.
Теория модернизации как первый опыт макросинтеза
В следующем десятилетии, в течение 1960-х гг., возникли новые теории, основой которых стала идеологическая парадигма модернизации. Впервые были предприняты попытки систематического сравнительного сопоставления различных революций и их компьютерно-статистического моделирования. Модернизационный подход к изучению социальных изменений и политического развития, несмотря на консервативную идеологическую направленность, удивительно много и почти открыто заимствовал из марксизма. Чего стоил знаменитый подзаголовок бестселлера Уолтера Ростоу 1962 г. «Стадии экономического роста: некоммунистический манифест»! Тут была и личная связь. Немало из впоследствии видных теоретиков модернизации и современного неоконсерватизма – например, идеолог американской исключительности Сеймур Мартин Липсет и автор концепции постиндустриального общества Дэниел Белл – в молодости увлекались троцкизмом. Принадлежащий к другому поколению Фрэнсис Фукуяма также в молодости состоял в философском кружке Жака Деррида.
Теория модернизации строилась со впечатляющим размахом на своеобразном синтезе классических концепций XIX в. Из наследия Маркса пришли исторические формации, переформулированные как стадии роста: первобытная, аграрная, индустриальная, постиндустриальная, а также признание источника революционных потрясений в «комплексе относительной депривации» – проще говоря, классовой обездоленности масс. Центральную роль в модернизационном синтезе играли либеральные идеи Макса Вебера о процессах рационализации и институционализации индивидуальных политических прав (демократизации) в современную эпоху. Наконец, из наследия леволиберального светского республиканца Дюркгейма было заимствовано осознание важности современных форм групповой идентификации – «органической солидарности» – в соперничающих вариантах классового и национального самосознания.
Модернизационная школа достигла к середине 1960-х гг. очень мощного институционального расцвета и на какое-то время стала неоспоримо господствующим направлением в социальных науках США и Западной Европы. В течение всего нескольких лет появилась серия основополагающих текстов таких социологов и политологов, как Джордж Хомане, Гюнтер Рот, Льюис Козер, Алекс Инкелес, Роберт Даль, Ральф Дарендорф, Люсиан Пай, Дэниэл Белл, Шмуэль Эйзенштадт. За ними последовала просто лавина конкретных исследований отдельных стран и региональных процессов, в заголовках которых неизменно фигурировали ключевые слова «традиция, современность и перемены».
Расцвет школы модернизации оказался удивительно кратковременным. Это было связано не столько с теоретической критикой, сколько напрямую со взлетом и резким падением по ходу войны во Вьетнаме оптимистической веры в современную технологию и уникальную способность США направить мировое развитие в прогрессивно либеральное русло. В начале 1970-х гг. школа модернизации практически исчезла со сцены.
Из последствий этой истории следуют два важных урока и одно предостережение. Начнем с предостережения. Парадигма модернизации возродилась в 1990-е гг. под рубриками глобализации и неолиберальной рыночно-демократизационной транзитологии. Повторение обернулось фарсом. Новое даже не оказалось забытым старым. Поточное производство книг и статей по глобализации и транзитологии отмечено той же однолинейной, нормативно-предписывающей телеологией, что и прежняя школа модернизации. Однако новейшая литература по глобализации напрочь лишена классической эрудиции и теоретического размаха былых апологетов модернизации. В лучшем случае, как в работах Мануэля Кастельса и Саскии Сассен, столь приметных на фоне безвременья 1990-х гг., базовые концепции сетей обмена и центральных городов, неявно взятых у Фернана Броделя, были облечены в модные языки школ бизнеса и постмодернизма[70]. На поток было поставлено изготовление профессионально формалистических упражнений на модные темы, которыми достигаются университетские и консалтинговые карьеры, и быстро сменяющих друг друга футурологических бестселлеров, которые эксплуатируют общепринятые сюжеты, страхи и надежды. Мы здесь сталкиваемся с внешне пышной, но измельчавшей и регрессивной ветвью интеллектуального развития.
Таково мое грубо откровенное предостережение. Теперь скажу о двух уроках, которые указывают, куда в действительности эволюционировал интеллектуальный посыл школы модернизации.
В Советском Союзе шестидесятых годов идеи модернизации едва ли не целиком – конечно, в идеологически иной форме – отразились во всплеске теоретической активности в дисциплинах исторического материализма, тогда еще нового и не вполне косного научного коммунизма, и наиболее продуктивно в экономике, социологии, этнографии и особенно в исследовании стран Третьего мира. Простое перечисление тематики тех лет звучит внушительно.
Это оптимистические дебаты о наступлении «эпохи НТР» (научно-технической революции) – по аналогии с «постиндустриализмом» Белла; о характеристиках «развитого социализма» с его ростом «общенародной демократии» и признанием «неантагонистических противоречий» (наиболее смелые авторы допускали даже ссылки на Роберта Даля и Ральфа Дарендорфа); о стирании грани между городом и деревней (чем занималась и американская урбанистика тех лет); о слиянии социалистических наций и народностей в новую историческую общность «советский народ» (аналогично теориям ассимиляции иммигрантов и расовых меньшинств в общую Американскую нацию); о мирном сосуществовании на международной арене государств с различными идеологиями (в американских исследованиях международных отношений подобное направление занималось исследованием и пропагандой институциональных норм разрешения конфликтов); о конвергенции плановых и рыночных начал в управлении экономикой, где было очевидно прямое влияние крупнейшего американского экономиста Джона Кеннета Гэлбрэйта. Или возьмите на первый взгляд отвлеченные, но столь интеллектуально напряженные дебаты об «азиатском способе производства». Или, с другой стороны, поиски методов исторической и этнопсихологии, стремившихся описать и объяснить особенности менталитета иных обществ. Насколько отличаются от современных им западных образцов дискуссии о многоукладном характере развивающихся стран или о роли прогрессивных военных и «новых правящих господствующих групп»? Добавьте сюда намного более ортодоксальные (как, впрочем, и аналогичные экспертные исследования в США) построения насчет «социалистической ориентации» освободившихся от колониального господства стран Азии и Африки и скачке через формационные стадии.
В сумме, все это прямые аналогии модернизационным дебатам о традиционности и путях ускоренного изменения незападных обществ. Столь длинное перечисление фиксирует последний период, когда восточноевропейские науки об обществе практически достигали интеллектуального паритета. В рамках марксистско-ленинской ортодоксии и на базе ведущих научных центров СССР были своеобразно – чаще имитационно, но иногда и очень изобретательно – проиграны практически все логические ходы, которые в тот период совершало западное обществознание. Теоретическая активность советских интеллектуальных элит пошла на убыль в последующие десятилетия и достигла апогея в девяностые годы. Однако есть надежда, что не все еще сгинуло. По афористичному замечанию Валлерстайна, элиты и традиции не исчезают, но иногда берут тайм-аут на поколение.
Все это не было ни простым подражанием, ни случайностью. В этом заключается второй важный урок. Мощным всплеском теоретической активности двигала эмоциональная энергия оптимизма 60-х годов XX столетия – подкрепленная ресурсами и политическими амбициями соперничающих сверхдержав. Теория – нет, берите выше, парадигма модернизации, как ясно видно из наших дней, – страдала телеологической однолинейностью, политизацией и наивным оптимизмом. Весь мир должен был вскоре прийти к американскому «образу жизни» как высшему образцу современности путем модернизационного преодоления традиционности, либо к альтернативному высшему советскому образцу путем социалистической ориентации.
И все же парадигма модернизации – первая фронтальная попытка синтеза классического наследия первопроходческих поколений обществознания и его операционализации на глобальном уровне уже всей истории человечества и всей планеты. Как американские ученые более или менее открыто заимствовали идеи у Маркса наряду с идеологически приемлемыми Вебером и Дюркгеймом, так и советские ученые более или менее подспудно вводили в свои исследования концепции, не вполне санкционированные официальной ортодоксией (что, отметим, касалось и неортодоксальных прочтений Маркса). Это, готов повторить неоднократно, была первая мощная попытка синтеза и модернизации классики социального анализа. Также не случайно, что именно из младшего поколения школы модернизации, поднявшего критическое восстание изнутри, вышли Валлерстайн, Хопкинс и Арриги, Роккан, Тилли и Скочпол, братья Перри и Бенедикт Андерсоны, Майкл Манн, а также всегда двигавшийся своим особым путем Пьер Бурдье (который начинал, напомню, с исследования Алжира). Импульс их работам задавала амбициозная парадигма модернизации, а ее идеологические противоречия порождали в младшем поколении иконоборческие стремления – что в результате обернулось серией успешных теоретических прорывов.
Наглядной иллюстрацией служит некогда влиятельная теоретическая схема возникновения революций, которую в середине 1960-х гг. выдвинул Сэмюэл Хантингтон. Предложенная им схема отличалась элегантной стройностью, эрудированной аргументацией и доступной для широкого понимания формой изложения[71]. Было бы ханжеством также не отметить, насколько умело Хантингтон заострил свою схему в том самом направлении, которое в период Вьетнамской войны требовалось Вашингтону. Хантингтона не зря прозвали «Карлом Марксом для Пентагона». Кстати, он лично выезжал во Вьетнам консультировать американское командование по стратегии борьбы с партизанами, а бунтующие студенты тем временем пикетировали его кабинет в Гарварде.
Суть схемы Хантингтона заключалась в том, что общество в переходный период модернизации испытывает множество опасных стрессов из-за подрыва традиционных устоев, социальных и семейных авторитетов, религиозной веры, хозяйственных укладов, перемещения населения из знакомого маленького мира деревень в беспорядочно растущие города. Традиционное общество было неподвижно и стабильно в силу многовековой инерции, утверждал Хантингтон вместе со всей школой модернизации. Сегодня, заметим, такие утверждения повергли бы в оторопь исторических демографов, антропологов и социологов, которые собрали массу свидетельств самых разнообразных кризисов в досовременных «традиционных» обществах: экологических, геополитических, эпидемических, популяционных, урбанистических, династических, религиозно-идейных. Доступно изложенный каталог подобных примеров содержится в недавней книге Джареда Даймонда с простым и грозным заголовком «Коллапс»[72]. Стабильным и рационально саморегулирующимся – предрекала вся школа модернизации – станет в будущем и новое модернизированное общество. Подобно послевоенному Западу, стабильность, благосостояние и затухание идеологических конфликтов будут обеспечены либеральными нормами современности и постоянно высокими темпами научно регулируемого экономического роста.
Самое же рискованное – неустойчивое переходное состояние модернизации, из которого, по схеме Хантингтона, и возникают революции. Его вывод был брутально прост: переходный период от традиции к современности требует целенаправленной диктатуры, способной предотвращать сбои в процессе. Поэтому Вашингтону рекомендовалось не комплексовать и относиться прагматично-реалистически к своему вынужденному покровительству военным и авторитарным правителям в Третьем мире, от гаитянского Папы Дока до заирского фанфарона Мобуту Сесе Секо и кровавого индонезийского генерала Сухарто – вполне по восхищенно-циничной формуле президента Франклина Рузвельта, высказанной по ходу доклада о деяниях никарагуанского диктатора Сомосы: «Совершеннейший сукин сын, но наш сукин сын!». Без либеральных экивоков, лучшими примерами модернизационной диктатуры Хантингтон называл Японию после Реставрации Мэйдзи 1860-х гг., Турцию при Ататюрке и (надо отдать должное последовательности правоконсервативного Хантингтона) сталинский режим в СССР.
Контрреволюционная теория Хантингтона не была ни обычным психологизирующим морализаторством, ни публицистической апологией силовой политики и американского империализма (хотя и заставила поморщиться многих его коллег по школе модернизации). Это была мощно аргументированная схема, в которой присутствовали как анализ структурных условий, взятых в исторической динамике, так и функциональное указание на роль элит и политических режимов, источники массового недовольства, влияние мировой геополитики и идеологической конфронтации времен холодной войны. Фактор модернизационного стресса объяснял многое. Как оказалось, слишком многое.
Новая теория революции: прорыв
В 1973 г. появляется ставшая знаковой статья Чарльза Тилли под простым вопросительным заголовком «Порождает ли модернизация революцию?»[73]. Ответ Тилли на поставленный в заголовке вопрос был еще проще – нет. Тилли, тогда еще считавшийся восходящей звездой школы модернизации, попытался досконально разобраться в том, какие, собственно, процессы и в какой причинно-следственной последовательности Хантингтон объединил под широкой омни-рубрикой модернизации.
Критическая аргументация Тилли двигалась по очень длинному, но хорошо проработанному списку возможностей. Итак, что именно и каким образом вызывает протесты и революции: урбанизация, демографический взрыв, произведенный внедрением санитарии, массовое распространение грамотности, секуляризация, воздействие СМИ, демонстрационный эффект современного уровня потребления, появление авангардных идеологий, возникновение интеллигенций, коррупция в госаппарате, мировые рыночные колебания и экономические кризисы, так болезненно поражающие экспортирующие сырье сектора и мелкотоварное сельское хозяйство на периферии, пролетаризация вчерашних крестьян и ремесленников, упадок в статусе и доходах сельских помещиков и священнослужителей или патриотические чувства, направленные против иностранных колонизаторов и империалистического вмешательства? Опять «все выше названное»? И все-таки в какой последовательности? Или почему в Индокитае коммунисты побеждают, в Малайе терпят поражение, а голландское господство в Индонезии и французское в Алжире свергают повстанцы-националисты, которые при этом сами подавляют коммунистов?
При ближайшем рассмотрении основополагающая концепция модернизации начинала расползаться и распадаться на множество слишком разнообразных процессов. Что толку в абстрактной концепции, которая неизбирательно, скопом предлагает объяснить все? Студенческие демонстрации в Мексике, «негритюд» и панафриканизм, крестьянские самозахваты земли в Бразилии, «революции сверху» патриотических полковников в исламских странах и Латинской Америке, организованное Махатмой Ганди ненасильственное сопротивление британскому господству в Индии, возглавляемые коммунистами многолетние партизанские войны в Китае и Корее против японской оккупации или во Вьетнаме против французов и американцев – и все это разнообразие выводится из стресса модернизации? Объяснение столь изменчивых конфигураций явно требовало более точных, чем модернизация, категорий и более избирательной аналитической стратегии.
Тилли выступал тогда далеко не в одиночку. На легендарной пленарной сессии ежегодного собрания Американской социологической ассоциации в 1974 г. в ответ на выступление Алекса Инкелеса его младший оппонент Иммануил Валлерстайн представил убийственно краткий доклад «Модернизация, мир праху ее»[74].
Отметим и настоящее восстание среди американских славистов и советологов против прежде господствовавшей ортодоксии, объяснявшей абсолютно все в советской истории, политике, культуре и обществе единственным омни-фактором тоталитаризма. Новое поколение «ревизионистов» (по отношению к теории тоталитаризма), воспользовавшись удачным моментом разрядки напряженности в холодной войне, который облегчил доступ в страны советского блока, развернуло в 1970-е гг. целый фронт исследований по культуре, социальной и политической истории Восточной Европы. Это движение принесло обильный урожай публикаций, полных интересных нюансов и богатой эмпирики насчет многих процессов, личностей и событий советской истории, которые до наступления перестройки считались вотчиной наиболее ортодоксальных историков КПСС или того подавно – идеологическим табу.
Как нередко случается в ходе научных переворотов, старшие лидеры школы модернизации на эту критику так и не ответили. Защищенные званиями и положением в ведущих университетах, они просто отступили в свои кабинеты. Школа модернизации ушла со сцены молча. Большинство бывших теоретиков модернизации в дальнейшем занималось рутинной преподавательской и академической работой. В забвении умерли Талкотт Парсонс и Роберт Мертон. Кое-кому удалось уйти из резко к ним охладевшей научной среды в экспертный консалтинг и политику – подобно Збигневу Бжезинскому, который в бытность свою молодым преподавателем Колумбийского университета сделал себе имя как один из наиболее ортодоксальных теоретиков тоталитаризма (кстати, Бжезинский преподавал тогда совместно с молодым африканистом Валлерстайном очень популярный среди студентов курс по политической модернизации незападных стран). Неукротимый Сэмюэл Хантингтон двадцать лет спустя предпринял попытку реванша с опубликованием преднамеренно провокационного прогноза столкновения цивилизаций[75]. Однако американский истеблишмент в конъюнктуре 1990-х гг. переживал эйфорию в связи с чудесным избавлением от советской угрозы, неожиданными экономическими затруднениями дотоле неудержимой Японии и наступлением беспрецедентного подъема американских финансовых рынков. Тем более что Китай им еще казался просто развивающейся страной, наконец последовавшей американской вере в рынки, а исламский фундаментализм переживал временную фазу спада. Поэтому потребитель оказался более склонен к оптимизму Фукуямы[76] и футурологии глобализации, нежели к мрачным пророчествам Хантингтона.
Следующим закономерным шагом заката модернизационной парадигмы стало возвращение к классическим образцам и кардинальная переоценка прежде досконально описанных и изученных событий. Социолог из Гарварда Теда Скочпол публикует в 1979 г. монументальное сравнительно-историческое исследование великих социальных революций во Франции, России и Китае[77]. Эта монография сама оказалась настоящей революцией или, по меньшей мере, научным переворотом в объяснении подобных катаклизмов. Скочпол блестяще показала, насколько революционные вулканические извержения были обусловлены тектонической динамикой межгосударственных трений, вскрывавших разломы в обществе, через которые начинали извергаться потоки лавы. Классические революции начинались всеобщим панически нарастающим осознанием неадекватности старого режима и его позорного провала перед лицом внешних угроз. Одновременно возникали альтернативные политические элиты из образованных и при этом «лишних» средних слоев, страстно уверовавших в идеи прогресса и свое право на выведение страны из тупика. Кульминация непременно сопровождалась взрывом неорганизованного, зато устрашающе массового недовольства низов, которые переставали терпеть давние унижения, вдруг увидев, что прежнее начальство более не в состоянии им запретить. Этот взрыв сметал старый режим и расчищал место для нового революционного режима, которому, однако, еще предстояло удержаться в обстановке кровавого хаоса и попыток иностранной интервенции.
Успешным итогом во всех случаях было вовсе не наступление царства свободы. В этом все революции, по горькому выражению Троцкого, всегда оказывались «преданы» самими революционерами. Итогом всех победивших революций было значительное усиление государства: наполеоновская империя, советская военно-индустриальная сверхдержава либо восстановление единства и суверенитета Китая при «новом императоре» Мао, победа вьетнамских партизан над армиями самой Америки или превращение Кубы из сахарного придатка в мини-империю. Иначе говоря, в исторической ретроспективе социальные революции были мощными ответами проигравших стран на падение их мирового статуса. Поэтому революции нельзя понять вне мирового контекста.
Был раскрыт и теоретизирован двухфазовый механизм возникновения революции. На первом этапе происходит падение государственного престижа, как правило, в результате военного поражения или ставшего явным отставания от ведущих держав-конкурентов. Правящая элита непременно должна вначале расколоться на реформаторов и реакционеров, которые выдвигают противоположные проекты восстановления государственного престижа и мощи, соответственно, сталкиваются фракционные интересы в перекладывании друг на друга издержек поражения и цены выхода из кризиса (например, типичные конфликты между государственной бюрократией и частными помещиками либо между экспортно-ориентированным сектором и силами, выступающими за автаркические охранительные принципы). В возникающей политической чехарде у традиционно-безмолвных подчиненных групп и слоев (крестьянство, горожане, нацменьшинства, рабочий класс) появляется возможность проявить свой накопившийся протест.
В этом случае кризис может дойти до второй фазы – формирования революционных коалиций, состоящих из борющихся элитных фракций и их, на данный момент, массовых последователей. Конкретные исторические пути возникновения революционных ситуаций и их преодоления различными государствами, по всей видимости, могут определяться десятками факторов, складывающихся в уникальные комбинации и последовательности. В этом кроются корни непредсказуемости революций и их итогов. Мы имеем дело именно со взрывным процессом, мощной хаотической бифуркацией в истории, где трудно на основе прошлого опыта предсказать, что и с какой силой сдетонирует в обществе либо останется в пассивном состоянии. В революциях (как и на войне) необычно большую роль играют случайность, личные и сиюминутные факторы. Однако в ретроспективе итоги современных революций и войн все-таки выглядят более объяснимо – «структуры берут свое».
К примеру, в ходе Великой французской революции 1789–1793 гг. среди жертв гильотины оказалось непропорционально много буржуа, ради которых предположительно и затевалась революция. Может, прав консервативный французский мэтр Франсуа Фюре, отметавший революцию как исторический dérapage (занос), не имевший вовсе никакой логики, кроме бешенства в умах революционеров? В 1871 г. в рядах версальских карателей, как показали детальные архивные разыскания социолога Роджера Гулда, воевало не меньше пролетариев, чем среди защитников Парижской коммуны[78]. Личный выбор лагеря определялся, как выяснилось, едва ли не в первую голову тем, в каких кабачках-клубах, в каких кварталах и социальных сетях группировались в прошлой мирной жизни будущие бойцы баррикад и их противники.
Однако глубже уровня случайных событий, которые могут оказывать серьезное влияние на ход истории в периоды хаотических кризисов, когда приходят в расстройство или ослабляются структурные базовые параметры, все же залегают крайне медленно изменяющиеся структуры социальной жизни, ползущие с невидимой мощью и постепенностью ледника. Структуры нельзя непосредственно увидеть, но можно и необходимо выявлять косвенными методами теоретически направляемого исследования.
Среди наиболее влиятельных и элегантных образцов такого рода исследований – опубликованная в 1991 г. монография уже не раз упоминавшегося Джека Голдстоуна «Революции и восстания в мире раннего Нового времени»[79]. В основе модели Голдстоуна находятся процессы демографического роста, которые в доиндустриальной Европе (как и сегодня в Третьем мире) хронически опережали рост экономического благосостояния. По имени классического предтечи демографического анализа Томаса Мальтуса, эта неплохо разработанная в наши дни модель получила название мальтузианской ловушки. С притоком материальных ресурсов (как в Европе XVI–XVII вв., постепенно выкарабкивающейся из коллапса феодализма, эпидемий, религиозной резни и одновременно получающей приток ресурсов из недавно открытых Америк) налаживается жизнь и повышается рождаемость. Например, появляется возможность раньше обзаводиться семьями и не отсылать младших сыновей в армию и колонии, а дочерей – в монастырь. Однако через два-три поколения рост населения перекрывает экстенсивный приток ресурсов и начинают возникать всевозможные закупорки и трения. Традиционные взгляды на происхождение революций фокусировались на бедствиях простого народа и росте эксплуатации со стороны властей и господствующих классов. Голдстоун же ввел аналитическое различение проблем, возникающих у государственных организаций в периоды мальтузианских кризисов (прежде всего фискальных затруднений, когда налогов перестает хватать на текущие расходы, содержание бюрократии и войска и выплаты процентов по прошлым займам), и дилемм самих господствующих классов, которым становится все труднее воспроизводить свой предписанный социальными нормами элитарный уровень потребления. Иначе говоря, при всех бедствиях крестьянства и городской бедноты, дворянству, особенно мелкому, нередко тоже приходится сокращать свое потребление и отказываться от былых статусных практик и привилегий. Поскольку элиты, в отличие от бедноты, все-таки не голодают, то их дети более успешно выживают до взросления – и это только усугубляет дилеммы элитных семей. Как всех их одеть и снарядить такими дорогими конями, шпагами или саблями, как делить наследство, как давать приданное дочерям, как пристроить сыновей на хорошую службу? Вообразите юного гасконца д’Артаньяна.
Мелкие элиты «оскудевают», чувствуют себя все более отчужденными от «позабывшей» о них монархии. Недовольство демографически переразвитых и оттого стесненных элит, показывает Голдстоун, регулярно толкало их на различные фронды и восстания против королевской власти. Так называемые крестьянские войны, смуты и революции той эпохи на самом деле начинались не среди самых обездоленных и забитых низов, а в средних слоях, в провинциальных и периферийных группах, обладавших ресурсами сословной организации, идеологии и попросту оружием (возьмите тех же казаков, от Болотникова до Разина и Пугачева).
Классовая борьба по-прежнему играет важную роль в объяснении революций, предложенном Скочпол, Тилли и Голдстоуном. Однако обратите внимание, что это вовсе не классическая фронтальная схема двусторонней борьбы старого, отжившего свое и прогрессивного нарождающегося класса. Классовая борьба разворачивается как минимум в треугольнике государственных элит – средних слоев – низов населения. Зачастую реалии оказываются куда сложнее, запутаннее и парадоксальнее. Беверли Силвер в недавно опубликованной монографии «Силы труда»[80] на материале всех зон миросистемы за последние 130 лет (со времен Парижской коммуны) показал, что у пролетариата не одна, а две типично классовые идеологии – социализм, требующий равенства в общественном распределении прибавочного продукта, но также и расизм (с антииммигрантскими и гендерными вариациями), требующий защитить установленные привилегии «своих» коренных и настоящих мужчин-пролетариев от всяческих подрывных поползновений извне и изнутри общества. Как еще в середине 1960-х заметил предтеча современных теорий революции Баррингтон Мур, клич свободы нередко исходит не от нарождающихся классов, а от тех, по чьим головам вот-вот прокатится волна истории – теряющего доходы мелкого дворянства, ремесленников, не выдерживающих конкуренции с новыми фабриками, провинциальных нотаблей, которых подминает под себя центральная бюрократия.
Демографическая модель Голдстоуна также помогла прояснить давно установленные факты, что революции в Англии 1640-х – 1660-х гг., Франции 1789–1815 гг., России в 1905–1920 г. и Китае, прошедшем через целое столетие кошмарных потрясений между 1850 и 1950 г? возникали в конце длительных волн хозяйственного и демографического подъема. Лучшие умы XIX в., размышлявшие о революциях – проницательнейший французский дворянин Алексис де Токвиль, русский князь-анархист Петр Кропоткин и Карл Маркс, зло и увлеченно превосходящий свою собственную ортодоксию в таком шедевре политического анализа, как «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта» – вполне осознавали, что революции возникают не из полнейшей нищеты и отчаяния, а из бурного роста надежд, и в их авангарде на какой-то момент могут оказаться далеко не самые «прогрессивные» слои общества. Теперь мы можем это объяснить.
Из самых важных и, честно говоря, просто потрясающих эмпирических работ в исторической социологии последних лет стала более чем тысячестраничная монография с непретенциозным названием «Отмена феодализма во Франции»[81]. Ее автор Джон Маркофф (кстати, в прошлом физик, откуда очевидно виртуозное владение количественными методами) в течение долгих 26 лет кропотливо трудился над своим шедевром. Маркофф обобщает статистические материалы по тысячам деревень, замков и местечек старой Франции в годы, предшествующие революции: динамика населения, цены на зерно и землю, география военных закупок и постоев, количество и тематика жалоб в Париж по местностям и сословным категориям, результаты голосований начиная с выборов в Генеральные штаты 1789 г., соотнесение дорожной сети с распространением панических слухов, вспышек страха и поджогов дворянских замков в сельской местности опасным летом 1789 г., количество и точное время появления жертв революционного террора по регионам, а также количество добровольцев, записывавшихся в армию Конвента.
Массивом систематически организованных и проясненных теорией фактов Маркофф похоронил рассуждения мэтра Франсуа Фюре и многих прочих сомневающихся о случайном и иррациональном происхождении Французской революции. Между прочим, с непосредственным указанием на источник, Джон Маркофф подтвердил выводы известного советского историка Франции А.В. Адо, работавшего в 1960-е гг. Даже в таких всегда сумбурных и неординарно эмоциональных действиях, как поджоги и погромы дворянских замков-шато, выводимые Маркоффым корреляции указывают, что крестьяне, очевидно, руководствовались тремя вполне рациональными соображениями: замки жгли чаще, когда их покидали хозяева (видимо, чтобы не рисковать лишним смертоубийством); когда в округе уже был недавно сожженный замок, но королевские войска так и не появились; а также вскоре после получения новостей из Парижа о новых законодательных мерах, предложенных радикальной городской интеллигенцией, из которой и состояли повстанческие вожди третьего сословия.
Вкратце обобщая, из реконструкции Маркоффа возникает следующая картина. Крестьяне слушали в таверне проезжего из столицы или кто-то из своих грамотных вслух читал только что полученную газету о том, как в Париже спорят по поводу отмены сеньориальных прав и привилегий, делали свои умозаключения, обменивались менее или более открыто мнениями. После этого французские крестьяне нередко (но не всегда и притом с существенными и вполне сегодня объясненными вариациями по провинциям, вроде Жиронды или Вандеи) решали пойти на замок своего, вероятно, изрядно всех доставшего сеньора – чтобы тому стало некуда и незачем возвращаться в деревню – и своими решительными незаурядными действиями заодно дать понять участникам парижских дебатов, чего от них ожидают на местах.
В долгосрочном плане оказывается, что, несмотря на безумие хаотических моментов, от слома абсолютистской монархии и создания на руинах рациональной наполеоновской бюрократии более всего выиграла буржуазия, а кровавый опыт Парижской коммуны, вытесняемый во французское коллективное подсознание, положил конец монархическим реставрациям и задал параметры либерального государства Третьей республики с ее патриотическо-социальными институтами участия новых индустриальных низов.
За прошедшие два десятилетия историческая макросоциология смогла избавиться от идеологических схем, представляющих революции в качестве необходимых формационных переходов, коллективных неврозов или прямолинейной и лишь двусторонней классовой борьбы. Стало ясно, что революции прошлого, прежде всего, были крушениями государственной машины с последующим воссозданием государства на новом уровне организационной эффективности и массовой идеологической легитимности. Это структурные подвижки, вполне поддающиеся теоретизированию и требующие глубокого эмпирического исследования. Следующий большой вопрос, только сегодня встающий перед новым поколением ученых, – какие формы и цели могут приобрести будущие революции в мире, где главные центры власти перемещаются из национальных государств в сферу космополитичного мирового рынка, и будут ли это революции вообще? Дает ли нам прецедент антибюрократических студенческих волнений 1968 г. – если хотите, первая революция не по Марксу, а по Максу Веберу – нечто важное и существенное для понимания будущего?
Теория рыночных ниш и миросистемная перспектива
Третий важнейший прорыв в понимании макросоциальной динамики относится к сфере капитализма. Это восходящие к Шумпетеру, Поланьи и Броделю представления о капиталистических рынках как сложных, непрозрачных социальных сетях с серьезными ограничителями доступа и концентрациями власти. Успех капиталистической конкуренции достигается регулярным поиском и созданием относительно защищенных рыночных ниш. Любые ниши со временем переполняются, предприятия теряют монопольные преимущества по мере того, как находятся имитаторы их успеха, и разворачивается новый цикл поиска специализированных высокодоходных ниш. В таком поиске преимущества (финансовые, политические, культурные, информационные, полезные навыки и связи), как правило, принадлежат тем, кто и ранее занимал прочные и выгодные позиции. В клубе богатых государств и семейств, конечно, происходят периодические ротации, сам клуб по мере расширения мировых рынков также расширялся и включал новых членов. Но практически неизвестны случаи полного выпадения обедневших членов из рыночной элиты. От силы при крупных потрясениях слетает сколько-то особо заметных голов, меняется вывеска, конкретная элитная группа впадает в тайм-аут на поколение и на текущий конъюнктурный цикл. Неравенство доступа к рыночным возможностям на каждом циклическом витке воспроизводит социальную стратификацию участников рыночных процессов.
В связи с этими теориями можно назвать сразу несколько имен и школ: Гаррисон Уайт и Нил Флигстин, Диего Гамбетта, Артур Стинчком, Брюс Карратерс, Вивиана Зелизер, Моника Прасад, Дэвид Вудрафф, французская политэкономическая «школа регуляций», последователи Броделя и такие миросистемные аналитики, как Джованни Арриги и Беверли Силвер[82]. Даже в самом сжатом изложении легко заметить, что структурно это более глубокая картина, чем идеологизированные модели абстрактного рынка, отсекающие такие исторически формирующиеся комплексы, как культура, классы и статусные группы, власть, геополитика.
Нишевая теория рынков непосредственно смыкается с миросистемной перспективой, поэтому имеет смысл о них говорить сообща. Однако в научной среде разделение существует, и весьма существенное. Дело в идеологии, как спокойно констатирует Коллинз. Миросистемный анализ слишком близко ассоциируется с неомарксизмом (к которому действительно генетически восходит, как, впрочем, и к теории модернизации, и к историческим взглядам Фернана Броделя). Точнее выразился один из основателей нишевой теории рынков и при этом в прошлом видный критик Валлерстайна Артур Стинчком, широко известный бескомпромиссностью своих оценок: «Когда в конце семидесятых годов Валлерстайн сделался суперзвездой, его раздутый авторитет надо было потыкать чем-то острым. Но когда в девяностые годы восторжествовали неорыночники и многие экономические социологи стали искать заработков в школах бизнеса, пришло время признать, что Валлерстайн в основном все придумал верно». В самом деле, политэкономия современной миросистемы – это нишевая теория рынков на глобальном уровне и без прикрас наукообразного жаргона и формальных моделей.
Прорыв Иммануила Валлерстайна, Джованни Арриги, Теренса Хопкинса, Кристофера Чейз-Данна предлагает, однако, не просто теорию среди прочих, но принципиально целостный взгляд на мир. Этот «гештальт» (по Коллинзу) представляет именно динамическую целостность, определяющую свои элементы, в том числе рынки, классы, статусные группы (расы, сословия, национальности, гендеры) и государственные образования.
Главными теоретическими источниками миросистемного анализа послужили идеи французской исторической школы «Анналов» и концепция зависимого развития, которая в 1960-е гг. разрабатывалась леворадикальными латиноамериканистами. Валлерстайн и Хопкинс в первую очередь преодолели политическую прямолинейность концепции зависимости, сохранив лишь основной посыл – историческое воспроизводство деления на центр (ядро) и периферию в рамках мировой капиталистической экономики как стержневой структуры, образующей современную (с XVI в.) миросистему. При этом они опирались на известные постулаты Фернана Броделя об исторических временных горизонтах: время событий, от одного-двух дней до нескольких лет; время складывающихся на одно-два поколения циклических конъюнктур, многовековое время и время системных трендов, longue durée – время длительной протяженности) и на более позднее броделевское деление социального пространства на условные три этажа: первый, где происходит повседневная жизнь людей в базовых единицах-домохозяйствах; второй, где люди на местных рынках вступают в отношения обмена; и третий, самый непрозрачный этаж, где действуют высокие финансы (les hautes finances) и капиталистические олигархии[83].
В последние годы миросистемный анализ начал успешно применяться в интерпретации археологических и этнографических комплексов и ранних цивилизаций от Полинезии до Шумера. Перечислю лишь наиболее значимые имена: Тимоти Эрл, Стивен Сэндерсон, Кристофер Чейз-Данн и его постоянный соавтор Томас Холл, Гил Стайн и Адам Смит (конечно, не шотландский просветитель, а молодой американский археолог, копающий скотоводческие вождества эпохи бронзы на территории Армении)[84].
Для понимания современных процессов в Восточно-азиатском регионе центральное значение имели работы Брюса Камингса, чьи еще недавно иконоборческие аргументы о происхождении японского экономического чуда и роли Корейской войны в возникновении «капиталистического архипелага» (Японии – Южной Кореи – Тайваня – Гонконга – Сингапура) сегодня стали практически общепризнанными[85].
Пожалуй, наиболее важным достижением девяностых годов стали работы Джованни Арриги. Соединив броделевскую традицию, миросистемный взгляд, идеи Чарльза Тилли о путях государствообразования и неовеберианский анализ исторических механизмов власти Майкла Манна, Арриги предпринял попытку аналитического описания циклов капиталистической гегемонии: генуэзских банкиров эпохи Ренессанса, голландских торговых компаний XVII в., британского индустриального империализма XIX в. и американской эпохи свободного предпринимательства после 1945 г. За счет сужения фокуса до анализа лишь механизмов подъема и упадка ведущих капиталистических групп каждой эпохи, Арриги добился очень четкой, теоретически выверенной и динамически изменяющейся картины основной миросистемной трансформации последних семи столетий (что, следует предупредить заранее, мало соответствует названию его основной книги – «Долгий двадцатый век»[86].)
Миросистемный взгляд очень трудно представить в сжатом изложении. Это не теория, а эпистемологическое движение метатеоретического уровня, заявка на смену парадигмы всей науки XIX–XX вв. Основоположник миросистемного анализа Иммануил Валлерстайн лишь обозначил параметры макросоциальной науки будущего, которую предстоит наполнять конкретно-теоретическими построениями.
Возьмите такой пример. Валлерстайн в последние годы дружил и обменивался идеями с бельгийским ученым Ильей Пригожиным, который получил известность и Нобелевскую премию по химии за работы по сложным открытым системам и хаотическим переходам[87]. Весьма неординарный чикагский политолог Джон Паджетт уже много лет ведет работу по синтезу, с одной стороны, идей Броделя и Валлерстайна и, с другой стороны, теорий хаоса и эволюционной биологии, и пытается на этой основе создать сетевую бифуркационную модель возникновения капитализма во Флоренции времен Медичи[88]. С более эпистемологических позиций перспективы подобного синтеза исследует и социолог из Техаса Ричард Ли (недавно сменивший ушедшего в отставку Валлерстайна на посту директора Центра имени Фернана Броделя в Бингэмтоне)[89]. Однако сама возможность и пути применения идей Пригожина и эволюционной биологии в макросоциологическом анализе пока остаются такой же постоянно ускользающей надеждой, как управляемый термоядерный синтез.
Социальные капиталы и микроосновы общества
Для прояснения возможностей теоретического синтеза нам остается хотя бы указать на потенциальное значение наследия еще одного великого социолога поколения 60-х гг. XX в. Уже упоминавшийся француз Пьер Бурдье отточил концептуальный инструментарий для анализа организации поля культуры и социального структурирования поведения человека в общественных сетях[90]. Распространенна я ошибка – числить Бурдье в модном ряду авторов «французской теории». Однако Бурдье скорее стоит рассматривать в контексте противопоставления всей остальной интеллектуальной среде Франции, включая его бывших однокашников и приятелей Фуко и Деррида. Для понимания направления и тональности работ Бурдье действительно важно знать о его крестьянском провинциальном происхождении и, соответственно, чувстве полного отчуждения от парижской интеллектуальной среды второй половины XX в. Когда в Париже царили экзистенциалистские и марксизианские веяния, набыченный провинциал Бурдье занимал едва ли не консервативные позиции. Он не принял участия ни в движении против войны в Алжире, ни в протестах 1968 г. Но затем, с растущим разочарованием французских интеллектуалов в эгалитарных проектах, Бурдье становится все левее и критичнее. К моменту своей смерти в январе 2002 г. он занимал положение неоспоримо самого влиятельного интеллектуала Франции (каким некогда был Сартр) и при этом всеми признанного архикритика неолиберальной глобализации. Сочетание на французский манер философски усложненного языка, ярко выраженной критичности и, конечно, видной позиции в Париже создали Бурдье репутацию модного социального критика, которая мешает рассмотреть его действительные достижения. А они достаточно просты – тем и сильны.
Введя в свои построения понятие габитуса (что можно перевести как «действие, заданное привычкой»), Бурдье предложил одно из возможных решений давней головоломки соотношения индивидуальной воли и властвующей над ней социальной структуры. Что, кстати, и куда эффективнее упрощенных экономических моделей чисто рационального выбора. Но, пожалуй, ключевые понятия в социологии Бурдье – социальный капитал, поле и траектория. При всем своеобразии подхода, языка и тематики Бурдье, на самом деле он эпистемологически удивительно близок Валлерстайну и Тилли. Главное для всех авторов теоретических прорывов 1970-х гг. – стремление избавиться от абстрактно-нормативных категорий («чистого» капитализма или социализма, «истинной» демократии, «настоящего» искусства, и т. д.) и увидеть вместо них исторически сформировавшееся пространство, структурированное вокруг взаимосвязанных и противостоящих друг другу позиций. Каким образом те или иные личности, группы, институции оказались на своих позициях, какие траектории были связаны с этим, – ответы на эти вопросы проясняют весьма многое. По ходу своего движения по той или иной траектории действующие лица (игроки, агенты) каждого поля обретают или теряют (если траектория пошла вниз) долю социального капитала, характерного для данного поля. Так Бурдье исследовал поля художественного творчества и гуманитарных наук в своей родной Франции. Но так же можно исследовать и государства в миросистеме.
Чтобы прояснить понятие социального капитала (вызвавшее немалую полемику в свое время), позвольте употребить прагматическую доходчивую метафору, которую как-то предложил Иммануил Валлерстайн в ответ на мое сомнение. Капитал – способ сохранения успеха. В зависимости от природы успеха требуются различные формы капитала. Если клубнику прошлогоднего урожая закатывают в банку, то прибыль от предыдущей рыночной комбинации капиталист превращает в денежные инструменты для инвестирования в следующие сулящие выгоду комбинации, профессор копит свои достижения в виде дипломов, списка публикаций и научной репутации, бюрократ создает сети личных связей, инсайдерского аппаратного знания, прошлых обязательств за ожидание будущих услуг. Социальный капитал, поле, траектория, габитус – все это, по сути, довольно простые и при этом надежные инструменты для описания и анализа общественных процессов и практик. Тут есть своя опасность вульгаризации и превращения в слишком доступную моду – с опасностью, как нередко случается, последующего превращения в антимоду. Непосредственно будущее французской социологической школы Бурдье после смерти ее основателя предсказать не берусь. Однако достижения самого Бурдье в микросоциологии сопоставимы с вкладом его соотечественника Дюркгейма. При этом теория Бурдье в высшей степени совместима с другими теориями 1970-х гг. (Валлерстайна и Тилли в первую очередь) и дополняет их весьма удачно. Бурдье показывает, как с макроуровня миросистемы и сравнительно-исторической макросоциологии можно аккуратно, не разбившись, спуститься на уровни обычных человеческих жизней.
Наконец, по меньшей мере, следует упомянуть уникальный для наших дней социологический энциклопедизм Рэндалла Коллинза. Сын американского дипломата, он какое-то время ребенком жил в Москве, в посольстве, и вспоминает, как отец вслушивался по радио в речи Сталина, пытаясь понять смысл происходящего в СССР. Этот ученик Ирвина Гофмана начинал с теории роста формального образования (а, значит, инфляции дипломов) как процесса, сопутствующего бюрократизации современных обществ. Он, среди прочего, возродил геополитическую теорию и с ее помощью, как уже упоминалось, ради теоретического теста предсказал распад СССР. В качестве мыслительного эксперимента Коллинз переформулировал марксистскую схему формаций на основе принципа статусных рынков: обмена и накопления таких показателей статусов и власти, как численность сородичей, особенно женского пола, в первобытном обществе; численность рабов и клиентов в Риме; количество вассалов и демонстрация воинских доблестей в средневековом патримониализме; доходность рыночных ниш в капитализме. В дополнение к этому Коллинз предложил варианты достраивания идей Макса Вебера о путях возникновения капитализма и сравнительном изучении цивилизации на основе современных знаний об истории и религиях Востока; о военно-геополитическом происхождении европейской демократии; о переформировании классов, статусных групп и изменениях в стратификации позднекапиталистических обществ Запада[91]. В монументальной «Социологии философий» Коллинз на материале древнего Китая и Греции, классической немецкой философии и французского интеллектуализма XX в. демонстрирует применимость своей нишево-сетевой теории возникновения творческих озарений – в противоположность традиционным представлениям о гениях-одиночках[92].
Недавно Коллинз опубликовал обширную монографию, интерпретирующую самые различные практики – от борьбы с курением до религиозного фундаментализма и орального секса – в качестве дюркгеймовско-гофманианских социальных ритуалов взаимодействия[93]. Затем Коллинз пишет отдельную книгу о практиках и ритуалах насилия, от пьяных драк до потасовок на стадионах, столкновений полиции с демонстрантами и вплоть до расстрелов пленных после боя и спланированного геноцида целых групп населения[94]. Но и это не все. В молодости Коллинз как-то на спор за шесть недель написал детектив в подражание Конан Дойлю (пари состояло в том, что Коллинз разгадает и применит алгоритм детективного жанра). В этой загадочной полупародийной истории Шерлок Холмс по просьбе обеспокоенного Бертрана Расселла отправляется в Оксфорд спасать философа Витгенштейна от злокозненных личностей вроде экономиста-циника Джона Мейнарда Кейнса[95].
Неоклассический синтез в обществознании?
Итак, суммируем. В 1950-e – 1960-e гг. впервые возникает вопрос о создании единой теории общества, синтезирующей достижения современного обществознания. В результате появляется потрясающая своим оптимизмом и размахом парадигма модернизации в ее западном, либеральном, и в советском, марксистском, вариантах. Затем парадигма модернизации разрушается под воздействием взрыва молодежного протеста 1968 года, приведшего к потере идеологической веры в направляемый сверху прогресс. Высвобождение младшего поколения теоретиков школы модернизации из идеологических предрассудков своих учителей привело в 1970-е гг. к серии теоретических прорывов, которые в сумме задают параметры новой парадигмы. В отличие от либерально-марксистской парадигмы модернизации, преодолены представления об однолинейном прогрессе, идеологическая нормативность, «объективно» структурная предопределенность и хроническое противоречие между субъективным фактором и системой. Новая парадигма соотносится со старой примерно как квантовая механика и теории хаоса с прежней классической физикой. Общая основа этой парадигмы – эволюционно – пространственное и в целом материалистическое представление об обществе (что кардинально отличает ее от постмодернизма). Однако новая парадигма также основана на классово-конфликтной теории Маркса и Вебера – в отличие от индивидуалистическо-утилитаристских моделей англо-американских экономистов и мейнстрима политологии. Похоже, основные прорывы совершены. Что дальше? Синтез, конечно. Прорывы совершали отдельные школы, порою вовсе не связанные с другими школами. Нам, следующим одному-двум поколениям исследователей, предстоит захватывающая работа по одновременному освоению и, затем, использованию этих теоретических прорывов.
Однако все это лишь потенциальная возможность. Между теоретическими прорывами начала 1970-х и нашим днем находится эпоха интеллектуальной засухи, длящейся еще и сегодня. Причин тому, как всегда в случае сложных исторических колебаний, несколько, и они разного порядка – от внутренней организации научного сообщества до политического климата эпохи. Чтобы работать на уровне Валлерстайна или Тилли, требуются годы труда и усвоение изрядного корпуса литературы. Намного надежнее и проще публиковать статьи на общепринятые темы вроде гендерной и национальной идентичности, консолидации демократии или математически тестировать частную подтеорему поведения бесплотных рыночных субъектов. Поскольку в западной науке количество и ортодоксальность места публикаций непосредственно связаны с занятием научных должностей, следование канону и сфокусированность на узкой тематике дает непосредственные карьерные преимущества.
Имена авторов теоретических прорывов, которые я перечислил ранее, конечно, широко известны на Западе. Если бы существовала Нобелевская премия по социологии, то в списке ближайших кандидатов на нее, несомненно, значились бы Тилли и Бурдье (увы, уже посмертно), а также Валлерстайн, Арриги и Коллинз. Но при этом все эти великие ученые остаются где-то вне ремесленного мейнстрима, куда их идеи с трудом умещаются. Куда важнее то, что теоретические прорывы в макроисторическом понимании общества никак не согласуются с неолиберальным видением мира как конкурентной арены атомистических индивидов. Поэтому даже если имена известны и почитаемы, продолжения исследовательских программ практически не наблюдается.
Вот в этом направлении и видится тот обходной путь, по которому можно сманеврировать в обход затора[96]. Здесь должно вступать в действие гершенкроновское «преимущество отстающего». Довольно менять советскую догматику на догматику антисоветскую, «научный коммунизм» на «научный неолиберализм». На Западе уже давно выдвинуты и подробно обоснованы идеи, подрывающие господствующую ортодоксию. Вот их бы пересаживать и развивать, тем более что время, как представляется, уже не терпит. Западу и прежде всего Америке, судя по множеству признаков, предстоит свой перестроечный кризис. Это как раз будут времена для продумывания альтернатив.
Где и почему случается хорошая наука?
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ нам служит судьба Вены. До рокового 1914 г. в столице многонациональной Австро-Венгрии работали (просто навскидку) физик Больцман, психиатр Фрейд, философ Виттгенштейн, экономисты фон Хайек, Шумпетер, Поланьи, художник Климт, композиторы Малер и Барток. В Вене на исходе XIX в. возник феномен кумулятивной, многофункциональной «интеллектуальной площадки». Говоря образно, фонтаном била эмоциональная энергия творчества, выплескивавшаяся из одной креативной области в другую. Музыка, философия, споры о политике и мироздании разделены перегородками только в учебных курсах. В жизни эмоциональная энергия неизбежно и необходимо перетекает из одной области в другую, создавая тот самый кумулятивный заряд, который порождает творческий порыв.
Американский социолог Рэндалл Коллинз в тысячестраничном труде (кстати, переведенном на русский) показал, что гении не рождаются случайно, как бы в некоей статистической пропорции от всего населения. Вопреки расхожему образу, конкретно-социологическое изучение исторических материалов показывает, что не бывает гениев-одиночек. Даже сочиняя в стол, писатели, философы или пророки космоплавания вроде Циолковского на самом деле внутренне обращаются к кому-то, например, к власть предержащим или потомкам.
Теория Коллинза постулирует необходимые условия инноваций. Во-первых, должен сложиться устойчивый средний уровень, от которого уже могут взметнуться вверх пики гениальности. Во-вторых, в каждой области очень желательна конкуренция нескольких школ. Новаторами и «гениями» становятся те представители старых или создатели новых школ, которые нашли ответы на вызовы соперников или решили ранее неприступные задачи, т. е. совершили прорывы на новые этажи знания, куда устремляются последователи. И, в-третьих, для творчества совершенно необходимы несущая структура и аудитория. Лаборатории, как и театру, нужна публика (или, на кибержаргоне, пользователи), откуда многократное эхо усиливает и возвращает создателям эмоциональную энергию. Равно требуются подходящее здание, способный распознавать талант импрессарио, преданные делу золотых рук техники и, пардон, толковый бухгалтер.
С исчезновением этих условий уходит эмоциональная энергия, затухает творчество, люди покидают площадку. Притча о Вене XX века поучительна именно тем, что даже восстановление экономического комфорта не предотвращают интеллектуальнный упадок и провинциализацию. Поэтому, несмотря на текущее экономическое оживление, нас должен беспокоить вопрос: что будет через ю-зо лет с Москвой, с крупными городами России и тем более со столицами бывших республик СССР? Как сопротивляться упадку, и на что возлагать надежды: на государство, рынок, национальную идею, евроинтеграцию, наконец, на диаспору?
Каждый из этих вариантов связан с идеологическими убеждениями. Здесь любое действие или бездействие неотделимо от вопроса о власти, поэтому призывы к объективности будут звучать наивно, если не лицемерно. И все-таки в политике успех зависит от создания коалиций, а это обычно предполагает рациональную аргументацию и убеждение потенциальных сторонников. Именно с позиций возможной коалиции за не-исчезновение отечественной науки и искусства попытаемся разобраться с мировым опытом поддержки переднего края инноваций.
Россия пережила двадцать лет разрушительного кризиса, из которого она может выйти либо бедной и потерявшей науку (т. е. выйти в Третий мир, в Южную Америку вместо просто Америки), либо зажиточной, но все равно потерявшей науку (венский вариант), либо все-таки с наукой, и в этом случае – только экономически динамичной, поскольку это взаимоусиливаемая зависимость. Те, кто сегодня руководят Россией, провозгласили целью именно возрождение науки и экономическую динамику, под это выделены вроде бы действительно большие средства. Но давайте разберемся, откуда и куда мы идем.
СССР пал жертвой собственного прогресса. Использовав «преимущество отстающего» (эту некогда знаменитую концепцию выдвинул наш эмигрантский экономист из Гарварда Александр Гершенкрон), СССР дважды перескакивал через ступени и вырывался в лидеры технических инноваций. Впервые – в 1930-е – 1940-е гг., овладев танково-авиационной техникой и победив Германию в массовой моторизованной войне. Следом был создан ядерно-космический комплекс, который покончил с заокеанской изоляцией США. Это был триумф командной системы. Академику Курчатову тогда позволили распоряжаться десятой частью ВНП громадной страны.
Подобные прорывы дались ценой катастрофически быстрой перековки крестьянства в образованных горожан. К концу 1960-х гг., с приходом нового поколения, социальная структура нашего общества разительно отличалась от кануна индустриализации. В ней теперь преобладал новый средний класс специалистов, или, как тогда говорили, «творческая и техническая интеллигенция».
Горький парадокс в том, что инновации прекратились именно оттого, что господствующая бюрократическая элита более не могла распоряжаться этим средним классом, как некогда – крестьянами. При этом номенклатура и сама боялась оказаться под властью какого-нибудь очередного Берии. В итоге – патовая, но комфортная ситуация брежневского застоя, подпитываемого неожиданно свалившимися нефтедолларами. Кстати, те, кто тоскует по утраченным завоеваниям, смешивают память о комфорте 1970-х с жестоким условиями роста 1930-х – 1950-х гг.
Командная система, простите за тавтологию, нуждается в Главнокомандующем. Без деспотического лидера, способного ломать бюрократическую рутину и принимать волевые решения, такая система непременно впадает в застой – поскольку прочие (прежде всего конкурентные) источники инноваций были подавлены. Благородные, но беспорядочные эксперименты Н. С. Хрущева искали способ инновационного стимулирования без применения террора.
Тогда в новом среднем классе и возникает мечта о рынке как пути радикального освобождения от советской командной системы с ее помпезным лицемерием, карьеризмом, стукачеством, развращающей ленью и вечным дефицитом.
Распад СССР и геополитические подвижки наложились на Кондратьевскую понижательную Б-фазу в мировом хозяйстве, которая вызвала две типичные реакции среди капиталистических групп.
Во-первых, это борьба за снижение трудовых издержек в старых производственных секторах. Классовое замирение периода 1945–1980 гг. привело к мощному росту реальной зарплаты западных рабочих. С Тэтчер и Рейгана начался демонтаж «народного капитализма», что выразилось в приватизациях, снижении налогов, выводе капиталов из производства в сферу финансовых игр либо в переводе производства в более бедные страны.
Заметим, что если бы уровень образования и науки в самом деле играл столь решающую роль для глобальных инвесторов, как утверждают бизнес-консультанты, то преимущество безусловно было бы за бывшими республиками СССР, а не Китаем. Обвинительные указания на недостаток в России демократии и коррупцию – лишь отговорка, ибо сам Китай по этим параметрам далеко не образец для подражания. Дешевая и дисциплинированная рабочая сила оказалась явно важнее.
(Забавно пофантазировать, как обернулась бы судьба СССР, если бы переориентация на потребительский экспорт произошла сразу после 1945 г., когда наши условия напоминали китайские. Ездили бы сейчас американские потребители на новейших «Победах» и «Волгах» и покупали бы плазменные телевизоры «Рекорд» и «Горизонт»?)
Во-вторых, фазы понижательной конъюнктуры активизируют поиск новых технологий и ведущих отраслей. Механизм давно описан Шумпетером и в наши дни формализован экономическими социологами, например, Гаррисоном Уайтом. Те, кто первыми осваивают новые рыночные ниши, пользуются некоторое время – пока не подтянутся конкуренты – особой «инновационной надбавкой» к обычной прибыли. Поэтому, добавляет Джованни Арриги, устаревающая и, значит, теряющая былую доходность индустрия передвигается на периферию мирового хозяйства, а потенциально сверхприбыльные инновационные отрасли, напротив, сосредоточиваются в центрах власти и капитала. Этот механизм также достаточно прост: страны, выигравшие в предыдущих раундах конкурентной борьбы, пользуются ресурсами и силой, чтобы защищаться и снова выйти вперед.
Мировой кризис университетов и интеллигенции, о котором столько говорят в Европе и Америке, возник на стыке тенденций к жесткому снижению издержек и поиску прикладных инноваций. У науки попросту стало меньше денег, и ее заодно с искусством стали измерять коммерческим успехом.
Вдобавок распад СССР и идеологическая монополизация на основе неолиберального утилитаризма подорвали позиции гуманитарных областей, где накал дебатов всегда создавала социальная критика. О чем осталось дебатировать в эпоху сугубо частных интересов? Пострадал, однако, не только гуманитарный фланг, но также, к примеру, и астрономия, которая при баснословной стоимости оборудования не обещает рыночной отдачи.
Используя американские примеры (как самые яркие и продвинутые), вкратце обрисуем, что получается сегодня из внедрения критериев бизнеса в науке. Следует предупредить, что американский опыт – исторически очень своеобразный. Взять хотя бы культ спортивных команд в американских колледжах, который помимо престижа дает очень неплохие доходы. Как воспроизвести это в другой культуре?
В отличие от континентальной Европы, в Америке высшее образование изначально было частным. Это обусловлено протестантскими традициями. Первый исследовательский университет, подражавший германским образцам, появился только в 1872 г. – Джонс Хопкинс в Балтиморе. Но богатая страна быстро наверстывала, особенно когда из Европы хлынул поток таких беженцев, как Эйнштейн.
Громадное расширение университетов приходится на период 1941–1945 гг., когда федеральное финансирование науки выросло более чем в сто раз. Конечно, в основном это был Манхэттенский проект по созданию атомной бомбы. Впрочем, щедро перепало даже историкам и антропологам, если те могли помочь в понимании противника: Германии и Японии, затем России, Китая и Вьетнама.
Послевоенная демобилизация миллионов солдат обернулась крупнейшим в истории бумом образования. Опасаясь возврата Депрессии и безработицы, правительство США выдавало молодым ветеранам стипендии и щедро финансировало университеты. Грянувший в начале семидесятых кризис стал прямым результатом колоссальной экспансии предшествующего периода.
Университеты в самом деле привыкли к щедрому государственному финансированию. При этом уровень образования неизбежно снижался по мере приема все больших масс студентов. Диплом перестал служить гарантией работы. Это особенно болезненно сказалось на аспирантах. Профессура в США пользуется правом пожизненной должности, что призвано обеспечивать их интеллектуальную независимость от администрации. Однако после спада бурного роста оказалось, что замещение должностей зависит в основном от естественной убыли, а профессура склонна к долгожительству.
Перед лицом всех этих проблем и критики, руководство американских университетов начало склоняться к модели самофинансирования и рыночных корпоративных отношений. В первую очередь повышалась плата за обучение, которая в последние два десятилетия росла намного быстрее инфляции и сегодня достигает в элитных частных колледжах 30–40 тысяч долларов в год. Практически достигнут предел того, что может себе позволить даже зажиточный средний класс США. Несмотря на скидки, стипендии и студенческие подработки, выпускник нередко вступает в трудовую жизнь с долгами в сто и более тысяч долларов.
Как некогда советские вузы перепроизводили инженеров, так и американские университеты сегодня, по велению рыночного выбора, выпускают массу менеджеров и адвокатов. Долги за обучение у них еще выше, однако пока есть надежда на отдачу. Прием в аспирантуру, которая означает годы благородной бедности, теперь поддерживается в основном за счет иностранцев. Немало правды в шутке, гласящей, что американская аспирантура сегодня – это когда профессор из России обучает высшей математике китайцев и индусов.
Новый упор на конкуренцию между университетами (рейтинги которых регулярно публикуются во влиятельных изданиях) приводит к тому, что профессура под всяческими предлогами отказывается учить студентов, чтобы больше времени уделять профессиональным публикациям. Именно число и место публикаций создают реноме и, соответственно, возможности перехода на другую работу с более высокой зарплатой. Деканы эти маневры тихо ненавидят, но вынуждены перекупать своих «звездных» преподавателей как футболистов или оперных примадонн, поскольку опасаются падения рейтинга отделения и всего университета.
Из борьбы за «звездный» состав проистекают два других вида уродств. Преподавание все более возлагается на вечно временных «лекторов» с зарплатами на уровне прожиточного минимума и без всяких прав и социальных благ.
С другой стороны, «звездный» состав склонен добиваться успеха на интеллектуальных рынках, создавая узкогрупповые, зато более надежные монополии по чисто техническим интересам. Отчего главные научные журналы становятся невыносимо скучны, переполнены жаргоном и наукообразными выкладками.
Интеллектуальная собственность – другая форма монополизации. Университетское руководство надеется, что разработки их исследователей найдут успех на рынке. Лавры Стэнфорда и Силиконовой долины, конечно, великий соблазн. По прошествии двух десятилетий рыночных реформ становится ясно, что, как и всякая золотая лихорадка, это игра в рыночную рулетку. Огромные средства, вложенные в биофармацевтику и нанотехнологии, пока что в большинстве случаев не оправдали ожиданий. Зато до курьезного успешной оказалась разработка диетологов Университета Флориды – лимонад, обогащенный электролитами. В наши дни увлечения активным образом жизни новый атлетический лимонад, запатентованный под торговой маркой «Гаторад» (по названию флоридской команды «Гаторы», т. е. аллигаторы) сумел потеснить на рынке самих Пепси– и Кока-колу! Среди университетских патентов многомиллионная доходность «Гаторада» уступает сегодня лишь известному препарату от рака. Вот такие невысокие технологии.
С другим патентом, однако, вышел политический скандал. Несколько лет назад биологи из Висконсина добились успеха в расшифровке генома макаки-резуса. Окрыленный новостью ректорат тут же прислал им команду адвокатов, которые изящным ходом запатентовали открытие применительно ко всем приматам, т. е. включая человека. Тем самым прочие исследователи в данной области обязывались впредь платить пошлину висконсинцам. Университет отступил после всемирного взрыва негодования.
Известный организационный теоретик Артур Стинчком в ответ на подобные истории опубликовал работу с выразительным заголовком «О коммунизме научного знания». Аргументация довольно проста. Еще в тридцатые годы классик социологии Роберт Мертон показал, что валюта научного сообщества – не деньги, а признание. Парадокс в том, что признание достигается именно открытым доступом к новому знанию. Равно как и само новое знание неизбежно основывается на длительном, начиная со студенческой скамьи, усвоении прежде добытого знания, причем заранее не известно, какая его часть послужит толчком к последующим озарениям. Вывод – ограничение знания в форме государственной либо коммерческой секретности создает препятствие для инноваций. Эмпирический анализ взаимодействия Стэнфорда с Силиконовой долиной показывает, что сами инновации, принесшие коммерческий успех, росли на почве свободных интеллектуальных обменов в социальном сообществе ученых, студентов и техников.
Политические мыслители Юрген Хабермас и Мойше Постон подходят к той же проблеме с другого края. Университет составляет важнейшую часть современной демократии, ее коммуникативное пространство – проще говоря, профессиональное сосредоточение идей и критического анализа. Полезность университета невозможно свести к денежному измерению, поскольку речь идет об общественном благе. Если хотите, это как витамины в пище – глазу не видны, но без них жизнь хиреет.
Мечты о возврате к некоему Золотому веку огосударствленной науки и искусства являются типичной реакционной утопией, которой более подвержены те, чьи позиции и ожидания пострадали от кончины прежних монополий. Рынок, однако, принес жестокие разочарования и свои парадоксы. Но, быть может, дело не в самом конкурентном принципе, а в узости возникших рынков интеллектуального труда?
Сегодня господствуют самые элементарные интересы краткосрочного и отчетливо прикладного характера. Тем не менее астрономия, поэтика и философия сохраняют не только эстетическую ценность, хотя и само по себе знание о Вселенной и человеческой душе прекрасно. Теория творчества Рэндалла Коллинза среди прочего показывает, насколько текуча эмоциональная энергия и как ее фоновое присутствие (или, увы, недостача) влияют на положение дел в самых различных областях, от музыки и кино до экономики и психологии. Споры физиков и лириков были, конечно, глупостью. Но при этом как в те далекие шестидесятые годы «здорово спорилось»!
Сегодня ученым надо оглянуться на самих себя, выработать позицию и начинать работать как с политическими властями, так и с частными спонсорами, и шире, с образованной публикой, составляющей класс потребителей и избирателей, подвигая их к мысли о том, что далеко не все должно обещать немедленную прибыль. Тут нам всем поистине неоценимую (пардон за каламбур) «пиар»-услугу оказал математик Григорий Перельман.
С другой стороны, начинаются подвижки в университетской среде. Подражательное распространение школ бизнеса и технологических парков уступает место более осознанным попыткам найти интеллектуальные ниши, вокруг которых университеты могут строить свой коллективный престиж.
Скажем, в Университете Южной Калифорнии поняли, что вместо одного сверхдорогого Нобелевского лауреата по экономике можно собрать со всего мира лучших специалистов по Средневековью и тем привлекать студентов и богатых спонсоров. Нью-Йоркский Университет, зажатый в дорогущей тесноте Манхэттена, недавно отказался от планов строительства технических лабораторий, которым требуется много места. Альтернативный приоритет – собрать знаменитых философов, которые готовы перебраться в Нью-Йорк ради небольшого кабинета и университетской квартиры. (С жилплощадью помогают спонсоры из числа домовладельцев, которым льстит присутствие загадочных знаменитостей.)
Нам только предстоит начать рациональный разговор о том, что желательно и возможно сделать в России. Окно исторической возможности приоткрылось, пусть со скрипом и нешироко. В стране налицо и деньги, и избавление от многих иллюзий. Худо-бедно, но свершилось вхождение нашего интеллектульного сообщества в мировой контекст. Отток мозгов в девяностые годы, вероятно, был даже колоссальнее бегства капиталов, но, как и капиталы, мозги так или иначе могут вернуться. Традиции еще не утрачены, база пока сохраняется. Средний класс специалистов выжил и готов возродиться. Их детям надо где-то учиться. Так неужели упустим момент?
Примечания
1
Написано в сентябре 2008 г.
(обратно)2
Эксперт. 2005. 26 декабря.
(обратно)3
Написано летом 2004 г.
(обратно)4
Написано осенью 2007 г.
(обратно)5
Очевидно, что писалось по горячим следам в апреле 2005 г.
(обратно)6
Февраль 2008 г.
(обратно)7
Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. I–III. San Diego, С A: Academic Press, 1974–1989; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001; Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: Логос, 2003; Валлерстайн И. После либерализма. М.: У PC С, 2003; Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего, 2006; Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2007; Arrighi G. Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London: Verso, 2007.
(обратно)8
Brenner R. The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-Smithian Marxism // New Left Review. 1977. Vol. 104. P. 25–92; Brenner R. The Boom and the Bubble. The US in the World Economy. London: Verso, 2002; Brenner R. The Economics of Global Turbulence. London: Verso, 2006.
(обратно)9
Harvey D. The Limits to Capital. Chicago: University of Chicago Press, 1982; Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell, 1989; Harvey D. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003; Harvey D. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2005; Harvey D. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso, 2006.
(обратно)10
Ganev V.I. The Dorian Gray Effect: Winners as Statebreakers in Postcommunism // Communist and Post-Communist Studies. 2001. Vol. 34. № 1. P. 1–25; Ganev V.I. Post-communism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective // Communist and Post-Communist Studies. 2005. Vol. 38. № 4. P. 425–445.
(обратно)11
Элиас H. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
(обратно)12
Eisenstadt S.N. Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. London: Sage, 1973; Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. М.: Аспект-пресс, 1999.
(обратно)13
Medard J.F. The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neo-Patrimonialism // Clapham C. (ed.). Private Patronage and Public Power. New York: St. Martin’s Press, 1982. P. 162–192; Lemarchand R. Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building // The American Political Science Review. 1972. Vol. 66. № 1. P. 68–90; Lemarchand R., Legg K. Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis // Comparative Politics. 1972. Vol. 4. № 2. P. 149–178; Rudolph L.I., Rudolph S. H. Authority and Power in Bureaucratic and Patrimonial Administration: A Revisionist Interpretation of Weber on Bureaucracy //World Politics. 1979. Vol. 31. № 2. P. 195–227.
(обратно)14
Scott J.C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press, 1979; Scott J.C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale, CT: Yale University Press, 1985; Скотт Дж. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005.
(обратно)15
Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. Харьков: Константа, 2006.
(обратно)16
Stinchcombe A.L. Ending Revolutions and Building New Governments // Annual Review of Political Science. 1999. Vol. 2. P. 49–73.
(обратно)17
Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005.
(обратно)18
Keyder С. State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development. London: Verso, 1987.
(обратно)19
Doner R.F., Ritchie B.K., Slater D. Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective // International Organization. 2005. Vol. 59. № 2. P. 327–361; Winters J.A. Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996; Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press, 1995; Woo-Cumings M. (ed.) The Developmental State. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000; Kang D.C. Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines. Cambridge: Cambridge University Press, 2002; Kohli A. State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
(обратно)20
Derluguian G. Bourdieu’s secret admirer in the Caucasus: A world-system biography. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
(обратно)21
См.: Stinchcombe A. Monopolistic competition as a mechanism: corporations, universities, and nation states in competitive fields. Chicago: American Bar Foundation, 1996. К вопросу об интеллектуальном присутствии России в Америке: Артур Стинчком в молодости изучал русский язык из интереса к стране, наиболее сравнимой с Америкой по многим историко-географическим параметрам. Он также полагает, что, невзирая на политические пристрастия, классиком политической социологии следует считать также и Троцкого. Стинчком напоминает, что знаменитое определение государства как монополии на легитимное насилие Макс Вебер (сам в период революции 1905 г. увлекавшийся русским языком) на самом деле позаимствовал у тогдашнего председателя Петербургского совета.
(обратно)22
Raffer К. Unequal exchange and the evolution of the world system: reconsidering the impact of trade on North-South relations. New York: St. Martin’s Press, 1987.
(обратно)23
См.: Бурдье П. Социология политики. М.: Социо-Логос, 1993.
(обратно)24
Данное прагматическое определение капитала предложено Иммануилом Валлерстайном в личной дискуссии. См.: Derluguian G. Bourdieu’s secret admirer in the Caucasus: A world-system biography. University of Chicago Press, 2005. Chapter 5: The Social Structure of Late Soviet Society.
(обратно)25
См.: Lamont M. How to become a dominant French philosopher: The case of Jacques Derrida // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 93 (3). p. 584–622.
(обратно)26
См.: Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Making of Our Times. London: Verso, 1994.
(обратно)27
См.: Collins R. Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact // International Sociology. 2001. September. Vol. 16 (3). P. 421–437.
(обратно)28
Осень 2007 г. Ранее не публиковалось.
(обратно)29
Hobsbawm Е. The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991. New York: Vintage, 1994. P. 288 (Хобсбаум Э. Век крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004).
(обратно)30
Collins R. Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford: Stanford University Press, 1999.
(обратно)31
Arrighi G. Globalization and Historical Macrosociology. P. 117–133 // Abu-Lughod J.L. (ed.). Sociology for the Twenty-First Century. Chicago: University of Chicago Press, 1999. В том же программном сборнике Американской социологической ассоциации под редакцией Джанет Абу-Лугод помещена и более развернутая оценка Рэндалла Коллинза: Collins R. The European Sociological Tradition and Twenty-First-Century World Sociology // Abu-Lughod J.L. Op. cit. P. 26–42.
(обратно)32
Арриги Дж. Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006.
(обратно)33
Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М.: Логос, 2004.
(обратно)34
См. Steinmetz G. (ed.) The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and its Epistemological Others. Durham: Duke University Press, 2005.
(обратно)35
Gilman N. Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003.
(обратно)36
Bourdieu P. and Wacquant Loïc J. D. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
(обратно)37
Earle Т. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford: Stanford University Press, 1997.
(обратно)38
Taylor Peter J. The Way the Modern World Works. Chichester, England: John Wiley & Sons, 1996.
(обратно)39
Чего стоят заголовки последних книг Франко Моретти! Moretti E. Modern epic: the world-system from Goethe to Garcia Marquez (Современный эпос: миросистема от Гёте до Гарсиа Маркеса). London: Verso, 1996; Ibid. Atlas of the European novel, 1800–1900 (Атлас европейского романа). London: Verso, 1998; Ibid. Graphs, maps, trees: abstract models for a literary history (Графики, карты, генеалогические древа: абстрактные модели для литературной истории). London: Verso, 2005.
(обратно)40
Gould Stephen Jay. Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin. New York: Three Rivers Press, 1996. Prigogine I., Stengers I. The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature. New York: Free Press, 1997 (Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Эдиториал УРСС, 2003).
(обратно)41
Вот лишь некоторые из наиболее ярких исследовании экономики как профессионального поля: Mirowski P. More heat than light: economics as social physics, physics as nature’s economics. New York: Cambridge University Press, 1990. Yonay Yuval P. The struggle over the soul of economics: institutionalist and neoclassical economists in America between the wars. Princeton: Princeton University Press, 1998. Markoff J., Montecinos V. The ubiquitous rise of economists // International Public Policy. 1993. Vol. 13. № 1. P. 37–68.
(обратно)42
См., к примеру, написанную в 1992 г. статью: Arrighi G., Hopkins Terence K., Wallerstein I. 1989: The Continuation of 1968. P. 35–51 // Katsiaficas G. (ed.). After the Fall: 1989 and the Future of Freedom. New York: Routledge, 2001.
(обратно)43
Sobel D. Galileo’s Daughter: A Historical Memoir of Science, Faith, and Love. New York: Walker & Co., 1999.
(обратно)44
Collins R. Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999; Коллинз P. Золотой век макроисторической социологии // Время мира: альманах / под ред. Н. С. Розова. Новосибирск, 2000. Вып.1: Историческая макросоциология в XX веке. С. 72–89.
(обратно)45
Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: случай Советского коллапса // Время мира: альманах / под ред. Н. С. Розова. Новосибирск, 2000. Вып.1: Историческая макросоциология в XX веке. С. 234–278.
(обратно)46
Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004.
(обратно)47
Scott J.С. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT: Yale University Press, 1985; Scott J.C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, CT: Yale University Press, 1979; Скотт Дж. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005.
(обратно)48
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
(обратно)49
Lamont M. How to become a dominant French philosopher: The case of Jacques Derrida // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 93. № 3. P. 584–622.
(обратно)50
Anderson P. The Origins of Postmodernity. London: Verso, 1998.
(обратно)51
Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell, 1989; Harvey D. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press, 2003; Харви Д. Краткая история неолиберализма: Актуальное прочтение. М.: Поколение, 2007.
(обратно)52
Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-Ц, 2000; Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии, 2004.
(обратно)53
Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму. К.: Курс, 2008.
(обратно)54
Moretti F. Atlas of the European Novel. 1800–1900. London: Verso, 1998; Moretti F. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London: Verso, 2005.
(обратно)55
Хейлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. 1993. Вып.1: Предмет исследования. С. 41–55; Хиршман А. Выход, голос и верность. Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М.: Новое издательство, 2009.
(обратно)56
Mirowski P. More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature’s Economics. Cambridge: Cambridge University Press,
(обратно)57
Woodruff D. Rules for followers: institutional theory and the new politics of economic backwardness in Russia // Politics and Society 2000. Vol. 28. № 4. P. 437–482.
(обратно)58
Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998.
(обратно)59
Mann М. The Autonomous Power of States: Its Origins, Mechanisms, and Results // J. A. Hall (ed.). States in History. Oxford: Blackwell, 1986. P. 109–136.
(обратно)60
Бурдье П. Дух государства: структура и генезис бюрократического поля // Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. С. 220–254; Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
(обратно)61
Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм. XV–XVIII вв. В з т. М.: Прогресс, 1986–1992; Валлерстайн И. Капитализм: противник рынка? // Логос. 2006. № 5 (56). с. 9–13.
(обратно)62
Tilly Ch. (ed.). The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, 1975; Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1990–1992 гг. М.: Территория будущего, 2009; Роккан С. Измерения процессов формирования государства и создания нации: возможная парадигма для исследования вариаций в пределах Европы // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Харьков, 2005. Вып. 3. С. 182–217; Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего, 2008.
(обратно)63
Anderson P. Lineages of the Absolutist State. London: Verso, 1979; Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего, 2007.
(обратно)64
Олсон М. Логіка колективної дії: суспільні блага і теорія груп. К.: Лібра, 2004.
(обратно)65
Tilly Ch. War Making and State Making as Organized Crime // Evans P., Rueschemeyer D., and Skocpol T. (eds.). Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 169–186.
(обратно)66
Ganev V.I. Post-communism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective // Communist and Post-Communist Studies. 2005. Vol. 38. № 4. P. 425–445; Ganev V.I. The Dorian Gray Effect: Winners as Statebreakers in Postcommunism // Communist and Post-Communist Studies. 2001. Vol. 34. № 1. P. 1–25.
(обратно)67
Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
(обратно)68
Moore В., Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1966.
(обратно)69
Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения // Логос. 2006. № 5 (56). С. 58–103; Tilly Ch. European Revolutions, 1492–1992. Oxford: Blackwell, 1993.
(обратно)70
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ-ВШЭ, 2000; Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 2001.
(обратно)71
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004.
(обратно)72
Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают. М.: ACT, 2008.
(обратно)73
Tilly Ch. Does Modernization Breed Revolution? // Comparative Politics. 1973. Vol. 5. № 3. P. 425–447.
(обратно)74
Валлерстайн И. Модернизация: мир праху ее // Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 2. С. 21–25.
(обратно)75
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ACT, 2003; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003.
(обратно)76
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: ACT, 2005; Фукуяма Ф. Доверие. М.: ACT, 2006; Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: ACT, 2008.
(обратно)77
Skochpol Т. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
(обратно)78
Gould R. Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
(обратно)79
Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, С A: University of California Press, 1991.
(обратно)80
Silver В. Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
(обратно)81
Markoff J. The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords and Legislators in the French Revolution. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1996.
(обратно)82
Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2004; Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / сост. и научн. ред. В.В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2002.
(обратно)83
Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. I–III. San Diego, CA: Academic Press, 1974–1989; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001; Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: Логос, 2003; Валлерстайн И. После либерализма. М.: У PC С, 2003; Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего, 2006.
(обратно)84
Earle Т. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997; Chase-Dunn Ch. K., Hall Th.D. Rise and Demise: Comparing World-Systems. Boulder, Col: Westview Press, 1997; Sanderson S. K. (ed.). Civilizations and World Systems: Studying World-Historical Change. Walnut Creek, CA: Altamira Press, 1995; Stein G. Rethinking World-Systems: Diasporas, Colonies, and Interaction in Uruk Mesopotamia. Tucson, AZ: University of Arizona Press, 1999; Smith A. The Political Landscape. Constellations of Authority in Early Complex Polities. Berkeley, С A: University of California Press, 2003.
(обратно)85
Cumings B. The Origins and Development of the Northeast Asian Po litical Economy: Industrial Sectors, Product Cycles, and Political Consequences // International Organizations. 1984. Vol. 38. № 1. P. 1–40; Cumings B. Webs with No Spiders, Spiders with No Webs: The Genealogy of the Developmental State // M. Woo-Cumings (ed.). The Developmental State. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999. P 61–92.
(обратно)86
Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2007; Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования, 2009.
(обратно)87
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.
(обратно)88
Padgett J.F. Organizational Genesis, Identity and Control: The Transformation of Banking in Renaissance Florence // Rauch J., Cassella A. (eds.). Networks and Markets. New York: Russell Sage Foundation, P. 211–257; McLean P.D., Padgett J.F. Organizational Invention and Elite Transformation: The Birth of Partnership Systems in Renaissance Florence // American Journal of Sociology. 2006. Vol. 111. № 5. P. 1463–1568; McLean P.D., Padgett J.F. Was Florence a Perfectly Competitive Market? Transactional Evidence from the Renaissance // Theory and Society. 1997. Vol. 26. № 2/3. P. 209–244; Anseil C., Padgett J.F. Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434 // American Journal of Sociology. 1993. Vol. 98. № 6. P. 1259–1319.
(обратно)89
Lee R. Structures of Knowledge // T.K. Hopkins and I. Wallerstein (coord.). The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945–2025. London: Zed Books, 1996. P. 178–206; Lee R. The Structures of Knowledge and the Future of the Social Sciences: Two Postulates, Two Propositions and a Closing Remark // Journal of World-Systems Research. 2000. Vol. 6. N 23. P. 786–796; Lee R. Life and Times of Cultural Studies: The Politics and Transformation of the Structures of Knowledge. Durham, NC: Duke University Press, 2003.
(обратно)90
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993; Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994; Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001; Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005; Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.
(обратно)91
Collins R. Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. New York: Academic Press, 1975; Collins R. The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press, 1979; Collins R. Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property. Chicago: Nelson-Hall, 1985; Collins R. Weberian Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; Collins R. Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford, С A: Stanford University Press, 1999; Коллинз P. Социологическая интуиция: Введение в неочевидную социологию // Бергер П. Л., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. М.: Академический проект, 2004. С. 397–603.
(обратно)92
Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.
(обратно)93
Collins R. Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press, 2004.
(обратно)94
Collins R. Violence: A Micro-Sociological Theory. Princeton: Princeton University Press, 2008.
(обратно)95
Collins R. The Case of the Philosophers’ Ring. New York: Crown Publishers, 1979.
(обратно)96
Derluguian G. Bourdieu’s Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
(обратно)

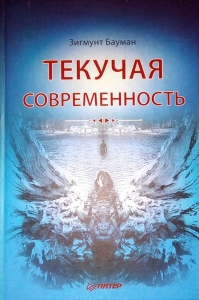
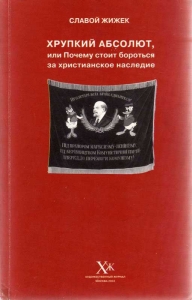



Комментарии к книге «Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы», Георгий Дерлугьян
Всего 0 комментариев