Пол Халперн Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность
© Казаков Д. Л., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Посвящается моим братьям, Рику, Алану и Кену
Откуда берется время?
Недостаточно ответить шуткой
«Время – естественный способ сделать так,
чтобы все не случалось одновременно»
Джон Уилер. «Время сегодня»Я подумал о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который охватывал бы прошедшее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю Вселенную[1].
Хорхе Луис Борхес. «Сад расходящихся тропок»Введение Революция во времени
Тигр, о тигр, светло горящий В глубине полночной чащи, Кем задуман огневой Соразмерный образ твой?[2] Уильям Блейк. «Тигр»В Принстоне ночь, и мы отправляемся на охоту за призраками.
Город сверхъестественно тих, магазины закрыты, холодная полная луна освещает заросший деревьями кампус.
Более чем семьдесят пять лет назад, примерно в то же время когда началась Вторая мировая, в этих местах случилась тихая революция, связанная с нашим пониманием времени. Дискуссии между двумя блестящими физиками, Ричардом Филлипсом «Диком» Фейнманом и Джоном Арчибальдом «Джонни» Уилером, положили начало цепи событий, которые привели к созданию нового описания феномена времени в понятиях квантовой физики. В конечном итоге их идеи превратили древний концепт потока, неизменно текущего в одном направлении, в теорию лабиринта из альтернатив, который распространяется не только вперед, но и назад.
Заглядывая в прошлое Принстона, мы сможем увидеть, как появились на свет новые гипотезы, и понять, насколько сильно они повлияли на то, как современные ученые объясняют физическую реальность.
Мы начнем наш путь по коридорам истории науки в Нассау-холле, старейшем здании Принстонского университета. Бронзовые тигры, по одному на каждой стороне, охраняют его главный вход, и расположены они с удивительной, устрашающей симметричностью.
Двигаясь к северу, мы проходим Фитц-Рэндольф Гейт, вход в кампус, где два могучих орла из камня дремлют на монументальных столбах. Затем мы добираемся до Нассау-стрит, главной местной «трассы», древней границы между городом и университетом.
На другой стороне улицы мы увидим нечто отличное от элегантной архитектуры Принстона, асимметричный набор зданий. На востоке будет Лоуер Пайн, чудо тюдоровского пряничного дизайна, выглядящее так, как могли выглядеть особняки Честера, Англия, в шестнадцатом веке.
И это ошеломительное зрелище.
На западе, слева, располагается ничем не украшенное здание банка. Аскетическое, прямоугольное и холодное, оно выглядит нежеланным спутником дружелюбного, изящного строения справа.
Мы пересекаем улицу и неожиданно понимаем, что вокруг нас клубится туман, а ясная ночь сгинула, уступив место дымке. Поэтому вынырнувший из прошлого Аппер Пайн, давний компаньон Лоуер Пайн, выглядит для нас словно призрак.
Он построен в то же самое время в том же стиле, и его самая заметная часть – солнечные часы, на которых красуется латинский девиз Vulnerant omnes: ultima nekat («Каждый час ранит, последний убивает»). Здание уничтожили в начале 1960-х, освобождая место для банка, но для наших усталых глаз оно выглядит так, словно никуда не исчезало.
Симметрия восстановлена.
Палмер-сквер, расположенный еще дальше к западу, кажется совершенно новым. Здешние магазины появились во время перестройки тридцатых, но смотрятся так, словно открылись буквально вчера.
Новостной стенд пестрит заголовками о том, что Адольф Гитлер вторгся в Польшу – это произошло в сентябре 1939, рекламный постер сообщает, что в кино можно посмотреть «Волшебника из страны Оз». Двадцать первый век остался где-то позади. Хотя может быть сбоку… или сверху?
Выпускник
После короткой прогулки мы обнаруживаем себя в Градуэйт-колледж, похожем на замок строении чуть в стороне от центра кампуса.
Это словно монастырь внутри монастыря, изолирующий тех, кому нужны покой и уединение, а именно – студентов магистратуры и аспирантов. Здесь они могут жить в простых, но комфортных комнатах, обедать в главной столовой и посещать всякие развлечения вроде танцевальных вечеров и приемов.
Большая часть обитателей Градуэйт-колледжа спят, но свет горит в маленькой библиотеке, где долговязый юноша с каштановыми волосами, которому всего двадцать один год, сутулится в кресле, рот его насмешливо кривится, и взгляд скользит по страницам учебника по классической механике, что лежит у него на коленях.
Он студент магистратуры первого курса, и готовится исполнять роль ассистента преподавателя для обычных студентов. Поскольку материал ему хорошо знаком, он решил быстренько глянуть, что там дальше, за пределами курса. Он напрягается, представляя, что его неизбежно ждут горы домашних работ, которые нужно проверить, просмотреть вычисления, исправить ошибки так, чтобы они мотивировали тех, кто их сделал, развиваться и учиться лучше.
Настольная лампа в виде пирамиды освещает тот пассаж, который читает молодой магистрант, описание лобового столкновения двух тележек на лишенной трения дороге. Долговязый юноша крутит проблему в голове – если известна масса тележек и их начальная скорость, то законы физики со стопроцентной вероятностью предскажут, что произойдет дальше.
В соответствии с третьим законом Исаака Ньютона на каждое действие в подобной системе имеется противодействие равной силы, но противоположное по направлению. Это значит, что каждая тележка воздействует на другую с той же самой силой, но вот направление этой силы будет отличаться на сто восемьдесят градусов.
Но по второму закону Ньютона сила – это изменение импульса, а импульс – скорость, умноженная на массу. Поскольку каждая тележка подвергается воздействию одинаковой силы, то импульс для них изменяется на одинаковую величину: но если в одном случае он возрастает, то в другом уменьшается.
Этот универсальный баланс именуется «законом сохранения импульса».
С идеальной симметрией тележки после столкновения будут двигаться прочь друг от друга, но что произойдет с их скоростями? Учитывая, что импульс определяется массой и скоростью, то все просто: та, что легче, будет двигаться быстрее, чем более тяжелая.
Это и есть красота классической ньютонианской физики, классической в том смысле, что она вполне очевидно соотносится с явлениями хорошо знакомой нам повседневной жизни, в то время как квантовая физика проявляет себя в основном на субатомном уровне. В обычных ситуациях мы можем предсказать, что будет дальше, с помощью сравнительно простых законов.
В учебнике есть раздел, посвященный гармоническим колебаниям: поведение струн, резиновых лент, маятников и прочих простых систем, всегда возвращающихся в равновесное состояние после того, как их растягивают, отклоняют, двигают, или другим образом из него выводят. Струны являются лучшим примером объектов подобного рода.
И точно так же, как и в случае со столкновением, законы классической физики гарантируют, что колебания любой струны на сто процентов предсказуемы. Если убрать трение, то растянутая, а затем отпущенная струна вернется в первоначальное состояние.
Ко времени, когда она достигнет равновесия, она будет двигаться с максимальной скоростью, и произойдет это по той причине, что энергия струны будет переходить из одной формы в другую. Энергия, что ассоциируется с начальной позицией струны, именуемая «потенциальной», трансформируется в энергию, связанную с колебаниями и обозначаемую как «кинетическая».
Но драма на этом не заканчивается.
Струна продолжает двигаться, пока не возвращается в максимально сжатое состояние. Здесь она на мгновение замирает, и вся ее кинетическая энергия превращается в потенциальную, в этот раз связанную уже не с растяжением, а со сжатием. Потом она движется дальше, уже в другую сторону, потенциальная энергия трансформируется в кинетическую, затем наоборот, пока не будет достигнуто максимальное растяжение.
Цикл перехода энергии из потенциальной в кинетическую и обратно, и снова, и снова именуется «сохранением энергии».
Простой маятник действует по тому же принципу: он качается туда-сюда, туда-сюда, превращая потенциальную энергию в кинетическую и обратно в потенциальную. Если бы только не было трения, он мог бы так раскачиваться вечно, и механические часы в этой идеальной ситуации имели бы шансы тикать сколь угодно долго.
Это идеальный, вечный ритм, определенный метрономом закона сохранения.
Долговязый юноша начинает отбивать простую мелодию на крышке стола: тук-тук… тук-тук-тук… тук.
Это ритм.
Идея циклического времени, состоящая в том, что все повторяется, одни и те же последовательности событий происходят снова и снова, возникает при виде того, как в природе действуют законы сохранения энергии. Закрытые системы, не связанные с внешним миром, имеют тенденцию повторять один и тот же набор состояний, переходя из одного в другое и начиная снова. В случае очень сложных систем завершение цикла может требовать астрономически долгих периодов, но все же в конечном итоге такая система приходит к той точке, откуда она начинала, ведь если играть в крестики-нолики, не переставая, то рано или поздно придется повторить ход.
Природа любит циклы и круговороты.
Но есть такие типы энергии, которые невозможно полностью использовать снова, например, тепло, вырабатываемое в механизмах благодаря трению или сопротивлению воздуха. Копящиеся объемы теряемой энергии порождают «стрелу необратимости», которая указывает в будущее.
Вследствие этого, хотя некие идеальные системы продолжают жить в циклическом времени, многие физические процессы в естественном мире повинуются линейной временной схеме. И проблема «циклическое время против линейного времени» являлась предметом дискуссий для ученых более тысячелетия.
Долговязый юноша зевает, его пальцы перестают барабанить по столу, книга падает на пол. Словно получив внутреннюю команду, он поднимается, шаркает к двери своей комнаты и падает на кровать.
Ему нужен сон, на утро у него назначена встреча в Файн-холле с тем человеком, помощником к которому он назначен, а рассвет отметит начало его хлопот на посту ассистента…
Квантовые профили
Файн-холл (ныне он именуется Джонс-холл) расположен в миле к востоку, если идти через кампус Принстона от Градуэйт-колледжа, и это короткая прогулка для энергичного молодого человека. Построенный специально для математического факультета, дом щеголяет окнами в тяжелых, древних рамах, украшенных математическими символами.
Осенью 1939 года в Файн-холле находились кабинеты нескольких физиков-теоретиков, среди них были Юджин Вигнер и Джон Уилер. До весны того года он служил домом для института перспективных исследований (ИПИ), независимого «резервуара» для мыслителей, в котором числились Альберт Эйнштейн, венгерский математик Джон фон Нейман, австрийский математик Курт Гёдель и многие другие научные знаменитости.
Для Эйнштейна, самого известного исследователя, ИПИ был чем-то вроде монастыря, где он мог без помех заниматься своими работами в области общей теории гравитации и электромагнетизма, и в то же время критиковать теории коллег в области квантовой механики: той физики, что касается поведения атомов и субатомных частиц. Постоянные возражения против квантовых «бросков кости», когда все определяется случайностью, и вера в чистый детерминизм отделяли Эйнштейна от большей части научного сообщества, он шел против основного потока.
Детерминизм в данном контексте означает, что если известны начальные параметры некоей физической системы, такой как маятник или струна, то возможно с абсолютной точностью предсказать, что случится с ней в любой момент в будущем. Эйнштейн стремился «укомплектовать» квантовую механику, исключив из вычислений любые элементы случайности.
Фон Нейман, наоборот, придерживался более продвинутого взгляда на квантовую механику, в котором детерминизм и случайность играли важную роль на разных стадиях. В своей классической работе 1932 года «Математические основы квантовой механики» он представил двухэтапную схему анализа квантовых процессов.
Перед тем как исследователь приступит к измерениям в некоей квантовой системе, такой как электрон или атом, ее динамика выглядит текучей и предсказуемой. Но едва он щелкнет включателем на приборе – запустит мощный магнит, например – и начнет снимать показания, в дело вступает случайность, и результат может быть одним из многих, столь же случайным, как исход броска монетки.
Почему исследователь играет такую важную роль? Почему он влияет на систему? Может некто быть только наблюдателем? Может ли наблюдатель быть частью системы?
Эти вопросы входили в сферу того, что именовали «проблемой измерений в квантовой механике».
И проблема эта выглядела на редкость коварной.
В отличие от классической механики, в квантовой невозможно получить прямой доступ ко всей информации о частице – о ее местоположении, скорости и т. д. Поэтому нужно рассматривать сущность, именуемую «волновой функцией», содержащую всю информацию о квантовом состоянии частицы.
Но волновая функция предлагает не точные значения, а некие вероятностные распределения, показывающие шансы на то, что частица проявит те или иные характеристики в процессе измерений (технически говоря, квадрат волновой функции дает распределение вероятностей). Пики демонстрируют наиболее вероятные значения, а между ними лежат те значения, шансов получить которые не так много.
В целом диаграмма распределения вероятностей имеет вид перевернутого колокола и показывает, что если вы подбросите четыре монетки, наиболее вероятной комбинацией будут две решки и два орла в любом порядке, а наименее вероятной – четыре решки или четыре орла.
Как указывал фон Нейман, волновая функция испытывает влияние двух типологически разных квантовых процессов: непрерывное изменение, описанное волновым уравнением Шредингера, и дискретный «коллапс», происходящий, когда наблюдатель начинает делать измерения. Например, предположим, что наблюдатель проводит эксперимент, нацеленный на фиксацию точного местонахождения электрона. До начала эксперимента волновая функция электрона будет целиком и полностью повиноваться уравнению Эрвина Шредингера, и на долю вероятности не останется ничего. Но немедленно после момента измерения волновая функция неким случайным образом коллапсирует из распределения вероятности в острый пик, представляющий единственное значение, определяющее местоположение электрона.
Таким образом, первая разновидность процессов полностью детерминирована и обратима, вторая случайна и необратима. Они воплощают различные концепции времени: первый механизм соответствует циклическому времени классического маятника или струны, а второй – линейному, необратимому времени изнашивающейся машины, которая неизбежно когда-то остановится.
В конце тридцатых дуальная картина фон Неймана, включающая непрерывное и обратимое изменение, за которым следует мгновенный, необратимый коллапс, стала частью ортодоксального взгляда на квантовые измерения, ну а тот получил название «Копенгагенской интерпретации».
Увы, модель эта содержала чудную комбинацию из циклического и линейного времени, хотя они в принципе никак не сцепляются – представьте идеальные во всех отношениях часы, которые останавливаются навсегда, стоит только на них посмотреть. Наблюдение разрушает механизм, что неприемлемо, например, для «Ролекса», но почему-то годится для квантовой механики.
Но экспериментальные данные почти всегда соответствовали теории, и поэтому ученые большей частью просто принимали странную идею, что факт наблюдения изменяет динамику квантовой системы от предсказуемой непрерывности к случайному фазовому переходу. Лишь несколько выдающихся критиков, таких как Эйнштейн, Шредингер и Луи де Бройль (развивший собственную оригинальную идею волн материи, правдоподобно объяснившую волновое уравнение Шредингера) призывали к пересмотру схемы.
Удивительная выходка судьбы
Весной 1939 года институт перспективных исследований переместили в новый кампус. Эйнштейн, фон Нейман и другие сотрудники ИПИ перебрались в комфортабельные кабинеты выстроенного в колониальном стиле Фулд-холла. Таким образом, Файн-холл лишился нескольких выдающихся мыслителей, но зато в его стенах, покрытых плющом, началась революция, в результате которой появился третий взгляд на время, лежащий за пределами циклического и линейного.
Новый подход, получивший название «интеграл по траекториям», представил время как лабиринт альтернатив.
Что – случай или детерминизм – привело молодого Ричарда Фейнмана в Принстон, где он жил в Градуэйт-колледже и работал с Джоном Уилером в кабинете последнего в Файн-холле, а также в прилегающей лаборатории Палмера? Так или иначе, они стали блестящей командой великолепных и оригинальных ученых, у которых хватило ума перестроить все здание квантовой физики начиная с фундамента, базируясь на новых принципах.
Едва попав в Принстон, Фейнман получил назначение ассистентом к Вигнеру. Вигнер был физиком родом из Венгрии, питавшим страстный интерес к теории квантовых измерений и смотревший на нее сходным с фон Нейманом образом.
Но в последний момент решение изменили, и Фейнман попал к Уилеру.
В ретроспективе каждый рассматривал эту замену как один из наиболее благоприятных моментов в карьере: «некоей удивительной выходкой судьбы можно объяснить то, что его в конечном итоге приписали ко мне»1, вспоминал позже Уилер. «Мне ужасно повезло, когда я угодил в Принстон… и стал ассистентом преподавателя при Уилере, – говорил Фейнман. – Можно сказать, что мой успех был результатом того, что я узнал именно от него»2.
Сотрудничество Фейнмана и Уилера привело к пересмотру фундаментальных концепций квантовой физики через призму интеграла по траекториям, предложенного Фейнманом и получившего имя от Уилера. Этот революционный подход рассматривает нечто актуальное как композицию всех возможностей, словно мелодию из множества смешанных треков.
Как именно электрон переходит дорогу?
Фейнман и Уилер показали: корректный квантовый ответ заключается в том, что электрон переходит дорогу по любому из возможных физических путей одновременно – на самом деле, он комбинирует их все.
Двое ученых составляли идеальную команду: Фейнман проявлял себя осторожным и дотошным в вычислениях, Уилер высказывал смелые идеи и позволял воображению заглядывать за грань возможного. Так они оттачивали и шлифовали странные гипотезы, превращая их в работающие решения.
Путешествие длиной в жизнь, посвященную смелым исследованиям, началось в кабинете Уилера в Принстоне.
Чужак
Ричард Фейнман был во всех отношениях чужаком для Принстона, он словно прибыл с другой планеты.
Он родился 11 мая 1918 года в еврейской семье в Нью-Йорке и вырос в районе Куинс. Поэтому говорил Фейнман с жестким акцентом, характерным для рабочего класса и похожим на бруклинский, а вел себя грубовато, и все это сильно выделяло его среди белых мужчин-протестантов из богатых семей, поставлявших тогда кадры для магистратуры и преподавательского состава Принстона.
Иной человек в такой обстановке предпочел бы слиться с окружающей средой, подстроиться под нее, но не Фейнман, с ранних лет уяснивший, что жизнь слишком коротка, а время слишком ценно, чтобы беспокоиться по поводу того, что думают о тебе другие. Он понимал, что выделяется, но сделал из этого повод для шуток и источник силы, а вовсе не слабости.
«В Принстоне царила определенная элегантность, – вспоминал Фейнман. – Однако я вовсе не был элегантным человеком. В любой официальной ситуации я вел себя вполне как олух… я был грубый, простой парень, насколько это вообще позволено в обществе. Только я не беспокоился по этому поводу, я этим даже как бы немного гордился»3.
В первый же день в кампусе он отметил, что класс джентльменов вокруг отличают пафосная речь и претенциозность. Он вздрогнул при виде академических мантий, которые требовалось носить студентам во время серьезных мероприятий.
Не прошло и часа после того, как отец, Мелвилл Фейнман, высадил сына и уехал, как Ричарда в его спальне поприветствовал торжественный «смотритель резиденции», говоривший с подчеркнутым английским акцентом высшего света, и пригласил на вечерний чай с деканом Градуэйт-колледжа, Лютером Айзенхартом. Новичок почувствовал бы себя куда лучше у киоска с сосисками на Кони-айленд, но он никогда не был на официальном чаепитии и его терзало любопытство.
Жена декана была сама благовоспитанность, словно Маргарет Дюмон в фильмах братьев Маркс. Она должным образом приветствовала каждого входящего студента и предлагала им чай либо с молоком, либо с лимоном. Добравшись до Фейнмана, который как раз обдумывал, куда бы ему сесть, хозяйка спросила, что именно он хочет.
Он рассеянно ответил: «Я бы взял и то, и то. Спасибо»4.
Ее озадаченное восклицание: «Конечно, вы шутите, мистер Фейнман!», сопровождаемое нервным хихиканьем, стало ключевой репликой много раз пересказанного анекдота, а в дальнейшем – и заглавием для самой популярной книги Фейнмана. Несомненно, акцент и поведение Фейнмана позже вдохновили писателя Чарльза Сноу саркастически заметить, что это было «как будто Граучо Маркс неожиданно очутился внутри великого ученого»5.
Фейнман не ставил себе задачу соответствовать стилю и прихотям элиты Лиги плюща, да и вообще ожиданиям и представлениям кого бы то ни было. Но его интересовал окружающий мир, и он рассматривал Принстон как место, где его снабдят инструментами, без которых не раскрыть тайны этого мира.
Особый интерес у него вызывал циклотрон, феноменальная машина в подвале лаборатории Палмера, которая использовала мощные магниты, чтобы гонять элементарные частицы по кругу со все возрастающей скоростью, и в конечном итоге, когда они получат необходимый энергетический заряд, направлять в предназначенную цель. Циклотрон к тому времени стал базой многочисленных научных открытий, и Фейнман очень хотел на него посмотреть.
Ребенок любопытства
Отец Фейнмана, всю жизнь шивший униформу, очень интересовался наукой и передал сыну негаснущее восхищение перед тем, как удивителен наш мир и сколько в нем тайн. Когда Ричард был еще ребенком и носил прозвище «Ритти», отец развлекал его, подсовывая одну головоломку за другой. Они вместе исследовали чудеса природы, такие как раковины на морском берегу, и получали удовольствие, изучая статьи в энциклопедии на самые разные темы.
Благодаря моральной поддержке отца Ричард освоил интегральное исчисление к тринадцати годам. К этому времени семья перебралась в комфортабельный дом в Фар-Рокэуэй, одном из предместий Квинс, по соседству с популярным пляжем. Мать Ричарда, Люсиль, некогда мечтавшая о работе воспитателя в детском садике, не возражала против того, чтобы сын увлекался естественными науками и математикой, но она также развивала его творческую сторону, и именно она рассказывала ему смешные истории.
В средней школе Фар-Рокэуэй Хай Скул Ричард был настолько развитым, что один из учителей, понимавший, что ученик скучает, дал ему учебник по исчислению, чтобы тот не мешал другим и сам был занят. В других книгах Фейнман прочитал о принципе наименьшего времени Ферма: простое объяснение того, почему свет путешествует по прямой линии, и познакомился с понятием времени как четвертого измерения и другими продвинутыми концепциями физики.
Участие в математическом конкурсе для школьников под эгидой Нью-Йоркского университета в 1935 году принесло ему первое место, золотую медаль и упоминание в «Нью-Йорк Таймс»6.
Фейнман часто размышлял, как объяснить тот или иной процесс отцу, а тот регулярно засыпал сына непростыми вопросами, касавшимися разных физических явлений, даже после того, как Ричард отправился в колледж. «Почему оно происходит именно так?»7 – интересовался Мелвилл, имея в виду тот или иной феномен в природе.
Например, как-то летом, когда Ричард уже начал обучение на бакалавра в Массачусетском технологическом институте (МТИ), его отец попросил растолковать, как электрон переходит на более низкий энергетический уровень, испуская фотон (частицу света). «Находился ли фотон в атоме с самого начала, чтобы он мог выйти наружу? – интересовался Мелвилл. – Или в первый момент там не было никакого фотона?»8.
Фейнман храбро попытался объяснить отцу, что фотоны подобны словам, пусть они и выскакивают по одному, но их в атоме неограниченное количество. Как нет ограничения по поводу того, сколько существительных может произнести человек, так нет внутри атома мешка с фотонами, который в один момент в состоянии опустеть.
Но к разочарованию Ричарда его отец так и остался в недоумении, не осознал, что точно происходит в атоме, когда электрон испускает фотон. Ирония судьбы в том, что много позже Фейнман получил Нобелевскую премию за работу, где, помимо прочего, описывались и подобные взаимодействия.
Воспитанный таким отцом, Фейнман на всю жизнь сохранил детское восхищение перед миром. Как писал его друг Ральф Лейтон: «Он всегда мог взглянуть на любое явление как ребенок. Он смотрел на вещи с любопытством и восхищением, находил что-то новое и делал маленькие головоломки из всего, на чем останавливалось его внимание»9.
Даже по стандартам одного из лучших технических университетов мира Фейнман был блестящим студентом. Он прекрасно справлялся с любыми расчетами, на зубок знал интегральное исчисление и прочие разделы высшей математики.
Весной 1939-го, в последний год в МТИ, его в составе команды из пяти человек пригласили принять участие в престижной математической олимпиаде имени Уильяма Патнема. Поначалу Ричард уперся, утверждая, что он не настолько сильный математик. Только после того, как стало ясно, что среди старшекурсников не хватает людей, чтобы набрать команду, он согласился.
И к собственному удивлению получил наивысший балл среди всех участников. Победа Фейнмана попала в новости по всей стране и дала ему возможность автоматического зачисления в Гарвард с полной стипендией на все время обучения.
Ричард, тем не менее, был склонен пойти в магистратуру МТИ.
Но Джон Слэтер, глава физического факультета и специалист в области квантовой теории, побудил Фейнмана посмотреть на вещи шире. Когда тот стал настаивать, что МТИ – лучшее место для занятий наукой, и что он должен остаться здесь, Слэтер возразил, что другие университеты как минимум не хуже, а еще они предлагают новые, интересные возможности. В конце концов он прекратил спор и велел Ричарду выбирать.
И пусть Гарвард казался прекрасным вариантом, Фейнман остановился на Принстоне. Конечно, он слышал, что там есть циклотрон, и еще читал труды Вигнера и был не против с ним поработать.
Поэтому Ричард был ошеломлен, когда, прибыв на место, он узнал, что администрация Принстона изменила решение и приписала нового магистранта к Уилеру. Решение это, во многом произвольное, стало важным моментом в жизни обоих.
Детские шалости
Родившийся в Джексонвилле, Флорида, 9 июля 1911 года, Уилер был семью годами старше Фейнмана. И подобно своему ученику Джон в детстве находился под влиянием образованных, любящих родителей.
Его отец, Джозеф, был уважаемым человеком, он возглавлял несколько библиотек в разных частях страны, и среди них оказалась хорошо известная библиотека Еноха Пратта из Балтимора. Еще он организовывал строительство и надзирал за постройкой филиалов библиотечных учреждений.
Поэтому семья то и дело переезжала с места на место – Калифорния, Огайо, Вермонт, Мэриленд, – по мере того, как отец Уилера менял место работы. Но одно оставалось неизменным – там, где они жили, всегда имелось очень много книг.
Мать Джона, Мабел (семейное прозвище «Арчи»), тоже любила читать и привила сыну сохранившуюся на всю жизнь любовь к печатному слову. Будучи ребенком, он часто обстреливал ее вопросами по поводу устройства вселенной, такими как «если я пойду в космос, то когда-нибудь доберусь до его конца?»10.
Хотя и Фейнман, и Уилер прославились как теоретики, они разделяли детскую страсть к экспериментам. Каждый яростно интересовался тем, «как оно работает». Оба приходили в восторг от химических наборов, радиоприемников, моторов и конструкторов.
Когда отец Ричарда как-то заметил, насколько важна электрохимия, тот поместил под напряжение кучу сухих реактивов, чтобы посмотреть, что с ними произойдет. Не упуская ни единой возможности поковыряться в домашних приборах, он установил внутреннюю телефонную связь и механизировал колыбель сестры Джоан так, чтобы та качалась автоматически11.
Уилер в детстве точно так же развлекался, совершая маленькие технические изобретения. Он изготовил детекторный радиоприемник, протянул телеграфную линию из своего дома в дом друга, сделал кодовый замок, а также нечто вроде механического калькулятора. Проводил эксперименты с порохом и едва не потерял палец, поджигая динамитные шашки у загона для свиней12.
Если бы Фейнман и Уилер выросли вместе, то они наверняка провели бы сотни веселых часов, заставляя разные вещи двигаться, светиться, а иногда немного взрываться. Когда они встретились, будучи молодыми мужчинами, их детский энтузиазм ослабел, но никуда не делся, и он во многом определил успех их совместной работы.
Они любили возиться с самыми разными вещами, начиная от простых механизмов и заканчивая материей пространства и времени.
Удивительная симметрия
Отношения между научным руководителем и его учеником часто выглядят несбалансированными. В конце концов, первый имеет большую власть над карьерой второго, так что не самый умный или злонамеренный руководитель может дать неверный совет, присвоить плоды совместной работы, сделать так, что аспирант не получит степени, и в конечном итоге попросту уничтожить его жизнь.
В случае Фейнмана и Уилера мы видим редкое исключение, тут отношения «наставник-студент» в конечном итоге эволюционировали в искреннюю, равноправную дружбу. Близость между двумя физиками только увеличилась с годами, и каждый помогал соратнику расти и развиваться.
Они оба были смелыми мыслителями с открытым разумом, готовыми взяться за самую безумную гипотезу. Они оба выдвигали необычные концепции – от частиц, которые путешествуют против хода времени, до параллельных миров; от вселенной, описанной с помощью чистой геометрии, до мироздания, основанного исключительно на цифровой информации. Спорные предположения, но большая часть визионерских прорывов в теоретической физике во второй половине двадцатого и начале двадцать первого века имеет корни в смелых размышлениях Фейнмана и Уилера, включая базу стандартной модели физики элементарных частиц и все разновидности астрофизических теорий, например, о свойствах черных дыр и червоточин.
И тот и другой в сердце оставался юношей, который смотрит на мир, как на бесконечное поле для исследований: мир полон головоломок, их нужно непременно решить, шифров – их необходимо раскрыть, тайных проходов – их требуется нанести на карту, и шарад, просто вопиющих, чтобы их разгадали. Подобно Тому Сойеру и Гекльберри Финну они не хотели ограничивать себя повседневными делами и стремились в неведомое, к приключениям.
Некоторые виды симметрии не выглядят очевидными.
Так и тут, если судить по внешнему поведению, трудно обнаружить нечто общее в Ричарде Фейнмане и Джоне Уилере. Первый ненавидел однообразие, часто говорил экспромтом, используя самые простые слова, и всегда бросал вызов образу «серьезного ученого», как его видит публика, второй был тихим, сдержанным и вежливым в речах и действиях.
Таким образом, Фейнман проявлял свою необычность открыто, но Уилер в своих научных идеях выходил намного дальше за рамки общепринятого, под обшивкой конформизма крылся яростный нонконформист. Вместе они не боялись выбросить в корзину старые учебники и начать разбирать проблему с нуля.
Возможно, словосочетание «безумные идеи» лучше всего описывает результат их взаимодействия.
Их совместная работа началась почти сразу после того, как Фейнмана назначили ассистентом преподавателя к Уилеру по курсу классической физики. Формальности и разница в социальном положении растворились, когда стало ясно, что оба они в душе – исследователи. И в конце концов они изменили наше понимание феномена времени, дав место таким вещам как альтернативные реальности и путешествия в прошлое.
Глава первая Часы Уилера
Это парень из МТИ… посмотрите на результаты его тестов по математике и физике. Это фантастика! Никто из тех, кто попадал к нам в Принстон, даже близко не подходил к чему-то подобному… Он должен быть неограненным алмазом. Но мы никогда не принимали никого со столь низкими оценками по английскому и истории. Хотя взгляните на практический опыт, который есть у него в химии и опытах с трением!
Джон А. Уилер. из речи на научном совете о принятии Фейнмана в ПринстонДжон Уилер вынул часы из кармана и положил на стол.
Он хотел, чтобы встреча с новым ассистентом, Ричардом Фейнманом, прошла четко по расписанию. Для молодого доцента, обремененного многочисленными курсами и собственными исследованиями, время – ценный ресурс. Чтение лекций требует времени. Глубокая концентрация, без которой не поработаешь над фундаментальными проблемами, тоже не достигается за минуту. Бумажная работа требует времени, и консультации тоже…
Часы для всего мира в этот период тикали весьма тревожно.
Нацисты продолжали агрессию, и все больше людей понимало, что их нужно остановить силой. Если они продолжат в том же духе в Европе, то только вопрос времени, когда под ударом окажутся Соединенные Штаты, а всем известно, что ученые Германии разрабатывают новое ужасное оружие.
Чтобы противостоять ему, требуются научные прорывы здесь, в Америке.
Уилер, например, в январе 1939-го узнал от своего наставника Нильса Бора и его ассистента Леона Розенфельда, что исследователи Третьего рейха открыли: тяжелые ядра в атоме урана могут при определенных обстоятельствах делиться, высвобождая огромное количество энергии, и процесс этот назвали «ядерным распадом».
«Цепная реакция», породившая ошеломляющие новости, была очень быстрой.
Австрийский физик Лиза Мейтнер, работавшая с немецкими химиками Отто Ханом и Фрицем Штрассманом над проблемой распада, рассказала об открытии племяннику Отто Фришу. Находившийся в то время в институте теоретической физики в Копенгагене Фриш передал информацию Бору, своему директору. Тот немедленно осознал всю ее важность, переговорил с Розенфельдом и принял решение объявить об открытии на приближающейся конференции по теоретической физике в университете Джорджа Вашингтона в США.
Выступление Бора было запланировано на 26 января, но 16 числа на встрече в клубе физического факультета Принстона, сразу после того как Бор и Розенфельд прибыли в Америку, второй обо всем рассказал. Так Уилер и остальные получили информацию о ядерном распаде. Когда датский ученый сделал свое заявление собственно на конференции, его мрачные слова вызвали резонанс в более широких научных кругах.
Многие физики, узнавшие об этом открытии – особенно те, кто бежал от фашистских режимов в Европе, – ужаснулись при мысли о том, что нацисты могут получить бомбу, взрывная сила которой основана на делении ядер урана. Среди тех, кто особенно испугался перспективы обретения Гитлером ядерного оружия, оказались Энрико Ферми, перебравшийся в Штаты из Италии под властью Муссолини, Юджин Вигнер, Лео Силард и Эдвард Теллер, все эмигранты из Венгрии.
Два месяца спустя после заявления Бора Ферми встретился с офицерами ВМФ в Вашингтоне. Летом Силард, которого поддержали Вигнер и Теллер, предупредил Альберта Эйнштейна, и тот отправил знаменитое письмо президенту Франклину Рузвельту.
Если учесть угрозу со стороны нацистов и возможность того, что Штаты окажутся вовлечены в войну, кто знал – может быть, правительство США упросит физиков, занимающихся квантовыми проблемами, оставить абстрактные гипотезы и взяться за военно-прикладные исследования?
Неофициальный портрет Джона Арчибальда Уилера в институте теоретической физики Нильса Бора в Копенгагене, середина 1930-х годов
(AIP Emilio Segre Visual Archives, Wheeler Collection).
Работая вместе с Бором, Уилер стал настоящим экспертом в области ядерного распада, и его наверняка приставили бы к делу в том случае, если Америка втянется в конфликт. Их совместные исследования начались пятью годами ранее, осенью 1934-го, когда Уилер посетил институт Бора.
Он только что защитил диссертацию в университете Джонса Хопкинса под руководством американского физика австрийского происхождения Карла Херцфельда и завершил постдиссертационное исследование в Нью-Йоркском университете под началом Грегори Брайта, поэтому был полон рвения раскрыть все тайны атомного ядра. Уилер видел в ученичестве у Бора, признанного корифея квантовой физики, привлекавшего ученых со всего мира, идеальный способ обрести необходимый опыт.
В Копенгагене он оставался до июня 1935-го и занимался взаимодействиями между ядрами и космическим излучением (энергетическими частицами из космоса).
Тот стиль, в котором вел исследования Бор, оказал значительное влияние на Уилера. Датский ученый говорил тихо и неразборчиво, но умел ставить вопросы так, чтобы взглянуть на предмет изучения с совершенно новой стороны. Как вспоминал Уилер, «Бор применял этот зондирующий подход ко всему, желая добраться до сути дела и испытать феномен вплоть до его самых последних пределов»13.
Вернувшись из Европы, Джон с удовольствием проработал три года в университете Северной Каролины (Чапел-Хилл), после чего получил место доцента в Принстоне осенью 1938 года. Даже до заявления Бора о немецкой ядерной программе времена тогда были тревожные, и на Хэллоуин того года Орсон Уэллс разыграл свою знаменитую мистификацию с марсианским вторжением у селения Грувс-Милл; передача шла по радио, и это вызвало настоящую панику.
Такая реакция публики отразила широко распространенный страх перед новым ужасным оружием. Когда несколькими месяцами позже Бор предупредил физиков на Вашингтонской конференции об открытии ядерного распада в Германии и о появившейся у нацистов возможности создать атомную бомбу, видения опустошающих террористических атак проникли в ночные кошмары очень многих людей.
Бор оставался в Принстоне с января по май 1939-го, и работал он в кабинете на одном этаже с Уилером в здании, которое тогда именовалось Файн-холл, а ныне называется Джонс-холл. Пытаясь разобраться с механизмом ядерного распада, ученые эксплуатировали боровскую жидкокапельную модель атома, гибкую схему, где ядро предстает чем-то вроде распухшего яичного желтка, который при сильном растяжении способен делиться. Трудясь вместе всю весну, они скрупулезно определили, в каких условиях может происходить распад, когда образец урана бомбардируют или быстрыми (высокоэнергетичными), или медленными (низкоэнергетичными) нейтронами.
Для различных изотопов (ядерных типов) урана Уилер нарисовал картинки энергетических барьеров, которые необходимо преодолеть нейтронам, чтобы проникнуть в ядро атома и разбить его. Он изобразил эти барьеры в виде холмов, на которые лыжник должен взобраться, чтобы достичь вершины и получить шанс на быстрый спуск.
Для наиболее распространенного изотопа, уран-238, холм оказался крутым, и тут требовались быстрые нейтроны – вроде лыжников, выступающих на Олимпиадах – чтобы добиться цели. Для куда более редкого изотопа, уран-235, барьер был намного ниже, его в состоянии пересечь даже медленные нейтроны, как обычные любители лыжных прогулок.
Таким образом Уилер и Бор сделали вывод, что уран-235 куда легче подвергнуть распаду, чем уран-238. Более того, они открыли, что искусственно созданный изотоп, именуемый плутоний-239, если его произвести в достаточном количестве, еще проще расщепить медленными нейтронами.
При этом в процессе распада появляются новые нейтроны, и при замедлении они могут спровоцировать распад других, соседних ядер, вызвав ядерную реакцию с контролируемым выделением энергии… или взрыв большой разрушительной силы.
Бор и Уилер опубликовали результаты в статье «Механизм ядерного распада», которая вышла из печати 1 сентября 1939 года, точно в тот день, когда началась Вторая мировая война в Европе и Адольф Гитлер вторгся в Польшу. Их находки оказались позже бесценными для Манхэттенского проекта, военной программы по разработке ядерной бомбы в США.
К осени Уилер оставил позади совместную работу с Бором и был полон желания внести свой персональный вклад в теоретическую физику. Он также надеялся стать внушающим уважение наставником, каким датский физик был для него. В картине идеального профессорства, которая сформировалась у него в голове, сочетались приватная сторона: глубокие размышления и тщательные расчеты, и публичная сторона: преподавание и работа со студентами.
Поддержание равновесия между ними требовало аккуратного обращения со временем, отсюда и часы на столе.
Тогда Уилеру было всего двадцать восемь, и он не мог знать, что у него есть почти семь десятилетий на то, чтобы ответить на вопросы вроде «Откуда возникает бытие?» (как он часто спрашивал в свои поздние годы). Пожилой Уилер наверняка посоветовал бы себе молодому расслабиться и получать удовольствие от преподавания. Но в тот момент, когда секундная стрелка бежала по кругу, отъедая от будущего минуту за минутой, Джон очень серьезно воспринимал задачу не отступить от расписания.
Превосходное легкомыслие
Кабинет Уилера, под номером 214, находился на втором этаже Файн-холла.
Здание получило имя от Генри Бернарда Файна, основателя математического факультета Принстона, трагически погибшего в 1928 году, когда его во время велосипедной прогулки сбила машина. Строительство корпуса оплатил друг Файна, Томас Д. Джонс, и по его плану создали настоящий храм математической науки.
Чуть позже сюда пустили физиков-теоретиков.
В каждом кабинете стены были обшиты дубовыми панелями, имелась грифельная доска, встроенные шкафы, а окна выходили на кампус, больше напоминавший парк. Сильный аромат осени встречался тут с запахом меловой пыли, когда профессора пытались описать мир природы снаружи с помощью многочисленных формул. Что и говорить, роскошное место, чтобы заниматься фундаментальными исследованиями.
Сам Джонс, математик Освальд Веблен и остальные постарались создать максимально дружественную атмосферу. Преподаватели собирались в уютной чайной и обсуждали самые разные идеи – она занимала пространство над кабинетами второго этажа. Над камином в чайной красовалась высеченная в камне фраза на немецком, взятая из лекции Эйнштейна: «Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht» («Господь Бог изощрен, но не злонамерен»). Изречение отражало веру Эйнштейна в то, что хотя поиск точных уравнений в теоретической физике извилист и может изобиловать поворотами и тупиками, но природа все же не так жестока, чтобы скрыть окончательное решение.
Градуэйт-колледж, Принстон. Фото Пола Халперна
Угловые лестницы и пересекающиеся коридоры тоже не пустовали. Профессора и студенты часто появлялись на третьем этаже, где просторная библиотека содержала тысячи томов, посвященных физике и математике. Иногда они отправлялись на первый, чтобы посетить тот или иной семинар в центральном лекционном зале. Или, как Бор и Уилер во время совместной работы, они прогуливались по коридорам второго этажа, глубоко погруженные в беседу.
Как и задумывалось, строение в целом пульсировало, пропуская через себя потоки исследователей: вверх, вниз, горизонтально.
Чтобы сотрудничество между физиками и математиками шло без затруднений, галерея вела в лабораторию Палмера, главное здание физического факультета, где проводились и исследования, и учебные занятия. Учитывая факт, что для оборудования нужно много места, лаборатория Палмера была гораздо больше, чем Файн-холл.
Вход в здание обрамляли статуи титанов американской физики: Бенджамина Франклина и Джозефа Генри.
Появившись в кабинете Уилера, Фейнман заметил, насколько молодо тот выглядит. Доцент определенно не являлся статуей, жизнь в нем просто кипела, профессора такими если и бывают, то не в те времена, когда с них рисуют портреты.
Фейнман почувствовал себя несколько свободнее.
Но тут Уилер вытащил из кармана часы и красноречиво положил на стол, собираясь следить, чтобы их разговор продлился ровно столько, сколько ему положено. Они обсудили круг обязанностей Ричарда и назначили время следующей встречи.
Ко второму разу Фейнман явился подготовленным, поскольку решил сыграть в ту же самую игру. Он купил дешевые часы, принес с собой, и едва Уилер полез в карман, Ричард повторил его жест, и второй прибор для измерения времени лег на стол на мгновение позже, чем первый.
Словно ответный ход в шахматах.
Выходка Фейнмана разбила всякую серьезность, Уилер начал смеяться. Ричард присоединился к наставнику, и они никак не могли остановиться, так что деловая встреча превратилась в праздник легкомыслия.
В конце концов Уилер решил, что пора вернуться к повестке дня.
«Смотри, пора нам заняться серьезными вещами»14, сказал он.
«Да, сэр!» – ответил Фейнман с ухмылкой, и они снова заржали в два голоса. С тех пор раз за разом, встреча за встречей дискуссии превращались в обмен шутками и сопровождались взрывами смеха, задыхающимися мольбами вернуться на грешную землю, и лишь потом обращались к физике и математике, к учебным делам.
Ричард был привычен к такому стилю общения, его мать, Люсиль, часто шутила, а отец, Мелвилл, оставался серьезным. Рядом с Уилером Фейнман мог проявлять обе стороны своей личности, и так было положено начало долгой, продуктивной – пусть иногда и легкомысленной – дружбе.
Механика обучения механике
Уилер гордился тем, как хорошо выстроен и проводится его курс по классической механике. Он давал студентам пробуждающие интерес домашние задания, обозначал темы для самостоятельного изучения. А вот проверял достижения учеников Фейнман. Он дотошно просматривал домашние работы, выискивая логические изъяны или ошибки в вычислениях, писал детальные замечания на полях и возвращал пачки покрытых пометками листов наставнику.
У студентов при таком подходе оставалось мало шансов пройти курс, отнесясь к нему несерьезно или не поняв предмета.
Уилер был очень доволен тем, как работает его ассистент, и поэтому он доверил Фейнману прочитать по меньшей мере одну лекцию, тем самым оттачивая преподавательские навыки Ричарда. Тот ощутил себя польщенным и провел за подготовкой целую ночь.
Позже он написал матери, что почувствовал гордость, когда закончилась лекция, прошедшая «достойно и гладко»15, и что ожидает в будущем еще не раз выполнить подобную задачу. Под крылом Уилера, а позже и самостоятельно Фейнман вырос в отличного наставника, способного объяснить что угодно.
Одной из фирменных черт Уилера как лектора – а он, само собой, повлиял на ученика – было разумное использование диаграмм. Берясь за какую-либо идею, он почти всегда начинал с того, что делал набросок, размещая на доске всех игроков, а затем и взаимодействия между ними, словно продумывал стратегию к футбольному матчу. Как он говорил позже: «Совершенно не представляю, как это – думать без картинок»16.
Оба физика рассматривали преподавание некоторой темы как лучший способ разобраться в ней самому. Казалось бы, парадоксально, ведь как можно объяснять что-то, если ты не являешься экспертом в этой области? И в самом деле, если говорить о таких сравнительно статичных предметах, как латынь или древнегреческий язык, то их нужно освоить в достаточной степени, прежде чем учить других. Но здание физики постоянно перестраивается, оно базируется на принципах, которые можно интерпретировать множеством способов. Даже базовые концепции, о которых обычно рассказывают в начале обучения, такие как сила или инерция, имеют свои нюансы.
Инерция – это свойство тела оставаться в покое или продолжать двигаться в том же направлении, если нет посторонних воздействий. Именно из-за нее шар для боулинга, катящийся по ровной поверхности, движется по прямой линии, пока не врежется в кегли.
Что странно, вовсе не сила, а скорее недостаток силы вынуждает шар поражать цель. Интуитивно мы думаем, что это делает как раз сила, но реальность говорит нам об обратном.
Попытки объяснить студентам подобные противоречия – интеллектуальный вызов, который заставляет разум взглянуть на разные аспекты физического мира с необычной стороны. Поэтому, толкуя простые вроде бы вещи, ты можешь открыть новые взаимодействия и пролить свет на фундаментальные законы природы.
Например, планирование курса механики побудило Уилера и Фейнмана обсудить принцип Маха – идею того, что причиной существования инерции неким образом служат отдаленные звезды. В отличие от Ньютона, в чьей системе физики инерция изучалась в терминах абстракций, именуемых «абсолютное пространство» (фиксированные измерительные линейки) и «абсолютное время» (умозрительные часы, постоянно тикающие где-то в стороне), физик Эрнст Мах предположил, что инерция может иметь физическую причину.
Он высказал гипотезу, что комбинированное тяготение удаленных космических тел побуждает объект либо оставаться в покое, либо двигаться в одном направлении с постоянной скоростью.
Космическое видение Эйнштейна
Как отлично знал Уилер, общая теория относительности Эйнштейна – набор изящных уравнений, описывающих гравитацию – это попытка воплотить принцип Маха и отбросить ненаучный взгляд Ньютона с его абсолютными координатами, в которых измеряется инерция. Ньютон представлял расстояния в пространстве и временные отрезки как постоянные от точки к точке или от момента к моменту, чем-то вроде координатных осей, используемых в математике.
Ничто из физического мира не в силах повлиять на эти инертные линейки.
И резким контрастом с этими абсолютными, из божественной стали измерительными приборами выглядит общая теория относительности с ее искривленным, скрученным пространством-временем. Если попытаться нарисовать его, то получится нечто вроде тяжелого гнезда на тонкой ветке.
Эйнштейн не только отменил понятия абсолютного пространства и времени, еще он, используя геометрию, чтобы объяснить загадки гравитации, уничтожил и другую головоломку из ньютонианской физики, а именно «действие на расстоянии»: силы, такие как гравитация, действуют мгновенно на любой дистанции. Для любой пары массивных объектов Ньютон представлял воображаемую «нить», связывающую их вместе, чтобы гравитационное взаимодействие могло иметь место.
Ничто реально существующее в космосе не могло служить таким посредником.
В подходе Ньютона мгновенно распространяющаяся сила тяготения движет планеты по их орбитам вокруг Солнца, и если последнее внезапно исчезнет, «струны» пропадут, и планеты немедленно двинутся далее по прямым линиям, следуя каждая собственной инерции. Это изменение их траекторий произойдет еще до того, как последний луч света коснется планет, ведь свету требуется время для перемещения.
Эйнштейн думал, что подобное мгновенное действие на большом расстоянии выглядит чем-то ненаучным вроде телепатии. И он строил общую теорию относительности, исходя из принципа, что смятая ткань пространства-времени служит передатчиком.
Присутствие массивного солнца, искривляющего пространство-время в центре системы, создает гравитационный колодец – нечто вроде водоворота около ноги, который возникает в ванне, если вступить в нее.
Это возмущение распространяется от источника, оказывая влияние на движение других объектов, и в ванне это значит, что резиновые уточки, кораблики и другие плавающие игрушки закачаются на волнах. В звездной же системе гравитационное влияние солнца распространяется через пространство-время во все стороны со скоростью света, формируя дуги, вынуждающие планеты перемещаться по круговым орбитам.
Планеты пытаются двигаться по прямым линиям, но изгибы пространства-времени им мешают.
Завершив общую теорию относительности в 1915 году, Эйнштейн попытался использовать ее для того, чтобы создать модель статической вселенной. Австрийский ученый верил в железобетонный детерминизм и вечные космические законы, он надеялся, что хотя большие массы могут вызывать локальные пертурбации, космос в целом остается одним и тем же с течением времени.
Другими словами, пусть даже звезды могут двигаться по небу, их совместное поведение, если брать в целом, делает вселенную столь же неизменной, как гранитная плита. Постоянство не может быть предопределено, как в конструкции Ньютона, но является натуральным физическим последствием теории.
Но к большому разочарованию Эйнштейна уравнения, которые он использовал, говорили совершенно об ином. Они рисовали вселенную, что либо расширяется, либо сужается по мере того, как идет время. В физике решение того или иного уравнения – это математическое описание, которое является корректным, подходит к задаче словно ключ к замку.
Эйнштейн попытался найти такой ключ для статичной вселенной, но мог добиться цели, только исказив первоначальную систему уравнений – вроде как позвал слесаря и попросил поправить замок так, чтобы тот подошел к старому, хорошо знакомому ключу. Дополнение, которое сделал австрийский физик, получило название «космологической постоянной», поправочный коэффициент, специально включенный в расчеты, чтобы противостоять непредвиденным дестабилизирующим эффектам гравитации.
Само собой, Эйнштейн получил решение для статической вселенной, но ценой усложнения теории. Более того, открытие астронома Эдвина Хаббла, сделанное в 1929 году (он шел по следам другого астронома, Весто Слифера), что все галактики удаляются друг от друга и от нас, показало, что космос почти наверняка расширяется со временем. Это заставило автора теории относительности убрать дополнительные факторы и признать, что вселенная не статична.
Таким образом, он так и не смог реабилитировать идеи Маха по поводу инерции.
Уилер с Фейнманом, знавшие все вышеизложенное, обсуждали, имеет ли смысл принцип Маха и если да, то какова его физическая основа. Уилеру нравилось в компании Ричарда (или еще кого-либо) браться за мудреные философские вопросы и рассматривать их мысленно с самых разных сторон. Фейнман не одобрял абстрактные размышления, но получал удовольствие от всего, связанного с наукой.
Это еще одна причина, почему они так хорошо поладили.
Как писал физик Чарльз Мизнер, учившийся под руководством Уилера в пятидесятых: «Уилер находился под большим влиянием Нильса Бора, которого он считал вторым наставником. Бор вполне определенно был представителем европейской школы мысли, он уделял внимание философским аспектам физики точно так же, как и техническим. Большая часть ученых из Америки, таких как Фейнман, думали, что все споры по поводу абстрактной, философской интерпретации квантовой физики не имели значения для того, чем они занимались17».
Пинг-понг с частицами
Диалог похож на игру в настольный теннис, его типичный образец может включать передачу идей, обмен шутками, поддразнивание по поводу личных моментов и бесконечное количество других элементов коммуникации. Один игрок подает, другой отбивает, как и в матче по пинг-понгу, затем все происходит наоборот, и снова, и снова до тех пор, пока тема не окажется исчерпанной.
Уилер и Фейнман стали экспертами в обмене словами, подстраивая каждый раз диалог к условиям и настроениям конкретного дня, без усилий переключаясь с остроумия на серьезные темы и обратно.
Элементарные частицы вступают в парные взаимодействия через обмен разного вида. Но в отличие от взаимоотношений между людьми, тут все проще, имеется лишь несколько фундаментальных вариантов такого взаимодействия.
Современная наука насчитывает их четыре: гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое ядерные взаимодействия. К тому времени, когда Фейнман попал в магистратуру, о двух последних – в том, что касается способов, какими ядра атомов могут распадаться или воссоединяться – имелось довольно смутное представление; он сам позже помог разгадать многие их тайны. Но тогда физики даже не знали, одна это сила или две разные. Более того, они говорили о теории «мезонных ядерных сил», согласно которой протоны и нейтроны – частицы ядра, иначе говоря, – соединялись вместе, обмениваясь мезонами.
Сегодня мы знаем, что одни частицы, именуемые «глюонами», участвуют в процессе соединения, а другие частицы, называемые W +, W — и Z0, переносят индуцирующее распад слабое взаимодействие.
Уилер потратил большую часть времени, проведенного рядом с Бором, пытаясь понять, почему иногда ядра кажутся практически неделимыми, а иногда сравнительно легко разваливаются. Их теоретические модели подтверждались эмпирическими данными, но выглядели неполными.
Уилер обладал беспокойным умом и пылким воображением, поэтому он выдавал одну идею за другой, горел точно настоящая печь, работающая на энергии атомного распада. Задерживаться на одной теме надолго было для него почти невозможным, он вовсе не хотел ограничивать себя изучением лишь одной из четырех фундаментальных сил. Всю жизнь его интересы переходили от ядерных взаимодействий к электромагнетизму, затем к гравитации и снова по кругу.
В другое время идея создать унифицированную теорию всех взаимодействий привлекла бы внимание Уилера. Но тогда он видел, как Эйнштейн, работавший в соседнем Институте перспективных исследований, буквально бьется головой о стену, снова и снова, поскольку его попытки решить эту задачу ничего не дают.
Австриец надеялся, что сможет превратить общую теорию относительности в теорию всего – описать все силы геометрически и исключить тем самым необходимость в вероятностной квантовой теории.
Уилер и Эйнштейн жили в одном районе, часто пересекались на втором этаже Файн-холла до того, как институт переехал в собственное помещение, и знали друг друга хорошо. Напрасные попытки второго создать теорию всего начались в середине 20-х годов, и, погрузившись в них, Эйнштейн большей частью игнорировал современные исследования в таких областях как физика частиц или атомная физика.
Коллеги чаще смотрели на австрийца как на реликт, и немногие отваживались углубиться в таинственную реальность гравитационной теории, которая ассоциировалась с успехами в прошлом и провалами недавнего времени.
Величайший прорыв в теории гравитации, сделанный в те годы, остался по большому счету незамеченным. Статья «О безграничном гравитационном сжатии», написанная в Калифорнийском университете (Беркли) Робертом Оппенгеймером и его студентом Хартландом Снайдером, была опубликована 1 сентября 1939 года и показала, что достаточно массивная звезда после того, как выгорает ее «топливо», сжимается в компактный объект столь плотный и гравитационно мощный, что даже свет не может избежать его притяжения.
В шестидесятых годах Уилер с радостью принял эту концепцию, пустил в оборот термин «черная дыра» и сфокусировал внимание на странных выводах из первоначальной концепции.
Но в тридцатых его интерес лежал совсем в других областях.
По совпадению, работа Бора и Уилера «Механизм ядерного распада» вышла из печати в тот же день, и в ней объяснялось, почему некоторые типы атомов распадаются легче других, и появилась она в том же самом престижном журнале, что и статья Оппенгеймера – Снайдера, в Physical Review. В тот же день, как мы уже говорили, началась Вторая мировая война в Европе, а семейство Уилера перебралось в новый превосходный дом по адресу Баттл-роад, 95 в Принстоне.
Для Уилера настало время заняться новыми теоретическими проблемами, и Фейнман оказался в этом деле отличным соратником.
Все рассеивается
Еще до того, как заняться изучением ядерного распада, Уилер активно интересовался таким феноменом как «рассеяние частиц». Рассеяние происходит, когда частицы взаимодействуют друг с другом и отклоняются, подобно тому, как мячик, по которому ударили ракеткой, отскакивает в случайном на первый взгляд направлении.
Это происходит, на классическом (повседневном) и субатомном (квантовом) уровнях реальности.
Физикам нравится делать предсказания, а в случае теннисных упражнений подготовленный теоретик, имеющий данные о том, как именно соприкоснулись мячик и ракетка, сможет рассчитать, как произойдет отскок. Это классическая задача, с которой можно справиться, используя законы механики Ньютона.
Уилер больше интересовался эффектом Комптона, квантовым процессом на субатомным уровне, который не так легко объяснить с точки зрения физики Ньютона. Впервые его обнаружил американский физик Артур Комптон, получивший Нобелевскую премию за это открытие.
Эффект Комптона связан с тем, как ведет себя свет, рассеянный электроном.
Свет падает на электрон, и электрон приобретает энергию и импульс (масса, умноженная на скорость), которые тащат его в определенном направлении как брошенное метательное копье. В процессе он сам излучает свет с большей длиной волны (расстояние между пиками), чем была у исходного, и тот распространяется под углом, отличным от движения электрона.
Для видимого света длина волны соотносится с цветом, так что вторичный свет будет иметь иной оттенок, чем оригинальный, сдвигаясь к красному концу спектра. Обычно эффект Комптона возникает при работе с невидимыми рентгеновскими лучами, и при этом получаются те же рентгеновские лучи, только с большей длиной волны.
Важность эффекта Комптона в том, что квантовая теория точно предсказывает разницу между начальной и конечной длиной волны, и угол рассеяния между электроном и испущенным светом тоже. Это достижение раскрывает сущность квантовой гипотезы, впервые предложенной Максом Планком в 1900 году и доработанной Эйнштейном в 1905-м, которая носит название «фотоэлектрический эффект».
Термин «квант» сам по себе обозначает «порция», и возник он потому, что свет выделяется небольшими порциями, или квантами, энергии. Мельчайшие единицы света – волна делится на частицы, словно засунутая в коробку пружина – именуются фотонами. Поскольку большая часть светового спектра невидима, за исключением участка от красного до фиолетового, то большинство существующих фотонов точно так же невидимы.
Фотоны служат частицами обмена в электромагнитном взаимодействии, всякий раз, когда заряженная частица, такая как электрон, притягивает или отталкивает другую заряженную частицу с помощью электричества или магнетизма, фотон прыгает между ними. Без такого обмена заряды будут просто игнорировать друг друга, и не будет ни притяжения, ни отталкивания.
Так что если ваш магнитик со щелчком прилипает к холодильнику, то благодарите фотоны (скорее невидимые, чем оптические) за их роль переносчиков электромагнитной энергии.
Как предполагали Планк и Эйнштейн, количество энергии, приходящееся на фотон, зависит от частоты (количество повторений некоего процесса в единицу времени) света, которой тот характеризуется. Частота, в свою очередь, обратно пропорциональна длине волны (чем больше длина волны, тем ниже частота и наоборот). Следовательно, длинные волны, например радиоволны, соотносятся с низкими частотами и низкими энергиями; короткие, как рентгеновские лучи, наоборот, с высокими частотами и высокими энергиями.
В случае эффекта Комптона электрон поглощает энергию и импульс ударившего по нему фотона и выплевывает более слабый фотон с большей длиной волны. Исследователи замерили сдвиг Комптона бесчисленное множество раз, и он всегда соответствовал тому, что они ожидали.
Признав, что Фейнман является искусным математиком – взять хоть его сверхъестественную сноровку брать сложные интегралы – и обладает хорошей интуицией физика, Уилер предложил, чтобы они совместно занялись изучением квантового рассеяния. «Все рассеивается!» – провозгласил он, и это стало для двух физиков чем-то вроде лозунга.
Проблема, которой Уилер хотел озадачить Фейнмана, брала начало на конференции по физике в Кембридже, которую Джон посетил в октябре 1934 года, где исследователи обсуждали, как гамма-лучи (самый высокоэнергетичный вид фотонов), если ими бомбардировать кусок свинца, производят мини-душ из рассеянных частиц. Анализ побочных продуктов рассеяния, думал он, помог бы отточить инструментарий для квантовых исследований.
Уилер оказался первым, кто еще в 1937 году предложил численный метод, позволяющий оформлять результаты рассеяния в форме таблицы, и позже этот метод назвали «матрицей рассеяния». Его можно сравнить с подсчетом очков во время игры в дартс, когда нужно записать, сколько именно дротиков попало в тот или иной круг мишени, а также в ее центр, в «бычий глаз». В дартс собранные данные используются, чтобы определить силу и место игроков, а в физике «матрица рассеяния» дает возможность реконструировать то, какие именно взаимодействия обнаружены.
Физики называют такой анализ, основанный на собранных данных, феноменологическим, чтобы отличать его от более абстрактных теоретических размышлений.
Уилер и Фейнман потратили много времени, ломая голову над целой галактикой вопросов, связанных с разными типами рассеяния. Под руководством наставника Ричард очень хорошо научился пользоваться «матрицей рассеяния», а также стал экспертом в рисовании диаграмм, объясняющих, как взаимодействуют частицы.
Ненадолго задержавшись на гамма-лучах и свинце, они решили сосредоточиться на том, как электроны и протоны стремительно движутся, словно шарики в пинболе, внутри материалов со сложной структурой. Это совместное исследование не принесло результата, выраженного в публикации, но стало приквелом к погружению в еще более глубокие тайны взаимодействия электронов.
Водяная юла
В те дни экспериментальная физика частиц оказалась на распутье меж двух методов. Один состоял в том, чтобы наблюдать за продуктами естественного ядерного распада, такими частицами, которые производят радиоактивные материалы или из каких состоят космические лучи, незримым дождем льющиеся на нас сверху. Например, позитрон – подобный электрону, но заряженный положительно – был впервые найден именно в космическом излучении.
Альтернатива естественному методу, только что появившаяся, опиралась на искусственное ускорение частиц, разбивание их о специально выбранные цели, и изучение того, что останется. Прадедушкой экспериментов такого рода стал известный опыт новозеландского физика Эрнеста Резерфорда, который бомбардировал золотую фольгу альфа-частицами (ядрами гелия, как стало ясно позже).
Альфа-частицы по большей части проходили сквозь фольгу, но совсем немногие отскакивали. Рассеиваясь под острыми углами, они позволяли предположить, что в атомах золота есть компактное, положительно заряженное ядро, и вокруг него – обширное пустое пространство.
А ведь до этого опыта физики предполагали, что атомы однородны изнутри, словно вишенки, покрытые шоколадом. Эксперимент с золотой фольгой продемонстрировал, что все обстоит иначе, что большую часть атома занимает как раз пустота, а ядро составляет крошечную часть от целого.
Вместо ягоды, обмазанной шоколадом, вообразите оболочку шоколадной конфеты размером с аэростат, внутри которой нет ничего, кроме крохотной вишенки в центре. Подобная картина даст вам представление о сравнительных размерах ядра и атома в целом.
Удивительные результаты Резерфорда показали, насколько важно понимать, как именно происходит рассеяние. Ничего удивительного, что Уилер поставил задачу разобраться с этим перед Фейнманом.
В 1932 году британские исследователи Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон, работавшие под руководством Резерфорда в Кавендишской лаборатории (Кембридж, Англия), построили первый линейный ускоритель, устройство, которое использовало электрическое поле, чтобы разгонять заряженные элементарные частицы, словно метательные снаряды, до желаемого уровня энергии, чтобы потом направить их в желаемую цель. Несколько таких устройств, поставленных в ряд, формировали составной, еще более мощный ускоритель.
Ускоритель использовали, чтобы разрушать атомные ядра и изучать их свойства. Подобная экспериментальная работа опиралась на теоретическую, которой занимались Бор и Уилер.
Другим большим прорывом на экспериментальном поле стал циклотрон американца Эрнеста Лоуренса, построенный примерно в то же время, когда и машина Кокрофта – Уолтона. В нем частицы разгонялись по кругу, причем один и тот же разгоняющий элемент использовался не один раз, а несколько.
Магниты двигали субатомные «снаряды» снова и снова по кольцевой траектории, до тех пор, пока они не набирали достаточное количество энергии. Затем эти «снаряды» швыряли в цель, разбивали на части и собирали ценные данные, анализируя то, что осталось после столкновения.
Циклотроны были более компактными, чем линейные ускорители, и к концу тридцатых они завоевали популярность. Многие университеты высшего класса, включая МТИ и Принстон, обзавелись такими устройствами.
Только появившись в лаборатории Палмера, Фейнман тут же попросил показать ему циклотрон. Сотрудники с физического факультета отправили любопытного магистранта в подвал, он прошел через захламленный склад и очутился возле столь желанной цели.
Фейнман ожидал, что циклотрон Принстона больше и совершеннее, чем сходное устройство в МТИ. Он знал, что тот показал себя более эффективным, если судить по опубликованным результатам. Но, к его удивлению, все обстояло совсем иначе. Местный ускоритель частиц пребывал в полном беспорядке.
Как позже писал сам Ричард:
«Циклотрон стоял посреди комнаты. Всюду были провода, они висели в воздухе, словно протянутые наугад. Были некие водяные устройства, полагаю, что части автоматической системы охлаждения, и маленькие переключатели, чтобы если вода вдруг закончится, процесс не остановился… разное количество труб и капающая вода. Всюду виднелись пятна смазки, там, где пытались ликвидировать течь. Комнату заполняли жестянки с кинопленкой, валявшиеся на столах в беспорядке… Картину я опознал немедленно, поскольку… все выглядело как моя детская лаборатория, где все лежало там, где мне нужно… я любил это. Я знал, что нахожусь в правильном месте… Возиться с чем-то – вот ответ. Эксперименты – это и есть возня. Они… совершенно неэлегантны, и в этом секрет. Так что я полюбил Принстон немедленно»18.
Увидев циклотрон, Фейнман немедленно осознал, почему Джон Слэтер из МТИ посоветовал ему завершить образование в Принстоне. Здешняя лаборатория физики частиц выглядела чистой импровизацией, но именно это и позволяло добиваться выдающихся научных результатов.
С точки зрения Фейнмана, физикой нужно заниматься, используя разносторонние подходы, моделируя различные условия и задавая разные параметры, проводя испытание за испытанием до тех пор, пока эксперимент не принесет удовлетворительный, плодотворный результат. А для этого нужна возможность переконфигурировать оборудование и инструменты. И оказавшись перед лицом громадного и сложного конструктора для продвинутых физиков, он ощутил себя мальчишкой и понял, что попал в правильное место.
Как целеустремленный теоретик – а таким ему предстояло стать под руководством Уилера – Фейнман не ожидал, что циклотрон пригодится ему для накопления данных. Однако этот лабиринт из труб и проводов притянул Ричарда так, словно ему предстояло возиться именно с ним. Подобно наставнику, даже посреди абстрактных размышлений он мечтал иметь дело с реальными вещами, в точности как в детстве.
Однажды, примерно в тот период, когда они дискутировали по поводу принципа Маха, Уилер и Фейнман погрузились в оживленную дискуссию насчет Х-образных разбрызгивателей для поливки газонов, которые вращались во время работы. Очевидно, эти широко распространенные устройства работали на основе третьего закона Ньютона – действие и противодействие. Каждая из четырех направляющих выбрасывала струю воды с достаточной силой, и сама испытывала давление в обратном направлении, именуемое отдачей. Четыре потока воды, изливаясь по часовой стрелке, автоматически производили четверную отдачу, вынуждая разбрызгиватель вращаться против часовой стрелки, чем тот и занимался, выполняя свою работу, точно кружащийся дервиш.
Север, юг, восток и запад, и так пока вся лужайка не будет полита.
Обращение времени стало важной темой в сотрудничестве Уилера и Фейнмана. Процесс, противоположный разбрызгиванию, – всасывание. Предположим, что клапаны разбрызгивателя начнут втягивать воду вместо того, чтобы выливать ее, и это создаст отдачу иного сорта. Хватит ли ее для того, чтобы разбрызгиватель начал вращаться опять? Другими словами, будет ли перевернутая во времени операция разбрызгивания давать перевернутый во времени результат: вращение в обратном направлении? Или не так? Вращение пойдет в том же направлении? Или никакого движения просто не будет?
Двое ученых некоторое время обсуждали проблему, рассматривая разные исходы. Подобно умелому адвокату, Фейнман придумывал веские аргументы для каждой из возможностей, едва не доводя Уилера до бешенства. Тот спрашивал коллег-преподавателей, но их мнения были самыми разными.
Ну да, разгадать загадку, связанную с садовым оборудованием, – это не ракету спроектировать.
Устав от теоретизирования, Фейнман решил внести ясность в проблему, построив собственный маленький разбрызгиватель из стеклянных трубок и резиновых прокладок. Занялся он этим в комнате с циклотроном, где хватало воды, а чтобы создать давление, необходимое для всасывания, он использовал местный запас сжатого воздуха.
Постепенно Ричард повышал давление, но ничего не происходило, и наконец он открыл вентиль на полную. Бум! Аппарат взорвался. Куски стекла и брызги разлетелись по циклотрону, намекая на большую уборку. Начальство физического факультета сделало Фейнману выговор и запретило ему появляться в лаборатории.
Дебаты по поводу задачи с разбрызгивателем затянулись на долгие годы, и шли они в самых разных местах. Учитывая множество практических параметров самого устройства и окружающей среды, таких, например, как турбулентность жидкости, удалось показать, что возможны оба исхода.
Эксперименты во времени
Любопытство Фейнмана никогда не ослабевало и касалось не только физического мира, но и того, как тот связан с реальностью человеческого опыта. При этом он мало ценил спекуляции, основанные на голословных размышлениях, интуиции или чувствах. Все значимое должно быть доступно проверке, считал он, иначе зачем тратить время на бесплодные раздумья?
Смесь антиэлитизма и мачизма, сохранившаяся со времен скромной жизни в университете Массачусетса, могла частично питать его презрение к ненаучной эрудиции. Ричард с ужасом думал, что другие могут увидеть его изнеженным декадентом, маменькиным сынком. И хотя он любил читать, он боялся показаться книжником, гиком от науки, ботаником или «очкариком», как сказали бы тогда.
Отсутствие способностей к спорту, к такому, например, как бейсбол, делало ситуацию только хуже. Конкурсы по математике не могли служить основой для авторитета среди сверстников.
Фейнман испытал большое облегчение, когда завел подружку, Арлайн Гринбаум, приятную в общении, но напористую и целеустремленную художницу из городка Седархерст в штате Нью-Йорк, поскольку тем самым доказал всем, что он настоящий мужик. Она называла его «Рич», в то время как остальные – «Дик», он же именовал ее «Путци». Они поддерживали романтические отношения все время, пока Ричард учился в Массачусетсе.
В Принстоне он взял курс философии – самое близкое к науке в его понимании, что он мог найти для того, чтобы заполнить необходимый для получения диплома гуманитарный раздел – и настаивал, что там ему рассказывают чепуху. Замечания преподавателя Фейнман находил столь же бессмысленными, как шипение статики в радио, и поэтому на долгих тоскливых лекциях он развлекался, используя крохотную ручную дрель, чтобы сверлить дырки в подошве собственных ботинок19.
Однажды соученики сообщили ему, что необходимо написать эссе по одной из тем курса: сознание. Фейнман с трудом извлек из памяти вроде бы пойманный в реке профессорской болтовни термин «поток сознания», и это задело в нем некую струну, напомнило о научно-фантастическом сценарии, о котором как-то говорил отец – об инопланетянах, которые никогда не спят и очень хотят знать, для чего нужно это многочасовое оцепенение.
Так что темой для эссе он выбрал момент, когда сознание угасает в процессе отхода ко сну. Дважды в день, вечером и днем, перед тем как подремать после обеда, он пытался отследить, как меняется состояние его сознания.
И однажды наблюдавший за собой Фейнман сумел заметить нечто интересное. Во время дремотной прелюдии ко сну его сознание словно раздвоилось, из одного потока оно превратилось в два. В первом потоке мыслей он представлял струны, намотанные на цилиндр и пропущенные через некий набор блоков – напоминание об одной задаче по механике, которую он решал для Уилера. Ричард всегда обдумывал проблемы, визуализуя их, так что в этом не было ничего удивительного. Живо воображая каждую деталь, он начал беспокоиться, что струны залипнут и устройство перестанет работать. И в то же время обнаружился второй поток мыслей, где он убеждал себя, что сила трения гарантирует бесперебойную работу механизма.
Любопытно, что в один момент, в двух параллельных ситуациях, он был одновременно сомневающимся студентом и уверенным наставником. И все же обе перспективы неким образом пересекались, точно так же как струны в системе блоков.
Термин «поток сознания» предложил психолог Уильям Джеймс, он описывает иллюзию того, что мысли текут единым потоком. Ирландский писатель Джеймс Джойс и другие знаменитости начала двадцатого века, такие как Т. С. Элиот и Гертруда Стайн адаптировали это понятие, превратив в название литературного стиля. Знаменитые и малопонятные романы Джойса «Улисс» (1922) и «Поминки по Финнегану» (1939) стали буквальным изложением бессвязного громыхания рассудка. Джойс, в свою очередь, оказал влияние на аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса, который в начале сороковых представил на суд публики удивительный набор коротких рассказов (исходно на испанском) о случайности, времени и разуме.
Нельзя сказать, чтобы Фейнман читал все это или тем более был потрясен такой литературой. Нет, его озарения происходили из собственных глубоких размышлений и экспериментов.
После того как Ричард сдал эссе по философии, его растущее понимание собственных шаблонов мышления привело к опытам с тем, что сейчас именуется «осознанными сновидениями»: попытка сохранить осознание и самоконтроль во время сна. Сновидение может выглядеть полностью оторванным от обычного времени, ведь в странной ночной реальности прямая последовательность событий не всегда кажется логичной.
Популярная книга тех лет, «Эксперимент со временем» Дж. В. Данна, описывала нечто вроде путешествия во времени с помощью снов. Собственные изыскания Фейнмана ошеломили его в том смысле, насколько много сновидения могли сказать о том, что он запрашивал.
Мыслительные опыты Ричарда продолжились и в Принстоне, но он повернул их в сторону осознания времени. Он услышал о передовой психологической теории, согласно которой химические процессы в мозгу, включая метаболизм железа, управляют тем, как мы воспринимаем время.
Фейнман думал иначе и решил выяснить, какие факторы влияют на процесс такого восприятия. Он размышлял, может ли это быть неким образом связано с сердечным ритмом? Бегая вверх и вниз по лестницам Градуэйт-колледжа и носясь по его коридорам, он считал про себя секунды. Его соседи по комнате не имели представления, какие идеи вдохновляют эти рывки по зданию.
Бездыханный Ричард не мог объяснить сразу, а потом наступало время идти в столовую. И все равно он смог сказать не так много, поскольку на бегу время воспринималось почти так же, как и в обычном состоянии.
Гипнотизер
Роль Уилера во всех этих делах заключалась в том, чтобы одобрительно хихикать, слушая истории Фейнмана. Несколько раз, тем не менее, вдохновленный магистрант приглашал наставника на забеги в Градуэйт-колледж, и тот мог наблюдать неординарные исследования Ричарда непосредственно.
Однажды в кампус прибыл гипнотизер с целью развлечь магистрантов. Фейнман позвал Уилера с собой на представление в качестве гостя. К большому удивлению Джона, когда гипнотизер вызвал желающих из зала, чуть ли не первым в бой ринулся Ричард.
Вход в лабораторию Палмера (ныне Фрист-центр), обрамленный статуями Бенджамина Франклина и Джозефа Генри, Принстон. Фото Пола Халперна
Несколькими секундами позже он находился в гипнотическом трансе.
Гипнотизер торжественно велел Фейнману пройти в противоположный конец комнаты, взять книгу, положить себе на голову и вернуться. Словно запрограммированный робот, он выполнил все эти команды, так что зрители катались по полу от смеха.
Уилер относился к гипнозу скептически, и он подумал, что транс Фейнмана не более чем актерская игра. Но тот не был склонен изображать из себя что-то, если речь не шла о настоящей театральной постановке. Более того, Ричард утверждал, что в самом деле ощущал потребность повиноваться командам.
Мозг, понял он, может не всегда говорить правду, и в состоянии обмануть собственного хозяина, утверждая, что следование определенным инструкциям является обязательным. С помощью непрерывного самонаблюдения и экспериментов Фейнман выработал в себе психологическую интуицию.
Это спорно, но его исследования в области измененных состояний восприятия могли приготовить его к изысканиям в области квантовой реальности, где смешиваются различные временные линии. Из-за предубеждений и ограничений разума вещи не всегда являются тем, чем они кажутся.
По субботним вечерам в Градуэйт-колледже иногда устраивали танцы, и когда Фейнману везло, то Арлайн делала перерыв, оставляла учебу в художественной школе и работу учителя игры на пианино, чтобы посетить Ричарда на выходных. К этому времени они начали говорить о браке и рассматривали себя как обручившуюся пару.
Ее нежность, полная любви улыбка и непоколебимый оптимизм обеспечивали Фейнману великолепную передышку между расчетами и напряженными занятиями. Арлайн поощряла его артистическую, экспрессивную сторону, не давала Ричарду терять душевное равновесие.
«Не строй свою жизнь по ожиданиям других, – говорила она. – Будь собой!»
Отчасти благодаря ее влиянию позже он всегда имел какое-то творческое хобби вроде рисования или игры на барабанах бонго. Увлекшись искусством барабанщика, он стал пылким исследователем различных музыкальных стилей Африки и Латинской Америки. Арлайн определила личность Фейнмана больше, чем кто-либо иной, за исключением, пожалуй, его родителей.
Приезжая на танцевальные вечера в Принстон, она часто останавливалась на ночь у Уилеров, познакомилась с его женой, Джанет, и их двумя детьми: Летицией, которую в семье звали «Тита», и Джеймсом, сокращаемым до «Джейми». Только что построенный дом на Баттл-роад находился всего в нескольких кварталах от Градуэйт-колледжа.
Джон и Джанет поженились в 1935 году еще в Северной Каролине, Летиция родилась в 1936-м, а Джейми в 1939-м, еще до появления Фейнмана, а вскоре, в 1942 году, появился и третий ребенок, Элисон.
Джанет была очень высокого мнения об Арлайн, она воспринимала ее как независимую, уверенную в себе молодую женщину. Некто столь расчетливый, как Фейнман, нуждался как раз в такой половинке, а растущая привязанность Ричарда и его подруги напоминали Уилерам об их собственных чувствах. Беспокойство вызывал лишь тот факт, насколько много Арлайн работает, и поэтому ее всегда с охотой принимали на Баттл-роад, чтобы дать возможность отдохнуть.
В благодарность Арлайн подарила хозяевам несколько акварелей.
Истории про суп
Даже погруженный в вычисления, Фейнман никогда не хотел тратить все время в одиночном заключении кабинета, библиотеки или лаборатории. Он находил полезным общаться с другими, особенно когда его ментальные инструменты буксовали. Он старался не принимать теоретическую физику настолько всерьез, чтобы остальная жизнь прошла мимо.
Наука должна быть радостным занятием, а не тяжкой работой, а люди важнее уравнений.
Следуя примеру отца, Фейнман ценил широкий взгляд на мир, характерный для детей, и при всяком удобном случае возился с ними, показывая занимательные, озадачивающие аспекты науки. Еще дома, в Квинс, он любил демонстрировать любопытные явления сестре Джоан, на девять лет его младше.
Еще у Ричарда был брат, Генри, но он умер совсем маленьким, четырех недель от роду, в 1924 году, и это стало настоящей трагедией для семьи Фейнманов.
В детстве Джоан ассистировала Ричарду при его экспериментах с электричеством, получая «зарплату» – цент в неделю20. Просьба о стакане воды превращалась в лекцию о круговом движении, когда он крутил стакан перед ее глазами и вода «чудесным образом» не проливалась… до тех пор, пока стакан не падал на пол.
Он демонстрировал сестре зеленые сполохи северного сияния и поощрял ее интерес к астрономии, и в конечном итоге она сделала академическую карьеру в этой области. Когда Фейнман поступил в Принстон, они продолжали писать друг другу о чудесах ночного неба.
Несмотря на растущий интерес Джоан к науке, Ричард никогда не пытался рассказать ей о своей работе с Уилером. Возможно, он полагал, что они занимаются вещами слишком «техническими» и очень далекими от астрономии. Точно так же он никогда не представил сестру наставнику, даже когда она стала старше.
Как вспоминала сама Джоан: «У меня не было никаких контактов с Уилером, и Фейнман не обсуждал со мной их работу»21.
Он же часто посещал дом на Баттл-роад и подружился с детьми Уилера. Ричард получал большое удовольствие, развлекая их своими научными фокусами. Позже эти трюки стали частью выработанного им образа «волшебника от науки», удивлявшего окружающих и заставлявшего их напрягать мозги в поисках объяснений.
Летиция и Джейми помнили, как Фейнман пришел к ним в те времена, когда они были еще очень маленькими, и показал им занимательный эксперимент. Он схватил жестянку с супом прямо со стола, где Джанет готовила обед, и заявил: «У меня для вас задача. У вас две одинаковые банки консервированного супа, но одна заморожена. Вопрос в том, если положить их рядом на наклонную поверхность и отпустить в один момент, какая достигнет низа первой?»22.
Этот научный трюк основан на том, что динамика жидкостей отличается от динамики твердых тел. Твердое вещество, такое как замерзший суп, вращается вместе с банкой, в которой оно находится, и таким образом расходует энергию на вращение, отнимая ее у энергии движения в пространстве. Жидкий суп не вращается вместе с контейнером и имеет возможность тратить большую часть энергии на перемещение с места на место. Это позволяет банке добраться до нижней точки несколько быстрее.
Следовательно, даже не открывая банку и не встряхивая ее, вы можете сказать, жидкое ее содержимое или твердое.
Разобравшись с этой задачей, Фейнман подкинул жестянку супа в воздух, нашел еще одну банку консервов, на этот раз с твердым содержимым, подбросил ее тоже и спросил детей, какая из банок упала быстрее. Базируясь на наблюдениях, они предположили, что та, внутри которой находится жидкость.
Ричард открыл жестянку, налил супа и показал, какими вкусными могут быть размышления по поводу физики.
Вместе с историей, посвященной банке консервов, Летиция вспоминала и другой визит Фейнмана, когда его небрежные манеры вступили в противоречие с более традиционными взглядами Джанет на то, как должен вести себя молодой человек. Супруга Уилера вошла, когда Ричард сидел, развалившись в кресле, и она сочла невежливым то, что он не встал, чтобы поприветствовать ее.
«У меня в памяти сохранился образ Фейнмана, – говорила Летиция. – У меня есть ощущение, что моя мать побеседовала с ним и заявила, что он должен вставать, когда с ним разговаривает женщина»23.
Приглашать в гости магистрантов и молодых ученых было тогда общей практикой для преподавателей, особенно для тех, кто знал о европейской традиции частных резиденций как научных центров. Например, Нильс Бор и его жена Маргарет с удовольствием принимали начинающих исследователей в своем доме в Копенгагене, смешивая интересные дискуссии с легендарным датским радушием.
Сам Уилер бывал у своего наставника, а позже он смог вернуть услугу, когда уже они с супругой несколько раз приглашали к себе Бора. Для детей было волнующим приключением, когда настолько известный физик и его жена приезжали к ним в дом. Летиция прекрасно помнила, как она встречала миссис Бор, и даже у Элисон сохранилось кое-что в памяти.
Она рассказывала: «Нильс Бор сидел в любимом красном кресле моей матери. Говорил очень неразборчиво, и было трудно понять хотя бы слово из того, что он сказал»24.
Цепная реакция
Невзирая на неразборчивую речь, предупреждение Бора оказало нужное воздействие на научное сообщество. Его тихие ремарки на семинаре с участием молодых ученых, в зависимости от их тона, могли поддержать или загнать в тупик карьеру выступающего.
Когда Бор выглядел возбужденным, как в день объявления о немецком открытии ядерного распада, коллеги-физики всегда принимали его слова во внимание.
Уже несколько ученых высказали тревогу по поводу того, что нацистская Германия может получить ядерное оружие, но от властей в ответ не прозвучало ничего, поскольку иногда Вашингтон действует очень медленно. Хотя Ферми контактировал с ВМФ в марте 1939-го, а Эйнштейн впервые написал Рузвельту в августе того же года, президент не увидел в деле никакой срочности.
Побуждаемый Силардом Эйнштейн отправил еще два письма в 1940-м, и правительство США наконец выделило около шести тысяч долларов на исследования в области ядерного распада (около 100 тысяч современных долларов, учитывая инфляцию). Только 6 декабря 1941 года, за день до того, как Япония атаковала Перл-Харбор, и Соединенные Штаты вступили в войну, стартовала по-настоящему, с хорошим финансированием американская атомная программа, позже получившая кодовое название «Проект «Манхэттен».
Статья Бора и Уилера показала: есть два возможных материала, с помощью которых можно запустить цепную реакцию: уран-235 и плутоний-239. Но чтобы получить каждый в достаточном количестве, требовались значительные технологические усилия. Уран-235 составляет крошечную долю в урановой руде, его нужно отделять от намного более распространенного урана-238. Исследования показали, что чисто химические процессы и другие общие методы разделения составляющих в данном случае не работают.
С плутонием-239 проблема состояла в ином: этот полностью искусственный элемент можно было создать только в ядерном реакторе посредством трансмутации урана.
Впереди маячили и другие трудности, такие как определение критической массы материала, необходимой для запуска цепной реакции, подготовка и хранение этого материала и так далее. «Манхэттен» стал в результате несравненным научно-техническим подвигом, в совершении которого приняли участие многие лучшие умы США (а также союзных Канады и Великобритании).
Фейнман и Уилер оказались завербованы, хотя решали разные задачи в разных точках пространства.
Уилер позже думал, что союзникам следовало намного сильнее торопиться с программой изготовления атомной бомбы. Ведь прошло два года между первым письмом Эйнштейна Рузвельту и стартом проекта, и еще четыре года понабилось на то, чтобы бомбы сконструировать, протестировать и сбросить.
В то время как его коллеги сожалели об опустошениях, оставленных ядерным оружием, Уилер представлял альтернативно-исторические сценарии, в которых союзники побеждали нацистов много раньше. Не могло ли ускорение работ и более ранний ввод в действие атомной бомбы, размышлял он, спасти миллионы жизней?
Но пока война была за океаном, и Джон провел 1940-й и 1941-й годы, глубоко погрузившись в совместные с Фейнманом теоретические проекты. В тот момент он рассматривал конфликт как чисто европейскую проблему и предпочитал сражаться на научном поприще на пару с молодым протеже. И куда чаще, чем о ядерном распаде, они размышляли о том, как взаимодействуют частицы на фундаментальном уровне.
Фейнман выбрал Уилера как научного руководителя при написании диссертации, и тот с радостью согласился, таким образом их близкие рабочие отношения приобрели формальный статус. Встречаясь в Файн-холле, лаборатории Палмера или в доме на Баттл-роад, созваниваясь по телефону и находя множество путей воспламенить воображение друг друга, они начали закладывать основание для революционного переворота в физике.
Война казалась эфемерной, а научная истина – вечной.
Глава вторая Единственная частица во Вселенной
Фейнман, я знаю, почему у всех электронов одинаковые заряд и масса… Просто это один и тот же электрон.
Джон А. Уилер. по сообщению Ричарда Ф. ФейнманаЕго блестящий ум рождал семена оригинальных идей, по всей видимости, невозможных идей, и те падали на благородную почву, поскольку я никогда не возражал там, где любой другой немедленно возразил бы.
Ричард Ф. Фейнман. описывая рабочие отношения с Джоном А. УилеромСоленые волны Атлантики снова и снова обрушиваются на Рокэуэй-бич, отбивая непрекращающийся ритм. Прибой и песок колышутся точно так же, как и в те дни, когда Фейнман был ребенком. Сотнями миль севернее, в скалистом Мэне, океан пытается разбить вдребезги Хай-Айленд, остров, где Уилеры один раз были на каникулах. Великие физики приходят и уходят, но приливы и отливы возникают там, где встречаются вода и суша, с незапамятных времен.
Маяки отмечают береговую линию, бросая конусы света в сторону погруженного во мрак океана. Точно так же как перемещение молекул воды заставляет море волноваться, перемещение электронов создает световые волны, и в каждом случае движение частиц генерирует последовательность колебаний, распространяющихся через свою среду.
Но на этом сходство кончается.
Волны на воде – механический феномен, который требует материального носителя, а электромагнитное излучение, в том числе видимый свет, может проходить через пустое пространство так же хорошо, как и сквозь материю. Стандартное объяснение этого феномена: электромагнитные волны формируют дуэт электрического и магнитного полей, колеблющихся перпендикулярно друг другу со скоростью света.
«Поле» – что-то вроде рельефа определенного показателя (например электрической напряженности), позволяющего обрисовать, как изменяется значение этого показателя во время движения через пространство. Это нечто вроде карты с нанесенными на нее данными (например, координатами GPS, плотностью населения, высотой над уровнем моря), которые приписаны каждой точке. Поля, чьи показатели характеризуются только значением, именуются «скалярными», а поля, где каждой точке приписано кроме значения еще и указание, в каком направлении и как меняется избранный показатель, называются «векторными».
Подумайте о карте погоды, чтобы понять разницу между скалярным и векторным полем. В любой момент времени в любой точке существует определенная температура, и следовательно, данные о температуре формируют скалярное поле. Но в каждой точке есть и определенная скорость ветра, но здесь у нас, помимо собственно величины (метры в секунду), есть еще и направление – куда ветер дует, поэтому карта скорости ветра составит векторное поле.
В классической теории электромагнетизма векторные поля переносят и электрическую, и магнитную силу. Эти поля заполняют пространство словно безграничное море энергии, электрические поля представляют величину и направление электрической силы на единицу заряда в каждой точке пространства, магнитные поля характеризуют величину магнитной силы на единицу движущегося заряда в каждой точке (по классике, только движущиеся заряды порождают магнетизм).
Поля не только действуют на заряды, они создаются зарядами: один или несколько электрических зарядов автоматически генерируют электрическое поле. Если этот заряд или набор зарядов движется, то непременно возникнет еще и магнитное поле. Направления электрического и магнитного полей, созданных одним набором зарядов, обычно отличаются на девяносто градусов.
Уравнения, предложенные Джеймсом Клерком Максвеллом, показывают, что движение этих полей распространяется с помощью своеобразного «эффекта домино». Изменение электрического поля естественным образом продуцирует изменение расположенного перпендикулярно магнитного, если изменяется второе, то неизбежно меняется первое, и таким образом своеобразный поезд из вибраций с пыхтением движется через пространство.
Это может происходить в вакууме точно так же, как и в плотной среде.
Чтобы начался этот процесс, требуется всего один получивший ускорение заряд, такой, как электрон, двигающийся вверх-вниз в пределах антенны. Это движение производит электрическое поле, колеблющееся вверх и вниз, и магнитное, движущееся вперед-назад (под прямым углом к электрическому). Колебания и движения провоцируют еще больше колебаний, формируя тем самым электромагнитную волну, ну а та со скоростью света путешествует через вакуум и несколько медленнее через материю.
Если волна врезается в другую антенну, она освобождает любой свободный электрон в ее пределах, давая ему возможность двигаться вверх-вниз. Таким образом шаблон с передающей антенны может быть легко воспроизведен на принимающей антенне. Радиосигналы передаются с помощью такого вот копирования – наборы волн, сгенерированные на радиостанции, могут быть переданы на приемник в автомобиле.
В случае с маяками трансляция – созданная в нитях накала, а не в антеннах – имеет более короткую волну и более высокую энергию, попадая тем самым в видимую часть спектра. Получается луч яркого света, легко заметный для путешествующих ночью моряков, которые весьма благодарны, что существует такое проявление электромагнетизма.
Сегодня концепция электромагнитных волн – несущейся через пространство волновой пульсации – принята практически повсеместно. Идея Максвелла была успешно модифицирована, чтобы соответствовать предсказаниям квантовой теории.
Но в начале сороковых годов, когда Джон Уилер и Ричард Фейнман проводили совместные исследования, было не до конца ясно, как выглядит полная квантовая картина электромагнетизма. Поэтому им было вовсе не обязательно включать идею поля в собственные модели. Наши герои рассматривали альтернативы, возрождавшие старую идею Ньютона о «действии на расстоянии»: отдаленное взаимодействие между частицами.
Квантовый скачок электрона
Уилер и Фейнман хорошо понимали как преимущества, так и недостатки квантовой механики. Они знали, что в определенных областях она обеспечивает прекрасное сочетание теории с результатами измерений, а в других вовсе не оправдывает ожиданий.
Часто в таких случаях возникал ответ в виде бесконечности, как при попытке деления на ноль на современном калькуляторе. Работая вместе, Уилер и Фейнман решили взяться за эти дефекты всерьез, поставить квантовую физику на более прочную основу, и для этого отсортировать имеющиеся в ней ингредиенты, выбрать те, что абсолютно необходимы, и определить, возможно ли модифицировать или даже отбросить другие.
Чтобы понять, на сколь большую смену парадигмы отважились молодые физики, давайте сделаем шаг назад, к началу квантовой механики. Мы рассмотрим и нерелятивистскую (для низких скоростей) и релятивистскую (для скоростей, близких к скорости света) версии. Затем мы увидим, какие квантовые элементы Уилер и Фейнман сохранили, а какие они решили изменить или убрать вовсе в своих попытках реформировать основы физики.
В 1905 году Альберт Эйнштейн предложил теорию фотоэлектрического эффекта, показавшую, что волновая картина электромагнетизма не объясняет все феномены. Переносимый фотонами или «волновыми пакетами» свет одновременно проявляет свойства волны и частицы. Эффект Комптона, где фотоны переносят энергию и импульс (свойства частицы), связанные с их частотой и длиной волны (свойства волны), представлял отличный пример исключения.
Нильс Бор в ранние годы карьеры прославился в первую очередь тем, что создал модель атома наподобие Солнечной системы, где планеты-электроны вращаются вокруг солнца-ядра. Вместо непрерывного набора возможных орбит Бор предложил правила, согласно которым формируется шаблон, набор вероятных траекторий, каждая со своим определенным уровнем энергии.
Модель описывала уровни энергии электрона как нечто вроде стадиона с окружающими его рядами кресел. Точно так же как на концерте билет разрешает вам сидеть только в определенном ряду до тех пор, пока вы не купите новый, электроны должны оставаться на том уровне энергии, где они находятся, пока не получат квантовый «билет», позволяющий им либо приблизиться к ядру, либо удалиться от него.
Чтобы двинуться внутрь системы, они должны испустить фотон, для перемещения к ее наружной границе – поглотить его. Каждый фотон «светится» с частотой, соотносимой с определенной энергией, обмен которой и происходит. Удивительно, но частоты, предсказанные моделью Бора для водорода, полностью совпали с радугой цветов, наблюдаемой в его спектре – триумф теории.
Бор не смог адекватно объяснить причины, по которым электроны прикованы к определенным орбитам, правила формирования этих орбит выглядели произвольно заданными. Луи де Бройль, пытаясь исправить ситуацию, представил концепцию волн материи.
Опираясь на работы Эйнштейна и Бора, он предположил, что электроны и все материальные тела имеют как волновые свойства, так и свойства частиц. Как и фотоны, они колеблются, но привязаны к определенному месту в пространстве и характеризуются длиной волны, связанной с их импульсом. Эта смелая идея немедленно поместила составляющие материи, такие как электроны, и переносчики силы, такие как фотоны, на почти одинаковое основание.
Почти, но с одним важным различием.
Ключевое различие между кирпичиками материи, названными «фермионами» (в честь одного из основателей квантовой статистики Энрико Ферми), и эссенциями силы, получившими имя «бозоны» (в честь индийского физика Сатьендра Бозе, работавшего с Эйнштейном), заключается в том, что у тех и других не одинаков квантовый фактор, именуемый «спином». «Спин»[3] не совсем правильный термин, поскольку в реальности он не имеет ничего общего с настоящим вращением. Более того, он имеет отношение к тому, как частица сочетается с другими из того же типа.
Фермионы решительно асоциальны, у каждого свое собственное квантовое состояние. Австрийский теоретик Вольфганг Паули обосновал это правило, названное «принципом исключения». Бозоны, наоборот, в достаточной степени компанейские, чтобы разделять между собой квантовые состояния.
Если мы представим квантовые состояния как места в микроавтобусе и спросим, сколько частиц может поместиться на заднем сиденье, то ответ для фермионов будет «один», а для бозонов «так много, как им хочется». В отличие от фермионов, два или более бозона могут иметь одинаковое квантовое число (набор параметров, определяющих конкретное квантовое состояние).
Если таксист посадит в машину два фермиона, то лучше бы у него было два свободных сиденья – по одному для каждого. Иначе им понадобятся две разных машины. Бозоны, с другой стороны, любят набиваться в одну и ту же квантовую конфигурацию. Если представить их в виде пассажиров, то с такой готовностью делиться местом они никогда не будут долго ждать попутки.
Предположим, вы пытаетесь заставить два электрона перейти на самый низкий уровень энергии в атоме, иными словами, на ближайшую к ядру орбиту. Поскольку они являются фермионами, они не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии и следовательно, должны отличаться. Один из них занимает положение, описываемое как «спин вверх», другой должен быть в противоположном состоянии – «спин вниз».
Терминология восходит к явлению, именуемому «эффект Зеемана», которое возникает, когда атом помещается в магнитное поле. Электрон «спин вверх» совпадает с направлением поля, а «спин вниз» наоборот, и тем самым их уровни энергии немного отличаются.
Исходно авторы концепции спина, голландские физики Джордж Уленбек и Сэмюэл Гаудсмит взяли этот термин потому, что они думали – электроны на самом деле похожи на заряженные вращающиеся волчки. Их реакция на магнитное поле предположительно исходит от направления вращения: против часовой стрелки, если ось направлена вверх, и по часовой, если вниз. Когда стало ясно, что подобное невозможно – волчки должны были вращаться быстрее скорости света – это ничего не изменило, термин прижился. Так что физики продолжили использовать спин и определять его значение, понимая, что о вращении речь не идет.
В середине двадцатых годов немецкий ученый Вернер Гейзенберг и его австрийский коллега Эрвин Шредингер предложили конкурирующую гипотезу, способную объяснить свойства атома лучше, чем модель Бора. Схема Гейзенберга выглядела более абстрактной, он использовал математические таблицы, именуемые «матрицами», чтобы показать вероятность того, как один уровень энергии меняется на другой. Метод Шредингера, куда более простой для описания, состоял из уравнения, демонстрирующего, как волны материи де Бройля принимают конкретную форму в определенной области с учетом ее энергетического профиля.
Но обе гипотезы хорошо соответствовали экспериментальным данным, и это побудило немца Макса Борна предположить, что можно их объединить.
В комбинированной теории Борна решение волнового уравнения Шредингера предстает в виде волн вероятности, названных «волновыми функциями», а не в виде шариков материи. Волны вероятности очерчивают шансы для частиц находиться в любой заданной позиции, а не определяют конкретные позиции (технически нужно возвести волновую функцию в квадрат, чтобы получить вероятность). Они похожи на кривые в виде колокола, описывающие шансы на то, что при броске костей выпадет некая сумма. Пики и провалы волновой функции показывают, где электроны можно обнаружить с большей или меньшей вероятностью соответственно.
Волновые функции далеки от постоянства, иногда, в зависимости от факторов окружающей среды, они постепенно изменяются. Как пример возьмем электрон, находящийся в медленно изменяющемся магнитном поле – его волновая функция будет трансформироваться столь же неспешно. В других условиях волновые функции резко переходят из одной конфигурации в другую.
Как и в матричной механике Гейзенберга, такие резкие трансформации не являются на сто процентов предсказуемыми, скорее на это всегда есть определенные шансы, как при подкидывании монетки или вращении рулетки.
Уравнение Шредингера, хотя получилось и полезным, и элегантным, не включало несколько важных свойств электронов. Оно не брало в расчет их спин, а также не учитывало эффекты специальной теории относительности Эйнштейна, предложенной в том же 1905-м, волшебном году, когда он создал гипотезу фотоэлектрического эффекта.
В то время как общая теория относительности прилагается к гравитации, специальная теория относительности, ее предшественница, приложима к частицам, движущимся с высокими, но постоянными скоростями. Когда мы занимаемся электронами, игнорируя монументальные открытия Эйнштейна, трудно ждать прорывов.
Относительно говоря
Мотивация Эйнштейна при создании специальной теории относительности происходила от озадачивающего противоречия между классической механикой и теорией электромагнетизма, завязанной на постоянство скорости света. Будучи молодым, австрийский физик поставил мысленный эксперимент, в котором бегун пытается не отстать от световой волны.
Если вдруг бегун достаточно быстр, то классическая механика Ньютона позволяет ему держаться «шаг в шаг» с волной света. Теория электромагнетизма Максвелла, тем не менее, делает это невозможным, поскольку в ней скорость света предстает одинаковой для всех наблюдателей вне зависимости от их собственной, самой невероятной скорости.
Словно преследуя вечно отступающий мираж в пустыне, бегун никогда не сможет сравняться с волной.
Предложенное Эйнштейном решение этой задачи, специальная теория относительности, утверждает, что параметры пространства и времени зависят от относительных скоростей наблюдателей.
Резвый бегун и тот, кто остается на месте, могут по-разному оценить расстояние, пройденное лучом света, и время, которое понадобилось на это путешествие. С точки зрения покоящегося наблюдателя пространство будет сжато, а время растянуто, с точки зрения движущегося – наоборот. Тем не менее, поделив дистанцию на время, чтобы определить скорость света, оба получат одинаковое значение. Следовательно, скорость света, а не показатели линеек и часов, может служить универсальным стандартом.
Вскоре после того, как Эйнштейн предложил свою теорию, математик Герман Минковский нашел, что наиболее элегантно ее можно отобразить, если поместить пространство и время в единую систему координат. Он разработал концепцию пространства-времени, которая подходила и к специальной, и к общей теориям относительности.
С точки зрения Минковского, пространство и время не являются независимыми, это два аспекта единого пространства-времени. Это понятие сводит трехмерное пространство и одномерное время в одну четырехмерную сущность.
Немецкий математик театрально высказал свои гипотезы на научной конференции в 1908 году. Объявив, что «пространство само по себе и время само по себе обречены на то, чтобы уйти со сцены в мир теней»25, он показал, как объединение того и другого в пространство-время позволяет объективно и неизменно описывать вселенную.
Если исходить из революционного взгляда Минковского, то каждое событие имеет четыре координаты, три определяют расположение в пространстве, а четвертая – во времени. Ничто не случается исключительно в пространстве, на любом изменении должен стоять и временной штамп. Дистанции и промежутки времени сами по себе выходят из употребления, уступая место интервалу между явлениями в пространстве-времени.
Кратчайший интервал с нулевым значением именуется «светоподобным» и определяется путем, по которому свет идет от одного события к другому. Это напоминает веревку, которая соединяет два предмета и при этом не провисает.
Например, если мы стоим на вершине Эйфелевой башни и нацеливаем луч света на судно, расположенное на Сене, то этот самый луч соединит два разных с точки зрения пространства-времени явления с максимальной эффективностью. Первое событие будет иметь координаты, определяемые тремя пространственными координатами Эйфелевой башни и моментом передачи. Второе будет иметь немного другие пространственные координаты и чуть-чуть большее значение временной – ровно настолько, чтобы свет дошел. Ничто не может путешествовать быстрее или прямее, чем световой луч.
Отсюда ясно, что светоподобный интервал является золотым стандартом для коммуникации и наилучшей основой для того, чтобы описывать разные эффекты.
Мы точно так же можем направить наш луч в любую другую сторону, взять другое судно, ибо выбор обширен. Поместив его на пространственно-временную диаграмму, где время отложено на одной из осей, а пространственные координаты на других, можно представить громадный набор углов, под которыми свет может исходить из одной точки и распространяться по прямой линии.
Если на диаграмме две пространственных координаты и одна временная, то набор возможностей для светового пути через пространство-время выглядит подобно движению луча по мере вращения маяка, или как раковина, или вроде конуса для мороженого. Поэтому ученые именуют разветвленное множество вариантов «световым конусом». Диаграмма сообщает нам, что все, путешествующее со скоростью света, будет находиться внутри светового конуса. Обычно под первым световым конусом помещают второй, перевернутый, он показывает возможные траектории для прибывающего света. Другими словами, он рисует нам набор лучей, светящих из прошлого.
Вместе два конуса формируют нечто вроде песочных часов, демонстрируют пределы для путешествия света в прошлом и будущем.
Оптика показывает нам, почему свет, путешествуя через вакуум или однородную среду, движется по прямой линии. В соответствии с «принципом наименьшего времени», который ввел в науку математик Пьер де Ферма в середине семнадцатого века, свет всегда выбирает самый быстрый путь через пространство. Поскольку скорость его является константой, то для минимизации времени путешествия он должен выбрать кратчайший маршрут. А как знает любой студент, изучающий геометрию, такой маршрут меж двух точек – прямая линия.
В соответствии со специальной теорией относительности любой объект, обладающий массой, будет двигаться медленнее света. Мы можем наблюдать проявление этого эффекта во время грозы, когда вспышки молнии достигают нас раньше грома. Приходится ждать, чтобы до нас добрался звук, который переносят молекулы воздуха, обладающие массой. Еще большее время проходит, прежде чем мы увидим соседей, удирающих из-под дождя в поисках убежища, но ведь их масса больше, чем у молекул.
Именно поэтому свет, выбирающий самый короткий путь, является идеальным средством коммуникации. Отметим только, что мы имеем в виду свет во всех его проявлениях, включая невидимое излучение вроде радиоволн.
Если поместить обладающие массой объекты на диаграмму пространства-времени, то их траектории окажутся в пределах светового конуса (там, где должно находиться мороженое). Это происходит по той причине, что за заданный временной интервал менее быстрые объекты не могут покрыть такое большое расстояние, как может свет.
Например, пути, пройденные звуковыми волнами, всегда будут внутри конуса.
На самом деле мы сами находимся в числе тех предметов, которые движутся медленнее света. На диаграмме пространства-времени наши жизни выглядят словно причудливо изогнутые куски проволоки, извивающиеся в пространстве по мере того, как течет время. Такие паттерны обычно именуют «мировыми линиями».
По мере того как от рождения мы следуем к детству, через взросление к солидному возрасту и смерти, эти отрезки сплетаются с аналогичными траекториями других людей, создавая сеть сходящихся и расходящихся связей. В момент смерти мировая линия человека заканчивается, но жизненные линии составляющих его молекул не прерываются. На субатомном уровне, как в случае с протонами (положительно заряженными ядрами или просто атомами водорода), такая линия может протянуться на миллиарды лет.
Вообразим разумное существо, чьи способности намного превосходят наши, получившее доступ к полной пространственно-временной диаграмме вселенной. Мировые линии всего, что когда-либо существовало или будет существовать – прошлое, настоящее и будущее – будут заключены в нечто вроде космического «хрустального шара».
С точки зрения существа время будет выглядеть столь же неподвижным, как кусок льда.
Ничего и никогда нельзя изменить, поскольку изменение было бы видимо. Подобный безвременный взгляд на сущее часто именуют «блочной вселенной».
Эйнштейн пришел именно к подобным философским воззрениям на наш мир. Однажды он написал: «Для нас, верующих физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим имеет только значение упрямой иллюзии»26.
Чтобы физическая гипотеза соответствовала специальной теории относительности, нужно заменить пространство и время как независимые понятия на единое пространство-время. Рассмотрим, для примера, уравнение Шредингера. Оно показывает, как ведет себя волновая функция в пространстве и изменяется во времени и, следовательно, не согласовывается со специальной теорией относительности.
Чужак, живущий в блочной вселенной, которому недоступно восприятие изменений во времени, не поймет, что означает это уравнение.
Шредингер пытался, но не преуспел в попытках создать релятивистское уравнение, способное предсказать поведение электрона. Ему понадобилась помощь английского коллеги, с которым они все же добились успеха, а потом разделили Нобелевскую премию.
Море из дыр
Родившийся в Бристоле физик Поль Дирак славился выдающейся необщительностью. Если ему задавали сложный вопрос, не важно, насколько хитрый, он чаще всего отвечал просто «да» или «нет». Множество историй рассказывали о том, насколько он экономен в словах и неловок в общении.
В одной известной байке действует его жена (сестра Юджина Вигнера). Представляя ее в обществе, Дирак однажды сказал просто «сестра Вигнера», словно знал ее только в этом качестве.
Но, к счастью, в работе с уравнениями краткость и простота – большие достоинства. В конце двадцатых годов Дирак составил новый точный лексикон для квантовой механики, его четко очерченные определения для квантовых состояний и переходов используются до сих пор.
Наряду с систематизацией нерелятивистской квантовой механики он попробовал описать ее релятивистскую версию, и в эту концепцию включил понятие «спин электрона». К 1928 году, всего через несколько лет после того, как появился стандарт квантовой физики и само определение спина, он достиг цели.
На бумаге уравнение Дирака, как стали называть релятивистское описание электронов, выглядит очень коротким, но из него выводится колоссальное количество импликаций. Оно описывает электроны в терминах специальной волновой функции, именуемой «спинором», которая трансформируется в соответствии с определенными математическими правилами. Уравнение сочетает не только пространство и время, но также энергию и импульс в соответствии со специальной теорией относительности.
Таким образом спинор не столько на самом деле изменяется со временем, сколько присутствует в безвременной блочной вселенной.
Как заметил Дирак, из решения уравнения следует наличие для отрицательно заряженных частиц двойников с положительным зарядом и точно такой же массой. Именно он предсказал существование объектов вроде электронов, но с положительным зарядом.
Протоны тут не подходили, их масса намного больше.
Вынужденный объяснить подобные дополнительные решения, Дирак измыслил новаторскую «морскую» гипотезу, описывающую дыры в бесконечном море энергии. Вселенная, заключил он, полна текучей энергии (резервуар заполненных электронных состояний), из которой время от времени появляются электроны. Когда бы они ни выпрыгивали из этого океана, они оставляют позади дырку с той же самой массой и противоположным зарядом – нечто вроде пузырей, какие возникают при всплытии субмарины.
Следовательно, электроны тесно связаны с дырами.
В 1932 году физик-экспериментатор Карл Андерсон нашел доказательства, подтверждающие гипотезу Дирака, в следах космических лучей, поливающих Землю. Изучая следы частиц в устройстве, именуемом диффузионной камерой, он открыл новое субатомное тело с массой, равной массе электрона, с тем же значением заряда, только положительного, а не отрицательного. Положительные и отрицательные частицы вращались в разных направлениях в присутствии магнита, и именно по этому признаку он увидел разницу.
«Позитрон», как назвал открытие Андерсон, полностью соответствовал теории Дирака. Так что научное сообщество очень быстро приняло идею античастиц – двойников обычных частиц, обладающих противоположным зарядом. Многочисленные эксперименты подтвердили, что позитроны столь же реальны, как и электроны, хотя встречаются намного реже.
Концепция «дыр» была тем временем отставлена в сторону, поскольку оказалась излишней.
Очень редко случается, что теоретическая гипотеза так быстро находит практическое подтверждение. Обнаружение позитронов открыло ворота в обширный паноптикум античастиц, среди которых нашлись отрицательно заряженные антипротоны. Сегодня ученые считают, что частицы материи и антиматерии имелись в равном количестве на ранней стадии существования вселенной, но определенные асимметричные взаимодействия привели к сегодняшнему дисбалансу.
Теории Дирака принесли ему всеобщее признание и широко распространившуюся репутацию гениального математика. Студенты-физики тридцатых годов знали его хорошо, поскольку использовали его учебник «Принципы квантовой механики», раскрывавший научный подход британского ученого во всей полноте.
Эта книга выгодно отличалась от других трактатов того времени, показывая квантовую механику как логическую, высокопредсказуемую область знаний, в которой содержатся многочисленные бреши, включая расчеты, что заканчивались невозможными бесконечными значениями. Учебник побуждал молодых физиков искать пути для того, чтобы закрыть подобные провалы.
В поиске места для маневра
В МТИ Фейнман с жадностью прочитал учебник Дирака и принял вызов англичанина. Особенно интересными ему показались загадки последней главы «Квантовая электродинамика». Дирак методично вывел в ней выражения того, как релятивистская квантовая механика прилагается к электромагнитным взаимодействиям между электронами.
Уравнения выглядели безупречно, вот только результат казался невозможным.
Рассчитывая суммарную энергию, Дирак нашел, что ему требуется добавить бесконечное количество математических членов. Это не обязательно ловушка, иногда даже бесконечная сумма сводится к конечному значению, но тут все выглядело наоборот. Все расходилось до бесконечности – словно один плюс два плюс три и т. д., пытаясь добраться до конца. Только произвольно ограничив сумму, можно было получить реалистичный, конечный ответ.
И блестящий физик не смог найти выхода из этого затруднения.
Фейнман тщательно проверил расчеты Дирака, пытаясь найти лучший метод. Как указал британец, если два электрона взаимодействуют со световой скоростью, то сигнал между ними должен следовать вдоль одной из линий светового конуса. Хотя такая причинно-следственная связь реализуется вперед во времени, с точки зрения математики с таким же успехом можно рассматривать обратные во времени сигналы. На том языке, на котором говорили ученые во времена Фейнмана, направленный в будущее сигнал называли «запаздывающим», а направленный в прошлое – «опережающим».
Поскольку электромагнитные волны путешествуют со скоростью света, световой конус выходит из электрона, определяя набор прочих электронов, которые в разное время могут взаимодействовать с этим первым электроном. Они все как бы находятся на его «радаре». С другой стороны, если один электрон в какой-то момент времени не является частью светового конуса другого электрона, то они не на «радарах» друг у друга и не могут взаимодействовать.
Вообразите два взаимодействующих электрона как пару высоких кресел-качалок, соединенных бельевой веревкой, которая символизирует линию светового конуса. Поскольку световой конус – чисто математическое понятие, представляющее временные задержки и пространственные дистанции, связанные со скоростью света, мы используем нечто более осязаемое, чтобы изобразить его.
Веревка просто показывает, как связаны причина и следствие.
Покачаем одно кресло вперед-назад, и сигнал посредством веревки на мгновение позже достигнет другого кресла, заставив его тоже качнуться. Рассматривая электроны, стоит учитывать, что в их случае сигнал передается со скоростью света.
И хотя теория электромагнетизма Максвелла ни в чем не ошибается, нашей аналогии недостает важного ингредиента: электромагнитных волн, или, говоря на квантовом языке, фотонов. Нить светового конуса символизирует задержку, но она автоматически не включает электромагнитную трансляцию, которая следует по линии сигнала. Логика говорит нам, что если два события разделены таким образом, что электромагнитные волны могут путешествовать между ними, это вовсе не означает, что волны будут это делать.
И тем не менее, следуя стандартным предписаниям Максвелла – принятым как тогда, так и сейчас подавляющим большинством физиков, – Дирак включил в схему электромагнитные волны как средство взаимодействия электронов. Как еще могут они «говорить» друг с другом, как один «сообщает» другому, что делать?
Дирак охарактеризовал волны – пульсирующие электромагнитные поля – как набор синусоидальных колебаний, в сущности струн, различных частот (скорость вибрации). Почему струны? Как простейшее отображение чего-либо колеблющегося их легко представить. Квантовая механика предсказывает, что их энергия пропорциональна частоте.
К собственному разочарованию, Дирак нашел бесконечное количество возможных типов колебаний (технически именуемых «степенями свободы»), что вело к расходящейся сумме для энергетических вкладов. Следовательно, рассчитанная суммарная энергия выходила бесконечной, что невозможно с физической точки зрения.
Получить реалистичный ответ Дирак мог, лишь произвольно ограничив сумму.
В нашей веревочной аналогии не очень удобно использовать струны, поэтому давайте вообразим набор простыней, хлопающих в разных ритмах. Мы вешаем простыни по одной, и каждая вибрирует особенным образом. Вскоре мы обнаруживаем, что у нас есть безмерное число возможностей, веревка выдержит очень много простыней. Однако мы хотим постичь явление целиком, изучить все виды колебаний, и мы торопливо добавляем новые и новые простыни, пока не падаем от усталости.
Веревка покрывается все более и более толстым слоем ткани, и процесс не останавливается!
Прочтя выкладки Дирака, Фейнман начал думать, что нити светового конуса будет достаточно самой по себе. Что если нет никаких электромагнитных волн, просто прямая причинная связь между двумя электронами?
Результатом будет отсроченное действие на расстоянии.
Классическое действие на расстоянии Ньютона не имело временной задержки, а новые теории, такие как общая теория относительности, позволили включить этот параметр в рассмотрение. Тогда электроны будут взаимодействовать на расстоянии с временной задержкой, определяемой световым конусом. Это обеспечило бы соответствие между причиной и следствием, чтобы они передавались с правильной скоростью – скоростью света – даже если в самом деле между электронами ничего не перемещалось.
Оставив в стороне поля, отважно думал Фейнман, может быть, удастся выйти из ловушки бесконечного суммирования, а прямое взаимодействие между электронами сведется к сигналу. Просто потрясите один электрон, и другой затрясется в свой срок, подобно креслам-качалкам, соединенным бельевой веревкой безо всякой ноши из простыней.
Попытка оживить действие на расстоянии – после Максвелла, Эйнштейна и других, доказавших, что оно невозможно – может выглядеть безрассудством. Попытка избавиться от посредника, а именно, полей, который переносит силу из одного места в другое, может выглядеть нелогичной. Но это было время невероятной революции в науке. Громадное количество аспектов субатомной физики казались странными поначалу, например, электроны, внезапно перепрыгивающие с одного атомного уровня на другой.
Фейнман все равно верил, что действие на расстоянии с введением временной задержки стоит того, чтобы его рассматривать – особенно учитывая альтернативу, где приходится возиться с бесконечными величинами. Может быть, в квантовом мире – для крошечных дистанций, недоступных наблюдению – законы Максвелла требуют поправки. Веря только тому, что он мог доказать сам, Фейнман обладал достаточно открытым умом, чтобы проверять самые радикальные гипотезы и отставить в сторону классическую теорию электромагнетизма.
Другой хорошо известный факт из области электродинамики тоже подвигнул Ричарда на то, чтобы забыть про поля. В расчетах, включающих либо классическую, либо квантовую электродинамику (как было известно в то время), электрон, по всей видимости, имел бесконечную собственную энергию. Собственная энергия – это объем энергии, необходимый, чтобы создать частицу или ее конфигурацию с нуля, что-то вроде перечня ресурсов, требующихся для постройки здания, включая материалы и труд.
По стандартному определению, собственная энергия включала энергию покоя частицы (связанную с ее массой посредством знаменитой формулы Эйнштейна), а также энергию ее взаимодействия с собственным электромагнитным полем. Для частицы конечного размера расчет этой величины возможен, поскольку сила поля уменьшается по мере увеличения расстояния от его центра. Можно определить, сколько энергии нужно, чтобы возник шарик с определенным зарядом, учитывая силы, производимые этим шариком самим по себе посредством полей, которые он создает.
Тем не менее если принять, что электрон обладает параметрами точки, то есть он бесконечно мал, его поле в этой самой точке должно быть бесконечно сильным. Следовательно, сила взаимодействия между электроном и его собственным полем будет тоже бесконечно большой.
Выходит, что расчет собственной энергии электрона приносит нам бесконечную величину и это откровенно нереальный физический результат.
Простое средство справиться с этим, по мнению Фейнмана, состояло в том, чтобы запретить электрону взаимодействовать с его собственными полями. Поля надо убрать. Электроны будут взаимодействовать друг с другом и никоим образом сами с собой. Отсюда величина их собственной энергии легко определима, исходя из их массы, с помощью того же уравнения Эйнштейна.
Она будет конечной и осмысленной.
Лицом к лицу с сопротивлением
Когда Фейнман уже работал вместе с Уилером в Принстоне, он открыл главную проблему, возникающую при попытке убрать поля из рассмотрения при построении гипотезы действия на расстоянии. Хорошо известный феномен, именуемый радиационным сопротивлением, демонстрировал, что электроны и другие заряженные частицы куда сложнее ускорить, чем лишенные заряда.
Ускорить протон, например, намного тяжелее, чем нейтрон, хотя их массы сравнимы.
Логическое объяснение состояло в том, что заряженные частицы генерируют излучение в форме электромагнитного поля, которое влияет на них самих и замедляет их движение. Если вспомнить нашу аналогию с креслами и веревкой, это были бы простыни, повешенные на кресло и замедляющие его качание. Нейтральные объекты не обременены таким «довеском» и поэтому сравнительно более мобильны.
Но опять же, нужны ли поля и взаимодействие между ними, думал Фейнман, чтобы описать процесс радиационного сопротивления? Или может быть совсем иной способ?
Когда в их совместной с Уилером работе в области рассеяния наступила пауза, Ричард решил взяться за мучающее его затруднение и в конечном итоге отыскать ответ. Результатом стало вполне удобоваримое объяснение: предположим, что радиационное сопротивление было прямым воздействием на электрон со стороны всех других заряженных частиц в пространстве, а вовсе не электромагнитного поля.
Потряси электрон, и все другие заряженные частицы прореагируют, отправляя сигналы обратно к источнику, и они неким образом доберутся до него безо всякого поля. Комплекс реакций со стороны других заряженных частиц произведет воздействие на исходный электрон, и именно оно помешает тому ускоряться.
Оживляя нашу аналогию, мы должны прикрепить кресло к бесконечному числу других множеством веревок. Покачав его, мы вынудим качаться и все остальные, а затем их движение передастся по веревкам обратно и станет тормозить колебания первого.
И никаких висящих на спинке простыней, чтобы объяснить эффект!
Выслушав ученика с большим вниманием, Уилер немедленно указал на несколько слабых мест.
Если радиационное сопротивление зависит от того, как другие заряженные частицы влияют на электрон, то будут иметь значение их свойства – масса, заряд, расстояние до исходного электрона. Следовательно, теоретически каждый электрон должен характеризоваться уникальным радиационным сопротивлением, определяемым его окружающей средой, а этого не наблюдается. Более того, радиационное сопротивление каждого электрона, если оценивать по его движению, выглядит тем же самым.
Кроме того, сигналам понадобится время, чтобы добраться от электрона к другим заряженным частицам, а затем вернуться. Но эксперименты показали, что радиационное сопротивление возникает мгновенно, без какой-либо задержки.
Наконец, если суммировать реакции на все другие заряды во вселенной, то с этим можно возиться до бесконечности. Одна невозможная ситуация заменится другой. Стоит ли огород городить?
Фейнман был ошеломлен тем, насколько быстро Уилер обнаружил ключевые недостатки модели – все выглядело так, словно Джон потратил бесконечное количество часов, тестируя гипотезу, проверяя ее как новую машину на предмет недоработок и недостатков. Но ведь Фейнман только что представил ее… и оказался полным идиотом! По крайней мере, так он почувствовал себя.
На самом деле Уилер много лет размышлял над тем, как заменить полевой подход к электромагнетизму на более прямую концепцию действия на расстоянии. Чтобы упростить физическое описание процесса, он решил оживить оригинальную идею Ньютона о силе как «невидимой нити», соединяющей объекты через огромные расстояния. Майкл Фарадей и Джеймс Максвелл развили идею физического поля, чтобы сделать электромагнетизм локальным и осязаемым, но, возможно, на квантовом уровне их идеи просто не работали.
Действие на расстоянии, думал Уилер, упростило бы физику частиц, сделав электроны исключительными хозяевами своей судьбы. Они бы сами управляли собственными взаимодействиями безо всяких посредников. Он долго мусолил идею «всего как электронов», включая в рассмотрение не только электромагнетизм, но и другие частицы и силы.
Если ее воплотить, то во вселенной воцарились бы единство и простота.
Частью желание исследователей возродить идею действия на расстоянии в приложении к квантовой электродинамике происходило из растущего понимания того, что многие квантовые феномены проявляют свои эффекты дистанционно. Такое отдаленное взаимовлияние, названное «квантовой запутанностью», возникает, когда две частицы с комплементарным значением квантового числа (параметр, определяющий конкретное квантовое состояние), таким как спин, связаны в одной и той же системе, и не важно, насколько они удалены физически.
Возьмем, для примера, пару электронов, находящихся на низшем уровне энергии в атоме водорода. Принцип исключения Паули объявляет, что они не могут иметь одно и то же квантовое число, следовательно, они должны иметь разное значение спина: если один спином вверх, то другой спином вниз.
Но до тех пор, пока ученые не измерят состояния спина, неизвестно, какой электрон обладает каким спином. Следовательно, до момента измерения каждый электрон находится в суперпозиции (смесь квантовых состояний) из двух возможных значений спина.
Теперь вообразите, что ученые сумели развести эту пару электронов, и только потом стали делать замеры. Первый отправили на Луну, а второй остался на Земле. Невзирая на огромное расстояние, если космонавт определит значение спина как «вверх», то другой электрон непременно окажется со спином «вниз», и наоборот: некий вид квантовых качелей.
Эйнштейн, например, верил, что такого рода мгновенная координация невозможна, поскольку сохранял приверженность принципу физической коммуникации и называл ее «сверхъестественное дальнодействие». Как может один электрон заранее знать, что покажет эксперимент относительно другого?
Статья 1935 года, написанная австрийским физиком в соавторстве с Борисом Подольским и Натаном Розеном (на самом деле материал подготовил большей частью Подольский) описывала «ЭПР-парадокс» (Эйнштейна – Подольского – Розена) и подчеркивала противоречия, возникающие в процессе запутанности, такие как умение частиц предсказывать, какие из их параметров будут измерены.
Квантовые физики по большей части проигнорировали критику Эйнштейна. Например Бор – «философский король» научного сообщества, если его можно так назвать – признавал, что поля объемлют противоположные аспекты, такие как свойства волны и частицы одновременно. Он называл единство противоположностей «дополнительностью», и в качестве эмблемы использовал знаменитый даосский символ инь-ян, свитые в единстве капли черного и белого цветов.
С философской точки зрения Уилер начал карьеру как сторонник Бора, принимая квантовую неопределенность и дополнительность как факт. Но затем он познакомился с Эйнштейном и тоже начал ценить его размышления.
Эйнштейн жил в нескольких кварталах от Уилера, и Джон часто видел, как пожилой ученый прогуливается по улице в компании ассистентов, Питера Бергмана и Валентина Баргмана. Они трое пытались создать унифицированную теорию природных сил, которая, по их мнению, смогла бы отправить нелокальные, вероятностные аспекты квантовой физики в мусорный ящик, заменив их на локальное, детерминистическое приложение общей теории относительности.
Соглашаясь с Бором в том, что подобные усилия бесплодны, Уилер, тем не менее, восхищался независимостью мысли Эйнштейна. Он надеялся, что прогресс в теоретической физике в конце концов позволит снять противоречия между гипотезами австрийца и датчанина.
В отличие от Эйнштейна, Уилер не воспринимал действие на расстоянии как табу. Более того, с его точки зрения, запутанность ясно показывала, что квантовая физика является нелокальной. Признавая дистантную координацию электронов по состоянию спина, Джон хотел описать их электромагнитные взаимодействия на той же нелокальной основе.
Потряси один электрон, и другой тоже задвигается, словно они висят на единой нити. Ключевое отличие лишь в том, что в случае электромагнетизма должна быть временная задержка. Специальная теория относительности предписывала, что сигнал по нити не может двигаться быстрее света.
Зигзаги через время
Как только Уилер взялся за проблему радиационного сопротивления для электронов, он и Фейнман объединили усилия, чтобы попытаться смоделировать эффект без участия электромагнитных полей. Им требовалось найти объяснение тому, что любой электрон, ускоряемый с определенным усилием, испытывает то же самое сопротивление вне зависимости от расположения всех других зарядов во вселенной.
Это словно тормоза машины, срабатывающие одинаково во всех ситуациях, вне зависимости от условий на дороге и действий других автомобилей.
Пытаясь создать более реалистичную гипотезу, Уилер представил, что произойдет, если электрон, ускоряясь, встретит сопротивление, определяемое соседними частицами. Ускоряющийся электрон первым делом отправит в стороны некий сигнал, затем, словно зеркало, нечто в окружающей среде отразит этот сигнал, и отражение и будет препятствием для движения.
Поскольку эффект возникает мгновенно, не может быть временной задержки между отправкой первого сигнала и получением второго, второй должен прибыть в точности в то мгновение, когда отправляется первый. И это может происходить только в том случае, если второй сигнал совершит обратное путешествие во времени.
Уилер знал, что уравнения Максвелла полностью симметричны во времени.
Любое решение описывает не только волну, двигающуюся в будущее, но одновременно и другую, катящуюся в прошлое. Последнее, именуемое «опережающим решением», традиционно игнорируется, поскольку все знают, что часы идут вперед, а не назад.
Тем не менее наш герой обладал на редкость открытым умом и хотел узнать, что случится, если включить в рассмотрение опережающее решение. В то мгновение, когда электрон посылает сигнал посреднику (окружающей среде, по сути, суммарному эффекту всех частиц вселенной), анонсируя свое присутствие, посредник отправляет назад сигнал, прибывающий точно в тот момент, когда отправляется первый.
По техническим причинам посредник должен быть идеальным поглотителем, принимающим каждый сигнал. Следовательно, в обращенном назад во времени решении он будет действовать как идеальный излучатель, отправляя обратно чистый сигнал, не замутненный какими-либо материальными эффектами посредника. Результатом станет мгновенное замедление пытающегося ускориться электрона независимо от свойств иных частиц.
Оживляя аналогию с веревкой – мы словно привязываем один ее конец к креслу-качалке, а другой – к стене (она представляет посредника). Покачаем кресло, и вибрация побежит по веревке, добравшись до стены, она отразится и вернется к креслу, препятствуя его колебаниям. Теперь вообразим, что неким образом стена посылает отраженный сигнал обратно во времени, чтобы тот повлиял на кресло в тот момент, когда оно начинает качаться.
Так мы получим странный эффект опережающего сигнала.
Предположения Уилера заинтриговали Фейнмана, и он немедленно принялся выражать их математически, пробуя разные комбинации исходящих и входящих пульсаций, чтобы получить суммарный эффект, способный объяснить радиационное сопротивление. Вскоре он нашел правильную пропорцию: смесь пятьдесят на пятьдесят из сигналов, идущих вперед и назад во времени, полностью симметричную относительно настоящего.
Он смог описать радиационное сопротивление, не используя электромагнитные поля, и тем самым избежал проблемы расходящейся энергии, причинившей столько неудобств Дираку и остальным. С изгнанными фотонами свет стал прямым взаимодействием между электронами, ясно и просто.
Гипотеза стала известной как «теория поглощения Уилера – Фейнмана».
Экзамен
Получив расчеты Фейнмана, Уилер понял, что они достигли цели, и, учитывая революционный потенциал нового подхода, он сообщил ученику, что настало время оповестить коллег. Оба знали, что проект пока не завершен, они использовали классические, а не квантовые методы. Полное сосредоточение на проблеме собственной энергии электрона и других важных провалах в теории потребовало бы цельной квантовой электродинамики, которая еще не была полностью создана в то время.
Как и в случае с классической физикой, предварительные попытки квантовать (описать в квантовой форме) электродинамику закончились появлением математически непривлекательных бесконечных значений для собственной энергии и других параметров.
Квантовая теория означала бы замещение точных детерминистических механизмов классической теории на вероятностные описания, базирующиеся на математических функциях, именуемых «операторами». Необходимо было учесть некоторую расплывчатость и неопределенность, чтобы отразить непрозрачность реальности на квантовом, субатомном уровне.
С наивным оптимизмом Уилер сказал, что он быстро управится с квантовой частью, в то время как Фейнман подготовит классическое описание. Он убедил Ричарда, что позже, когда экспериментальная фаза будет завершена, он представит отдельную лекцию по квантовым аспектам.
Фейнман, понятно, нервничал перед первой в жизни чисто научной лекцией, наставник успокаивал его и говорил, что она даст ему ценный опыт выступлений. Как только Ричард согласился, Уилер обратился к Вигнеру, координировавшему серию докладов, и попросил внести его ученика в расписание.
За несколько дней до назначенной даты Фейнман шел по коридору Файн-холла и наткнулся на Вигнера. Похвалив труды молодого коллеги, последний упомянул, что на лекцию приглашены несколько профессоров: Джон фон Нейман, которого многие считали гением, один из лучших мировых специалистов по теории квантовых измерений; известный астроном Генри Норрис Рассел, прославившийся схемой классификации звезд; Паули, покинувший Цюрих и посетивший институт перспективных исследований; и наконец сам Эйнштейн, почти никогда не приходивший на выступления, организованные факультетом физики, заинтересовался темой и обещал непременно быть.
Услышав о том, что все эти титаны мысли явятся послушать его гипотезы, Фейнман превратился в настоящий комок нервов, нечто вроде ходячего циклотрона из плоти и крови.
Уилер снова успокоил ученика – если какие-то вопросы покажутся слишком сложными, то он придет на помощь. Ричард немного остыл и продолжил готовить речь.
Перед самым началом выступления он принялся рисовать на доске уравнения, но тут седовласый шестидесятилетний мужчина с грубым южно-германским акцентом прервал Фейнмана. «Привет, я пришел на вашу лекцию. Но, во-первых, где же чай?»27 – поинтересовался Эйнштейн.
Указав на стол с напитками, Фейнман облегченно вздохнул – на первый вопрос величайшего физика современности он ответил. Лекция стартовала, и все получилось не так плохо; погрузившись в выкладки, выступающий забыл о том, какая именно аудитория ему внимает.
Ричард впал в некое подобие расслабляющего транса, как во время давнего сеанса гипноза.
Только резкий выпад Паули по поводу математических ограничений теории – которая, по его мнению, не выглядела многообещающей – вернул Фейнмана к реальности. Венский физик славился прямотой и склонностью к откровенной критике, у него был дьявольский талант находить изъяны в любых теоретических построениях и рассказывать о них в холодной, нелюбезной манере.
В этот раз Паули обнаружил, что модель просто кишит математическими «жучками». Она не выглядела цельной и, соответственно, не могла стать солидной базой для квантовой теории.
Так что его замечания свелись к тому, что «это не работает».
Позже Паули в приватной обстановке сказал Фейнману, что желание Уилера квантовать теорию лишь пустая мечта. Он осудил Уилера за то, что тот не был честен со своим магистрантом по поводу математических сложностей квантования. Паули предсказал, что никакой лекции-сиквела по квантовым аспектам не будет.
Реакция Эйнштейна, напротив, была совершенно иной, дружелюбной, но нейтральной. К этому моменту он был настолько сосредоточен на создании универсальной теории поля и так далек от квантовой физики, что не мог ничего добавить. Он просто обратил внимание на тот факт, что будет сложно соединить теорию поглощения Уилера – Фейнмана с общей теорией относительности. Чтобы сделать подобное, нужно будет интегрировать ее в объединенную теорию электромагнетизма и гравитации. Тем не менее в отличие от Паули он не был склонен отвергать идею в целом, и думал, что в ней есть рациональное зерно.
Еще кое-что Эйнштейн сказал, когда вскоре после лекции Уилер привел ученика в гости к австрийскому светилу.
В 1936 году тот овдовел, жил с сестрой, приемной дочерью и секретарем, каждый из них был обучен не отнимать у него время. Хотя Эйнштейн любил много часов проводить в одиночестве, погружаясь в собственные мысли, он получал удовольствие и от дискуссий в области философии физики, особенно со столь молодыми людьми, как Уилер и Фейнман, ведь они вполне могли воспринять его неортодоксальные идеи.
Уилер прямо спросил Эйнштейна, имеет ли смысл понятие сигнала, идущего против хода времени. Тот отнесся к гипотезе с симпатией и, сославшись на статью, которую написал в соавторстве с Вальтером Ритцем, выразился в том смысле, что фундаментальные законы физики должны одинаково распространяться и в будущее, и в прошлое.
Ободренный такой поддержкой со стороны Эйнштейна, Уилер решил игнорировать замечания Паули. Он продолжил размышлять над тем, как квантовать теорию. Двигаясь вперед по этому пути, он, однако, встречал все больше ям и рытвин и вскоре понял, что застрял.
Хуже всего выглядело то, что к этому моменту Уилер отправил извещение в оргкомитет ежегодной встречи Американского физического общества о том, что он готов выступить на тему квантовой теории действия на расстоянии. У него не было ни малейшего представления, о чем говорить, но он подумал, что по меньшей мере сможет сделать предварительный доклад о ходе работ. Джон пригласил Фейнмана, и тот с радостью согласился, поскольку хотел услышать, как наставник решит (или по меньшей мере попытается решить) проблему.
Выступление началось, Ричард ждал и ждал, Уилер рисовал детали классической теории, не упоминая о квантовой, а затем и вовсе резко переключился на совершенно другую тему. Фейнман вскочил, поднял руку и прервал наставника. «Доклад не имеет ничего общего с заявленной темой! – пожаловался он. – Мы не услышали пока ничего о квантовой теории!»
Фейнман не хотел быть грубым, он просто чувствовал, что честность в науке – единственный путь для достижения успеха. Даже расхождение в интерпретации заголовка может привести к неправильному пониманию того, что уже известно. Уилер согласился с такой оценкой, и когда они покинули встречу, признался ученику, что доклад был большой ошибкой, что у него пока нет решения проблемы и не стоило представлять дело так, будто решение есть.
Как обычно, Паули оказался раздражающе прав.
Уилер осознал, что он снова должен положиться на острый как бритва ум Фейнмана, чтобы убрать математические рытвины, чтобы проект снова двинулся вперед. Но в тот момент он был слишком озадачен, чтобы высказаться настолько определенно. Поэтому, не говоря Ричарду прямо, что сам он не видит, куда им двигаться, он наблюдал, как его магистрант работал самостоятельно и добивался результатов.
Блестящие математические способности Фейнмана идеально дополняли философские догадки Уилера, которым в ином случае светила судьба так и остаться пустыми мечтаниями. Джон был кем-то вроде Леонардо да Винчи, бесконечно производившим разные концепции (и делавшим наброски), а Ричарда можно сравнить с Микеланджело, который прославился практическими достижениями.
Уилер тихо и незаметно помогал величайшему скульптору от наук оттачивать свое мастерство.
Взаимодействие с искусством
Фейнман начал ценить изобразительное искусство и наслаждаться тем, что его подруга – художница. Мир представал чем-то много большим, чем набор уравнений. Рисование помогало раскрыть суть вещей, и хотя математика выглядела забавной, подбрасывала все новые головоломки, по сути, она была не более чем инструментом разработчика, помогающим моделировать процессы, которые без ее помощи оказались бы бы совсем не очевидными. В то время как письменный стол природы содержал множество ящиков, набитых вычислениями, его блистающая крышка выглядела намного более удивительной.
Искусство лежит вне времени, как и любовь.
Молодые любовники надеются, что их романтический взгляд на мир сохранится навечно. Когда ты всецело погружен в прекрасное настоящее, то прошлое и будущее могут показаться иллюзорными.
Увы, но суровые дожди реальности могут смыть какую угодно любовную акварель. Фейнман поддерживал Арлайн в ее стремлении стать выдающимся художником, но постепенно начал понимать, что дорога это нелегкая. Девушка работала на износ, но едва могла добыть денег на жизнь, а кроме того, у нее появились тревожные болезненные симптомы.
Однажды, придя к подруге в гости, Ричард заметил необычную опухоль у нее на шее. Арлайн натирала шишку мазью, но та не проходила много недель, а затем появились признаки лихорадки. Семейный врач подумал, что это может быть тиф, и посоветовал обратиться в больницу, ну а там ее поместили в карантин.
Тесты на тиф оказались отрицательными, и Арлайн вздохнула с облегчением.
Но вскоре появились новые вздутия в районе лимфатических узлов, лихорадка вернулась, и пришлось ложиться на обследование. Пока врачи пытались определить причину болезни, Фейнман торопливо листал книги по медицине в библиотеке Принстона, чтобы самому разобраться с источником хвори.
По всему выходило, что у Арлайн лимфома Ходжкина, опасная разновидность рака. Если это и вправду было так, то оказывались под угрозой планы прожить много счастливых лет вместе.
Пытаясь быть с подругой настолько честным, насколько возможно, Фейнман поделился с ней своим открытием, не забыв упомянуть, что иногда непрофессионал, читающий медицинские книги, приходит к совершенно неверным выводам. Арлайн высоко оценила его честность и попросила Ричарда всегда говорить ей правду.
Когда она упомянула лимфому в разговоре с доктором, тот стал выглядеть еще более озабоченным и назначил новые анализы.
Во время очередной госпитализации Фейнман приехал из Принстона и сопровождал подругу в окружной госпиталь. После того как появились первые результаты, врач отвел Ричарда в сторону и спокойно сказал, что почти наверняка тут и вправду лимфома, и что если так, то Арлайн осталось жить не больше пяти лет. Затем он предложил держать эту новость в секрете, поскольку незачем разбивать хрупкое эмоциональное состояние девушки.
Фейнман помнил о своем обещании и знал, что у Арлайн сильный характер, поэтому он хотел раскрыть ей всю правду. Но члены ее семьи все же боялись, что страшный диагноз повлияет негативно, и убедили его представить перспективы в более радужных тонах. Поначалу он пошел у них на поводу, и некоторое время убеждал подругу, что у нее просто железистая лихорадка (сегодня ее обычно именуют мононуклеозом), но потом сломался и рассказал все.
Как Ричард и ожидал, Арлайн восприняла чудовищные новости очень храбро.
Сама она из-за болезни больше не могла обеспечивать себя и нуждалась в уходе, поэтому Фейнман решил, что им самое время пожениться. Он знал, без сомнения, что если поступит таким образом, то потеряет стипендию и будет вынужден покинуть магистратуру. Ему придется искать работу в частной компании вроде «Белл», чтобы они могли прокормиться. Но он хотел закончить совместный проект с Уилером, и тот служил ему хорошим отвлечением от мрачных мыслей о здоровье подруги.
Несмотря на болезнь, Арлайн не теряла оптимизма, она продолжала все так же сильно любить Ричарда и готова была одобрить и поддержать любой его выбор. Всякий раз, когда он падал духом, она приходила ему на помощь, при каждом успехе радовалась вместе с ним. Например, когда Фейнман сообщил, что их с Уилером работа наконец готова к публикации, она написала ему «Я ужасно счастлива… что ты собираешься опубликовать что-то, это вызывает во мне особенный трепет, когда твоя работа признана за ее значение… я хочу, чтобы ты продолжал этим заниматься и в самом деле отдал миру и науке все, что ты можешь»28.
В то время он как раз усиленно работал над диссертацией.
Продолжая изучать взаимодействие между электронами, он обнаружил, что может изобразить эти взаимодействия, используя диаграммы пространства-времени, где на горизонтальной оси отложено пространство, а на вертикальной – время. Диагональные линии, двумерные проекции световых конусов, представляли взаимодействия, случающиеся при скорости света, и не важно, шли они вперед или назад во времени.
В таком изображении обращенный назад сигнал выглядел столь же логичным, как и направленный вперед. Фейнман не видел необходимости беспокоиться по поводу философского недостатка причинности. С его точки зрения, ничто в эйнштейновской вселенной не предписывает, что причина должна являться раньше следствия, и если правое и левое легко поменять местами, точно так же можно обойтись и с парой «прошлое-будущее».
Понятно, что причинность реально существовала – человечество сталкивалось с ней каждый день – но она не имела определяющего влияния на отношения между частицами. Более того, как указывал Уилер, большая часть обратных сигналов должна компенсироваться прямыми сигналами, так что нарушение закона причинности можно заметить, если вообще можно, очень редко.
Следуя методике Дирака, Фейнман представил сигналы как комбинации синусоидальных функций с разными частотами (количество колебаний в единицу времени) и амплитудами (размахом колебаний). Подобные несложные вибрирующие системы, напоминающие струны, обладали ясной физической и математической структурой и могли стать идеальными компонентами для более сложных гипотез. Но Ричард отступил от подхода британца, поскольку описал взаимодействие между электронами как нечто непосредственное, без участия фотонов, и допустил возможность взаимодействия электрона с самим собой.
Фейнман очень любил простоту и детерминизм классической механики, но понимал, что квантовые процессы невозможны без значительной доли неопределенности. Принцип Гейзенберга диктовал, что нельзя в одно и то же время знать точно позицию и импульс частицы. Подобная расплывчатость подразумевала, что чертить какие-то диаграммы – совершенно безнадежное дело. Сам Гейзенберг смотрел на визуализацию как на нечто, сбивающее с толку и ненужное.
Но Фейнман упорствовал, он привык мыслить образами и хотел работать с картинками, а не с абстракциями.
И тут как раз подоспели благоприятные медицинские новости, так отличавшиеся от мрачных предыдущих прогнозов. Биопсия распухшей железы позволила понять, что у Арлайн на самом деле нет болезни Ходжкина, что у нее одна из разновидностей туберкулеза лимфоузлов, серьезное заболевание, но все же не такое смертоносное, как рак. В то время не было лекарства для так называемой белой чумы, но если пациенту везло, то средства симптоматического лечения иногда позволяли победить ее. Несомненно, девушка нуждалась в лечении, долгом пребывании в санатории, но могла прожить много лет.
Хорошие новости подстегнули Фейнмана, и у него появилась возможность завершить исследования до вступления в брак.
Следуя за светом
До того как Фейнман отполировал свой революционный метод суммирования квантовых траекторий, обычный способ перевода стандартного в квантовое состоял в замене переменных, таких как позиция и импульс, на математические функции, именуемые «операторами». Они учитывали мгновенные изменения в пространстве и времени – известные, соответственно, как производная по пространственным и временным переменным – в волновой функции, описывающей состояния частиц.
Наиболее важный оператор, именуемый «оператор Гамильтона», состоял из комбинации операторов, представляющих кинетическую и потенциальную энергию. Использование этой функции позволяло применить производные и другие математические операции к волновой функции частицы, чтобы получить, при определенных обстоятельствах, значение ее полной энергии.
В принципе, производная показывает, как некая величина изменяется на бесконечно малом интервале в пространстве или времени. Например, если вы нанесете параметры роста ребенка на карточку, то производная от кривой роста скажет вам, насколько быстро он рос в конкретный момент. Производные требуют локальных измерений (нечто, случающееся в конкретной точке во времени и пространстве) и непрерывности в измерениях (нет резких скачков от значения к значению).
Уравнение Шредингера, построенное на основе оператора Гамильтона, ясно показывает, как изменение волновой функции в пространстве связано с ее изменением во времени. Уравнение включает производные, взятые в данной точке в данный момент времени, и определяет, что будет происходить дальше. Следовательно, как локально определенная процедура, требующая непрерывности от точки к точке, уравнение Шредингера оказалось несовместимым с тем формализмом действия на расстоянии, который развивали Уилер и Фейнман.
Уравнение Дирака, тоже включавшее производные, ничуть не лучше подходило для целей наших героев. Вместо использования отдельных операторов для пространства и времени оно комбинировало их в едином пространстве-времени и заменяло стандартные волновые функции более сложными вариантами, спинорами. Тем не менее, требуя локализации в пространстве-времени, оно плохо подходило к действию на расстоянии.
Фейнман понял, что для квантования теории он должен начать буквально с нуля. Он должен был придумать средства для связывания событий, далеко разнесенных в пространстве-времени. В представлении электромагнетизма, которое существовало в рамках концепции действия на расстоянии, как в квантовой, так и в классической формах, два электрона связывались скорее через свои удаленные взаимодействия, чем посредством физической передачи чего-либо.
Все подходы на основе оператора Гамильтона просто не годились.
Убрав фотоны из собственной теории, Фейнман знал, что не может отказаться от задержки, связанной с ограничением по скорости света. Как установил Эйнштейн, информация путешествует со скоростью света, и нет никакой возможности обойти этот принцип. На пространственно-временной диаграмме точки, представляющие два взаимодействующих электрона, должны принадлежать к одному световому конусу. Электроны будут передавать сигналы друг другу, не важно, вперед или назад по времени, со скоростью света. Следовательно, траектория света предлагала отличный ориентир для того, что произойдет дальше.
Еще с тех времен, когда Фейнман изучал механику и оптику в школе, он был хорошо знаком с принципом минимального времени Ферма. Этот принцип точно предсказывает, как ведет себя свет, и показывает, что кратчайший путь для света через однородную среду – прямая линия, луч. Он же говорит, что при переходе из одной среды в другую луч изгибается под определенным углом, следуя закону преломления.
Можно продемонстрировать, как работает принцип Ферма, показав, как свет путешествует из источника в определенном направлении по всем возможным траекториям. Каждая световая волна имеет фазу, этот термин относится к величине запаздывания в волновом цикле. Если у двух волн одна фаза, их пики и впадины идеально совпадают, если они расходятся на 180 градусов, то пики одной волны совпадают с впадинами другой. Если фазы отличаются на другую величину, то пики и впадины не совпадают и не чередуются, напоминая нечто вроде застежки-молнии с несинхронно расположенными зубцами.
Световые волны, двигающиеся практически одинаковыми маршрутами, обычно мало отличаются по фазе. Если, с другой стороны, две световые волны выбирают разные пути, то временная задержка часто приводит к значительной фазовой разнице. Следовательно, близость траекторий является простейшим способом гарантировать минимальную разность фаз.
Отличие между сходными и разными путями проявляется в процессе интерференции: наложения волн таким образом, что возникает одна-единственная волна. Волны без сдвига фаз, или с малым сдвигом, демонстрируют конструктивную интерференцию, пики и впадины накладываются и формируют более мощную волну. Другая ситуация при разности фаз, близкой к 180 градусам: тут происходит деструктивная интерференция, пики и впадины гасят друг друга, и получается более плоская волна.
Таким образом, две волны, идущие схожими маршрутами, должны интерферировать конструктивно. Волны, идущие различными путями, могут в разной степени отличаться по фазе, поэтому и взаимодействуют они по одному из многочисленных шаблонов, большей частью деструктивных.
Теперь разберемся, где в дело вступает принцип Ферма.
Рассмотрим интерференцию всех волн, представляющих все возможные пути от источника к точке назначения. Те волны, чьи маршруты требуют наименьшего количества времени, почти совпадают по фазе. Следовательно, они интерферируют конструктивно, и результатом становится волна с большей амплитудой (высотой пиков и глубиной провалов). Другие волны, наоборот, гасят друг друга из-за разности фаз, формируют более плоские профили.
Таким образом, путь с наименьшим временем становится наиболее заметным, и мы видим его как луч света.
В классической механике объектам не всегда требуется наименьшее время и/или кратчайший путь, чтобы путешествовать из одной точки в другую. Вы бы удивились, если бы бросили баскетбольный мяч и увидели, что он отправился к кольцу по прямой линии. Подобный объект будет следовать по определенной кривой, по параболе, и здесь придется использовать другой физический принцип, принцип наименьшего действия, чтобы объяснить его поведение.
Действие – это особенная величина, определяемая умножением единиц энергии на время. В отличие от таких переменных как позиция или скорость, которые отличаются от точки к точке и от момента к моменту, она определяется для траектории в целом, от одного события в пространстве и времени до другого.
Действие связано с другой величиной, именуемой «лагранжиан», которая представляет собой разницу между кинетической энергией (энергией движения) и потенциальной энергией (энергией положения) для определенного объекта или набора объектов. Вкратце говоря, действие – это интеграл (сумма) значений лагранжиана для каждого момента времени вдоль определенной траектории.
Когда вы бросаете баскетбольный мяч, например, и тот взлетает в воздух, его кинетическая энергия трансформируется в потенциальную, а значение лагранжиана уменьшается. Когда мяч падает к кольцу, потенциальная энергия превращается в кинетическую, а значение лагранжиана растет. Умножим значения лагранжиана для каждого момента времени на бесконечно малый временной интервал, сложим эти значения, используя интегральное исчисление, и получим значение действия для данной траектории.
Ирландский математик Уильям Гамильтон предложил принцип наименьшего действия. В соответствии с ним объект выбирает траекторию, которая оптимизирует (минимизирует или максимизирует) действие. Обычно минимизирует. Следовательно, если вы рассчитаете действие для каждого возможного пути, которым может двинуться баскетбольный мяч, то наименьшая величина определит настоящую траекторию.
С математической точки зрения высчитывание действий для всех возможных путей и минимизация действия реализуется как набор соотношений, именуемых уравнениями Лагранжа. Они описывают то, как на самом деле движется тело, и в случае с баскетбольным мячом определяют параболическую кривую от рук к кольцу.
Принцип наименьшего действия удивителен тем, что он перестраивает классическую физику на интуитивном базисе. Все во вселенной пытается найти оптимальный путь от старта к финишу, и в этом соревновании побеждают и выживают наиболее выгодные траектории.
Подобно отметкам в школьном дневнике, отражающим плохое или хорошее поведение, действие представляет количественно эффективность каждого пути, выделяя тот, который окажется в данном случае лучшим.
А лучшим оказывается та траектория, которой следует объект в физической реальности.
Возлияния и вдохновение
У Фейнмана было немало озарений по поводу того, как приложить квантовые методы к теории поглощения, но ему приходилось много работать, чтобы создать нужный математический инструментарий. Никакая из существующих техник не могла связать разделенные расстоянием объекты, непосредственно влияющие друг на друга. Чаще и чаще в усталый мозг приходили мысли о том, что нужен всецело новый подход. Ричард понимал, что ему придется начать с нуля и неким образом перестроить квантовую физику, используя принцип наименьшего действия… но как?
На шикарной Палмер-сквер, расположенной через Нассау-стрит от кампуса, располагалось одно из самых известных заведений Принстона, «Нассау Таверн» (сейчас «Нассау Инн»). Сделав перерыв в занятиях, Фейнман решил посетить устроенную там пивную вечеринку. И очень удачно, ведь именно там он встретил человека, который помог ему поставить на место последний кусок квантовой головоломки.
Герберт Йеле, физик из Германии, познакомился с Ричардом на вечеринке и осведомился, над чем тот работает. Йеле только что сбежал из печально известного концлагеря Гюрс во Франции, куда нацисты поместили ученого за пацифизм и антифашистские взгляды. Едва прибыв в США, он сразу отправился в Принстон.
Фейнман рассказал, чем занят, Йеле задумался и вспомнил ключевую статью Дирака «Лагранжиан в квантовой механике»29, опубликованную в 1933 году. Статью не слишком хорошо знали (по меньшей мере, в Америке) в то время, поскольку она появилась не в самом известном журнале Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion.
В этой работе Дирак продемонстрировал, как переход между двумя квантовыми состояниями может быть описан с помощью произведения специальных математических множителей, именуемых «обобщенными преобразующими функциями», которые зависят от действия, связанного с лагранжианом. Вспомним, что лагранжиан определен разницей между кинетической и потенциальной энергией в каждой точке пространства. Эти энергии зависят от динамических переменных (положение и импульс).
Обобщенные преобразующие функции конвертируют действие в факторы, которые при умножении постепенно превращают начальное квантовое состояние в конечное через цепь последовательных этапов. Достижение такого результата соотносится с разрезанием любого квантового процесса на крошечные трансформации, что-то наподобие разделения кинопленки на отдельные снимки.
Хотя этот метод большей частью технический, мы можем проиллюстрировать его ключевую идею с помощью аналогии. Давайте представим квантовый процесс как ряды костяшек домино, и то, как они расставлены на неровной поверхности, определяет квантовое состояние и динамические переменные. И как только динамические переменные запускают обобщенные преобразующие функции, которые постепенно конвертируют квантовые состояния из одного в другое по определенной траектории, мы можем вообразить, что неровность рельефа произведет каскад падающих плашек, опрокидывающих одна другую последовательно по конкретному курсу.
Шансы на то, что каждая костяшка упадет, определенным образом соотносятся с тем, где именно она стоит. Схожим образом динамические переменные квантового состояния в некоей точке во времени устанавливают шансы его «опрокидывания» определенным образом, чтобы сформировать следующее состояние, и так далее, ведя тем самым к ряби квантовых трансформаций от старта к финишу.
Много-много дорог
Фейнман ухватился за предложение Йеле и, вооружившись им, устремился к долгожданной цели. В статье Дирака он увидел, что методы с использованием лагранжиана идеальны для квантования разработанной ими с Уилером теории поглощения. Формулируя гипотезу в терминах принципа наименьшего действия и определяя классическую траекторию как путь наименьшего действия, он мог очертить его как набор квантовых вероятностей.
В нашей аналогии это подобно демонстрации линии, вдоль которой больше всего упавших костяшек – связанной с наиболее вероятным путем из классической физики – окруженной множеством других траекторий, не так загроможденных в силу того, что они менее вероятны. Другими словами, в то время как конкретный ландшафт порождает тенденцию для домино падать определенным образом, формируя наиболее вероятный путь, по которому пойдет процесс, шансы на то, что он отклонится в сторону, тоже есть. Классическая траектория в любом случае является предпочитаемой, но Фейнман придумал как показать, что она не более чем пик на холме квантовых альтернатив. Подобным образом он смог встроить фундаментальную неопределенность квантовой физики в теорию поглощения.
Как понял Фейнман, квантовая неопределенность предписывает то, что взаимодействия не могут быть сведены к одной-единственной траектории, подобное сведение выглядит попыткой пропустить грозовое облако через провод. Квантовые позиции аморфны подобно облакам, и все же иногда бьют молнии, освещая наиболее эффективный путь для прохождения заряда.
Он не единственный, он просто наиболее вероятный.
Схожим образом в пределах «облака» квантового процесса можно идентифицировать оптимальную траекторию. Она является наиболее эффективной – подобно вспышке молнии в грозовой туче – и соответствует классической траектории.
Чтобы избавиться от квантовой непрозрачности, имея дело с любой парой взаимодействующих частиц, Фейнман определил каждую постижимую серию взаимодействий, могущую их связывать. В его расчеты оказались включены не только классическая траектория и другие пути с высокой вероятностью, но и те, что выглядели окольными и невероятными.
Количество возможностей безгранично, и в принципе все казались равнозначными. Но, как в знаменитом рассказе Джорджа Оруэлла «Скотный двор», некоторые были «более равнозначными», чем другие.
Фейнман захотел убедиться, что классическая траектория в конечном итоге всегда оказывается самой вероятной при использовании его теоретического метода, и для этого он взвесил каждую траекторию по ее вероятности, определенной обобщенными преобразующими функциями, которые он нашел в статье Дирака. Для каждой траектории, следуя технике Дирака, он задал динамические переменные для каждого момента времени, рассчитал соответствующие лагранжианы, применил преобразующие функции и перемножил их, чтобы представить цепь событий целиком. Затем, суммируя эти возможности и используя принцип наименьшего действия, он показал, что классический путь становится наиболее вероятным.
Он окрестил это специальное квантовое добавление – «интеграл по траектории».
Метод Фейнмана прекрасным образом соединил принцип наименьшего действия с принципом Ферма, оба они показывали, как свет путешествует по прямой линии, чтобы потратить на дорогу меньше времени. Таким образом, Фейнман продемонстрировал, почему классические сигналы между электронами следуют пути светового конуса. Преобразующие функции для каждого пути действуют как фактор фазовой задержки, сообщая, насколько сигнал задерживается во время движения по маршруту.
Поскольку существует множество путей, то и задержек большое разнообразие. Абсолютно так же, как в случае интерференции световых волн, различные сигналы накладываются, формируя единую волну. Во взвешенной сумме путей эти сигналы следуют наиболее эффективному маршруту, обладают близкими фазами и будут интерферировать конструктивно. Исходя из принципа Ферма, оптимальная траектория должна совпадать с путем света.
Так Фейнман блестящим образом показал, как его квантовые техники могут воспроизводить результаты классических методов, которые они использовали с Уилером, в том, что касается определения наиболее вероятного пути, при этом допущение, что существует диапазон менее вероятных путей, формирует «туман» квантовых альтернатив. Другими словами, он «размыл» узкие классические взаимодействия в более широкие квантовые.
Уилер оценил предложенный Фейнманом интеграл по траектории очень высоко. Тот превращал смутный с других точек зрения механизм квантовой динамики в нечто простое, как базовая оптика. Он решил, что этот метод связывает классическую и квантовую теории более естественным образом, чем формализм Гейзенберга или Шредингера. Джон еще раз поблагодарил судьбу, что она подсунула ему столь необычайно одаренного мыслителя в качестве студента.
Чтобы продвинуть эту, как он считал, революционную концепцию, Уилер придумал ей название «сумма по историям». Как вспоминал Кеннет Форд, другой студент Уилера и соавтор его мемуаров: «Уилер сказал мне, что он – вечно в поиске ударных названий и фраз – придумал имя тому, что Фейнман звал просто методом интеграла по траекториям»30.
Восхищение Джона перед открытием его ученика было велико, и он подумал, что сможет заинтересовать Эйнштейна. Явившись к австрийскому светилу в гости, он имел с ним долгий разговор, в котором пытался выяснить, не убедит ли Эйнштейна новая методология, что пора выйти из оппозиции к квантовой теории.
Но тот, обнаружив в методе вероятностный компонент, остался непоколебим.
«Я не могу поверить, что Господь играет в гости, – сказал Эйнштейн. – Но, может быть, я заслужил право на собственные ошибки»31.
Своеобразная жизнь электрона
Однажды в тот период, когда Фейнман работал над своим интегралом по траекториям, в его спальне в Градуэйт-колледже зазвонил телефон. В трубке звучал возбужденный голос Уилера, которого посетила очередная дикая, безумная идея.
Джон сообщил Ричарду, что разобрался, почему все электроны характеризуются одинаковым зарядом, массой и другими свойствами. Есть только один электрон, и всё. Множество электронов, которое мы наблюдаем, это на самом деле один, носящийся назад и вперед по времени, отскакивая точно мячик на теннисном корте.
Мы думаем, что существует много электронов, поскольку наблюдаем только один момент во времени – крохотный слой реальности, момент вселенной. Погружаясь в этот мгновенный снимок, мы видим один электрон во всех воплощениях, занимающий множество мест и зигзагами носящийся через вечность. Его версии могут взаимодействовать друг с другом как нить, раз за разом продеваемая через пуговицу.
Можно представить эту ситуацию, обратившись к аналогии из области кино. Вспомним, как Марти Мак-Флаю из «Назад в будущее II» пришлось вернуться в те дни, которые он провел в прошлом в «Назад в будущее», в город Хилл-Вэлли 1955 года. Естественно, в одной точке пространства-времени оказались две его версии, двигавшиеся по разным отрезкам его мировой линии.
Вообразите, что он делал бы это снова и снова бесконечное количество раз – в итоге весь городок оказался бы наводнен бесконечным количеством Марти Мак-Флаев.
Писатель-фантаст Роберт Хайнлайн в рассказе «Все вы зомби» описал схожую ситуацию. В ней герой стал собственной матерью, отцом и другом – снова и снова делая петли во времени, подвергаясь изменению пола, взаимодействуя с самим (или самой) собой. Если бы можно было путешествовать обратно во времени, такие чудные ситуации имели шансы возникнуть.
Уилер представил единственный электрон в звездной (и единственной) роли для саги о путешествиях во времени. Он предположил, что в любой момент времени и пространства мы можем наблюдать множество сиквелов этого бесконечного приключения. Снова и снова он проносится через нашу реальность, до тех пор пока все не станет выглядеть так, словно вселенная полна одинаковых частиц.
Но при этом он все равно остается один.
Всякий раз, когда этот одинокий электрон путешествует обратно во времени, его заряд, по всей видимости, будет обращаться, поскольку наше восприятие направлено в будущее. Следовательно, мы будем воспринимать его как движущийся вперед во времени. Математически, в соответствии с уравнением Дирака, направленный в прошлое отрицательный заряд выглядит подобно положительному заряду, направленному в будущее. Обращение заряда и направления времени (наряду с пространственным направлением, если электрон движется через пространство) вытекает из того же самого решения.
Если мы замечаем частицу на этой стадии, то мы называем ее позитроном.
Так что рассматривать ли объект как движущийся назад во времени отрицательно заряженный электрон или движущийся вперед во времени положительно заряженный позитрон – вопрос семантики.
Поначалу Фейнман сомневался, он думал, что если Уилер прав, где все позитроны? Если электроны носятся вперед и назад во времени, трансформируясь в позитроны и обратно, исследователи должны находить одинаковое количество первых и вторых. Однако позитроны встречаются намного реже.
В ответ на это возражение Уилер предложил такой довод: большая часть позитронов вселенной может находиться в протонах. Он предположил, что протоны могут быть составными частицами, включающими в себя позитроны, и тем самым предсказал существование кварков.
После дальнейшего обдумывания Фейнман признал идею удачной, если позитроны те же электроны, только движущиеся обратно во времени, то свойства позитронов было легко объяснить, все подходило к уравнениям.
Он не уделил в тот момент много внимания гипотезе, что протоны состоят из более мелких частиц. Гораздо позже он вернется к этой теме, занявшись изучением структуры протонов, такой их составляющей как «партоны».
После той телефонной дискуссии ни Фейнман, ни Уилер не потратили много времени, чтобы обдумать концепцию того, что все электроны одна и та же частица. Очевидно не существовало экспериментального способа проверить эту дикую идею. Передний план заняли более практические вопросы.
Мечты и кошмары
От «все есть рассеяние» через «все есть электроны» к «один электрон есть все» порхал разум Уилера, подобный бабочке, собирающей трудовой нектар с одной плодотворной идеи за другой. Сделав ознакомительный глоток, она выпивала нектар целиком и двигалась туда, куда вел ее влекущий аромат новой неизведанной гипотезы. Его рассудок был слишком беспокойным, чтобы ждать экспериментальных подтверждений.
Фейнман хорошо знал склонности наставника и не особенно переживал по этому поводу. В конце концов, концепция кванта Макса Планка, теория относительности Эйнштейна, корпускулярно-волновой дуализм Бора и принцип неопределенности Гейзенберга выглядели странно поначалу – пока их не приняли все. Ричард знал, что у Уилера есть осторожная сторона, и что тот никогда не выходит за пределы законов физики. Джон обычно ограничивал самые авантюрные гипотезы заметками и дискуссиями в узком кругу, пока не находил способа защитить их проверенными расчетами и строгим логическим доказательством.
Оба они соглашались, что наука – серьезное дело, требующее осторожности в суждениях. Но когда прогресс в определенных областях заходит в тупик, кто-то должен взглянуть на вещи широко. Уилер любил эту связанную с фантазией сторону физики.
«Я никогда не был слишком занят для того, чтобы мечтать, – однажды сказал он. – Размышления о том, что может быть… о том, как выглядит мир весь целиком и как взаимодействуют его части – они обеспечивают мой мозг необходимой пищей, столь же важной, как и любые расчеты»32.
Так что вся его карьера была неким колебанием между полетом мечты и практическими обстоятельствами. Как в случае с часами, он всегда пытался наилучшим образом использовать время, находя правильный баланс между трезвой необходимостью и роскошью фантазирования.
Мрачные новости 7 декабря 1941 года надолго склонили баланс в сторону первой. Японские бомбардировщики предприняли неожиданную атаку на базу ВМФ США в Перл-Харбор, Гавайи, на следующий день Соединенные Штаты объявили войну Японии, а через несколько дней союзники последней, Италия и Германия, вступили в войну с США, ну а те не остались в долгу.
Америка внезапно оказалась замешана в мировом конфликте.
Уилер вспомнил предупреждения Бора, сделанные почти три года назад, по поводу ядерной программы Германии. Его родившиеся в Европе коллеги, такие как Эйнштейн, Ферми, Силард и Теллер тогда почувствовали очень большую тревогу, он же сам верил, что война останется за морем, поскольку Европа и так вечно погружена в политические свары и конфликты.
Но вступление США в войну изменило все.
Стремление победить как можно быстрее предполагало необходимость в проектировании нового оружия. Очевидно, что союзники должны были предпринять все возможные усилия, чтобы оказаться впереди стран Оси в области обуздания энергии атомного ядра.
Уилер вскоре узнал, что президент Теодор Рузвельт уже принял необходимые решения. 6 декабря, за день до Перл-Харбора, национальный комитет оборонных исследований начал проект по изучению атомной энергии, во главе которого встала группа, именуемая урановым комитетом или комитетом S-1.
Позднее проект получил кодовое название «Манхэттен», и за 1942–1943 годы вырос в колоссальное предприятие, целью которого стало исследование разных аспектов атомного оружия, производство делящихся материалов и конструирование бомб, если это окажется возможным. Уилер и Фейнман оба сыграли в нем важные роли.
Прошло два с небольшим года с момента начала их совместной работы в Принстоне, и стало ясно, что время теоретических дискуссий в стенах университета заканчивается. Призванные внести свой вклад в проект огромного военного значения, они будут вынуждены работать над разными проблемами в различных частях страны.
В альтернативной реальности, возможно, у них осталась бы роскошь изучать дальше «безумные идеи» в уютной обстановке Файн-холла и лаборатории Палмера, но, увы, судьба забросила наших героев в места, мало похожие на рай.
Глава третья Все дороги не в рай
Вечно разветвляясь, время ведет к неисчислимым вариантам будущего[4].
Хорхе Луис Борхес. «Сад расходящихся тропок»Некоторые интереснейшие дискуссии по поводу разных аспектов истории начинаются с вопроса «что, если?». Что, если норманны так и не вторглись бы в Англию? Что, если бы южане выиграли гражданскую войну в США? Что, если бы Лев Троцкий победил и правил Советским Союзом в тридцатые годы прошлого века вместо Иосифа Сталина?
Комната, наполненная воображаемыми гостями, хорошо снабженными вином и сыром, может кипеть от возбуждения часами, и сценарии возникнут один чуднее другого.
Конечно, никто на самом деле не знает, что могло бы произойти в этих альтернативных историях. Следовательно, никто не может доказать или опровергнуть любую гипотезу, поэтому в подобных спорах трудно решить, кто выиграл, а кто проиграл. Это просто интеллектуальная гимнастика, не более.
В наше время центром многих дискуссий насчет альтернативной истории становится Вторая мировая. Многочисленные важные решения, принятые обеими сторонами, часто предлагают большое количество опций для построения вариантов. Например, Адольф Гитлер разорвал мирный договор со Сталиным и вторгся в СССР. Поступив так, он разбудил дремлющего гиганта… а если бы не это предательство, может быть, он сумел бы продержаться в схватке с другими гигантами?
Одним из самых противоречивых решений со стороны союзников считают ядерную атаку японских городов Хиросимы и Нагасаки. Тогда погибли сотни тысяч. Некоторые критики утверждают, что гибель такого количества беззащитных гражданских была жестоким, бессмысленным шагом.
Возможно, стоило выбрать военные цели, или устроить бескровную демонстрацию.
Другие с пеной у рта говорят, что эта акция предотвратила кровавое продолжение войны на Тихоокеанском театре, которое привело бы к жесткому вторжению наземных сил в Японию. Количество людей, погибших в этих двух городах, бледнеет в сравнении с тем, сколько рассталось бы с жизнью, если бы конфликт продолжился.
Манхэттенский проект начался, и вскоре он оставил далеко позади все усилия нацистской Германии в этой области, хотя в тот момент никто ничего не знал точно. Как стало ясно после окончания войны, Германия за все годы не добилась прогресса на пути к атомной бомбе.
Если бы США знали это, может быть, людские и прочие ресурсы оказались бы направлены в другие сферы?
Что, если?
На человеческом уровне решения, принятые в любой критический момент, определяют картину будущего. Никто не может знать, что бы произошло, сложись обстоятельства иным образом. Но вообразите расу чужаков, получившую способность предвидеть все возможные сценарии. Словно перещелкивая каналы на космическом телевидении, эти гипотетические существа смогут видеть миры с Гитлером и без Гитлера, с Франклином Рузвельтом и без него.
Предположим, что альтернативы реальны, хотя и недоступны для нас.
Наша «подписка» позволяет наблюдать только один канал среди бесконечного множества. Не лишит ли историю ее видимой неотвратимости, определенности мысль о том, что все, имеющее шансы произойти, происходит в параллельных потоках времени?
Интеграл по траекториям Ричарда Фейнмана перевел понятие «ветвящееся время» на квантовый уровень. Любое взаимодействие между частицами случается всеми мыслимыми по законам физики способами, а не только одним-единственным определенным. Чтобы рассчитать общий исход, «квантовый телевизор» должен принимать любой возможный канал. Только отслеживая и включая в рассмотрение все возможные пути, можно получить полную картину реальности.
Ритмы жизни
За века существования человечества было создано много разных моделей времени.
В античном мире этот феномен обычно воспринимали через идею «циклов». Откровенно говоря, ничего удивительного: суточный ритм наших тел, круговое движение небесных тел, бесконечная смена сезонов – все это говорит, что время циклично. Сохраняющаяся популярность астрологии и концепт реинкарнации служат хорошим доказательством того, что такой взгляд жив.
Пульс природы проявляет себя бесконечным количеством способов, космос предлагает циклы, вложенные в другие циклы: от суточного вращения Земли до ее постоянного годичного вращения вокруг Солнца, и до совместного вращения Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути. День следует за ночью, холод идет за теплом. Луна вызывает приливы и отливы, каждое небесное тело следует ритму, определенному его собственным балансом энергии.
Живые существа откликаются на эти циклические шаблоны собственным периодическим поведением. Птицы мигрируют, медведи забираются в берлоги, лосось поднимается по рекам, чтобы выметать икру. Человек ведет себя совершенно так же. Просыпается, ест, засыпает через регулярные интервалы времени, даже если живет там, где не видит солнечного света. Попытки проигнорировать естественные ритмы приводят лишь к тому, что тело откликается приступами усталости, голода или бессонницей.
Учитывая ту власть, которую имеют над нами дневные и сезонные циклы, можно легко понять, почему древние культуры верили, что время фундаментально циклично. От календаря майя, высеченного на круглом камне, до китайского символа инь-ян и египетского Уробороса (змей, пожирающий собственный хвост) мы находим отсылки к цикличности в символике по всему миру. Самые почтенные цивилизации следовали календарям, включавшим не только дни, месяцы и годы, но и более долгие циклы гибели и возрождения космоса.
Например, по версии Пуран, священных текстов индуизма, написанных на санскрите в четвертом столетии нашей эры, мир покоится на циклах, включенных в другие циклы различной продолжительности. История движется через повторяющуюся серию эпох, именуемых югами, каждая длится сотни тысяч лет, юги, в свою очередь, встроены в интервалы большего размера, махаюги, а те включают уже миллионы лет. Махаюги являются составной частью еще больших периодов, кальп, и тут счет идет на миллиарды лет. Небесные события, такие как схождение планет, и катастрофы наподобие потопов и пожаров, отмечают границы эр.
Циклическое время неизбежно повторяемо, обратимо и детерминистично. Экклезиаст выразил это в стихах следующим образом: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом»[5]. Если подождать достаточно долго, то любая фаза цикла повторится.
Но циклическое время не может описать картину целиком, поскольку многие черты мира природы предполагают существование направленного в одну сторону линейного времени. Одна из таких стрел описывается в термодинамике, науке о тепле и энергии. Второй закон термодинамики, предложенный немцем Рудольфом Клаузиусом в середине девятнадцатого века, гласит, что для всякого отдельного процесса величина, именуемая «энтропией», может либо оставаться на том же уровне, либо расти, но не уменьшаться.
Энтропия отражает то, какая часть энергии системы недоступна для работы, и чем она выше, тем больше количество растраченной энергии. Еще энтропия является мерой уникальности системы: чем более уникальной является система, тем ниже энтропия, и наоборот. Обычно упорядоченные системы имеют более низкий уровень энтропии, чем лишенные порядка. «Упорядоченность» в данном контексте означает уникальность расположения частиц в системе.
Например, куда сложнее изготовить снежинку с определенным узором, чем лужу из набора молекул воды. Лучики снежинки уникальны, и расположение частиц в ней тоже, в то время как все лужи одинаковы. Следовательно, в первой куда меньше энтропии. По второму закону термодинамики снежинка, упав на землю, может растаять, превратиться в каплю жидкости, но вода на земле никогда не станет набором снежинок.
Лорд Кельвин (Уильям Томпсон) озвучил постулат, что энтропия вселенной будет только увеличиваться со временем, количество свободной энергии будет сокращаться, пока космос не достигнет полностью инертного состояния, именуемого «тепловой смертью». К этому времени все топки (как нам известно сегодня, работающие на ядерной энергии) в недрах звезд прекратят функционировать, внешние слои взорвутся или улетучатся, оставив остывшую сердцевину. Даже холодные останки (белые карлики, нейтронные звезды или черные дыры, в зависимости от звездной массы) постепенно потеряют энергию, и мир станет неподвижным и безжизненным. Указатель в сторону этого весьма тусклого будущего именуется «термодинамической стелой времени».
Эволюция нацелена совсем в другом направлении.
Биология говорит нам, что живые организмы развиваются в сторону увеличения, а не уменьшения сложности, по крайней мере, дело обстоит так на нашей крохотной планете. Жизнь эволюционирует миллиарды лет, и через механизмы вариации и естественного отбора одноклеточные существа стали многоклеточными, вроде дельфинов, шимпанзе, собак и их двуногих хозяев. Даже человеконенавистник согласится, что люди чуть посложнее амеб. Люди обладают удивительной способностью познавать себя, предвидеть возможности будущего, обустраивать окружающую среду, наносить на карты мироздание, и многими другими. Техника, продукт человеческого разума, становится все более и более сложной. Следовательно, эволюция – прогрессивная стрела времени.
Какая из стрел победит в конечном итоге, термодинамическая или эволюционная? Если положение вещей не изменится, то, скорее всего, первая, поскольку жизнь требует непрерывной подпитки упорядоченной энергией – от солнца или иного источника, а источники конечны. Постепенно все живые существа теряют способность поддерживать равновесие жизни и умирают. Учитывая то, насколько хрупка жизнь на Земле, она сгинет раньше, чем вселенная в целом.
Но в некоторых фантастических сценариях, например в рассказе Айзека Азимова «Последний вопрос», продвинутые цивилизации в конечном итоге учатся, как переворачивать второй закон, и в результате организованная сила жизни одерживает верх над тенденцией распада и угасания.
Расширение вселенной представляет еще одну стрелу космологического времени. Открытие Эдвином Хабблом и его коллегами того факта, что галактики удаляются от нас, стало очевидным доказательством того, что пространство увеличивается со временем. Невозможно спутать нынешнюю вселенную, с ее бесчисленным количеством звезд и галактик, раскиданным по миллиардам световых лет, с ее компактной древней предшественницей.
Все мы, даже те, кто ничего не знает о научных стрелах времени, имеем четкое ощущение того, что время движется вперед. Наше сознание несет нас с неослабевающей силой в одном направлении, от рождения к смерти, и в повседневном опыте причина всегда предшествует следствию.
Хотя время нельзя потрогать, мы не в силах избежать его удушающих объятий. Интересно, что производит этот очевидно неостановимый поток, является ли движение вперед лишь иллюзией вроде той, которая превращает серию статичных картинок в мультфильм? Или это присущий реальности феномен, связанный с какой-то из «стрел»? Может быть, с несколькими? Но вне зависимости от истока, иллюзорное или реальное, сознание можно назвать еще одной стрелой линейного времени.
Но линейного времени, как оказалось, недостаточно для описания природы на фундаментальном уровне. Как продемонстрировала совместная работа Уилера и Фейнмана, определенные процессы в квантовом мире отрицают обычную причинность. Уравнения Максвелла содержат признаки того, что можно двигаться назад во времени точно так же, как и вперед, теория поглощения Уилера – Фейнмана смешивает эти виды движения. Предположение Уилера, которое его ученик поддержал, о том, что позитроны – это те же электроны, движущиеся в противоположном временном направлении, еще сильнее отодвинуло физику частиц от концепций линейного времени.
Время как лабиринт
Вместо цикла или стрелы интеграл по траекториям предлагает третью модель времени: лабиринт вечно ветвящихся возможностей. От каждой точки во времени уходит в будущее много ветвей, и в прошлое – корней, и эти линии изгибаются, сливаются, расходятся снова. В квантовом мире следовать только одному из этих потоков в принципе невозможно, надо иметь дело с «деревом» целиком, со всеми его узлами.
Термин «лабиринт» возвращает нас к одному из самых захватывающих греческих мифов, истории Минотавра, получеловека-полубыка, обитавшего в громадном здании запутанной планировки. Построить его приказал царь Минос, а исполнителем стал Дедал, великий ученый, архитектор и изобретатель, родом из Афин, но живший в изгнании на Крите. Он соорудил исполинский комплекс из вьющихся коридоров, спиральных лестниц, высоких башен, похожих комнат без окон, и назвал его «лабиринтом» от «лабриса», церемониальной секиры с двумя лезвиями[6], которую использовали на Крите. Работа была завершена, и Минотавра поселили в центре «резиденции», чтобы монстр не имел шансов выбраться.
Во время путешествия в Афины сын Миноса был убит быком, и жаждущий мести царь решил наказать афинян, потребовав, чтобы каждые девять лет семь юношей и семь девушек прибывали на Крит в качестве дани. Когда они попадали на остров, их отправляли в лабиринт, где они ожидали ужасной смерти в руках Минотавра. Искусно построенное сооружение не давало шансов найти выход, и его пленники блуждали по вьющимся коридорам, бесконечным комнатам, не зная, когда и где нападет чудовище. И в конечном итоге оно находило их, отчаявшихся и ослабевших, хватало и пожирало.
Тезей, афинский герой, сочувствовавший обреченным на гибель землякам, вызвался убить Минотавра. Юная дочь Миноса, Ариадна, помогла ему выполнить задачу. По совету Дедала она дала афинянину моток ниток, чтобы привязать его конец к дверям.
Тезей так и поступил и, разматывая клубок, отправился на поиски чудовища. Обнаружив его спящим, герой прикончил Минотавра голыми руками, а затем вернулся к выходу, чтобы благополучно бежать с Крита вместе с Ариадной и объявить о победе. Позже Тезей стал царем в Афинах.
Многие ученые, например специалист по семиотике Умберто Эко, рассматривали миф о лабиринте как метафорическую картину попыток человека изобразить и описать сложность мироздания. Дедал в подобной интерпретации – прототип, архетип ученого.
Эко в своей работе «Заметки на полях “Имени розы”» указал, что лабиринт может иметь много степеней сложности: в уникурсальном лабиринте существует лишь один возможный маршрут, в мультикурсальных их множество, а в самых сложных, ризомических – бесконечное количество.
В квантовом лабиринте Тезею пришлось бы пройти не один путь к центру, а все одновременно. Оставив за спиной переплетающуюся паутину из нитей вместо одной, он бы исследовал многочисленные маршруты и на некоторых набрался бы достаточно мужества, чтобы убить чудовище. На других, более извилистых, он мог бы утомиться до такой степени, что не выполнил бы задачу.
Когда афиняне позже пересказывали бы эту историю, им понадобилось бы описать каждую из возможностей, подчеркнув, какая из них выглядит более вероятной, а какая менее. Возможно, большая часть пересказов заканчивалась бы тем, что Тезей выбрал самый мудрый, короткий путь, но в другие дни миф показывал бы его неудачником, сделавшим неверный выбор и обрекшим себя на поражение.
Вместо одной классической легенды сложился бы квантовый интеграл по траекториям, до сих пор смущавший тех, кто знакомится с греческой мифологией.
«Сад расходящихся тропок»
По чистому совпадению, в 1941 году, когда Фейнман разрабатывал концепцию интеграла по траекториям, аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес опубликовал «Сад расходящихся тропок», получивший впоследствие известность рассказ, в котором время предстает как лабиринт. Действие происходит во время Первой мировой, и это история об убийстве, в котором замешан китайский шпион по имени Ю Цун, подружившийся с известным английским синологом Стивеном Альбером, а позже убивший его.
Внезапный и неожиданный поворот сюжета раскрывает то, насколько нестабилен поток времени. Если время обладает большим количеством ответвлений, как предполагает рассказ, то случайное событие может отразить чье-либо жизненное путешествие от потока удачи до реки обреченности.
Ю Цун приходит к Альберу, чтобы получить консультацию по поводу своего предка, ученого китайского губернатора Цюй Пэна, который был экспертом по астрономии, мистике и математике. Тот отказался от должности таинственным образом, поскольку имел намерение написать роман и построить лабиринт. Книгу он создал, но никакого следа лабиринта после себя, по всей видимости, не оставил.
Как выясняется, лабиринт – это книга сама по себе, хроника, в которой в любой критической точке происходят сразу все противоречащие друг другу исходы. Возьмем одну главу, в ней персонаж мертв, но в следующей он неким образом оживает. Два описания одной и той же битвы излагают, как деморализованные войска приносят себя в жертву ради победы и как воодушевленная армия умело доводит дело до конца. Последняя страница романа совпадает с первой, предполагая, что его можно перечитывать и интерпретировать бесчисленное количество раз.
Честно говоря, это куда сложнее, чем лабиринт из стен и перекрытий.
Показав Ю Цуну книгу, Альбер объясняет китайцу мотивацию ее создателя: «Сад расходящихся тропок» – это недоконченный, но и не искаженный образ мира, каким его видел Цюй Пэн. В отличие от Ньютона и Шопенгауэра ваш предок не верил в единое, абсолютное время. Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен. И эта канва времен, которые сближаются, ветвятся, перекрещиваются или век за веком так и не соприкасаются, заключает в себе все мыслимые возможности. В большинстве этих времен мы с вами не существуем; в каких-то существуете вы, а я – нет; в других есть я, но нет вас; в иных существуем мы оба»[7].
Доказывая неким образом тезис предка, что вселенная не более чем сеть случайных возможностей, Ю Цун убивает Альбера. На первый взгляд этот шаг не имеет смысла. Только выходит так, что китаец шпионит для Германии и хочет сообщить берлинскому военному командованию название городка Альбер, который должен стать целью следующего бомбового удара.
Он верит, что это единственный способ (имя убитого и убийцы обязательно попадет в газеты) передать немцам информацию. Решение Ю Цуна вскрывает вероятностную, лабиринтообразную природу времени. В другой ветви китаец может стать для Альбера другом на всю жизнь, но в этой он вынужден убить синолога.
Сегодня мы назовем рассказ с многочисленными возможными исходами образцом гипертекста. Благодаря Интернету большинство из нас сталкивается с ним каждый день. Когда мы читаем новости или решаем щелкнуть по ссылке, которая приведет нас на другой сайт, мы отправляемся в путешествие по текстовому лабиринту возможностей. Через некоторое время мы можем задуматься, почему, начав с намерения изучить последствия Второй мировой, мы закончили статьей о тувинском горловом пении или игре на бонго.
Выборы, которые мы делали в процессе интернет-серфинга, образуют уникальный, персональный маршрут. С помощью ежедневных странствий по мировой паутине, где каждый набор ссылок представляет собой бифуркацию альтернатив, лабиринтообразное время становится частью нашей жизни.
Трещины и расщепления
Один из ужасов войны, и Борхес это описал, состоит в том, что она делает друзей врагами. Вторая мировая разделила международное сообщество физиков на оппонентов и сторонников Оси – первые были куда более многочисленными, но в число вторых попали значительные фигуры вроде Вернера Гейзенберга.
Он был категорически настроен против нацистов, но решил остаться в Германии и заниматься наукой. В результате Гейзенберг стал главой команды ученых, исследовавших перспективы использования энергии ядерного распада и создания оружия на ее основе. Ресурсов им не хватало, и, как мы упоминали, какого-либо прогресса немцы не добились.
Но действия Гейзенберга крайне озаботили Нильса Бора и других коллег. Несмотря на прежнее уважение к Гейзенбергу, многие стали относиться к нему с презрением. Другие продолжали верить – и он старался поддерживать эту веру после войны – что он намеренно дал себя вовлечь в немецкий ядерный проект, чтобы саботировать его.
«Манхэттен», наоборот, получил беспрецедентную поддержку, изобилие ресурсов, технологий и персонала, сосредоточенного в нескольких локациях по Соединенным Штатам. Поначалу основными центрами стали лаборатории Чикагского университета и Колумбийского университета в Нью-Йорке (от последнего проект и получил название). Радиационная лаборатория Эрнеста Лоуренса в Беркли, где были разработаны циклотроны, и лаборатория того же имени в МТИ тоже сыграли важные роли.
Позже, из соображений секретности, многие тысячи исследователей и обслуживающего персонала были перевезены в Лос-Аламос (штат Нью-Мексико), Ок-Ридж (Теннесси), Хэнфорд (Вашингтон) и несколько других мест.
За время, прошедшее между публикацией статьи Бора и Уилера о ядерном распаде и вступлением США в войну, ядерный химик Гленн Сиборг с помощью циклотрона получил первые образцы искусственного радиоактивного элемента плутоний. Согласно расчетам Бора и Уилера, плутоний-239 и уран-235 выглядели равно многообещающими материалами для создания атомной бомбы.
После публикации статьи Уилер продолжил изучать ядерную структуру вместе с коллегами по Принстону Рудольфом Ладенбургом и аспирантом Ладенбурга Генри Баршаллом. Тем не менее основные усилия, как исследователь, он тратил на рассеяние и на совместные проекты с Фейнманом.
Вступление США в войну все изменило, востребованными стали знания об атомном ядре.
В январе 1942 года Уилера пригласили в Чикагский университет, чтобы рассмотреть идею создания промышленного ядерного реактора, который сможет выдать достаточное количество плутония. Под руководством Артура Комптона Чикаго быстро стал центром изучения свойств плутония в приложении к военным целям. Энрико Ферми завербовали из Колумбийского университета, где он уже добился цепной реакции в ядерном котле. Туда же пригласили Юджина Вигнера из Принстона.
Эта группа получила кодовое название «металлургический проект», и она нуждалась во многих блестящих умах для того, чтобы определить наиболее эффективный способ производства плутония в урановых реакторах в количестве, достаточном, чтобы изготовить бомбу.
Вскоре занятость в Чикаго заставила Уилера завершить работу с Фейнманом. Пришлось отложить в сторону научные мечты, о чем Джон сильно сожалел, и сосредоточиться, пусть временно, на военных исследованиях. Но чувство долга победило.
После этого Роберт «Боб» Уилсон, молодой исследователь из Принстона и бывший студент Лоуренса, явился к Фейнману со срочным запросом. Непосредственно в Принстоне стартовал секретный военный проект, связанный с разделением изотопов урана для изготовления той же бомбы. Уилсон спросил у Ричарда, не интересно ли тому принять участие, и если интересно, он должен посетить совещание в 15:00 сегодня же.
Фейнман тогда завершил исследования для диссертации и находился в шаге от получения степени. Он успешно сдал устный квалификационный экзамен, включавший вопрос о порядке цветов в радуге, и тут Ричарду пришлось задуматься, поскольку он не помнил. Кроме того, он написал толкование теории действия на расстоянии в двадцать семь страниц в классической и квантовой формах, отредактировал так, что текст был готов для публикации и мог послужить основой диссертации.
Ну и затем, получив степень, Фейнман мог наконец вступить в брак с Арлайн и найти работу – лучше всего в академической области, связанную с преподаванием, но может быть и исследовательскую в промышленности.
Само собой, поначалу, услышав предложение Уилсона, он решил отказаться. Абсолютно необходимо завершить диссертацию – объяснил он, сначала степень, потом все остальное. Более того – хотя Ричард этого не сказал – меньше всего на свете ему хочется работать над оружием.
Не для этого он пришел в физику.
Вернувшись к себе, Фейнман продолжил работать над рукописью, и тут в голову ему пришли мысли о том, какими могут оказаться последствия победы стран Оси. Что, если немцы создадут ядерную бомбу и используют ее для нападения на Британию? Как он сможет жить после того, когда огромные города окажутся уничтожены чудовищными взрывами? И эти мысли заставили его засунуть диссертацию в ящик стола.
Встреча в 15:00 оказалась короткой, но информативной, Уилсон и другие говорили о том, как разделять изотопы урана, используя электромагнитное устройство, именуемое изотрон. После встречи, оставшись в комнате с маленьким баром и большой пачкой бумаги, Фейнман немедленно погрузился в вычисления.
Он решил отдать приоритет этому проекту.
Вскоре, отчасти благодаря вычислениям Ричарда, группе Уилсона удалось произвести достаточное количество урана-235. Образцы поехали в Колумбийский университет и другие места для тестирования, а в Принстон двинулся нескудеющий поток визитеров, желающих оценить условия сепарации. Кто бы ни прибывал, Уилсон немедленно приглашал Фейнмана, чтобы тот растолковал технические детали процесса.
Бросок к степени
Весенний семестр 1942 года был исключительно насыщенным как для Уилера, так и для Фейнмана, вовлеченных в работу с материалами для ядерной бомбы. Ключевое различие состояло в том, что Джон мог похвастаться стабильным академическим положением, а у Ричарда его не имелось.
Глава факультета физики, Генри «Гарри» Смит, специалист по ядерной физике, входил в урановый комитет и оказывал Уилеру большую помощь в работе в военной области. Смит обеспечил Джону гибкое расписание, чтобы тот мог выполнять все обязанности, да еще и путешествовать между Чикаго и Принстоном.
Уилер беспокоился по поводу того, что его ученик не завершит диссертации, отвлекшись на военные исследования, и 26 марта он писал ему из Чикаго: «…и Вигнер, и Ладенбург думают, как и я, что ты сделал более чем достаточно для получения степени… я бы очень советовал тебе записать все, что у тебя есть, в остающиеся несколько недель до того, как ты окажешься в ситуации наподобие той, в которой пребываю я сам, где абсолютно нет времени для работы над действием на расстоянии»33.
А закончил он письмо замечанием личного характера: «Я надеюсь, Арлайн (sic) чувствует себя лучше».
К сожалению, она чувствовала себя совсем не хорошо, и тяжесть ситуации ложилась на Фейнмана. Ее состояние ухудшалось, и она даже начала кашлять кровью. Туберкулез у Арлайн зашел очень далеко, и врачи не могли сделать ничего, разве что поместить ее в санаторий.
Ричард все еще хотел жениться на возлюбленной – по крайней мере для того, чтобы заботиться о ней, дать ей эмоциональную поддержку в надежде, что ситуация выправится. Его родители однако думали, что сын совершает громадную ошибку. Отец, например, сильно надеялся, что отпрыск сделает карьеру, и боялся, что женитьба на женщине с тяжелым инфекционным заболеванием снизит шансы Фейнмана получить работу. Мать от переживаний едва не сошла с ума, ее терзали мысли, что все будет плохо.
По совету отца Ричард обратился к главе факультета физики.
Генри Смит сказал, что вряд ли у Фейнмана возникнут трудности с тем, чтобы найти место. И для полной уверенности направил молодого ученого к доктору Уилбуру Йорку, университетскому врачу.
Доктор был вполне откровенен, он изложил все перспективы того, кто решил жениться на женщине с туберкулезом. Его хладнокровное, рациональное поведение подействовало на Фейнмана успокаивающе, и он рискнул заметить, что брак обеспечит Арлайн эмоциональную поддержку и может помочь исцелению. Йорк уверил Ричарда, что, учитывая многочисленные предосторожности, предпринятые в санатории, у него мало шансов заразиться. Он вполне может занять место преподавателя.
С другой стороны, добавил врач, Фейнману придется принять все меры, чтобы его жена не забеременела. Фейнман решительно заявил, что подобное никогда не случится. Йорк напомнил, что при нынешнем состоянии медицины туберкулез не всегда излечим. Ричард отозвался, что знает, понимает риск, но все равно хочет вступить в брак с Арлайн.
Но первым делом, помня о совете Уилера, Фейнман удвоил усилия в работе над диссертацией. Поскольку наставник передал ему то, что он уже сделал – результаты по классической теории действия на расстоянии и некоторые размышления по ее квантовым приложениям, – он чувствовал себя обязанным собрать все вместе, чтобы получилась связная научная работа. Иначе, если он когда-нибудь захочет вернуться к теме, разрозненные заметки будут выглядеть откровенной чепухой, и никогда не удастся восстановить то, что достигнуто к настоящему моменту.
Чтобы доделать диссертацию, Фейнман попросил месячное освобождение от участия в проекте сепарации урана, и ему это время предоставили. Поскольку Ричард был истощен вычислениями, первые дни творческого отпуска он потратил, просто валяясь на траве и глядя в небо. Чтобы завершить расчеты по квантовой теории и закончить написание работы, ему потребовался как раз такой перерыв.
Уилер оказался снова в Принстоне, так что время было выбрано идеально. Фейнман передал одну копию диссертации наставнику, другую – Вигнеру, тоже входившему в диссертационный совет, и само собой, работу без проволочек одобрили. Ричард получил степень доктора философии.
Обязуюсь быть твоим мужем, в болезни и…
16 июня Фейнман нацепил традиционные шляпу и мантию и отправился на церемонию вручения степеней. Прибывшие на нее родители Ричарда откровенно сияли. Они привыкли гордиться достижениями сына со времен медали на математическом конкурсе, но доктор философии Принстона за три года – это серьезный повод для праздника.
Фейнман же знал, что из-за связанного с войной проекта ему придется остаться в университете большую часть лета и даже дольше. Кроме того, Ричард имел в кармане предложение о должности – доцент на полставки в университете Висконсина. Туда нужно было приехать в сентябре, если он неким образом сумеет завершить работу на армию (или проект по мановению волшебной палочки закроют).
Сначала он принял предложение, учитывая, что оно предполагало гибкий график. Потом в конечном итоге пришлось отказаться, и он больше никогда не вернулся к этому вопросу.
Но более всех других обязательств его заботило обещание, данное мисс Арлайн Гринбаум. После многих лет обручения настало время завязать узел, решить все навсегда. Семья Арлайн поддерживала их намерения, родители же Ричарда продолжали беспокоиться из-за ее здоровья.
Его мать считала, что сын вступает в брак лишь потому, что чувствует себя обязанным, и попыталась переубедить его. Поняв, что Фейнман серьезен, она изменила тактику и постаралась отговорить его от величайшей ошибки в жизни. «Жениться – не тарелку шпината съесть, – писала она. – Брак не должен быть ношей». Она упомянула, что ему придется постоянно эмоционально вкладываться, тратить время на уход за супругой, и оставшегося времени может не хватить на достижение карьерных и академических целей. И намекнула, что можно не разрывать помолвку, но и не торопиться с церемонией.
Фейнман ответил, что он уже все решил, что он любит Арлайн, хочет о ней заботиться и не видит противоречия между женитьбой и активной работой в физике. Фактически ее любовь и поддержка могут помочь ему сфокусироваться на исследованиях. В конечном итоге он убедил мать, что все будет в порядке.
Брак был заключен 29 июня в Нью-Йорке, простая церемония без присутствия даже членов семей. Свадебным путешествием стала поезка на пароме до Статен-Айленд, плавание за одну никелевую монетку, которое многие обитатели Большого яблока совершают каждый день. После этого Фейнман отвез молодую жену прямиком в Дебора-хоспитал в Браунс-Миллз, Нью-Джерси, хорошо известный санаторий, очень удобно расположенный в тридцати пяти милях к югу от Принстона.
Санаторий находился в Пайн-Барренс, лесистом районе, где воздух был наполнен ароматом хвои. Близость к университету позволяла Ричарду посещать супругу так часто, как ему хотелось, до тех пор пока Арлайн не пойдет на поправку, и они не смогут жить вместе.
Забавно, но место, где болезнь свежеиспеченной миссис Фейнман могли излечить наилучшим образом, было совсем рядом. В сельскохозяйственной лаборатории Ратгерского университета, всего в пятидесяти милях от Дебора-хоспитал, имелась навозная куча, в которой прятался секрет борьбы с туберкулезом.
Ричард Фейнман и Арлайн Гринбаум Фейнман на каникулах в Атлантик-Сити, Нью-Джерси.
Источник: AIP Emilio Segre Visual Archives, Physics Today Collection, подарок Гвенет Фейнман.
Именно там 23 августа 1943 года, через год после того, как Арлайн поместили в санаторий, магистрант Альберт Шац, работавший под руководством доктора Зельмана Ваксмана, проанализировал образец почвы и обнаружил антибиотик стрептомицин, оказавшийся крайне эффективным в борьбе с туберкулезом. В конце сороковых он появился на рынке как чудесное лекарство, убирающее симптомы болезни за считанные месяцы.
Дебора-хоспитал после этого был вынужден переключиться на иные сердечные и легочные заболевания.
В голливудском сценарии или параллельной реальности Фейнманы наверняка встретили бы Шаца в Нью-Джерси. Арлайн получила бы чудесное лекарство и перестала кашлять, ее легкие исцелились бы, и молодожены жили бы счастливо много-много лет. Увы, подобного не случилось, ко времени открытия Арлайн и Ричард были в Нью-Мексико, где Ричард работал на секретном военном предприятии в Лос-Аламосе.
Иногда вопрос «что, если?» звучит по-настоящему жестоко.
Тайны и доверие
К концу 1942 года проект «Манхэттен», которым заведовали научный руководитель Роберт Оппенгеймер, больше известный как «Оппи», и представлявший армию генерал Лесли Гровс, вырос в предприятие слишком большое и активное, чтобы оставить его под сенью крупнейших университетов, Беркли, МТИ, Принстона и Чикаго. Чтобы собрать исследования в одном месте, правительство США решило приобрести большое ранчо в Лос-Аламосе и превратить его в ядерную лабораторию высшей степени секретности.
В начале 1943-го территорию начали обустраивать для использования в новых целях.
Когда Фейнман узнал, что его исследовательской группе предстоит переезд из Принстона в Нью-Мексико, в первую очередь он подумал об Арлайн. В марте он написал Оппенгеймеру и его заместителю в Беркли Дж. Х. Стивенсону, желая узнать, нет ли в окрестностях Лос-Аламоса подходящего для нее санатория или хотя бы больницы. Руководители проекта (к тому времени получившего имя «Y-проект») предложили Ричарду несколько вариантов, и он выбрал пресвитерианский госпиталь в Альбукерке, известный успехами в лечении туберкулеза.
Миссис Фейнман сохраняла оптимизм и силу духа вне зависимости от физических кондиций. Она с энтузиазмом воспринимала долгое путешествие с мужем из Принстона в Чикаго, затем на юг, до Санта-Фе, мечтала о том, что у них будет собственный дом, ну или, по крайней мере, они смогут проводить больше времени вместе, и думала, что переезд обещает им новую, лучшую жизнь.
Нью-Мексико славился сухим и жарким климатом, а еще тем, что там шли на поправку многие больные туберкулезом. Так что Арлайн всем сердцем хотела, чтобы состояние ее улучшилось, и она смогла стать заботливой женой, которой заслуживал Ричард. Возможно, у них в конечном итоге даже будет ребенок, думала она, когда для этого придет время.
Чтобы не возникло подозрений, членов принстонского проекта отправили в Лос-Аламос небольшими группами с разных железнодорожных станций, а багаж – прямо из института. Фейнманы решили выделиться и поехали из Принстона, развлекая себя идеей, что они, единственная пара, направляющаяся в Нью-Мексико, могут в глазах посторонних выглядеть владельцами огромного количества чемоданов и баулов.
Оказавшись в сравнительно роскошном вагоне, неспешно катившем через страну, Фейнманы наконец провели нечто вроде настоящего медового месяца. Арлайн не имела представления, чем занимается Ричард, знала только то, что проект очень секретный, и что все письма в Лос-Аламос следует отправлять на адрес Нью-Мексико, Санта-Фе, абонентский ящик 1663, где их соберут, отцензурируют и доставят по назначению.
Фейнман получил назначение в теоретический отдел лаборатории, возглавляемый профессором и специалистом по ядерной физике из Корнеллского университета Хансом Бете. Бете написал «библию» ядерной теории: статью из трех частей, в которой содержалась суть всего, что тогда было известно в этой области. Только совпадением можно объяснить тот факт, что когда Ричард прибыл, многие теоретики отсутствовали.
Столкнувшись с новичком, Бете поразился его умению без предварительной подготовки догадываться, что будет работать, а что нет. Как он вспоминал позже: «Я очень быстро понял, что он был феноменальным человеком. Откровенно говоря, я думал, что Фейнман, возможно, самый умный во всем отделе, так что он здорово нам помог»34.
Громкие, но дружелюбные споры Бете и Фейнмана по поводу решения технических вопросов, связанных с изготовлением атомной бомбы, стали легендой лаборатории. Бете отличался систематичностью и предъявлял аргументы один за другим, с обширными математическими выкладками, напоминая умелого адвоката, излагающего дело. Фейнман же в любой момент, когда полагал, что его оппонент не прав, взрывался репликами вроде «нет, нет, вы с ума сошли!» или «это глупости!»35.
Бете терпеливо продолжал, пока его возмущенно не прерывали снова. Другие исследователи, работавшие в соседних комнатах, не могли не слышать возражений Фейнмана, которые они находили забавными, особенно учитывая высокий статус Бете.
Оба, и Ханс, и Ричард, имели привычку во время расчетов или размышлений крутить в руках кусочек меди или пластмассы, которые они называли «думательными игрушками». Однажды Фейнман в шутку подменил игрушку Бете своей, и результат оказался удивительным – он сам заметил, что стал более размеренным и систематичным, а глава отдела, с другой стороны, сделался более воодушевленным, обрел привычку оживленно жестикулировать36.
Коллеги смеялись, говоря, что личности пародийным образом поменялись чертами.
За время работы в Лос-Аламосе Фейнман хорошо познакомился с Оппенгеймером. Тот считал Ричарда феноменальным ученым, и к концу 1943 года и он, и Бете начали вынашивать планы после войны «похитить» молодого исследователя – каждый в свой университет. Они видели его потенциал выдающегося преподавателя.
Оппенгеймер рекомендовал Ричарда в Беркли, и писал по этому поводу главе физического факультета, Раймонду Бирджу: «Он по всем меркам самый одаренный физик у нас, и все это знают. Он человек увлекающегося характера, яркая личность, ясный ум, стопроцентно нормальный во всех отношениях, и прекрасный учитель с отличным пониманием физики во всех ее аспектах…» Бете сказал, что он бы скорее потерял двух других подчиненных, чем одного Фейнмана, а Вигнер утверждал, что «он второй Дирак, только принадлежащий к роду человеческому»37.
Но вышло так, что Бирдж промедлил с ответом, он знал, что Беркли не готов сделать предложение. Коллеги Бете из Корнелла действовали куда быстрее, и пообещали Фейнману место после окончания войны, на что он согласился.
Чем в точности занимался Ричард те два года, которые он провел в Лос-Аламосе? Намного проще ответить на вопрос, чем он не занимался. Его отпечатки пальцев остались буквально на каждом приборе и устройстве, его разум стоял за разными вычислениями. Когда бы ни прибывал новый компьютер или другой аппарат, чаще всего разобранный, Фейнман почти всегда первым открывал ящик, вынимал детали и занимался сборкой. Он управлялся со всей «машинерией», от укладки проводки до интерпретации показаний, и на него полагались, когда что-то шло не так.
Одно из его ранних достижений в Нью-Мексико касалось поведения быстрых нейтронов, испущенных ураном-235. Они диффузировали (распределялись) способом, который никак не удавалось описать математически.
Фейнман принял вызов, он разработал пошаговую процедуру, в некоторой степени похожую на методы сложения, примененные в Принстоне, и использовал ее для программирования примитивного компьютера IBM. Программирование в те дни было бессистемным процессом, включающим работу с трубками и электрическими проводами – простыми устройствами, с которыми Ричард так любил возиться.
Позже, когда шел процесс сборки бомб, Фейнман еще не раз показал мастерство программиста. Он рассчитал детали того, что будет происходить на каждой стадии функционирования устройства, начиная от механизма детонации и заканчивая взрывной мощностью. Его обширные и глубокие познания в математике, компьютерах и физике частиц оказались вложены в создание наиболее мощного оружия, которое когда-либо знал мир.
Фейнман был погружен в разработку устройства для массового убийства, и у него не оставалось времени, чтобы задуматься о моральном аспекте того, чем они занимаются. Более того, он фокусировался на технических проблемах и на том, что это его долг – помочь разгромить Германию.
Только позже в его голове возникли соображения этического порядка.
Партнеры по шуткам
Фейнман старался быть хорошим мужем для слабой здоровьем супруги. Естественно, по мере сил, учитывая расстояние между ними и ограничения, наложенные его работой и ее болезнью. Он выступал как ее задушевный друг и как персональный аниматор, делал все что мог, чтобы развеселить Арлайн, ну а она отвечала ему сильной любовью и своими маленькими глупостями.
Они находились в тысячах миль от друзей и семей, оставшихся в Нью-Йорке, и позволяли себе шутить и баловаться по полной программе. Когда Ричард посещал больницу в Альбукерке, обычно по уикендам, она выдумывала игры и розыгрыши, чтобы развлечь мужа.
Например, они делали вид, что мягкая игрушка, слон по имени Снаггл, обитавший в ее комнате, – настоящий. И Арлайн всякий раз подробно рассказывала, как тот себя чувствует, уводя фокус внимания с себя самой. Они вместе мечтали о том, как будут вести семейную жизнь, и шутили, что забота о Снаггле – неплохая практика.
Частенько для того, чтобы съездить в Альбукерке, Фейнман брал взаймы автомобиль у друга и коллеги Клауса Фукса. При этом он не мог знать, что Фукс ведет двойную жизнь – пятью годами после войны того обвинили в шпионаже в пользу Советского Союза, и он провел некоторое время в тюрьме, прежде чем эмигрировать в ГДР.
На двадцать седьмой день рождения Фейнмана Арлайн приготовила особый выпуск газеты с кричащим заголовком «Объединенные нации празднуют день рождения Р. Ф. Фейнмана». Она устроила так, чтобы копии были доставлены всем его коллегам в Лос-Аламосе. Ричард получил массу удовольствия, обнаружив эти газеты везде, используя их как источник вдохновения для многочисленных шуток.
Фейнман был полностью уверен в своей умной, любящей жене, считал ее «соучастником» всех «преступлений», и любил рассказывать ей о собственных эксцентричных выходках. Не раскрывая содержания секретной информации, он хвастался, что может унести что угодно из любой лаборатории. Например, он пробрался на территорию через дыру в ограде, чтобы убедиться – никаких записей на проходной о его отсутствии не осталось, и посмеялся, когда позже указал на эту брешь в системе безопасности.
К сожалению, здоровье Арлайн продолжало ухудшаться, и ей требовалась вся его веселая, ободряющая поддержка.
Фейнман в особенности гордился своим талантом в обращении с замками, этому искусству его обучил приятель по Принстону. С помощью простой скрепки он мог вскрыть что угодно, отпираемое ключом, и, взламывая замок за замком, он приносил содержимое ящиков и шкафчиков на совещания, жалуясь, что у них в Лос-Аламосе нет безопасных мест.
Когда Эдвард Теллер стал настаивать, что ящик его стола, содержащий секретные документы, неуязвим, Ричард принял вызов и вытащил содержимое через пролом в задней стенке стола. «Фейнман, по всей видимости, наполовину состоял из физика, а наполовину – из юмориста»38, – вспоминал Теллер.
После того как замки с ключами заменили на кодовые, Фейнман почувствовал, что должен поддержать репутацию. Несколько месяцев он манипулировал с поворотными ручками, слушал щелчки в двери, делал заметки по каждому сейфу, читал книги по теме, и наконец стал настоящим взломщиком запоров такого типа. Он получил огромное наслаждение, глядя на лица коллег, когда они увидели, что нововведение не в силах устоять перед его руками. Словно настоящий фокусник, он любил поражать окружающих.
Ничто не радовало Ричарда больше, чем представлять себя в глазах других обычным парнем, который при этом умеет кое-что не совсем обычное, например, взламывать сейфы, решать трудные головоломки или выполнять чудовищно сложные вычисления. Для коллег он был старый добрый «Дик», простой и без претенциозности. Чтобы не выделяться среди остальных, он курил, выпивал и отпускал соленые шуточки.
Однажды он напился так, что потом написал Арлайн, обещая бросить дурные привычки.
Фейнман очевидно гордился своими талантами в творческой области, например умением играть на барабанах бонго – эта страсть появилась у него в Лос-Аламосе и осталась с ним до конца жизни. Теллер свидетельствовал, что «он колотил по ним часами каждую ночь. Совершенно не могу вспомнить те времена, чтобы в голову не пришло звучание бонго»39.
По-комптоновски рассеянная семья
Жизнь Уилера во время участия в Манхэттенском проекте сильно отличалась от той, которую вел Фейнман. Во-первых, у него было трое детей, и пребывание за пределами любимого Принстона Джона вовсе не радовало. Семью приходилось возить по всей стране, чтобы он мог выполнять свои обязанности, и это выглядело тяжкой ношей.
В целом у Уилера не было наклонностей к тому, чтобы вести себя легкомысленно. По сравнению с грубоватым Фейнманом он выглядел как преподаватель воскресной школы. Юмор его был сухим и тонким, он опирался на остроумие и игривое поддразнивание. Вкратце говоря, годы войны дали Ричарду возможность немного порезвиться, Джон же не имел для этого ни возможности, ни желания.
Его приоритетом оставалась семья, чтобы все были сыты и счастливы.
Путешествия Уилеров начались в 1942 году, вскоре после рождения Элисон. Сначала они переехали в съемный дом в Чикаго, недалеко от университета, но жизнь там оказалась не очень веселой, поскольку Джейми болел ревматоидной лихорадкой, а Джанет восстанавливалась от послеродовых осложнений.
В марте 1943 года Комптон назначил Уилера на пост в Вилмингтоне, штат Делавэр, где ему предстояло работать в лабораториях фирмы «Дюпон». Пришлось переезжать. Вилмингтон стал для них домом чуть больше чем на год, а затем они, словно электрон, втянутый в эксперимент по изучению эффекта Комптона, отрикошетили на другой конец страны.
С лета 1944-го и до конца войны, то есть год с небольшим, Уилеры оставались в Ричланде, штат Вашингтон, и Джон трудился в находящемся по соседству Хэнфорде, наблюдая за постройкой и функционированием реактора по производству плутония. Периодически ему приходилось ездить в Вилмингтон – долгий и утомительный путь по железной дороге с множеством пересадок.
Иногда Уилер посещал Лос-Аламос, где консультировался с тамошними спецами по поводу вопросов безопасности. Никто не знал, какое количество плутония можно накопить, не вызвав цепной реакции. Нужно ли строить несколько дорогих складских помещений и хранить его небольшими порциями, чтобы полностью исключить риск? Может быть, достаточно одного контейнера?
Фейнман снова обнаружил, что его талант математика будет использоваться для ответа на поставленные Уилером вопросы. Только сейчас они будут заниматься не абстрактными гипотезами, а вопросами жизни и смерти. Ричард обработал некоторое количество данных и передал результаты бывшему наставнику, а тот отправился с ними в Хэнфорд. Ну а там после обсуждения получившихся цифр были приняты решения, позволившие минимизировать риск40.
Уилер искренне поддерживал Фейнмана в том, как тот ведет себя с Арлайн. Однажды, посещая Лос-Аламос, он заехал к ней в больницу, чтобы подбодрить девушку. Ричард был очень благодарен за этот жест, который вполне соответствовал близкому к святости образу Уилера. Святой с эксцентричными идеями, но все же несомненно святой.
Поскольку военные исследования отнимали очень много сил, Уилеру с Фейнманом было некогда обсуждать прежние исследования. Наверняка Джон вспоминал о них чаще, чем Ричард, ведь второй больше рассчитывал, первый мечтал. Поэтому даже концентрируясь на более актуальных вопросах, он не мог забыть о неразгаданных тайнах вселенной.
Даже в суматохе военного времени Уилер стремился к будущему, когда он будет стоять у окна лаборатории Палмера, смотреть на зеленый кампус Принстона и думать о природе реальности. Сможет ли он объяснить все в терминах электронов, являются ли они – или он, если речь идет о единственной частице – строительными блоками реальности? Или, может быть, существует нечто более фундаментальное? Можно ли измыслить объяснение столь широкое, чтобы оно объединило гипотезы учителя Уилера, Нильса Бора, и его друга, Альберта Эйнштейна?
Изгнанный и возвеличенный
В это время у Бора были куда более серьезные заботы, чем споры с Эйнштейном по поводу квантовой теории. В апреле 1940 года немцы оккупировали Данию, и датский физик остался в столице страны, желая сделать все возможное для сохранения созданного им института.
В сентябре 1943 года датское Сопротивление получило информацию, что нацисты собираются арестовать Бора, поскольку его мать – еврейка. Предупреждение передали ученому, и была подготовлена эвакуация для него и его семьи в нейтральную Швецию. Дом покинули ночью, в спешке, море пришлось пересекать на рыбацкой лодке.
Чтобы оставить между собой и нацистами как можно большее расстояние, Бор принял предложение отправиться на самолете в Великобританию. Чтобы избежать обнаружения и перехвата над оккупированной Норвегией, датского физика повезли в «Москито», военном аппарате, способном перемещаться на больших высотах, поэтому требовалось использование кислородной маски. Сын Нильса Оге, тоже изучавший ядерную физику, занял место в другом самолете.
По какой-то причине – может быть, его голова оказалась слишком велика или он просто забыл – Бор не надел кислородную маску и потерял сознание во время перелета. После приземления в Соединенном Королевстве его, к счастью, откачали, но в зеленой бутылке, которую датский ученый прихватил из дома, полагая, что в ней тяжелая вода, оказалось пиво.
Нильс Бор в спешке схватил не ту емкость, так что людям из датского Сопротивления пришлось забраться в его дом, чтобы вынести ценный реактив.
В декабре 1943 года Нильс и Оге получили приглашение в Соединенные Штаты, чтобы принять участие в Манхэттенском проекте. После прибытия в Вашингтон они встретились с генералом Гровсом, который ввел их в курс дела. Приглашенным из Дании ученым были присвоены кодовые имена Николас и Джеймс Бейкер, чтобы скрыть их присутствие в стране от иностранных агентов. По мере того как проект шел к успешному финалу, Боры нанесли несколько визитов в Лос-Аламос, частью для того, чтобы предложить соображения по поводу дизайна атомной бомбы, но в основном чтобы поддержать других ученых.
Фейнман вспоминал, какое всех охватило воодушевление, когда «Бейкеры» впервые заглянули к ним в лабораторию. Все, от самых больших начальников до уборщиков были словно на иголках, все ждали, что изречет явившееся из Дании светило. «Даже для больших парней Бор был чем-то вроде Господа»41, – писал Ричард позже.
К большому удивлению Ричарда, вскоре после визита ему позвонил Оге и пригласил молодого коллегу на встречу по поводу модификаций атомной бомбы. Фейнман не мог понять, отчего Боры выбрали именно его из такого количества людей, среди которых были намного более известные.
Они встретились ранним утром, в уединенном кабинете, и когда все трое уселись, старший Бор повернулся к Фейнману и начал говорить. «М-м-м, м-м-м, м-м-м», – произнес он, потом со смаком затянулся трубкой и продолжил бормотать в том же духе. Ричард даже представить не мог, о чем говорит его собеседник, славившийся любовью к речам.
К счастью, Оге мог служить «переводчиком» и объяснить, о чем речь.
Даже в присутствии такой знаменитости, как Бор, Фейнман не удержался и ответил со всей искренностью. Он указал, что предложение датского ученого непрактично с технической точки зрения. Бор принял замечание с благодарностью, пусть даже с ним не согласились, но зато оценили все честно.
В середине сорок четвертого проект был на полном ходу, а война перешла в новую фазу. 6 июня союзники высадились в Нормандии, открыв Второй фронт. Плацдарм принял достаточное количество войск, чтобы начать наступление на Берлин. Советская армия в то же время активно надвигалась на Германию с востока. Именно она и взяла Берлин 5 мая 1945 года, после чего европейская фаза войны закончилась.
Лидеры Японии отказались сдаться безо всяких дополнительных условий, как им было предложено, и конфликт на Тихом океане продолжился.
Бор не мог дождаться, когда он вернется в Копенгаген и снова возглавит институт теоретической физики. Но пока он оставался в Америке, и приближалась знаменательная дата, шестидесятый день рождения датского ученого – 7 октября 1945 года. Поскольку никто не сомневался, что он величайший из живущих ныне физиков и внес колоссальный вклад в науку, то приготовления к важному событию начались заранее.
Давняя академическая традиция в физике – создание юбилейного сборника, куда включаются статьи коллег и бывших студентов, для любого значимого ученого, достигшего шестидесяти лет. Подобный сборник отдает дань уважения юбиляру, поскольку в нем перечисляются результаты и озарения, базирующиеся на его вкладе в науку. Бор коснулся очень многих тем, и для него сформировать такую книгу оказалось нетрудным делом.
Весной 1945 года престижный журнал Reviews of Modern Physics посвятил Бору целый выпуск, который можно считать таким юбилейным сборником. В нем о датчанине высказались светила квантовой физики, включая Макса Борна, Поля Дирака, Георгия Гамова и даже Эйнштейна, который в соавторстве с ассистентом Эрнстом Штраусом написал о гравитации и расширяющейся вселенной.
Ведущая статья от Вольфганга Паули, посвященная наследию Бора, задала тон. Обычно придирчивый Паули на этот раз высказался об отце атомной теории хвалебно. Следуя его примеру, прочие ученые отметили влияние юбиляра на их открытия и не скупились на добрые слова.
Уилер был слишком занят в связи с работой на военных, но он очень хотел написать статью к юбилею наставника. Результаты их совместного с Фейнманом труда выглядели отличной темой, хотя они очень давно, вот уже несколько лет, ею совсем не занимались. Физик-теоретик, не публикующий достижения на протяжении долгого времени, рискует, что кто-то другой выскажет его идеи.
А юбилейный сборник представился как отличный повод, чтобы привлечь внимание научного сообщества к теории действия на расстоянии. Поэтому Уилер быстро сочинил статью – процентов на девяносто сам, хотя и поставил Фейнмана в соавторы – и изложил в ней большую часть их совместных находок.
Когда будущее определяет прошлое
Инаугурационная статья Уилера и Фейнмана (не считать же таковой неудачный доклад на конференции) «Взаимодействие с абсорбером как механизм излучения» начинается очень необычно, с обширных сносок, идущих прямиком от заголовка. В них Уилер объясняет, что они проделали большую часть работы по теме несколько лет назад, но война отсрочила завершение проекта. Следовательно, читателям необходимо воспринимать текст как рабочий отчет, первый из многих.
Фейнман уступил наставнику в том, что касалось структуры и содержания статьи, но все же он яростно возражал, что упоминать о «многих» будет самонадеянно и хвастливо. Так и вышло в конечном итоге: они сочинили еще один текст по теме, и между ним и предыдущим оказалось четыре долгих года.
Как и приличествует в сборнике, посвященном юбилею Бора, к статье прилагался эпиграф, таинственная цитата из книги, написанной датчанином в 1934 году: «Мы должны, следовательно, быть готовыми к тому, что дальнейшее углубление в тему потребует более значительного отхода от свойств, с помощью которых мы описываем пространство и время»42.
Уилеру нравилось формировать базу для гипотез вне зависимости от того, насколько абстрактными они выглядели, опираясь на конкретные основания, созданные его уважаемыми предшественниками и учителями – особенно Бором и Эйнштейном. Ему требовалось убедить читателей, что «сумасшедшие идеи» не появились из пустоты, что они возникли в результате работы с достигнутыми ранее результатами.
Поэтому он задействовал цитату Бора, скорее всего, чтобы продемонстрировать, насколько открытым умом обладал тот в отношении перестройки квантовой физики на новых началах, пусть даже эта перестройка будет включать альтернативный взгляд на время и пространство. Теория поглощения с ее симметрией относительно движения вперед и назад во времени имела шансы стать принципиально новым шагом в развитии квантовой физики.
Введение в статью продолжает сладкие речи о том, что действие на расстоянии имеет давнюю историю, и что гипотезу поддерживали сам сэр Исаак Ньютон, немецкий математик Карл Гаусс и многие другие. И пусть от нее отказались в угоду электромагнитным полям, заполняющим пространство, возможно, настало время вернуться к ней, чтобы разгадать некоторые загадки, касающиеся излучения, особенно такой феномен, как радиационное сопротивление.
Затем Уилер призывает на помощь другого своего наставника, Эйнштейна, чтобы тот помог оправдать идею абсорбера. Он упоминает, как узнал от австрийского физика о малоизвестной работе голландского ученого Хьюго Тетрода, который еще в 1922 году предположил, что всякое излучение должно иметь не только источник, но и нечто, его поглощающее. Как он определил это сам: «Солнце не будет излучать, если окажется в космосе в одиночестве, и никакие другие тела не смогут поглотить его лучи»43.
Если бы Фейнман писал статью сам, он наверняка бы убрал большую часть предыстории, общих рассуждений и ссылок, ведь он даже не читал материал Тетрода, поскольку не интересовался такими вещами. Более того, он бы отрезал все лишнее, только обозначил бы проблему радиационного сопротивления и представил результаты. Версия Ричарда выглядела бы более похожей на диссертацию, краткую и четкую.
После аккуратных вычислений, как излучение ведет себя в рамках теории поглощения Уилера – Фейнмана – основная работа Фейнмана – статья возвращается к общим рассуждениям, так любимым Уилером. Все сворачивает на далекий от физики философский вопрос – направление стрелы времени.
Если действия поглотителя в будущем могут определить поведение излучаемой частицы в прошлом, то что это говорит нам о причинности? Как пишет Уилер: «Предускорение и сила реакции излучения, которая вызывает его, оба происходят от такого взгляда на природу, в котором движение частицы во всякий момент времени будет всецело определяться движением всех прочих частиц ранее… Прошлое рассматривается целиком независимым от будущего. Подобная идеализация не может быть приемлемой, когда мы имеем частицу, начинающую двигаться в предвосхищении тех полей, которые замедлят ее движение и которые еще не достигли ее от окружающих зарядов»44.
Таким образом, статья Уилера и Фейнмана заканчивается на революционном утверждении: представим себе мир, в котором будущее влияет на прошлое, и наоборот. Удаляя различие между прямой и обратной причинностью, мы заходим далеко за границы утверждения, что реальность частицы просто обратима во времени.
Более того, можно сказать, что будущее и прошлое равно релевантны для будущего.
Но большое значение имеет разница между видимой и подлинной обратимостью времени. Многие вещи выглядят обратимыми во времени, хотя таковыми не являются. Представим, что вы заорали, побежали к стене, отскочили от нее после удара и снова заорали – видео вашего «подвига» будет выглядеть симметричным с точки зрения времени. Но вы вряд ли сможете утверждать, что в первый раз завопили из-за того, что врезались в стену, до того, как это произошло. В теории поглощения Уилера – Фейнмана, наоборот, частицы чувствуют столкновение событий, имеющее место в будущем – опережающие сигналы, порожденные поглощением излучения.
Из семян, посеянных Уилером и Фейнманом в концепции опережающего сигнала, вырос новый подход к электродинамике, и примерно в то же время произошла революция в восприятии времени. Их схема освободила физику частиц из оков однонаправленной стрелы времени и позволила прошлому, настоящему и будущему говорить друг с другом.
Освобождение демона
Взрыв атомной бомбы происходит благодаря каскаду ядерных реакций, каждая из которых, в принципе, может быть обратима во времени. Если, как предполагает теория поглощения Уилера – Фейнмана, механизм излучения симметричен во времени, можно представить видеозапись, где показан каждый этап взаимодействия между частицами, и все прокручено в обратном порядке. Грибообразное облако уменьшается, уран и другие материалы восстанавливаются, заряд приобретает первоначальный вид.
Но с точки зрения времени реальность больших масштабов отличается от мира частиц. Во-первых, второй закон термодинамики работает всегда, и он гласит, что полезная энергия превращается в потраченную, а не наоборот. Громадный выброс тепла и массовые разрушения, произведенные взрывом, – отличный пример такой необратимости. Никто не может мечтать, чтобы время пошло назад, и последствия ядерного взрыва исчезли.
Через некоторое время после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году Япония сдалась, Вторая мировая закончилась победой союзников, которую так долго ждали. Принимал решение о применении нового оружия Гарри Трумэн, ставший президентом США после смерти Франклина Рузвельта.
Да, все почувствовали облегчение от того, что конфликт наконец завершился, но появились и вопросы – этично ли было превращать в пепел и заражать радиацией такое количество гражданских, даже ради того, чтобы очевидным образом избежать еще больших жертв. Многие из тех, кто некогда предупреждал Рузвельта об усилиях нацистов, как Эйнштейн или Лео Силард, либо непосредственно участвовал в Манхэттенском проекте, как Уилсон, ужаснулись тому, что США использовали бомбу против обычных граждан, в то время как предполагалось обратить ее против армии Германии. Из-за того, что немецкая ядерная программа так никогда и не вышла из колыбели, сам факт бомбардировки предстал в еще более мрачном свете.
Может быть, есть способ поместить демона обратно в бутылку и предотвратить новые столкновения в будущем? Но, увы, однажды разгаданные секреты изготовления атомного оружия нельзя просто забыть.
Бор, энергичный поборник открытости в науке, пылко спорил, что вся информация должна стать публичной. Вместе с Эйнштейном, Уилсоном, Силардом и другими он требовал международного контроля над ядерными арсеналами. Многие ученые, работавшие в Манхэттенском проекте, вошли в организации, созданные ради этой цели. Другие, и самым знаменитым среди них был Теллер, предупреждали о грядущей гонке вооружений с Советским Союзом и утверждали, что Запад должен держать ядерные технологии в секрете. Теллер настоял на создании «супербомбы», позже названной H-бомбой или водородной бомбой, много лет участвовал в разработке все более и более продвинутых образцов, и не зря получил прозвище «отца водородной бомбы».
В знаменитом фильме «Доктор Стрейнжлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» сатирически показан именно Теллер и его милитаристские взгляды.
Спасая Джо
Уилер вовсе не был таким воинственным, как Теллер, но он, что удивительно, оказался среди тех, кто пусть и тихо, но поддержал продолжение ядерных исследований. Сам он работал в этой области до 1953 года и внес значительный вклад в появление водородной бомбы на свет.
Почему же Уилер, тихий, мирный ученик интернационалистов Бора и Эйнштейна, стал таким «милитаристом»? Причиной тому могла быть семейная трагедия, а именно смерть на поле боя младшего брата Джо, погибшего всего в тридцать лет. Он был талантливым историком и только что защитил диссертацию в университете Брауна. Отставив ожидавшую его академическую карьеру, он стал ефрейтором в армии США, попал в Италию, где обнаружил себя в гуще битвы с немцами. В 1944 году он отправил Уилеру открытку с краткой, но все объясняющей надписью «Поспеши!» Вспоминая прошлое, тот понял, что брат подозревал – Джон занимается разработкой оружия, способного положить конец бойне.
Пусть союзники держали Гитлера в оптическом прицеле, демонстрация силы могла ускорить его поражение.
Но, увы, вскоре после того, как Джо отправил открытку, он пропал, и тело нашли только в 1946-м. Когда Уилер и прочие члены семьи узнали печальную правду, горе их оказалось безмерным.
С этого времени, снова и снова вспоминая судьбу брата, Джон стал просто одержим альтернативной историей, в которой он ни на миг не прекращал исследований в области ядерного распада. В параллельной реальности в начале сороковых Уилер, вместо того, чтобы щелкать переключателями на приборах и работать с Фейнманом (наряду с преподаванием и другими обязанностями), начал думать о разработке ядерного оружия. Вложив весь авторитет исследователя и организатора в Манхэттенский проект, он добился бы того, что администрация Рузвельта начала его раньше и не пожалела ресурсов, так что к моменту вступления США в войну бомба находилась бы в разработке.
И если бы она оказалась готова к середине 1944-го, возможно, нацистская Германия сдалась бы на год раньше, сохранив тем самым миллионы жизней, включая как солдат, погибших на финальной стадии конфликта, так и значительную долю жертв Холокоста.
«Я убежден, что Соединенные Штаты с помощью союзников из Британии и Канады могли получить атомную бомбу быстрее… если бы лидеры в науке и политике озаботились этим делом раньше, – писал Уилер в мемуарах. – Невозможно уйти от заключения, что если бы ядерная программа стартовала годом ранее и завершилась тоже годом ранее, то мы бы сохранили пятнадцать миллионов жизней, и среди них моего брата Джо»45.
Миновали десятилетия после войны, а Уилер все так же упоминал в публичных выступлениях, что чувствует вину за то, что в свое время не давил на правительство, не побуждал его начать работу. Слезы появлялись в его глазах, когда он описывал, что бы произошло, если бы победа случилась раньше, и Джо остался в живых.
И снова эти два разбивающих сердце слова: «Что, если?»
Часы Судного дня
Красноречивый символ атомного века – «Часы Судного дня» – появился в 1947-м на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков», журнала, который начали выпускать бывшие участники «Манхэттена», считавшие, что военные усилия надо держать под контролем. Часы предупреждают о неизбежной угрозе ядерной катастрофы, их стрелки, изначально поставленные на семь минут до полуночи, двигаются вперед или назад, чтобы изобразить, приближается или удаляется катастрофа.
Полночь символизирует апокалипсис, полный конец цивилизации, а возможно даже и жизни на Земле, связанный с войной.
Страх перед катастрофой сопровождал первое испытание атомного оружия, получившее от Оппенгеймера название «Тринити». Оно имело место ранним утром 16 июля 1945 года в пустынном регионе, именуемом Хорнада дель Муэрто (Долина смерти), в двухстах милях южнее Лос-Аламоса.
Плутониевая бомба была помещена на специальную башню за несколько дней до того, как пошел отсчет. Бете и Фейнман тщательно рассчитали, какое количество энергии высвободится при взрыве, и использованный ими метод получил название «формула Бете – Фейнмана». Для того чтобы проверить, верны ли их предсказания, и собрать всю возможную информацию, вокруг точки испытания ученые расположили разнообразную измерительную аппаратуру. Наблюдатели из числа ученых и военных заняли место в бункере в шести милях от башни. Зевакам попроще, в число которых попал и Фейнман, достался наблюдательный пункт в двадцати милях.
Каждому выдали специальные очки, чтобы защитить глаза.
По мере того как близился час испытания, росла и всеобщая нервозность. Некоторые, как генерал Гровс, беспокоились, что устройство просто не сработает, другие боялись, что оно окажется слишком эффективным и запустит цепную реакцию опустошающих событий, возможно, даже воспламенит атмосферу.
С юмором висельника Ферми принимал ставки на то, случится ли подобная катастрофа, и если да, то уничтожит ли она только штат Нью-Мексико или мир целиком.
Фейнман поддался любопытству и решил не надевать очки, поскольку они наверняка только помешают, и собрался наблюдать событие из кабины тяжелого транспортера – лобовое стекло, подумал он, защитит глаза от ультрафиолетового излучения бомбы, но не скроет видимую часть взрыва.
Ему было очень интересно, верны ли их расчеты, взорвется ли бомба?
Белая вспышка ослепила Ричарда. Успех!
Инстинктивно он отвернулся. Но, куда бы он ни направлял взгляд, он видел только фиолетовое пятно, даже с закрытыми глазами. Фейнман не стал паниковать, убедил себя, что это временный следовой образ. Поэтому он открыл глаза и обнаружил желтый шар, растущий вдали, словно над равниной всходило второе солнце.
Расширяясь, шар постепенно менял цвет в сторону оранжевого, а потом стало ясно, что он покоится на ножке из черного дыма, напоминая исполинский гриб. Все это время внутренний «комментатор» давал Ричарду подробный пошаговый отчет о том, какие физические законы определяют каждую ступень процесса.
И последним до Фейнмана докатился грохот, но ведь звук путешествует намного медленнее света. Для расстояния в двадцать миль разница составила полторы минуты.
Несколькими неделями позже, когда бомбы сбросили на Японию, он не ощутил ни ужаса, ни угрызений. Их затмило облегчение от того, что война закончится. Поэтому, столкнувшись в лаборатории с Уилсоном, некогда заманившим Фейнмана в проект, он сильно удивился, когда услышал, что тот осуждает зло, которое они выпустили в мир.
Почему Боб, гадал Ричард, решил отречься от собственного ребенка?
Фейнману только много позже стало ясно, какие именно последствия для мира порождает технология, в создании которой он сыграл такую важную роль.
Почему человек, столь умный и чувствительный, как Ричард, поначалу не ощутил никаких эмоций по поводу ядерных взрывов и их чудовищной разрушительной силы? Возможно, причиной было то, что несколькими неделями ранее все его чувства пожрало огромное горе, ведь любовь его жизни ушла навсегда, и сердце его стало таким же жестким, как пустыня Хорнада дель Муэрто.
В середине июня Фейнману позвонил отец Арлайн, он только что посетил ее и решил сообщить зятю, что девушка в тяжелом состоянии. Ричард позаимствовал машину Фукса и со всех ног бросился в Альбукерке, сражаясь по дороге с «лысыми» шинами. Когда он приехал, его жена едва дышала и находилась на грани потери сознания.
Смерть забрала Арлайн 16 июня.
Все это время Фейнман оставался удивительно спокойным, мозг говорил ему, что умирание – естественный биологический процесс. Он и Путци так много веселились вместе, даже когда она чувствовала себя не очень хорошо. Длился бы их брак десятилетиями или ограничился бы несколькими годами, конец был бы один.
Фейнман заметил, что настенные часы в комнате Айрлин странным образом остановились в момент ее смерти: 21:21. В самом ли деле встало время, когда она ушла? Конечно, нет. Вечно дымящаяся ментальная машина, скрытая в его голове, предложила лучшее объяснение: часы были сломаны, и медсестра пыталась их завести после того, как все произошло46.
Часы, отмерявшие эмоциональную жизнь Фейнмана, тоже остановились, хотя он понял это не сразу. Для товарищей в Лос-Аламосе он остался тем же беззаботным типом. Равнодушно он проследил за тем, как взорвалась «Тринити», безразлично воспринял новость о том, что бомбы упали на Японию, и даже отпраздновал вместе с остальными.
Но постепенно Ричард начал замечать: что-то идет не так, нечто важное исчезло, его тело и мозг функционировали словно на автопилоте, центральный процессор не действовал, а на выходе получалась бессмыслица. Где найти механика, способного починить такую поломку, сделать так, чтобы часы пошли снова?
Глава четвертая Тайные пути призраков
На каждой развилке мы выбираем дорогу в худшем состоянии. Ту, которая выглядит более интересной.
Мишель Фейнман о своем отце в «Идеальные разумные отклонения (от проторенной дороги)»После окончания Второй мировой войны публичное ликование омрачала печаль от величины потерь. Ужасные опустошения, которым подверглись Европа, Япония и другие части мира после того, как история взяла ужасный курс, казались невероятными, и само собой, у многих появлялись мысли о том, каким бы был мир, если бы Адольф Гитлер никогда не существовал.
Стала бы такая реальность царством мира, или ужас большой войны неизбежен? Могли ли другие лидеры, столь же жестокие, занять его место?
С другой стороны, люди думали о том, что бы произошло в случае победы нацистов. Возникали разнообразные сценарии, и один из самых известных принадлежит писателю Филипу Дику, чей роман «Человек в высоком замке» вышел в 1962 году и был экранизирован в виде сериала в 2015-м.
Последовательность описанных Диком событий привела к тому, что страны Оси победили. Нацистская Германия и императорская Япония поделили между собой планету, почти всю, за исключением немногочисленных нейтральных зон.
Версия «Человека в высоком замке» покоится на нескольких источниках, среди них роман Уорда Мура «Дарю вам праздник» (1953 г.), в котором Юг победил в гражданской войне в США, а также китайская «И цзин», «Книга перемен», столетиями служившая предсказательной системой, где случайно выбранные гексаграммы, комбинации сплошных и разорванных линий, определяют будущее.
В романе Дика несколько персонажей полагаются на «И цзин», принимая решения. Один из них Готорн Абендсен, писатель, применивший «Книгу перемен» при создании собственного романа «Из дыма вышла саранча». Этот текст запрещен на территории Третьего рейха, но популярен по всему миру, и он описывает другой вариант истории, где нацисты потерпели поражение, но не так и не в те сроки, как это случилось в нашем мире.
Другая почитательница «И цзин», Джулиана, поклонница Абендсена, ищет автора, чтобы обсудить с ним значение романа. Встретившись с ним после долгих поисков, она приходит к ошеломляющему заключению – выдуманная победа союзников более реальна, чем та временная линия, в которой она живет. Другими словами, нацисты обречены на поражение, они не могут победить, а их триумф и все остальное – не более чем мираж, фальшивый путь через время.
Закрученная, умная история, рассказанная Диком, поднимает вопрос, над которым ломали головы многие философы: могут ли другие версии истории лежать невидимыми для нас в безмерном пространстве возможностей? Если так, то можно ли как-то воспринимать нереализованные варианты, как делают некоторые персонажи романа?
Немецкий математик и логик Готфрид Лейбниц писал, что Бог имеет доступ ко всем альтернативам. После взвешивания каждой он выбирает оптимальную траекторию. Если приложить этот принцип ко Второй мировой, такой «траекторией» должен быть актуальный сценарий, победа союзников в 1945 году. Если бы можно было уничтожить Гитлера раньше и спасти миллионы жизней – подразумевает утверждение Лейбница – Бог непременно выбрал бы этот путь.
В романе «Кандид» французский писатель Вольтер сатирически отразил мнение Лейбница, что мы живем в «лучшем из возможных миров». Вне зависимости от происходящих вокруг ужасов персонаж по имени доктор Панглосс остается оптимистом, убежденным, что все идет так, как надо, что Господь выбрал из всех альтернатив наилучшую.
Но идея об альтернативных вариантах истории оставалась всецело абстрактной везде и всегда. Предложенный же Фейнманом интеграл по траекториям, который Джон Уилер назвал «суммой по историям», демонстрировал, что такой подход вполне применим к квантовому миру.
Вычисляя результат любого взаимодействия между частицами, мы должны принимать во внимание каждый из возможных вариантов.
После манипуляции с расчетами возможностей становится ясно, что классический путь – оптимален, что это лучший из всех возможных миров. Все выглядит так, словно у природы есть своя «Книга перемен».
Послевоенная меланхолия
И Уилер, и Фейнман ощутили облегчение, когда глобальный конфликт закончился, но для обоих время непосредственно после войны – 1946-й – было мрачным. Джон потерял любимого брата, Ричард остался без обожаемой жены, и это не могло не повлиять на их жизни.
Уилер чувствовал себя ужасно из-за того, что его молодой протеже стал теперь вдовцом. Для его семьи печальные вести с войны смягчило долгожданное возвращение домой. Когда Уилеры приехали обратно на Баттл-роад в Принстоне, показалось, что годы скитаний остались позади, что можно сосредоточиться на заботе о детях и размеренной семейной жизни.
На самом деле им пришлось перебраться в Лос-Аламос несколькими годами позже, но уже безо всякой спешки.
У Фейнмана не было семьи, чтобы отвлечься от мрачных размышлений. Проект, которому он отдал столько энергии за последние несколько лет, исчез в облаках радиоактивной пыли. Если отставить в сторону моральный аспект, то Ричард гордился достигнутыми в Лос-Аламосе успехами, в том числе и в борьбе с замками и сейфами.
Дом Уилеров на Баттл-роад, Принстон, Нью-Джерси. (фото Пола Халперна)
Но все это закончилось, осталось в прошлом.
В дополнение ко всему в октябре этого года умер отец Фейнмана, Мелвилл. Бесконечной любознательностью и страстью к науке он всегда воодушевлял сына, и тому приходилось думать, как растолковать тот или иной вопрос родителю.
После смерти отца появилось беспокойство о том, как справится с ситуацией мать.
Однажды он встретился с ней в Нью-Йорке, чтобы вместе пообедать, и тут волна депрессии неожиданно накрыла Фейнмана. Ричард смотрел на улицы вокруг, на бизнесменов, туристов, других людей, кишащих в каньонах между небоскребами, и размышлял, сколько кварталов уничтожит атомная бомба. Он думал о возможности создания разрушительного оружия и о том, что Манхэттен может постигнуть участь Хиросимы и Нагасаки, и все по вине проекта «Манхэттен».
В этот момент он полностью осознал тот ужас, который они с коллегами создали в Лос-Аламосе. Для мира нет никакой надежды, решил Фейнман, – все напрасно.
Ричард знал, что он человек, а вовсе не элементарная частица вроде позитрона, не опережающая волна, поэтому он не может отправиться назад во времени и изменить историю. Но зато он в состоянии постичь кое-что на материале собственных ошибок. Фейнман ошибся, полагая, что цель «Манхэттена» – не дать нацистам разработать бомбу и оказаться ее единственными владельцами, и этим оправдывая свое участие в проекте. Осознавая, что у немцев в реальности не было никакой ядерной программы, и он, и другие могли сделать иной выбор.
Мир стал бы намного лучше без Дамоклова меча атомной войны, что висит над головой. Поэтому в будущем Ричард Фейнман будет всегда пересматривать свои предположения и корректировать планы в соответствии с меняющимися условиями.
Примерно в то же самое время он ощутил большое желание утешить Арлайн, показать, насколько сильно он все еще любит ее и скучает по ней, и Ричард решил написать ей письмо. Сказать в нем все, что хотел сказать при жизни, но не смог и не успел. Он помнил о ее желании не отягощать мужа своими проблемами, и поэтому объяснил ей, что она всегда помогала ему, даже когда болела.
Арлайн была воплощением его вдохновения, а без нее жизнь лишилась всего удовольствия.
«Ты была женщиной-идеей и главным зачинщиком наших диких развлечений»47, – написал Фейнман.
Он прекрасно понимал, насколько странно выглядит попытка написать умершему. Начать с того, как он сам указывал, что не очень понятно, как отправить письмо адресату. Однако он признавался, что Арлайн значит для него больше, чем кто-либо из живых людей.
«Я люблю свою жену. Моя жена мертва»48, – печально закончил он.
Письмо, никогда не отправленное, оказалось измятым и надорванным – верный признак того, что Фейнман перечитывал его раз за разом.
Святая простота
После возвращения в Принстон по окончании войны Уилер получил свободу и смог заняться тем, что он больше всего любил: преподаванием и фундаментальными исследованиями. Он, как и мечтал, обрел возможность смотреть из окна кабинета в лаборатории Палмера (Джона переселили туда из Файн-холла) на зеленые деревья и думать о глубочайших загадках мироздания.
С философской точки зрения он продолжал верить, что наш сложный мир может быть построен из простых компонентов, наподобие хитрой модели города, сложенной из базовых блоков «Лего». Совместные с Фейнманом исследования, по всей видимости, подтвердили его догадку о том, что все вырастает из электронов и их положительно заряженных двойников, позитронов.
Это может быть единственный электрон, зигзагом носящийся вперед-назад во времени, или многочисленные частицы.
Подобно дуэтам музыкантов, заполняющим воздух чарующей музыкой, электроны создают радуги, восходы солнца, удары молнии и громадное количество других видимых и невидимых проявлений, вступая для этого во взаимодействие друг с другом. Стандартная квантовая теория предполагала, что фотоны – не более чем посредники, иными словами, «частицы обмена», которые переносят силу, перемещаясь туда-сюда. Теория поглощения Уилера – Фейнмана смотрела на вещи иначе, с ее точки зрения электроны (и позитроны) могли генерировать свет посредством собственной подстройки.
Мир частиц таким образом становился проще.
Уилер полагал, что его страсть к минимализму произрастает из протестантского воспитания. Он был всю жизнь унитарианцем, представителем религиозного направления, которое извлекает унифицирующий принцип из разноплановых верований. Следуя этому принципу, он ревностно искал сущность вещей, заглядывал под поверхностные различия.
Как мебельщик, который в процессе работы использует пилу, молоток и гвозди, Уилер считал простоту достоинством. Материалы, с которыми он имел дело, могли меняться со временем, но отношение к основам мироздания оставалось всегда одинаковым.
Он описывал свою страсть следующим образом:
«И с течением времени все громче, вне сомнений, звучала литания, которую многие студенты были обучены повторять с бессмысленной верой, точно катехизис: есть четыре базовых силы, сильное взаимодействие, слабое, электромагнетизм и гравитация. Только мое протестантское происхождение вынудило меня отвергнуть этот катехизис. Какую более простую веру мог я поместить на освободившееся место? Идеалы простоты и единства, недосягаемые ныне и, возможно, лежащие во многих годах от настоящего. Возьмем одну силу, электромагнетизм, и попробуем узнать, где находятся ее пределы. Единственный этот шаг создал программу, достаточно четкую и амбициозную, чтобы я мог всецело посвятить себя ей»49.
Работая в рамках идеологии упрощения, Уилер был не прочь произвести все известные частицы и силы от электронов и позитронов. Он опубликовал статью, в которой использовал термин «полиэлектроны», чтобы описать сорт «атомов» или «молекул», созданных из пар электрон-позитрон. Неким образом он надеялся идентифицировать такие конструкты среди обитателей царства частиц.
Пара из одного электрона и одного позитрона дает на удивление нестабильную пародию на атом, именуемую «позитронием», два атома позитрония создают молекулу дипозитрония. Инновация Уилера состояла в том, что он представлял мир, построенный только из электронов и позитронов, сгруппированных в атомы и молекулы, неким образом более фундаментальный, чем стандартная смесь из протонов, нейтронов и электронов.
И пусть в конечном итоге стало ясно, что протоны и нейтроны не могут состоять из электронов и позитронов, он все же находился на верном пути.
Десятилетиями позже ученые поняли, что протоны и нейтроны сложены из кварков и антикварков, которые как точечные частицы могут быть кузенами электронов и позитронов. Так что семья фундаментальных частиц оказалась больше, чем некогда полагал Уилер.
Исследование по поводу полиэлектронов, пусть чисто умозрительное, вызвало одобрение. Нью-Йоркская академия наук, уважаемая группа ученых, наградила Уилера в 1947 году престижной премией Кресси Моррисона и по этому поводу напечатала статью в своем ежегоднике. Эта премия стала первой в числе многочисленных наград, которые наш герой получил за долгую карьеру.
К этому времени как раз возникло понимание того, что в природе существуют три – максимум четыре – фундаментальных силы. Теоретики пытались разобраться в их взаимодействиях, используя язык квантовой механики.
Уилер и Фейнман сосредоточились на электромагнетизме, который долго изучали с классической точки зрения, используя уравнения Максвелла, хотя он нуждался и в квантовом описании. Другим хорошо изученным взаимодействием была гравитация, признанным ее толкованием стала общая теория относительности Альберта Эйнштейна.
Несколько ученых попытались квантовать ее, но без особого успеха.
Теории электромагнетизма и гравитации объясняли невероятно широкий спектр феноменов – от работы моторов до вращения планет, но их нельзя было приложить к некоторым явлениям, имеющим место в атомном ядре. Взять хотя бы радиоактивный распад нейтронов на протоны, электроны и (о чем узнали позже) антинейтрино. Этому процессу, названному «бета-распадом», недоставало полного объяснения, несмотря на попытки Энрико Ферми и других описать его.
Целостное описание, в создании которого Фейнман сыграл одну из главных ролей, породило термин «слабое взаимодействие».
Другой важный процесс, требовавший удовлетворительного объяснения, крылся в силе, склеивавшей между собой нуклоны (протоны и нейтроны) в пределах атомного ядра. Мощное притяжение, действующее на очень коротких дистанциях, позже было названо «сильным взаимодействием».
В 1935 году Хидеки Юкава предложил его возможное обоснование, включавшее обменную частицу, названную «мезотрон», позже переименованную просто в «мезон». Мезоны, в отличие от фотонов, обладали массой, и как тяжелые шары для боулинга, которые высоко не подбросишь, их можно было передвинуть только на небольшое расстояние. Поэтому сильное взаимодействие ограничено субатомным уровнем.
По странному совпадению, в следующем году Карл Андерсон и Сет Неддермайер, занимавшиеся анализом космического излучения, обнаружили в нем частицу, грубо соответствующую по массе теории Юкавы. Ее назвали мю-мезон или короче «мюон».
Увы, вскоре стало ясно, что мю-мезон не полностью годится на место мезона. Фактически, если попытаться с его помощью связать вместе частицы в ядре, все закончится неудачей. Мюоны даже не подвергаются сильному взаимодействию, они, по всей видимости, не играют особой роли, они просто существуют в космических лучах и рождаются в различных процессах.
Имея в виду такую бесцельность их существования, физик Исидор Раби задал свой известный вопрос: «Кто это заказал?»
Настоящая частица из схемы Юкавы, названная пи-мезоном или «пионом», была найдена в 1947 году во время другого эксперимента по анализу космического излучения. Пионы – массивные частицы короткого радиуса действия, которые отвечают на сильное взаимодействие и полностью вписываются в теорию. Прошли десятилетия, прежде чем ученые сообразили, что и эти штуки не являются фундаментальными, что по-настоящему механизм сильного взаимодействия включает глюоны, другой тип обменных частиц.
Уилер надеялся, что его полиэлектроны помогут создать модели мезонов и других частиц из космических лучей. Конструируя мезоны из строительных блоков в виде пар электрон-позитрон, он мечтал объяснить изобилие экзотических частиц и сил только с помощью знакомого всем электромагнетизма и банального электрона.
Как таблица Менделеева показывает, что химические элементы состоят из ядра и электронов, возможно, расположенные в определенном порядке полиэлектроны, думал он, помогут представить в таком же виде элементарные частицы. После открытия пионов Уилер сказал «Нью-Йорк Таймс»: «Все более повышается вероятность того, что все более тяжелые частицы состоят неким образом, каким, пока неясно, из позитивных и негативных электронов»50.
Но он никогда не был человеком, который ставит все на одну лошадь, да и взгромоздить научную репутацию на спину умозрительной, недоказанной гипотезе, такой как полиэлектронная – не очень мудро.
Поэтому во второй половине сороковых и в начале пятидесятых Уилер опубликовал немало статей по более традиционным для ядерной физики и физики частиц темам: описания мюонных и пионных взаимодействий, дискуссии насчет источника космических лучей, анализ определенных процессов, в которых излучаются два фотона.
Как уважаемый «наследник» Нильса Бора и соавтор важнейшей статьи по ядерному распаду, благодаря которой во многом оказалось возможным создать бомбу, Уилер оказался очень востребован как в качестве публичного лектора, так и в разных правительственных комитетах. Он опубликовал несколько статей о будущем ядерной энергии, по теме, в которой он разбирался особенно хорошо. Он сочинил биографические тексты о Боре и о пионере американской физики Джозефе Генри, что отразило его растущий интерес к истории науки.
В сентябре 1946 года Бор приехал в Принстон, чтобы посетить конференцию «Будущее ядерной науки», совпавшую с двухсотлетием университета. Уилер был рад принять наставника в числе многих других известных физиков – Фейнмана, Раби, Ферми, Оппенгеймера и Дирака, и обсудить с ними послевоенные перспективы физической науки.
На конференции Фейнман получил шанс коротко переговорить с Дираком по поводу приложения принципа наименьшего действия к квантовой механике, что было в конечном итоге продолжением работы британца. Дирак выслушал, но остался при своем.
В комментариях по поводу конференции Ричард звучал по-уилеровски, поскольку он тоже стремился к упрощению физики частиц: «Что если фундаментальные частицы окажутся… более частицами или менее частицами? Или, возможно, все так называемые “различные” частицы вовсе не “различные” частицы, но разные состояния одной и той же частицы… Нам нужен интуитивный скачок к математическому формализму, точно такой же, какой произошел в теории электрона Дирака; нам нужен удар гения»51.
Одной из тем для дискуссий52 стал поток государственных и корпоративных денег, пролившийся на науку, и его возможное разлагающее влияние – многие участники утверждали, что физикам необходимо сражаться за независимость.
Уилер верил в гражданский долг, в то, что нужно поддерживать власть и во время войны, и во время мира. Он оставался в контакте с бывшими коллегами по Манхэттенскому проекту и торжественно заявлял, что, как ученый-ядерщик, он должен идти в ногу с прогрессом как в гражданской, так и в военной областях. Он умолял не повторить старой ошибки (по его мнению) – оставить в стороне военные исследования, а важные решения отдать на откуп политикам.
Физики, по его мнению, должны активно работать в области национальной обороны, чтобы предотвратить выбор, основанный на недостаточной информированности.
Фейнман, с другой стороны, полностью потерял вкус к работе на военных, и пусть он не был столь политически активен, как Роберт Уилсон, во многом он шел тем же путем. Уилсон отложил фундаментальные исследования и начал сотрудничать с армией для того, чтобы остановить Гитлера. Но когда он узнал, что нацисты не имели даже намека на бомбу, его интерес к этой теме испарился, и хотя он доработал до самого закрытия «Манхэттена», но уже без энтузиазма.
На всем протяжении войны Уилсону не терпелось вернуться к гражданской жизни, к изучению чудес физического мира. Фейнман чувствовал примерно то же самое, и пусть он не осудил атомную бомбардировку, он не имел никакого желания повторить подобное. Он всегда вежливо объяснял, что у него другие планы, и неизменно отклонял приглашения проконсультировать коллег в Лос-Аламосе и в других местах.
Разгадывать загадки природы ему нравилось много больше, чем изобретать новые способы массового уничтожения.
Мальчики Бете
После завершения Манхэттенского проекта у Фейнмана открылась масса возможностей для продолжения карьеры. Многие университеты были бы рады принять его в свой преподавательский состав, он мог вернуться к предложению из Висконсина, мог отправиться в Беркли, где работал его поклонник Оппенгеймер, а Раймонд Бирдж, глава физического факультета, хотя и долго тянул с официальным запросом, все же его сделал.
Тем не менее Ричард счел предложение Ханса Бете из Корнелла наиболее привлекательным. Он знал людей, занимавшихся в этом университете ядерными исследованиями, уважал их и верил, что их результаты помогут ему в собственной работе. Кроме того, учебный центр располагался в нескольких часах езды от Нью-Йорка, и это позволяло Ричарду поддерживать связи с семьей и посещать важнейшие из научных конференций.
Был другой вариант, от которого Фейнман в конечном итоге отказался, поскольку это место не предполагало преподавательской работы – стать сотрудником в институте перспективных исследований Принстона.
Ричард в прошлом видел, как Эйнштейн и другие ученые, запертые в институте и занимавшиеся только фундаментальными исследованиями, теряли контакт с реальностью. Современные разработки в физике иногда просто не проникали за стены института. Свободные от работы со студентами, ученые из ИПИ имели возможность бесконечно странствовать мыслью, интересоваться, размышлять… но о чем?
Фейнман не особенно интересовался абстрактными или чисто математическими проблемами. Его не привлекала задача неким образом унифицировать все силы природы. Лишившись необходимости готовиться к лекциям и читать их, он бы потерял мотивацию следить за последними открытиями, и вполне вероятно, как тот же Эйнштейн, в конечном итоге погрузился бы в мир теоретических грез.
Более того, Ричард знал, что карьера чистого теоретика – штука очень ненадежная. Если ты работаешь в обычном университете, ты в любой момент можешь сосредоточиться на педагогике, и у тебя никогда не возникнет чувство, что ты бесполезен. Помимо того, он просто любил преподавать и находил это не самым сложным делом. Исследовательская же работа вызывала бы воспоминания о годах в Лос-Аламосе, а думать о них ему не хотелось.
Поэтому Фейнман выбрал Корнелл.
Первый его в день в кампусе напоминал библейское прибытие Иосифа и Марии в Вифлеем.
В гостинице не оказалось мест, а Ричард явился около полуночи, не зарезервировав комнаты, поскольку не мог предвидеть такой ситуации: в Итаке, маленьком городке, где находится университет, начало семестра всегда вызывает ажиотаж. Но поскольку у Фейнмана запросы были скромные, он просто отыскал незапертое здание, обнаружил в нем свободный диван и улегся спать прямо там.
Утром он доложил о прибытии на факультете физики и спросил, где будет его класс по математическим методам в физике. В ответ ему сообщили, что он приехал неделей раньше, на что Фейнман отреагировал шуточными жалобами, что он так увлеченно готовил первую лекцию и не может дождаться, когда же прочитает ее.
После этого преспокойно отправился к тому строению, где провел предыдущую ночь – незаметно, как полагал Ричард. Тем не менее секрет быстро выплыл наружу. Занимавшийся расселением чиновник предупреждал вновь прибывших: «Слушай, дружище, ситуация с комнатами очень печальная. На самом деле она такая печальная, поверишь ты или нет, но даже профессору пришлось прошлой ночью спать в вестибюле»53.
К счастью, многие физики Корнелла знали Фейнмана и его причуды очень хорошо. Бете собрал у себя молодые кадры, одаренных ученых, работавших в Лос-Аламосе и других лабораториях. Помимо Фейнмана и Уилсона, «завербованного» немного ранее, в число рекрутов из «Манхэттена» входил Филип Моррисон, доставивший в своей машине сердцевину тестовой бомбы «Тринити» на место испытаний и помогавший собирать бомбы, впоследствии упавшие на Японию.
Они образовали превосходную команду экспертов, перенесших свои удивительные дарования с проектирования и создания оружия на более злободневные вопросы физики. Для этих ветеранов Лос-Аламоса стук барабанов бонго, на которых играл Фейнман, был столь же хорошо знаком, как и чириканье птиц весной.
Разбитые сердца и качающиеся тарелки
Весну всегда с нетерпением ждут в таких местах, как Итака, где зима холодная и снежная. Те месяцы, когда без молитвы не вступишь на крутые и скользкие дороги, многие пары проводят у огня, наслаждаясь в том числе и теплом собственного счастья.
Для молодого вдовца Фейнмана стылые серые дни были чудовищно одинокими.
Он изо всех сил пытался отодвинуть воспоминания об Арлайн и возобновить исследования. Но чем больше он старался повернуть внимание в сторону физики, тем более подавленным он себя чувствовал, тем сильнее становилось беспокойство, что он потерял хватку, что Корнелл совершил ошибку, пригласив его.
Но, направив энергию на преподавание, Фейнман быстро понял, что нашел свое призвание. В учебном классе он показывал себя как настоящий шоумен, мастер научных трюков, и все глаза были нацелены на него, на маэстро, извергающего одну за другой сумасшедшие байки о странностях природы.
Как раньше он производил впечатление на сестру, детей Уилера и друзей, так и сейчас Ричард угощал студентов искусными демонстрациями и цветистыми объяснениями того, как функционирует мир. Как в доме наставника он использовал жестянки с супом, точно так же он брал все, что попадалось под руку – простые, обыденные предметы – чтобы проиллюстрировать законы физики и то, как они взаимосвязаны.
Но после лекций возвращались мысли о том, что он должен заниматься чем-то помимо преподавания. Тот факт, что такие университеты как Беркли и исследовательские центры вроде института перспективных исследований некогда имели на него виды, казался смехотворным.
Ведь как исследователь, он может предъявить лишь совместную работу с Уилером, и как можно ставить его на одну доску с Оппенгеймером или Эйнштейном?
К счастью, коллеги по Корнеллу искренне ценили талант Фейнмана и оказывали ему поддержку. Они ставили себя на его место и представляли, как мало смогли бы они сделать, потеряй они супругу в столь молодом возрасте. Уилсон убеждал Ричарда, не беспокоиться о научной работе, говорил, что тот отличный преподаватель, а время для чистой науки придет.
После многократных увещеваний мрачное облако депрессии начало понемногу рассеиваться.
Нервозность порой возникает по странным причинам, иногда если вы упорно движетесь к цели, то чувствуете себя таким подавленным, как Сизиф, созерцающий тот обломок камня, который ему неизвестно в какой уже раз надо тащить по крутому склону. Первые попытки Фейнмана вернуться к исследованиям после войны напоминали как раз сизифов труд.
Но если сосредоточиться на другой задаче, такой, как преподавание, и превратить тяжко дающуюся деятельность в нечто вроде хобби, то внезапно картина меняется, возвращается хладнокровие, а затем и энтузиазм.
Вскоре после беседы с Уилсоном Фейнман оказался в кафе, где увидел, как кто-то подбросил тарелку, просто ради забавы. Тарелка закачалась в воздухе и закрутилась. Ричард отметил, что, фиксируя позицию герба Корнелла, выглядевшего красным пятном на боку, он может определить соотношение между частотами вращения и качания.
Вскоре он записал динамические уравнения для качающихся и вращающихся объектов, и с их помощью получил тот же результат, что и при непосредственном наблюдении. Фейнман был прав! Но в чем смысл такого математического упражнения? Как он объяснил озадаченному Бете, не увидевшему связи с серьезными исследованиями, это просто развлечение, тренировка для мозга, помогающая вернуть веру в собственные возможности и интерес к физике.
Ричард ощутил, что машина разума обретает прежний ход, и начал думать, не вернуться ли ему к теме диссертации. Работа с Уилером сделала из него мастера в построении моделей взаимодействия элементарных частиц, он стал виртуозом в разработке эффективных математических инструментов.
Но диссертация была неполной, поскольку она не включала эффекты специальной теории относительности, квантовый спин и другие важные аспекты современной физики. Не спешили исчезать вопросы, поднятые Дираком, и такое большое количество аспектов квантового описания того, как ведет себя электрон, покоилось на шатком фундаменте.
Пришло время вернуться к работе, время развлечься как следует.
Прорехи Дирака
Когда Уилер и Фейнман трудились над теорией поглощения, они были далеки от задачи ликвидировать недостатки той системы уравнений, которую построил Дирак. Многие другие физики занимались этим, например Хендрик Крамерс, выдающийся голландский ученый, постоянно указывал на то, что он считал главными недостатками квантовой электродинамики.
Крамерс был правой рукой Бора много лет и поэтому имел авторитет в научных кругах.
Несмотря на всю красоту работы Дирака, Крамерс четко видел ее недостатки, и он провел специальное исследование, посвященное математическим недоработкам в теории. Многие из них можно было суммировать (точнее, суммировать как раз не получится) в единственном слове: расходимость. Мы упоминали, как бесконечная сумма, выводимая из одного уравнения Дирака, мотивировала Фейнмана на совместную работу с Уилером и привела к созданию теории поглощения.
Крамерс одно за другим указал те места в уравнениях Дирака, где наблюдалась расходимость. Бесконечности прекрасно чувствуют себя в математических моделях, но в физике они губят все. Бесконечная сумма делает любое вычисление бессмысленным, особенно если правильно проведенные эксперименты указывают на конечное значение.
В отличие от Уилера и Фейнмана Крамерс придерживался мнения, что электроны могут взаимодействовать с электромагнитным полем. В свете элегантности и простоты полевого объяснения электромагнетизма он не одобрял радикальную хирургию теории поглощения, где поля убирались совсем. Вместо этого он искал способы отделить полевые эффекты от электронов самих по себе.
«Самих по себе» в данном контексте означает ситуацию, где не существует поля.
Полученная в результате экспериментов масса электрона, утверждал он, комбинирует массу электрона самого по себе и массу, полученную взаимодействием электрона с полем, которое он создает (вспомним знаменитое уравнение Эйнштейна, согласно ему масса происходит из энергии). В процессе, названном «перенормировкой», доказывал Крамерс, массу самовоздействия можно вычесть из экспериментальной массы, чтобы получить более реалистичную величину.
В конечном итоге голландец надеялся удалить бесконечные величины из квантовой электродинамики, и тем самым получить возможность реалистично рассчитывать собственную энергию и другие физические величины.
Но любой революционный подход требует взвешенной проверки, чтобы подтвердить все его предсказания. Это применимо к гипотезам Крамерса, к теории поглощения Уилера – Фейнмана и ко всем другим попыткам разгадать загадку расхождения.
Результаты экспериментов начала 1947 года были обнародованы на конференции на Шелтер-Айленд, куда прибыли ведущие физики, включая Фейнмана, и после нее именно идеи Крамерса позволили поставить квантовую электродинамику на более прочное основание.
Собрание умов
Конференция на Шелтер-Айленд и несколько последующих таких встреч начались с блестящей идеи, пришедшей в голову Дункану Мак-Иннесу из Рокфеллеровского института – почему бы не направить в единый поток энергию звезд науки, нацелить ее на решение важнейших проблем физики. Он предложил эту концепцию Национальной академии наук США (НАН), и ее функционеры поддержали начинание.
Серия встреч оказала невероятно мощное влияние на современную науку.
Президент НАН Фрэнк Джеветт вместе с Мак-Иннесом продумал структуру конференции: он предложил серию коротких встреч, расписанных по темам, каждой из которых занимается группа экспертов. Само собой, академия выделила щедрое финансирование, имея в виду, что понадобятся хорошие условия для работы.
После первой конференции, посвященной биологической физике, вторую решили посвятить фундаментальным проблемам квантовой физики. Для ее организации предложили помощь два выдающихся физика, Карл Дарров, громогласный секретарь Американского физического общества, и его друг Леон Бриллюэн, имевший опыт организации знаменитых Сольвеевских конгрессов в Европе.
Последний, в свою очередь, обратился за поддержкой к Вольфгангу Паули54.
Паули посоветовал нечто, лежавшее далеко от планов Джеветта и Мак-Иннеса, он нарисовал картину большой конференции, куда приедут исследователи старшего поколения, занимавшиеся квантовой теорией до войны и желающие вернуться к теме. Вольфганг подумал в первую очередь об участниках из Европы и почти не вспомнил о собственно американской физике.
Мак-Иннес обсудил ситуацию с Джеветтом, и Паули было отправлено письмо с вежливым отказом. Мак-Иннес поблагодарил швейцарца, но объяснил, что они собираются устроить рабочее мероприятие с участием многообещающих исследователей, а не выставку почтенных профессоров.
Паули ответил и порекомендовал организаторам обратиться к Уилеру, куда лучше знакомому с молодежью.
Как обычно, Паули не ошибался, Уилер был тем человеком, кто мог навести мост между поколениями. Его манеры, выдержка и беглый немецкий позволяли Джону пользоваться уважением у европейских ученых старой школы, в то время как открытость и чувство юмора обеспечивали восхищение со стороны молодых американских физиков, таких как Фейнман.
Уилер благосклонно внял просьбе о помощи, ему понравилась идея – молодые теоретики, обсуждающие столь близкие его сердцу темы взаимодействия электронов и роли мезонов. Поначалу они вместе с Паули решили, что такую встречу есть смысл провести в Копенгагене, под крылом института Бора. Но потом вняли аргументу, что немногие американцы захотят отправиться в Данию, и решили уменьшить расходы. Карл Дарров посоветовал перенести мероприятие в США. Действительно, общие расходы на встречу составили бы менее 1000 долларов.
После месяцев планирования был выбран отель «Рэмз Хеад Инн» на Шелтер-Айленд. Остров мог обеспечить идеальные условия, чтобы собрать в тихом уютном месте выдающиеся умы современности. И в то же время он находился прямо на северо-восток от Лонг-Айленда, то есть очень близко к Нью-Йорку и южной части Новой Англии.
Даты выбрали так, чтобы мог присутствовать Оппенгеймер, тогда самый известный американский физик и главная «приманка» для молодых ученых.
Мак-Иннес вместе с Уилером долго трудились над списком приглашенных. Решили определить троих лидеров дискуссий, выбрав их из числа выдающихся физиков, чтобы каждый руководил секцией: Оппенгеймер, Крамерс и блестящий эмигрант из Австрии Виктор Вайскопф из МТИ.
Последний в свое время тоже участвовал в Манхэттенском проекте, и, подобно Крамерсу, он был протеже Бора. Что знаменательно, он работал помимо прочих с Максом Борном (он был научным руководителем Вайскопфа), Вернером Гейзенбергом, Эрвином Шредингером, Дираком и Паули, и список его наставников вполне годился на роль справочника «Кто есть кто в современной физике?».
Под влиянием того же Паули Вайскопф в 1939 году предложил инновационный подход к расчету энергии самовоздействия электрона (энергии, соответствующей его взаимодействию с электромагнитным полем, которое он сам и создает), позволяющий получить конечную величину. Подобно Крамерсу, он сохранял в модели понятие электромагнитного поля. Чтобы добыть подходящую квантовую величину энергии самовоздействия, он рассчитал эффекты «вакуумных флуктуаций».
Вакуумные флуктуации происходят, когда частицы спонтанно возникают из кажущейся пустоты пространства, существуют короткое время, а затем снова исчезают в бездне, словно дельфины, всплывшие подышать воздухом перед новым погружением. Например, электрон и позитрон могут появиться вместе, бросить летящий взгляд на реальность и быстро аннигилировать друг друга. Временное создание материи из чистого ничего допускается принципом неопределенности Гейзенберга, если время в данном случае достаточно короткое (чем больше масса, тем короче).
Другое ограничение на подобные неустойчивые феномены, известные как «виртуальные частицы», заключается в том, что они должны сохранять заряд. Именно по этой причине позитроны возникают в компании электронов, их заряды компенсируют друг друга.
Вакуум – нечто вроде кредитной линии, позволяющей делать большие займы, но со строгим лимитом.
Ключевой чертой «моря» виртуальных частиц рядом с электроном (или другой заряженной частицей) является то, что оно имеет тенденцию поляризоваться – другими словами, выстраиваться по направлению плюс-минус, так же, как батарейки в фонарике. Подобное явление получило название «вакуумной поляризации».
Вакуумная поляризация эффективно заменяет точечный заряд электрона облаком заряда. Подобно иголкам испуганного ежа, пары заряженных противоположным образом частиц излучаются в стороны от электрона, и делают это таким образом, что положительный заряд в каждой паре ближе к электрону, чем отрицательный. Эти вытянувшиеся в линию заряды окружают «голый» заряд электрона так, что он эффективно становится имеющим размеры скоплением, а не безразмерной точкой.
В сущности, таким образом распределяются масса и заряд электрона.
Примечательно, что Вайскопф обнаружил: вакуумная поляризация помогает ограничить энергию самовоздействия электрона, отмечая тем самым направление, двигаясь в котором можно решить одну из главных загадок квантовой электродинамики. Расчет энергии самовоздействия все еще приводил к бесконечности, хотя уже не так быстро: теперь деревянный дом не сгорал в бушующем пламени, но его неспешно поедали термиты. Конец одинаковый, но процесс шел много медленнее и выглядел управляемым.
Гипотеза Вайскопфа дала надежду, что дальнейшие математические манипуляции позволят добиться цели: конечной энергии самовоздействия.
Помимо троих уже названных лидеров пригласили около двух дюжин ученых. Само собой, Фейнман оказался одним из первых в списке, Уилер выбрал его, предвкушая встречу двух давних соратников и возможность вновь поиграть с теорией. Кроме Ричарда, в список попали Юджин Вигнер, Джон фон Нейман, Ханс Бете, Эдвард Теллер, Грегори Брейт (в свое время руководивший постдиссертационной практикой Уилера), Энрико Ферми и Джулиан Швингер, блестящий молодой физик-теоретик из Гарварда.
Подобно Фейнману, родом последний был из Нью-Йорка, работал с Оппенгеймером и имел прекрасную репутацию.
Но не все были теоретиками, например, Уиллис Лэмб из Колумбийского университета являлся экспертом по атомным измерениям и собирался изложить свежайшие экспериментальные результаты, чтобы они послужили пищей для дискуссий. Раби, некогда научный руководитель Швингера, одинаково много времени уделял как теории, так и опытам.
Могучий ягненок[8] и двигающиеся линии
Уилер знал Лэмба очень хорошо и с большим уважением относился к его работе.
Вскоре после того как тот в 1939 году защитил диссертацию в Беркли, они в соавторстве опубликовали статью о том, как атомы атмосферы подвергаются воздействию космического излучения.
Сыплющиеся из космоса электроны, вынужденные из-за сопротивления воздуха отдать часть собственной энергии, нередко распадаются на другие частицы, и этот процесс именуется «каскадом».
Уилер и Лэмб рассчитали, как атомы атмосферы влияют на порождение частиц (в 1956 году они нашли ошибку в оригинальных вычислениях, пересмотрели все и опубликовали новую статью).
Но самый известный эксперимент Лэмба имел место весной 1947-го, когда ученого уже пригласили на Шелтер-Айленд. В компании магистранта Роберта Резерфорда он испытал новый способ зондирования атома водорода и показал, что одно из предсказаний Дирака не оправдывается.
В частности, Дирак рассчитал, что два электронных состояния водорода, технически известные как 2S1/2 и 2P1/2, должны иметь один и тот же уровень энергии. Эксперимент Лэмба – Резерфорда обнаружил маленькое, но заметное расхождение в структуре водорода, небольшой сдвиг в спектральных линиях, обозначающий, что имеется разница в энергии двух упомянутых состояний.
Открытие, что использовавшаяся ранее модель была не совсем верной, позволило теоретикам двинуть вперед квантовую электродинамику.
После работы для военных, проведенной в лаборатории излучения Колумбийского университета, Лэмб стал экспертом в обращении с концентрированными, сравнительно высокочастотными микроволнами. Более короткие, чем радиоволны, они позволяли точнее оценить цель, заметить мельчайшие отклонения в уровне энергии. После войны Лэмб решил приложить свои умения к атомной отрасли, в особенности он хотел разобраться с тем, корректно ли модель Дирака предсказывает спектр водорода.
26 апреля, после нескольких попыток применить микроволновое тестирование к атомам водорода, Лэмб и Резерфорд достигли успеха. Они обнаружили, что если использовать сигнал примерно в 1000 мегациклов (миллионов циклов) в секунду, то они могут перевести электрон из состояния 2P1/2 в 2S1/2.
Но в соответствии с квантовыми принципами, установленными еще Максом Планком и Альбертом Эйнштейном, определенная частота соотносилась с определенным крошечным количеством энергии. Так что Лэмб и Резерфорд доказали существование небольшого, но заметного различия в энергии. Оно получило имя «Лэмбовского сдвига».
По поводу этого открытия поползли слухи, и Лэмб начал готовить отчет для надвигающейся конференции на Шелтер-Айленд. В изучении электронов внутри атома он добился куда большей точности, чем когда-либо удавалось другим исследователям, и сумел обнаружить такие крохотные различия в уровне энергии, о каких ранее и не мечтали.
Вайскопф базировался только на собственных вычислениях, но у него было подозрение по поводу энергетического различия двух состояний. Он думал, что взаимодействия между электронами и квантовый вакуум могут создавать такую «щель». Но он ждал экспериментальных результатов и поэтому не торопился публиковать свои выводы.
Позже он пожалел о своей медлительности и счел, что она стоила ему Нобелевской премии.
Презентация Лэмба со всей откровенностью продемонстрировала то, на что Вайскопф, Крамерс и другие только намекали – квантовая электродинамика Дирака отчаянно нуждалась в пересмотре. Много позже, на шестьдесят пятый день рождения Лэмба, физик Фримен Дайсон сказал: «Ваша работа по тонкой структуре сдвинула с места прогресс в квантовой электродинамике… Те годы, когда Лэмбовский сдвиг был центральной темой в физике, стали золотым временем для ученых моего поколения. Именно вы оказались первым, кто увидел, что крохотный сдвиг, незаметный, сложный для обнаружения, может прояснить наши фундаментальные взгляды на частицы и поля»55.
Глава пятая Остров и горы: нанося на карту ландшафт из частиц
(Фейнман) мог удивительным образом смотреть на мир как на сплетенный материал из мировых линий в пространстве и времени, где все движется свободно, и разные возможные варианты истории складываются воедино, чтобы описать то, что происходило.
Фримен Дайсон. «Беспокоя вселенную»Существует множество путей, позволяющих попасть в одно и то же место.
Возьмите дюжину блестящих мыслителей, и они, вероятнее всего, выдумают две дюжины разных способов для решения одной-единственной проблемы. Работа же с проблемами квантовой электродинамики требует сконцентрированных усилий множества специалистов. Три конференции, проведенные Национальной академией наук США, одна на острове, другая в горах и третья в долине, предложили три разных взгляда на мир элементарных частиц, и только впоследствии теоретики смогли их, к счастью, совместить.
Ричард Фейнман всегда шел собственным путем, и его версия квантовой электродинамики потребовала нового лексикона – диаграмм Фейнмана, – который полностью изменил ситуацию в этой отрасли науки. Поначалу казавшиеся бессмысленными закорючки стали сущностью скорописи, применяемой чтобы моделировать поведение частиц.
В процессе их создания, позаимствовав подход интеграла по траекториям из собственной диссертации, Фейнман кардинально трансформировал понятие времени в квантовой физике. Гибкость, существующую в нашем мире в плане выбора маршрута, он приложил к миру частиц, вот только последние, в отличие от людей, могут пройти всеми путями одновременно.
Остров мечты
В солнечный, мягкий уикенд после Дня поминовения[9] 1947 года физики собрались в штаб-квартире Американского физического общества на Манхэттене, чтобы отправиться на экскурсию. Штаб-квартира находилась неподалеку от Пенсильванского вокзала, а поскольку многие прибыли на поезде, выглядела хорошим местом для встречи.
Затем, словно школьники на прогулке, они погрузились в ветхий автобус и покатили в сторону поселка Гринпорт на Лонг-Айленд, где им предстояло пересесть на паром до Шелтер-Айленд.
За спиной остались месяцы планирования, и Джон Уилер предвкушал дискуссии по поводу взаимодействия между электронами, позитронами и другими частицами. Конференция давала отличную возможность вовлечь в обсуждение величайшие умы современности, включая неофициального лидера американских физиков, Роберта Оппенгеймера.
Может быть, удастся обратить кого-нибудь в свою веру «все – это электроны», и уж точно интересно будет понаблюдать за реакцией других на такую точку зрения.
Виктор Вайскопф и Джулиан Швингер не могли дождаться встречи с Лэмбом. Неофициально они уже знали об ошеломляющих результатах его экспериментов, а в поезде из Бостона обсуждали потенциальные возможности приложения формулы Вайскопфа, касающейся определения энергии электрона, к каждому из двух состояний, которые изучал Лэмб. Эта формула приводила к бесконечности не так быстро, и выглядела более перспективной, чем нерелятивистский эквивалент.
Вычитание этих двух энергий привело бы к конечному сдвигу того сорта, который обнаружил Лэмб.
А где был Фейнман?
Он либо пропустил автобус56, либо решил не ехать на нем (в интервью более позднего времени он не был уверен, почему так случилось; возможно, он навещал семью). Ричард, само собой, прекрасно знал Лонг-Айленд, поскольку вырос в Фар-Рокэуэй, поэтому он собрался ехать до Гринпорта на машине.
Автобус неспешно тащился через разные боро Нью-Йорка, затем через округ Саффолк, пропуская множество автомобилей, двигавшихся в обратном направлении. Праздничные выходные подходили к концу, и народ массово возвращался в город с пляжей.
Наверняка водители удивились бы, знай они, что в автобусе едут многие из создателей атомной бомбы.
Но едва физики прибыли в Гринпорт, как местные поняли, что происходит нечто. Полицейские на мотоциклах проводили гостей через поселок, перекрыв все движение на перекрестках, а затем автобус добрался до отеля, где ученым предстояло провести ночь.
Фейнман присоединился к группе в ресторане, где физиков накормили до отвала. Когда с трапезой было покончено, хозяин отеля поднялся и поблагодарил ученых за то, что они выиграли войну; его сын служил на Тихом океане, когда Япония сдалась, и вернулся домой живым и здоровым.
На следующий день ученые пересели на паром, и в конечном итоге прибыли в «Рэмз Хеад Инн».
Конференция длилась три дня, со 2 по 4 июня, и каждое утро начиналось с речи одного из лидеров дискуссий – последовательно Оппенгеймер, Крамерс и Вайскопф. Затем разворачивались собственно обсуждения.
Кое-кто вспоминал, что давящее присутствие Оппенгеймера ощущалось все время.
Доклад Лэмба, как и предвидели Швингер и Вайскопф, вызвал большое оживление, но и сообщения о других экспериментах дали теоретикам много пищи для размышлений. Исидор Раби, работавший в двух разных лабораториях Колумбийского университета, побудил двух своих аспирантов, Джона Нейфа и Эдварда Нельсона, провести высокоточный эксперимент, нацеленный на то, чтобы измерить «магнитный момент» электрона, физический параметр, связанный с тем, как частица реагирует на магнитное поле.
Физики на конференции в Шелтер-Айленд, 1947 год. Слева направо: Уиллис Лэмб, Абрахам Пайс, Джон Уилер, Ричард Фейнман, Герман Фешбах и Джулиан Швингер.
Источник: AIP Emilio Segre Visual Archives.
Раби объявил на конференции, что его команда добилась несколько большего, чем они ожидали. Он доложил об аномальных результатах в измерении той же величины, полученных его коллегой Поликарпом Кушем, который использовал другие методы.
Грегори Брейт, сотрудничавший с Раби в том, что касалось интерпретации экспериментальных данных, сделал доклад по поводу понимания затронутой темы. Продемонстрировал, что расхождение между исходным и скорректированным магнитным моментом выглядит пропорциональным к важному теоретическому параметру, именуемому «постоянная тонкой структуры». Ее обычно обозначают греческой буквой альфа, а равняется она 1/137. Постоянная тонкой структуры характеризует величину электромагнитной силы, она определяет, как будут взаимодействовать между собой заряженные частицы, такие как электроны и фотоны.
Если принять, что такая пропорциональность не является просто совпадением, эта связь между расхождением и постоянной тонкой структуры может продемонстрировать, как виртуальные фотоны вакуума каким-то образом оказывают влияние на магнитные свойства электронов.
Лэмбовский сдвиг и аномальный магнитный момент электрона указывали, что нужно пересмотреть модель электрона. Поэтому большая часть дискуссий на конференции крутилась вокруг этого вопроса.
Вайскопф предложил свои соображения, базирующиеся на гипотезе, что окружение электрона влияет на его свойства. Швингер согласился с этой точкой зрения и принялся размышлять о том, как переписать квантовую электродинамику, чтобы принять во внимание взаимодействие с вакуумом.
В голове он держал план последовательно воспроизвести все экспериментальные результаты. Но личные дела отвлекли его, ведь уже через несколько дней после завершения конференции Швингер вступил в брак с Клэрис Кэррол. Затем последовало длинное свадебное путешествие вокруг Соединенных Штатов, и лишь потом он смог вернуться к науке. Только в сентябре Джулиан приступил к переработке квантовой электродинамики в своей систематической и математически выразительной манере.
Фейнман выступил в последний день встречи на Шелтер-Айленд, когда все собирались домой. Он обнародовал то, что начал именовать «временно-пространственным подходом» к квантовой механике: в сущности, математические методы из диссертации Ричарда, примененные, чтобы описывать взаимодействия между электронами, и среди них интеграл по траекториям.
На этой стадии методика не могла объяснить феномен Лэмбовского сдвига. Концепция не выглядела зрелой, поэтому коллеги встретили доклад без воодушевления. После конференции Фейнман внес несколько важных изменений, более успешно применил свое представление и, в конце концов, добился цели – создал теорию, способную конкурировать со швингеровской, но совершенно с иным языком и уникальным взглядом на время.
Трюки на вечеринках
Конференция закончилась, и Фейнман отправился обратно в Корнелл.
Там он жил в Теллурид-хаус, специальном общежитии для студентов и преподавателей. Постояльцам предлагалось бесплатное питание и достаточно пространства для научной работы. Поскольку Ричард любил проводить время среди студентов, место казалось ему идеальным.
Ханс Бете вернулся в университет более хитрым путем – по менее вероятной траектории, если использовать терминологию интеграла по траекториям. Чтобы решить вопросы, связанные с консультациями для «Дженерал Электрик», он на несколько недель остановился в городке Скенектади.
В поезде по пути туда он взял карандаш и бумагу и принялся размышлять о том, как можно обсчитать Лэмбовский сдвиг. Подобно Фейнману, Бете любил работать на лету. Долина Гудзона катилась назад за окнами, и все больше и больше символов и чисел возникало на бумаге.
Бете начал с идеи, многократно обсужденной на конференции, что взаимодействия с квантовым вакуумом влияют на массу и энергию электрона. Убрав из рассмотрения постоянные отрезки времени, Ханс в итоге сумел добиться конечных величин. После прибытия на место он пустил в дело числа и понял, что попал в цель: получил величину, близкую к экспериментальной в 1000 мегациклов в секунду.
Достаточно странно, но на время своего отсутствия Бете запланировал вечеринку и пригласил туда Фейнмана. Когда стало ясно, что придется ехать в Скенектади, Ханс почему-то решил не отменять ее и даже не отложил. Зная, что Ричард появится у Бете дома, он решил туда позвонить, и в результате состоялся весьма оживленный и интересный разговор.
Узнав, что Бете удалось воспроизвести экспериментальную величину, Фейнман был заинтригован.
Бете записал свои расчеты по поводу Лэмбовского сдвига, разослал по мимеографической копии всем участникам конференции и представил статью для печати. Гипотеза не вызвала революции в квантовой электродинамике, поскольку не брала в расчет релятивистский эффект, но все же она показала, куда можно двигаться.
Вайскопф кипел от негодования, ведь это он изначально предложил идею, что Лэмбовский сдвиг является следствием взаимодействия облака виртуальных частиц. Определенно, он упоминал об этом на конференции и говорил о своих догадках Бете.
Только вот последний представил результаты так, будто сделал все сам! Вайскопф же чувствовал, что неплохо бы упомянуть его как соавтора или по меньшей мере поблагодарить за вклад. Он бранил себя за то, что не опубликовал свои догадки ранее, чтобы застолбить идею.
Как вспоминал физик Курт Готфрид, учившийся у Вайскопфа: «Вики… чувствовал, что Бете слишком сильно чествовали, но он также признавал, что сам вряд ли бы завершил все вычисления к тому моменту, когда Ханс подготовил работу к публикации. Некоторое время ситуация здорово его расстраивала»57.
Бете вернулся в Корнелл и решил организовать семинар по поводу своего открытия. Фейнман, находившийся среди слушателей, увидел, что хотя расчеты Ханса отлично подходят к Лэмбовскому сдвигу, они все же выглядят сделанными наобум, непоследовательными.
В них содержалось несколько сокращений бесконечных величин, не имевших адекватного обоснования. Просто Бете требовалось избавиться от бесконечностей, чтобы получить реалистичный, конечный ответ, и он это сделал, и в конечном итоге, словно в результате трюка фокусника, добыл искомые 1000 мегациклов в секунду.
Один плюс – бесконечность равна бесконечности. Два плюс бесконечность равна бесконечности, любое число при сложении с бесконечностью дает бесконечность. Следовательно, бесконечность минус бесконечность может равняться любому числу, и как мог Бете подтвердить то, что его собственное вычитание бесконечностей приводит к попаданию в яблочко?
Бете делал расчеты, не принимая во внимание релятивистский эффект, и об этом Фейнман сказал Хансу по окончании семинара, как и том, что специальную теорию относительности тоже нельзя игнорировать. На следующий день Ричард явился в кабинет к начальству с первыми прикидками по этому поводу.
А в последующие месяцы Фейнман приложил свой гений к тому, чтобы разработать принципиально новый подход к квантовой электродинамике, применимый как к Лэмбовскому сдвигу, так и к другим экспериментальным результатам.
Линии волнистые, линии прямые и петли
Использовав все инструменты, которыми он овладел в Принстоне, Фейнман начал понимать, что электроны взаимодействуют с квантовым вакуумом способом, изменяющим их массу и заряд. Ему понадобилось несколько этапов, чтобы привести свои результаты в соответствие с тем, что считалось нормальным.
Во-первых, нужно было ликвидировать утверждение, относящееся еще ко временам в МТИ, что электроны не взаимодействуют сами с собой.
Фактически они взаимодействуют, и об этом свидетельствует то, что они могут испускать виртуальный фотон, а затем поглощать его обратно. Эта идея лежала за пределами вычислений Бете, и Фейнман знал, что ему так или иначе придется принять ее.
Поэтому он отложил действие на расстоянии и вернулся к более стандартной концепции взаимодействия электронов через фотоны.
Во-вторых, требовалось отставить мысль о движущихся назад во времени сигналах и обратной причинности. Бете не включил в рассмотрение такую возможность, и, следовательно, она не требовалась и Фейнману. Все равно он сомневался, что на самом деле существуют подобные вещи, пусть даже теория поглощения настаивает на их реальности. Поэтому Ричард заменил смесь пятьдесят на пятьдесят прямых и обратных сигналов на сигналы, идущие только вперед.
Другими словами, фотоны путешествовали только в будущее, и причина всегда опережала следствие.
Но Фейнман, несмотря ни на что, сохранил два аспекта предыдущих гипотез. Хотя он отказался от идеи движущихся назад во времени сигналов, концепцию позитронов как движущихся назад во времени электронов (которую высказал Уилер) он оставил. Единственная альтернатива для описания позитронов базировалась на дырочной теории Дирака и была крайне сложной в приложении к точным вычислениям. Двигающиеся назад во времени электроны Уилера казались безумием, но их легко было описать математически.
Фейнман просто проигнорировал утверждение, что все электроны это один и тот же электрон, содержащееся в гипотезе наставника, и перешел к более полезному подходу: простому пути представления позитронов. Что более важно, он продолжил использовать интеграл по траекториям, загоняя квантовую электродинамику в рамки своего пространственно-временного подхода.
Его метод базировался на приписывании каждому из возможных квантовых путей определенного значения, названного «амплитудой» и полученного перемножением преобразующих функций. Возведенные в квадрат амплитуды определяют вероятности. Получился разумный и продуктивный способ описания того, как квантовые поля взаимодействуют в физике частиц.
Уилер в свое время вбил в голову Фейнману важность диаграмм в описании физических феноменов. Ричард любил рисование и находил визуальные репрезентации очень полезными, так что он решил придумать собственную стенографию, чтобы изображать взаимодействия элементарных частиц.
Пространство откладываем по одной оси координат, время – по другой и получаем сущность того, как ведут себя частицы. И, в качестве бонуса, пространственно-временные диаграммы выглядят идеально для того, чтобы включить в рассмотрение эффекты специальной теории относительности. Такие репрезентации в виде рисунков, впоследствии получившие развитие в дискуссиях с Фрименом Дайсоном о графах в математике, вскоре стали известны как «диаграммы Фейнмана».
Ранние их образцы выглядели сравнительно примитивными, скорее, набросками. Постепенно, обсуждая технику с Фрименом, Ричард выработал строгий порядок их создания, а вклад первого в разработку метода был так велик, что многие ранние отсылки к нему упоминают Дайсона как соавтора.
В финальной версии диаграмм Фейнмана электроны (и другие частицы материи) изображались в качестве отрезков прямой, нацеленных вперед во времени, и стрелки обычно указывали их направление. Позитроны тоже представали как отрезки прямой, но ориентированные назад во времени. Волнистые линии символизировали фотоны, как они испускаются или поглощаются заряженными частицами, или как улетают в пространство. Петли показывали виртуальный электрон и виртуальный позитрон (или другую пару частица-античастица), появляющиеся из вакуума и затем возвращающиеся в него посредством взаимной аннигиляции.
Другой способ восприятия описанного петлей процесса – виртуальный электрон кружит через время, назад и вперед, снова и снова; и в этом смысле замкнутый круг символизировал нечто вроде квантового Уробороса (змея, поедающая собственный хвост).
Следовательно, для электрона, испускающего фотон, который будет захвачен другим электроном, диаграмма покажет отрезки прямой для каждого влетающего электрона, волнистую линию, соединяющую их пути, и направленные под различными углами отрезки для исходящих электронов. Изменение в направлениях электронов станет результатом обмена фотонами, а стрелка для каждого электрона будет направлена вперед во времени; иначе диаграмма отобразит позитроны.
Чтобы принять в расчет интеграл по траекториям, Фейнман рисовал отдельную диаграмму для каждой из возможных траекторий. Конечно, некоторые являлись менее вероятными, чем другие, но в расчетах должны были участвовать все, взвешенные с учетом их вероятности. Следовательно, типичное событие в жизни частиц, такое как рассеивание, будет описываться набором диаграмм, а не одной.
Еще Ричард рассчитывал возможные значения для спинового квантового числа, другого важного фактора.
Чтобы показать, как вакуумные эффекты производят Лэмбовский сдвиг, Фейнман изобразил отрезок прямой для «голого электрона» и назвал его «прямым путем». После этого он пририсовал к сегменту волнистую кривую, показывая, что произойдет, если электрон испустит, а затем поглотит виртуальный фотон. Он интерпретировал введение фотона как «коррекцию», соответствующую определенной квантовой флуктуации.
Это была одна из возможных траекторий.
Другая диаграмма, с которой Фейнман работал позже, включала петлю, соединенную с отрезком посредством волнистой линии. Диаграмма описывала электрон, испускающий виртуальный фотон, в свою очередь, производящий виртуальную пару частица-античастица.
Добавив эти две диаграммы, Ричард получил коррекцию первого порядка (самую базовую) к энергии электрона, дающую приближенное значение для спектрального сдвига, зарегистрированного Лэмбом и Резерфордом. Чтобы получить коррекцию второго порядка, необходимо использовать диаграммы с двумя петлями, и т. д.
В своем стремлении добиться правильных значений Фейнман позволял себе некоторые вольности. Пока он разрабатывал метод диаграмм, он не проверял их математическую точность.
Тем не менее схема, пусть с поправками, но работала. Она была чем-то вроде временной радарной системы, созданной с помощью кучи проводов, когда радость вызывает сам факт, что она функционирует, что засветки появляются на экране, а мысли по поводу того, верно ли соединены все контакты, не приходят в голову.
«Ты знаешь, что большая часть моей работы в какой-то степени удачная догадка, – писал Фейнман позже физику Теду Велтону из Пенсильванского университета, старому другу по МТИ. – Математическое обоснование обычно следует за физическими идеями, которые я не всегда полностью понимаю, хотя они кажутся мне очень простыми»58.
Фейнман преимущественно заботился о том, соответствуют ли его результаты экспериментальным данным или нет. Математики и философы могут тратить силы, споря о причине и рифме, но только не он. Когда диаграммы Ричарда давали корректный ответ предсказуемым образом, он чувствовал себя счастливым.
Как заметил историк науки Дэвид Кайзер: «Фейнман пылко верил, что диаграммы были более важными и значимыми, чем обоснование их применения. Фактически Фейнман игнорировал эту тему в его статьях, лекциях и переписке»59.
К счастью, Дайсон, объявившийся в Корнелле в качестве аспиранта Бете, помог развить и продвинуть диаграммы Фейнмана, связав их с другими интерпретациями квантовой электродинамики. Его унификация различных методов оказалась очень важной для окончательного успеха.
Одиссея англичанина в Итаке
Фримен Дайсон вырос на юге Англии и проводил каникулы в доме на берегу моря. Его отец был сочинителем классической музыки, самой известной работой которого стали «Пилигримы из Кентербери», а мать – поклонницей Чосера, так что любовь сына к книгам и тихим размышлениям не удивляла родителей.
Тем не менее они изумились60, когда однажды на рождественские каникулы Фримен принес домой учебник по дифференциальному исчислению и читал его по четырнадцать часов в день. Он решил все задачи и дал письменное обязательство обосновать теорию Эйнштейна.
Для Дайсона это было лучшее Рождество.
Через Винчестер-колледж и Кембридж он попал в Корнелл, на факультет физики, руководимый Бете и часто оглашаемый «серенадами» на барабанах в исполнении Фейнмана. Затворник и хулиган быстро сошлись, Фримен и Ричард стали отличными друзьями.
Важнее всего то, что Дайсон помог привлечь внимание к работе Фейнмана со стороны научного сообщества, продвигая метод диаграмм, одновременно вдохновляя приятеля укрепить его математическую основу, и в конечном итоге связав метод с гипотезами Швингера.
Когда Дайсон появился в Корнелле как аспирант в сентябре 1947 года, царившая в университете неформальность поразила его. Все называли Бете просто «Ханс» – неслыханная вещь в Британии того времени. Фримен также оказался изумлен61 небрежностью известного физика, особенно грязными ботинками, что красовались на нем во время их первой встречи.
Если бы преподавателя Кембриджа увидели в такой обуви, то люди решили бы, что он упал в придорожную канаву. Но в Соединенных Штатах это было в порядке вещей.
Ханс выглядел не совсем обычно, Ричард казался настоящим безумцем, но скромному Дайсону он понравился. До сих пор он не встречал никого, похожего на гения из Фар-Рокэуэй – с привычкой лупить по барабанам ночью и диким чувством юмора. Фейнман нарушал порядок с таким щегольством, которого Дайсон никак не ожидал, особенно от профессора.
Поначалу он нашел методы американского коллеги, мягко говоря, странными. Однако, как бы дико они ни смотрелись, они работали, и не только воспроизводили результаты Бете, но и предсказывали вещи, которые Ханс не мог рассчитать.
Как в книге Эдит Несбит «Волшебный город», которую Дайсон любил в детстве, чудеса просто возникали из воздуха в этой вселенной, живущей по безумным правилам. Сумасшедший играл на бонго в два часа ночи, все что угодно могло случиться в любой момент. Электроны любили закладывать мертвые петли во времени, или сочетались с волнистыми кривыми из вакуума. В реальность могли входить самые невероятные возможности. Добавьте еще вот это, абракадабра, фокус-покус, и вы можете предсказать линии в спектре водорода.
Дайсон вспоминал, описывая свое первое столкновение с подходом Фейнмана к квантовой физике: «Впервые я услышал об интеграле по траекториям прямо от Фейнмана в 1947 году, и тогда я был поражен и пришел в недоумение. Поражен по той причине, что картина выглядела физически правильной, а недоумевал из-за того, что с точки зрения математики она казалась чепухой»62.
Прошло некоторое время, прежде чем Ричард побеспокоился о том, чтобы изложить математическое обоснование своих методов.
Пока этого не случилось, он мог рассчитывать все с помощью таинственных диаграмм, словно заклинатель, хранивший свои методы в тайне. Ему нравилась озадаченность на лицах людей, видевших, как он пришел к правильному ответу без каких-либо видимых уравнений. Дайсон, наоборот, представляя метод более широкой аудитории (одна из его вариаций некоторое время даже именовалась «диаграммами Дайсона»), старался показать его математически обоснованным и для этого копал глубже.
Математик Марк Кац однажды сравнил Бете и Дайсона с Фейнманом, заявив: «В науке… существуют два типа гениев: ординарные и магические. Бете и Дайсон были отличными математиками, они двигались вперед ясным, логичным путем. Фейнман, наоборот, не был ординарным гением, он выглядел так, словно может извлечь результаты прямо из воздуха, и мог называться “волшебником высшего класса”»63.
Марафон на вершину
Продолжение конференции на Шелтер-Айленд состоялось в «Поконо Мэнор Инн» в горах Поконо (Пенсильвания) с 30 марта по 2 апреля 1948 года и вышло столь же плодотворным, хотя больше за счет представления новых теоретических моделей, а не из-за демонстрации экспериментальных результатов.
Швингер стал звездой этой встречи, он представил тщательно разработанную, математически стройную версию квантовой электродинамики, в которой был достигнут значительный прогресс на пути сокращения бесконечных величин и получения конечных значений. Фейнман выступил не с такой помпой, он изложил свой метод, связанный с диаграммами и интегралом по траекториям.
На конференции были новые люди, не посетившие первую, в том числе Нильс Бор (и его сын Оге), Юджин Вигнер и Дирак.
Исторический отель, прозванный «Знатной дамой гор», обеспечил комфорт. Оппенгеймер вновь всем руководил, ведь для американских физиков он все так же оставался бесспорным лидером.
Гости конференции проводили дни в беседах, особенно насыщенным оказался день, когда выступил Швингер. Он говорил почти восемь часов, рисовал на доске уравнение за уравнением, описывая свой подход к квантовой электродинамике, который соответствовал новым экспериментальным данным. Джулиан исходил из концепции Крамерса о перенормировке, о переопределении массы и заряда с целью исключения бесконечных значений, но в то же время не принимал полный отказ от Дирака, на котором настаивал голландец.
Вместо этого Швингер обобщал релятивистский квантовый концепт электрона, предложенный британцем, чтобы включить электромагнитные взаимодействия и получить имеющие смысл конечные ответы. Манипуляции с массой и зарядом представали нужным трюком, чтобы исчезли те самые величины, которые создавали проблемы, рассеялись темные облака расходимости, и остались лишь чистые небеса.
Получить конечный результат из бесконечной суммы на первый взгляд кажется невозможным. Тем не менее иногда ответ лежит в том, как распределить все по группам. Альтернативные пути группировки и подсчета могут показать, что внешне бесконечная сумма на самом деле конечна.
Давайте рассмотрим для примера причудливую ситуацию, в которой Питер Пэн и Венди бесконечно долго живут вместе в Неверлэнде и каждый день меняются подарками. Предположим, что он дает ей три золотых побрякушки по утрам, а она ему – шесть серебряных безделушек вечером. Поскольку шесть серебряных стоят ровно столько же, сколько три золотых в валюте Неверлэнда, то это честный обмен.
По любому разумному расчету потери и приобретения Питера каждый день сводятся к нулю.
Предположим, что однажды Питер теряет собственное отражение, настроение его портится, и он решает подвести итог собственной жизни. Он складывает количество золотых побрякушек, подаренных Венди на протяжении бесконечности, и понимает, что это будет бесконечная сумма. После того как он ссорится с Венди, она тоже проводит подсчет и понимает, что отдала ему бесконечное количество цацек. Они бесконечно сердиты друг на друга, но тут, к счастью, прибывает фея Швингер-Белл… ой, извините, Тинкер-Белл, и показывает им, как сгруппировать предметы по дням так, чтобы получить конечный ответ.
Каждый день, указывает Тинкер-Белл, сальдо обмена сводится к нулю. Следовательно, складывая эти нули вместе день за днем, мы получаем конечный ответ: нуль. Бесконечности возникали просто из-за неудачных методов подсчета. Удовлетворенные таким результатом Питер и Венди живут счастливо до конца вечности в покое и роскоши.
У нас нет свидетельств того, что во время марафонской речи Швингера кто-то утомился до такой степени, что заснул и видел подобные эксцентричные сновидения. Математика, описанная Джулианом, пусть убедительная и разложенная по полочкам, могла казаться волшебством, а продвинутая техника расчета известных экспериментальных значений, таких как Лэмбовский сдвиг и аномальный магнитный момент электрона, выглядела настоящим чудом. А уж презентация такой длины была и вовсе подвигом.
Уилер, делавший подробные заметки о конференции, посвятил сорок страниц тому, что говорил Швингер, это куда больше, чем отведено любому из докладчиков.
Достижение Швингера стало результатом многомесячных усилий и смотрелось впечатляюще. С сентября 1947-го он превратился в человека-электростанцию, работающую ради одной теории. Свадьба и медовый месяц остались позади, и он позволил себе направить всю мощь интеллекта на одну цель, на создание работающих формул квантовой электродинамики.
Догадки Вайскопфа по поводу роли вакуумной поляризации и концепция Крамера о «дистилляции» чистой массы электрона из экспериментальной с помощью перенормировки стали основой его вычислений. Швингер извлек много пользы из областей математики, именуемых «теория групп» и «калибровочная теория», исследованных Вигнером, математиком Германом Вейлем и др.
Выступая перед коллегами, Джулиан показал, насколько глубоко и полно он разбирается в теме.
Необычным было то, что Швингер хотел в своей работе добиться всего в одиночку. Никаких соавторов, один-единственный исследователь. Забавно, но на протяжении карьеры он принимал огромное количество аспирантов, намного больше, чем тот же Фейнман, и всегда побуждал учеников к тому, чтобы они полагались только на себя.
Другие ученые шутили, что Швингер желает воцариться в квантовой физике с помощью оригинальной методологии. «Журнал юмористической физики», серия шуточных выпусков, которые готовили к дням рождения Бора, включал сатирический путеводитель по успешным публикациям в физике. Шаблон насмешки начинался с фразы «Согласно Швингеру…» и советовал исследователям самим заполнить лежащий ниже бланк.
Искусно подготовленное выступление Швингера на конференции в Поконо свидетельствовало о такой попытке «занять трон».
Разгром
К концу эпического доклада Швингера слушатели были утомлены настолько же, насколько и впечатлены. Увы, но следующим в расписании оказался Фейнман. Обычно яркий лектор, в этот раз он недостаточно хорошо подготовился к тому, чтобы объяснять новые идеи. Вместо того, чтобы начать с основ, с принципа наименьшего действия, интегралов по разным путям и т. д., он стартовал так, словно все знают теорию и можно переходить к примерам.
Поэтому остальные почувствовали себя так, будто они пропустили первую часть курса продвинутой физики и оказались на второй части, посвященной решению конкретных проблем. Гости конференции ощутили не только усталость, но и потерянность в пространстве и времени.
Для основного примера Фейнман выбрал два электрона, которые взаимодействуют с помощью виртуального фотона. После того как Ричард быстро попытался объяснить, как рассчитывать их поведение, используя его диаграммный метод, толпа осоловевших ученых просто перестала понимать, что он делает.
Фейнман мчался через концепцию интеграла по траекториям, упоминал, что позитроны – это путешествующие назад во времени электроны. Уилер, продолжавший делать заметки, по крайней мере, мог разобраться в этой части… но остальные вовсе нет!
Собравшиеся в большинстве своем знали о том, как много Ричард сделал в Манхэттенском проекте, кое-кто был в курсе его трагической потери и осознавал, какую душевную травму принесла ему война и принятые в ее годы суровые решения. Наверняка в некоторых головах шевелились подозрения, не пострадал ли Фейнман душевно… может быть, гений просто слетел с катушек?
После выступления Ричарда Бор начал дискуссию и в своем обычном мягком стиле высказал язвительную критику. Датчанин не разобрался в каракулях Фейнмана и указал, что принцип неопределенности Гейзенберга запрещает изображать траектории электронов по мере их движения через пространство с течением времени.
Как мог докладчик утверждать, что рисует настоящие траектории этих частиц?
Бор обрушился и на утверждение, что электроны могут путешествовать назад во времени, ведь оно целиком противоречило основаниям классической физики. Эдварда Теллера поразило, что гипотезы Фейнмана, по всей видимости, не соответствовали принципу Паули в том, что два электрона не могут находиться в одном энергетическом состоянии.
Уилер продолжал записывать, но, насколько свидетельствуют очевидцы, в защиту ученика не выступал. Он всегда относился к Бору, собственному наставнику и образцу для подражания, с предельным уважением и почтением.
Среди собравшихся Дирак оказался лучше всех, помимо Уилера, подготовлен к тому, чтобы оценить интеграл по траекториям, поскольку тот частично базировался на его собственной работе. И британец поинтересовался: занимаясь суммированием взвешенных амплитуд различных траекторий, проверял ли Фейнман, чтобы сумма всех вероятностей оказалась 100 %?
Ко всеобщему изумлению, Ричард ответил, что нет.
Это выглядело очевидным промахом, поскольку сумма могла либо не охватывать все способы взаимодействия, либо перекрывать с избытком. Напоминало ситуацию, когда ловкий мошенник заявляет, что с учетом пятидесятипроцентных шансов найти монетку под одной из трех чашек (либо она там есть, либо нет) общая вероятность ее обнаружения составляет 150 %.
Так просто нельзя вычислять.
Фейнману нужно было проверить итог и скорректировать коэффициенты, если в этом возникнет необходимость.
Другие критики указали, что докладчик не принял в рассмотрение квантовую поляризацию, в то время как эта инновация Вайскопфа стала важной частью вычислений Швингера. В представлении Фейнмана ей оказалась посвящена диаграмма с одной петлей. Для краткости он решил представить нечто максимально базовое, просто два электрона, которые обмениваются фотоном, но тем самым обманул ожидания аудитории, настроенной на объяснение важнейших экспериментальных открытий, Лэмбовского сдвига и аномального магнитного момента.
Швингер сумел это сделать, Фейнман, по всей видимости, рисовал бессмысленные каракули.
Бете с сочувствием отнесся к коллеге, который вернулся с конференции в ужасном состоянии. Фейнман решил переработать свои идеи, представить в виде статьи, где все будет объяснено более подробно.
Как вспоминал Бете: «Фейнман мог похвастаться совершенно новым взглядом на вещи, который я понимал, но большинство людей находило странным. Особенно Нильс Бор, который в конечном итоге был для нас всех вождем. Бор не смог понять этого, не сумел поверить в подобное, он привел веские возражения и обошелся с Фейнманом не очень-то хорошо. И Фейнман, конечно, оказался сильно разочарован, поскольку он, по собственному мнению, предложил прекрасную теорию. И столкнулся с величайшими квантовыми физиками, которые взяли и не поверили ему. Так что когда он вернулся домой, мне пришлось утешать его. Я был на встрече, слышал его выступление, видел реакцию Бора. К сожалению, Фейнману нравилось представлять свою работу – по меньшей мере, тогда – настолько парадоксальной, как только возможно. Но из-за этого ее не поняли люди вроде Бора»64.
Дикое турне
После конференции чувство уверенности в себе у Фейнмана, только воспрявшее после взрыва творческой продуктивности, само собой, снова оказалось на низком уровне. Он не сумел как надо подготовиться к вопросам после выступления и поэтому претерпел унижение перед лицом Бора, Дирака, Оппенгеймера и остальных, всей «аристократии» квантовой физики.
Его жизнь была чем-то вроде «Циклона» с Кони-Айленд, старого аттракциона, с острыми пиками и крутыми спусками, на которых внутренности просто смерзаются. В трудные моменты он чувствовал, что все расчеты бессмысленны, поскольку никакие исследования не остановят распространение атомного оружия, не предотвратят всеобщего уничтожения.
Фактически именно его работа помогла открыть ящик Пандоры в Лос-Аламосе.
Бессмысленно цепляться за прошлое, ведь его не изменить, но и он, и мир совершили огромную ошибку.
Как обычно, в тяжелой ситуации, полной самообвинений, Фейнман направлял все силы на преподавание. Он чувствовал себя более уверенно, работая со студентами, а не взирая на иконы физики. Более того, тратить время на развитие и обучение молодых умов куда продуктивнее, чем на нытье, а последним он никогда не любил заниматься.
Ну а если возникали проблемы со сном, то рядом всегда были любимые бонго.
Другим приятным отвлечением, которому Ричард предавался при любой возможности, если удавалось ускользнуть из кампуса, был флирт с привлекательными женщинами, и его не волновало, что они думают или знают о физике. Молодой и симпатичный, он время от времени ухлестывал и за студентками, и те поражались, узнав, что имеют дело с преподавателем.
Некоторое время он поддерживал переписку с женщиной из Нью-Мексико, с секретаршей, с которой познакомился еще в Лос-Аламосе. Но тут она начала упоминать в письмах о другом парне, который вроде бы ей нравился. Надеясь посетить ее65, отвадить других ухажеров и может быть разжечь чувства, Фейнман решил отправиться в Альбукерке на машине. Более того, он соскучился по свободе Дикого Запада, хотел ощутить ее снова, и для путешествия выбрал летние каникулы 1948-го.
Очень удачно, что Дайсону в то же время понадобилось отправиться на запад, поскольку его пригласили на летний семинар в Анн-Арбор, Мичиган, чтобы он мог прослушать экспресс-курс Швингера по квантовой электродинамике. Бете настоятельно рекомендовал Дайсону изучить эти методы.
Фейнман предложил Дайсону подвезти того до Альбукерке.
Для Дайсона это было не очень удобно, поскольку, во-первых, занятия начинались в августе, а Ричард собирался пуститься в путь в июне, во-вторых, Анн-Арбор и Альбукерке близки только алфавитно, но никак не географически, между ними тысячи миль.
Такая траектория в пространстве-времени не могла называться эффективной с точки зрения элементарной частицы, по крайней мере, находящейся в здравом уме и твердой памяти.
Увы, но принцип минимального времени Ферма был в этой ситуации послан к чертям. Дайсон хотел исследовать американский Запад, пусть даже несколько причудливым образом. Он решил отправиться в Альбукерке с Фейнманом – четыре дня на машине, – а несколько позже, когда придет время ехать в Анн-Арбор, двинуться туда на автобусе. Стипендия, по которой он учился в США, позволяла тратить деньги на путешествия.
В те дни, когда еще не было федеральных автострад, лучший маршрут со Среднего Запада на Юго-Запад пролегал по трассе 66. Вьющийся хайвэй соединял многочисленные городки и в каждом из них неизбежно становился главной улицей. Заправочные станции, дешевые отели, задымленные бары и грязноватые кафе нарушали монотонность пейзажа.
Долгое путешествие только укрепило дружбу двух мужчин. За окнами проносились бесконечные поля и слегка всхолмленные пейзажи плато Озарк, а они разговаривали о жизни, увлечениях и взглядах на физику. Неоднократно они брали пассажиров, невзирая на внешний вид: даже самый мрачный и грязный автостопщик не мог смутить Фейнмана. Ну а Дайсону только оставалось полагаться на суждения спутника и получать удовольствие от поездки, не пытаясь предвидеть, что произойдет в следующий момент.
Когда приятели почти достигли Оклахома-Сити, небеса внезапно разродились ливнем. Дорога оказалась под приличным слоем воды, так что им пришлось вернуться в городок Винита и поискать место, где можно укрыться от стихийного бедствия. Поскольку другим путешественникам пришла в голову та же идея, выбор оказался невелик.
Фейнман решил остановиться около подозрительного на вид отеля, где место в комнате на двоих стоило пятьдесят центов за ночь, но зато двери в комнату не было, ее заменяла висящая простыня. Ну а манеры юных дамочек, которыми кишело заведение, навели Дайсона на мысль, что они угодили в бордель. По этому поводу он несколько разнервничался и решил не выходить из комнаты даже в ванную. Но поскольку деваться больше было некуда, они решили «окопаться» здесь, надеясь на лучшее.
Дождь молотил по крыше, и под его аккомпанемент два молодых физика позволили себе предельную откровенность. Фейнман вспомнил жизнь в Лос-Аламосе и признался, что считает только вопросом времени тот момент, когда ядерное оружие разрушит мир. Дайсон поразился такому апокалиптическому взгляду на будущее.
Ричард выглядел словно Кассандра с холодной головой, убежденная, что катастрофа неизбежна, но продолжающая жить как обычно.
Мир рядом с его нормальностью казался сошедшим с ума.
Потом их дискуссия повернула в сторону квантовой электродинамики, и Фейнман выразил надежду распространить свои методы на все известные силы, в конечном итоге достигнув единства, ускользнувшего от Эйнштейна. Если интеграл по траекториям работает для электромагнетизма, то почему бы не приложить его к ядерным взаимодействиям и гравитации?
Ричард описал грандиозную перспективу, в которой набор диаграмм, отражающих все возможные траектории, позволит нанести на карту все, что существует в природе.
Дайсон возразил, что куда лучше будет для начала сосредоточиться на электродинамике и согласовать друг с другом разные квантовые подходы: Фейнмана, Швингера, японского ученого Синъитиро Томонаги (он разработал свою концепцию во время войны, в научный оборот ее ввели Бете и Оппенгеймер вскоре после конференции в Поконо).
Теория Томонаги напоминала то, о чем говорил Швингер, но выглядела проще, ее описание возникло в японских журналах в 1943 году, а перевод на английский появился в 1948-м. Японский ученый во время конфликта был изолирован от научного сообщества, и поэтому его озарение поистине удивляло, особенно с учетом того, что оно появилось до открытия Лэмбовского сдвига.
На следующий день дождь все же закончился, и Ричард с Фрименом поехали дальше в сторону Техаса. На подъезде к Альбукерке они превысили скорость, попались на этом и получили штраф на астрономическую сумму.
В суде Фейнман, к счастью, убедил судью смягчить наказание.
После того как они разобрались с этим делом, Дайсон сказал «адью» и сел в автобус до Санта-Фе. Фейнман остался в Альбукерке лишь для того, чтобы узнать, что женщина, с которой он переписывался, не живет по старому адресу.
Но он некоторое время пробыл в городе, испытывая удачу с разными дамочками в барах по трассе 66.
Прибытие омнибуса
После Санта-Фе Дайсон пересаживался с автобуса на автобус, двигаясь на восток, в Мичиган. Он сам определял скорость передвижения, поскольку у него была куча времени до начала семинара. Колеса давили пыль на пересекающих прерию дорогах, солнце садилось за плоский горизонт, а молодой британец вел долгие разговоры с попутчиками.
Семинар, которым руководил Швингер, оказался удивительным.
На каждой лекции мел в руке Джулиана порхал по доске, слева направо, сверху вниз, снова и снова, оставляя за собой блестящие, выверенные уравнения. Каждый шаг следовал за предыдущим, определялся железобетонной математической логикой. Единственным недостатком казалось то, что тезисы нельзя было выразить в графическом виде, и поэтому они выглядели, скорее, математическими, чем физическими.
К счастью, у Дайсона были хорошие отношения со Швингером, и поэтому он имел возможность в частном порядке задать любые вопросы.
Дайсон делал записи и в конечном итоге освоил метод Швингера так же хорошо, как и технику Фейнмана. Немедленно он обнаружил ключевое различие между теориями.
Схема Швингера выглядела лишенным швов гобеленом, так идеально вытканным, что мало что можно сказать о том, почему и зачем это сделано. Если одна из петель распускалась, и Швингер не знал об этом, то распадалось все целиком, поскольку никто не осмеливался править работу мастера. Подход Фейнмана, наоборот, был сродни примитивной живописи, где работа ведется толстой кистью, все выглядит заляпанным и неуклюжим, но более завлекающим. Понятно, что этот метод имел слабости, но и потенциал. Другие могли использовать ту же самую технологию, чтобы заниматься собственной работой.
Можно ли искусно слить два подхода, создав единую живую теорию?
После завершения семинара Дайсон решил еще немного попутешествовать по стране. Он выбрал маршрут в стиле бумеранга, отправился сначала на запад в Сан-Франциско через Скалистые горы, а затем помчался обратно на Восточное побережье. Долгое путешествие дало ему много времени на размышления по поводу того, как совместить два подхода.
На последнем отрезке маршрута – несколько дней и ночей движения на восток по хайвею – в его мозгу кристаллизовалась унифицированная версия квантовой электродинамики. К собственному удовольствию, Дайсон сообразил, что он может записать формульную систему Швингера так, что она естественным образом распадается на серию диаграмм Фейнмана.
Другими словами, обозначения могли быть выражены как интеграл по траекториям… он фейнманизировал Швингера!
Фримен Дайсон в институте перспективных исследований в Принстоне, Нью-Джерси.
Источник: AIP Emilio Segre Visual Archives, Physics Today Collection.
Ну а работа Томонаги имела много общего с теориями Швингера, поэтому встраивалась в общее представление без проблем. На борту грохочущего «Грейхаунда», пока другие пассажиры занимали места, читали романы или корпели над кроссвордами, Дайсон решал глубочайшую на тот момент загадку физики частиц, проблему ее унификации.
И решил.
В конечном итоге после воодушевляющего лета из открытий и путешествий Дайсон прибыл в Принстон, чтобы провести год в институте перспективных исследований. Оппенгеймер, новый директор института, принял британца на временную должность с осени 1948-го по весну 1949-го, дав ему хорошую возможность завершить работу над унификацией разных вариантов квантовой электродинамики.
Дайсон начал думать над заголовком статьи, которую он собирался написать: «Теории излучения Томонаги, Швингера и Фейнмана». Быстро завершив работу над ней, он передал текст в Physical Review в октябре 1948-го, а в следующем году статья вышла из печати и оказала большое влияние на дальнейшее развитие физики.
В институте перспективных исследований Дайсон имел возможность обсудить свои идеи с другими блестящими молодыми учеными, например с физиком и математиком родом из Франции Сесиль Моретт, удивительно независимой женщиной. Она поддержала метод интеграла по траекториям и помогла подтвердить его обоснованность.
Интегральные истины
Подобно Фейнману, Моретт пережила трагедию в молодом возрасте, она столкнулась со смертью дорогих людей, будучи совсем юной.
Во время нацистской оккупации она жила с семьей в Кане, городе в Нормандии. Движимая желанием посетить Париж ради «приключений», она решила записаться на математические курсы продвинутого уровня в столичном университете. Иного способа преодолеть наложенные оккупационным режимом ограничения, мешающие путешествовать, тогда не было.
Пока Моретт училась в Париже, началась высадка в Нормандии, и союзники бомбили Кан, где стояли немецкие войска. К сожалению, погибли тысячи гражданских, и в их числе оказались мать, сестра и бабушка девушки, как раз сдававшей в это время экзамен.
Ей был тогда двадцать один год.
Моретт оказалась перед необходимостью справляться с жизненными трудностями в одиночку. Она защитила диссертацию, написав работу по математической физике, и темой выбрала рассеивание мезонов. Она посетила Дублин и Копенгаген, где трудилась в качестве исследователя, после чего Оппенгеймер пригласил ее на временную должность в институт перспективных исследований, где она проработала с 1948 по 1950 годы.
Первый год в ИПИ Дайсон тоже имел статус временного сотрудника (постоянное место он получил позже). Он оставался преданным поклонником диаграмм Фейнмана и интеграла по траекториям, несмотря на шаткость математического основания того и другого.
Он обсуждал свои тревоги с Моретт, у которой было другое мнение, она полагала, что достоверность методов можно доказать. Как вспоминал Дайсон: «После переезда в Принстон в 1948-м я часто разговаривал с Сесиль Моретт (позже – Девитт), и она убеждала меня, что ей вполне по силам сделать интеграл по траекториям математически строгим методом. Я постоянно спорил с ней, но все же прислушивался»66.
Несомненно, Моретт могла использовать свои знания математики, чтобы поставить на более прочное основание технику, формально известную под названием «интеграл по траекториям». Математические физики, знакомые с ее работами, использовали метод для решения многих проблем, справиться с которыми иначе не удавалось.
Как говорил Барри Саймон, написавший книгу по теме «Выглядело все так, что интеграл по траекториям был очень мощным инструментом, который в качестве секретного оружия использовала небольшая группа математических физиков»67.
В октябре 1948-го Дайсон и Моретт совершили десятичасовую поездку на поезде из Принстона в Итаку, чтобы провести уикенд в компании Фейнмана. Он встретил гостей на станции в пятницу вечером, отвез к себе и увеселял до часу ночи, выстукивая разные ритмы на индейских барабанах, добытых в Нью-Мексико.
На следующий день Ричард развлек и поразил Моретт кристально-ясным изложением собственных теорий и ошарашил Дайсона, решив две на первый взгляд нерешаемые проблемы. Как вспоминал тот: «За тот вечер Фейнман породил больше блестящих идей на квадратную минуту, чем я когда-либо видел раньше или позже»68.
Но уикенд подошел к концу, и гости вернулись в Принстон, полные еще большего энтузиазма по поводу методов Фейнмана.
Примерно в то же время Фейнман опубликовал пять важных для себя статей. Первая, «Пространственно-временной подход к нерелятивистской квантовой механике», объясняла интеграл по траекториям более понятно и связно, чем выступление в Поконо. Другая, написанная в соавторстве с Уилером, раскрывала их совместную теорию поглощения. Третья описывала развитие идеи о том, что позитроны – это электроны, двигающиеся назад во времени, и показывала, как этот концепт превосходит дырочную теорию Дирака. Остальные две касались деталей того, как Фейнман вводил релятивистские эффекты в свои построения.
Третья конференция, организованная Национальной академией наук, состоялась в окрестностях города Пикскилл, штат Нью-Йорк, с 11 по 14 апреля 1949 года. Там Дайсон представил свою схему унификации, и его выступление, как и намного более логичное, чем ранее, объяснение Ричарда, продемонстрировало, что диаграммы Фейнмана являются очень практичным методом описания взаимодействия частиц.
Благодаря докладам, а также статьям, опубликованным в то же время, элегантная простота диаграмм на этот раз оказалась понята. Вскоре они стали неизменной частью любой научной работы, касающейся физики элементарных частиц. Концепции же интеграла по траекториям, не принятой (или по меньшей мере проигнорированной) Швингером, понадобилось несколько больше времени, чтобы ее признали в научном сообществе.
Но после признания стало ясно, что эта методика позволяет сделать важный шаг вперед в понимании квантовых механизмов. Она помогла поместить квантовую теорию в контекст длившихся столетиями споров, почему объекты путешествуют именно по таким траекториям, по каким путешествуют.
Они делают это по той же причине, по какой люди покупают карты (или устройства с GPS), чтобы выбрать более эффективный маршрут. Единственная разница между классическим и квантовым в том, что менее эффективные маршруты оказывают на ситуацию некое «призрачное» влияние, в отличие от альтернативных предложений навигатора.
При расчете результатов квантового процесса, такого как рассеивание, необходимо взвесить все несопоставимые пути, а не просто взять один с самой большой амплитудой (который окажется в полностью классической системе). Как говорил Дайсон: «Интеграл по траекториям в конечном итоге предоставил нам интуитивную картину квантовых процессов, достаточно простую и ясную, чтобы ее поняли даже студенты. Совершенно невежественные в высшей математике люди имели шансы в ней разобраться»69.
Вскоре после конференции пребывание Дайсона в Америке закончилось, он вернулся в Англию, где стал работать исследователем в Бирмингемском университете. Это место он занимал до весны 1951-го.
Осенью 1949 года одаренный молодой американец Брайс Девитт присоединился к команде ИПИ. Вскоре у него возник интерес к независимой и склонной к авантюрам Моретт, хотя она тогда меньше всего желала думать об отношениях.
Сесиль хотела вернуться домой после того, как ее контракт закончится… но у любви другие планы.
Квантовая гравидинамика
Брайс Девитт прибыл в ИПИ из Гарварда, где он защитил диссертацию под руководством Швингера. Там он попытался, хотя и без особого успеха, привести гравитацию под зонтик квантовой теории, используя методы, схожие с теми, какие применяются в квантовой электродинамике.
Он назвал свой концепт «квантовой гравидинамикой».
Швингер обратил внимание Девитта на первые попытки квантовать гравитацию, предпринятые другими физиками, например, Леоном Розенфельдом. Розенфельд хотел рассчитать гравитационную собственную энергию фотона и пришел к бесконечности.
Швингер одобрил выбор темы для диссертации, надеясь, что его только что разработанный метод перенормировки позволит исключить все бесконечности. Но после нескольких начальных встреч Джулиан перестал уделять много времени аспиранту, больше занимаясь собственными исследованиями.
Как вспоминал сам Девитт: «Ну, я, вероятно, видел его в общем не больше двадцати минут. Я попытался поместить гравитационные поля в квантовую электродинамику, увяз в трудностях и отправился повидать Швингера. Он сказал – попробуй удалить поле электрон-позитрон и просто переключиться на гравитацию и электромагнетизм. Он знал литературу, знал, что была статья, написанная где-то в 1930 году Леоном Розенфельдом, показывающая, что собственная гравитационная энергия фотона бесконечна. Но он думал, что это чепуха, что она не может быть бесконечной и поддерживать калибровочную инвариантность, чтобы соотноситься с перенормировкой заряда. Но все равно он позволил мне заняться этим. И я думаю, что я получил хорошие рекомендации от него позже, поскольку я ему не мешал»70.
Как обнаружил Девитт, методы Швингера не работали для гравитации. Нельзя было обходиться с гравитацией, как с другим видом поля, и ожидать, что возникнут конечные результаты. Несмотря на его собственные попытки и попытки других, квантовая полевая теория гравитации не могла быть перенормирована с использованием математических методов Швингера.
Бесконечные величины оставались, как невыводимое пятно.
Несмотря на неудачу в Гарварде, Девитт всю жизнь занимался тем, что пытался описать гравитацию с точки зрения квантовой теории. Он полагал, что квантовые принципы не могут прилагаться лишь к отдельным взаимодействиям, они должны описывать все.
На этой ранней стадии он был «совсем незрелым», как сам говорит об этом, и думал, что выполнить согласование будет намного легче, чем оказалось на самом деле. Фактически, несмотря на большое количество усилий, к тому времени, когда пишется эта книга, задача все еще не решена.
«Я был простым студентом и не знал тот мир, что лежал вокруг меня», – признавался Девитт.
Тем временем их отношения с Моретт развивались, и однажды, после долгой прогулки на лодке, он решил сделать предложение71. Сначала Девитт получил отказ, поскольку она собиралась вернуться во Францию, но потом Сесиль обдумала все как следует. Она поняла, что брак не помешает ей посетить родину, и что на самом деле она хочет выйти замуж и остаться в США, если только будет возможность проводить часть года в Европе.
Удивленный, но и обрадованный, Девитт принял это условие, и в результате после их свадьбы в 1951 году Моретт основала летнюю школу в поселке Лез-Уш во французских Альпах, настоящий инкубатор важных идей для теоретической физики.
Предатель за столом
2 сентября 1949 года пугающее заявление президента США Трумэна изменило мир навсегда. Советский Союз провел испытания атомной бомбы, и с этого момента началась гонка вооружений между супердержавами. Учитывая, какие геркулесовы усилия потребовались для того, чтобы завершить Манхэттенский проект, и то, как быстро СССР взорвал собственное устройство, во многих умных головах зародились мысли о том, что русские каким-то образом получили доступ к секретной информации.
Через несколько месяцев был дан пусть частичный, но ответ на этот вопрос.
Клаус Фукс, один из ближайших друзей Фейнмана во время работы в Лос-Аламосе (он часто одалживал Ричарду машину) тайно работал на Советы с самого начала «Манхэттена». Он отправлял им детальные кальки создаваемых в рамках проекта устройств, а также зарисовки устройств, находившихся на стадии проектирования, таких как «супербомба» Теллера, основанная на водородном распаде.
Имея подобную информацию, СССР избежал многих ошибок и получил минимум два года форы, и пусть в Союзе так или иначе создали бы свою бомбу, без помощи Фукса это произошло бы несколько позже.
Клаус полностью одурачил Бете, Оппенгеймера, Уилера и всех, кто принимал участие в проекте. Теллер, откровенно не доверявший Советам, расстроился сильнее всех, и его решимость разрабатывать все более разрушительные устройства лишь возросла.
Фукс присутствовал даже тогда, когда обсуждались недостатки системы безопасности, и никто не подозревал его. Фейнман, развлекавшийся взломом сейфов и проникавший на территорию через дыру в заборе, выглядел куда более подозрительным. Ричард даже шутил, что если в «Манхэттене» и есть шпион, то это он сам.
После войны Уилер вошел в группу наблюдателей, названную Комитетом по безопасности ядерных реакторов и занимавшуюся выработкой рекомендаций по гражданскому применению ядерной энергии. Например, именно они предложили использовать купола как средство обеспечения безопасности на АЭС.
Теллер стал руководителем группы, Фейнман тоже вошел в ее состав, но посетил только первую встречу.
Фукс тоже побывал на одной из встреч комитета, куда он вошел как британский физик из лаборатории Харвелла около Оксфорда. Он был гражданином Великобритании, жил там как до войны, так и после, но как ведущий физик-ядерщик он высоко ценился в кругах коллег и поэтому его приглашали без колебаний.
Уилер живо вспоминал, как он поднял на встрече проблему возможного саботажа на АЭС. Некто, обладающий достаточными знаниями о том, как все устроено, мог разрушить механизмы безопасности и запустить то, что мы сейчас называем расплавлением активной зоны ядерного реактора. С точки зрения Джона при наличии большого количества страховочных технологий саботаж представлялся более опасным, чем простая ошибка. Саботажником мог стать кто угодно, вероятнее всего, политический активист с опытом в соответствующей области, решительно настроенный на причинение максимального вреда.
Уилер описывал возможного преступника, а Фукс спокойно слушал его, сидя по другую сторону стола.
После испытания ядерной бомбы в СССР Скотланд-Ярд запустил масштабное расследование, чтобы найти возможные утечки информации. След привел к Фуксу, его арестовали 2 февраля 1950 года, и Клаус признался, что передавал атомные секреты. Несколько позже, уже в руках агентов ФБР, он назвал своего связника, Гарри Голда.
Голд после задержания указал на Дэвида Грингласса, американского физика, тоже работавшего в «Манхэттене». Тот, в свою очередь, выдал Этель и Юлиуса Розенбергов, связанных с ним узами родства (Этель – сестра Дэвида). Неким сомнительным образом, но именно Розенберги оказались казнены после обвинения в шпионаже, в то время как Фукс получил четырнадцать лет, а отсидел только девять. После освобождения он переехал в Восточную Германию и спокойно жил там до самой смерти.
Много позже Уилер столкнулся с Фуксом на международной физической конференции. Джон взял блокнот и стаканчик с кофе, сжал их покрепче, и только потом отправился к коллеге, сделав все, чтобы избежать рукопожатия72. Для человека со столь мягкими манерами, как Уилер, это была максимальная степень неодобрения. Он несколько минут поговорил с Фуксом, а затем отошел.
Зов долга
Примерно в то же время, когда Трумэн объявил о взрыве первой советской ядерной бомбы, названной в честь Сталина «Джо-1»[10], Уилер как раз начал творческий отпуск в Европе. Он запланировал остановиться в Париже и по случаю сесть на поезд до Копенгагена, чтобы встретиться с Бором.
Частично это решение Уилер принял для того, чтобы дети могли выучить язык. Кроме того, отпуск дал ему время поработать самостоятельно, не участвуя в исследованиях группы Бора. В качестве хобби он начал брать уроки рисования дважды в неделю, интерес к этой области искусства Джон подцепил у Фейнмана.
Поздней осенью Уилер обнаружил, что его постоянно отвлекают звонками Теллер и Гарри Смит, коллеги по Принстону, желавшие, чтобы он вернулся в Лос-Аламос для работы над «супербомбой». СССР получил возможность изготавливать бомбы вроде тех, что упали на Хиросиму и Нагасаки, и у США возникла необходимость получить более мощное оружие, чтобы сохранить ядерное превосходство.
Если его не сохранить, то Сталин наверняка воспользуется ситуацией, чтобы усилить свою власть над Восточной Европой и расширить ее на другие территории[11].
Перед Уилером встал очень сложный выбор, ведь у него была семья, о которой он не мог забыть, у него было соглашение с фондом Гуггенхайма, которое он не мог нарушить, да еще и аспирант Джон Толл специально приехал в Париж, чтобы работать под руководством наставника над проблемой столкновения фотонов между собой. Последнее в списке, но не по значению – он не хотел разочаровывать Бора.
С другой стороны, он некогда поклялся не оставлять разработку оружия в руках чиновников из правительства. Долг ученых состоит в том, чтобы обеспечивать этих самых чиновников максимально точной информацией, чтобы тираны не имели шансов лишить жизни миллионы людей.
Так что в конечном итоге, после переговоров с Бором, фондом Гуггенхайма и другими Уилер решил вернуться в Лос-Аламос. Его семья на несколько месяцев осталась в Париже, и только после того, как успехи детей во французском стали очевидными, присоединилась к Джону.
Отправляйся на запад, молодой физик
Год, начиная с весны 1950-го, Уилер работал в Лос-Аламосе, погрузившись в секретный проект по созданию водородной бомбы. Ему ассистировал Толл, приехавший из Парижа, и другой аспирант из Принстона, Кеннет Форд. Теллер и эмигрант из Польши Станислав Улам, хороший друг Джона фон Неймана, руководили процессом.
Они рассмотрели разные схемы и в конечном итоге остановились на двухэтапном концепте, получившем название «схема Улама – Теллера» или «Теллера – Улама» в зависимости от того, кто ее описывает (Теллер имел склонность преуменьшать вклад поляка). Полное описание водородной бомбы было изложено в секретном отчете, выпущенном 9 марта 1951 года и озаглавленном «О гетерокаталитической детонации I. Гидродинамические линзы и зеркала излучения».
До настоящего времени часть отчета так и не рассекречена, хотя почти все из того, что в нем содержится, известно всем – по крайней мере, так утверждает Форд73.
К этому времени Уилеру не терпелось покинуть Лос-Аламос и вернуться в Принстон. На него давила семья, после вольной жизни в Париже порядки изолированной военной базы не радовали совершенно. Пусть даже дом в историческом районе Бафтюб-Роу был легендарным, и сам Оппенгеймер жил тут во время войны, Джанет скучала по друзьям, ей не нравилась школа, и она постоянно намекала мужу, что пора вернуться на восток.
Другой проблемой было то, что мало кто из академических исследователей, кроме Теллера, Улама и парочки других известных персон, дал себя убедить и присоединился к проекту. «Манхэттен» представлял собой настоящий «заповедник гениев», но теперь этот пруд выглядел сухим.
Уилер придумал отличный вариант, при котором он мог продолжать военные исследования и в то же время вернуться в Нью-Джерси. Почему бы не устроить отделение Лос-Аламоса недалеко от Принстона? Он мог продать затею военным спонсорам, представив дело так, что они создают «фабрику идей» для термоядерного оружия.
У Джона было подозрение, что такой центр, расположенный в густонаселенной и доступной части страны, привлечет куда больше талантов, чем глухая пустыня Нью-Мексико. По меньшей мере, он имел в распоряжении одаренных студентов, которые с удовольствием поработают в таком предприятии: Толл, Форд, и возможно кое-кто еще.
Центр мог бы называться «Проект «Маттерхорн».
Примерно в то же самое время Фейнман, в свою очередь, мучился от беспокойства. Его угнетали серые зимы Итаки, длившиеся, как ему казалось, куда более шести месяцев. Вездесущие снег и лед не позволяли вырваться из лап депрессии, зато чистое голубое небо Лос-Аламоса то и дело всплывало в воспоминаниях.
Поэтому когда Калифорнийский технологический институт (Калтех) предложил ему должность ассоциированного профессора, Ричард немедленно согласился.
Конечно, он станет скучать по Бете и Роберту Уилсону, и они будут скучать по нему, но сколько можно выцарапывать машину изо льда зиму за зимой, и откапывать ее из снега? Южная Калифорния должна обеспечить солнце и тепло от января и до января.
Бете решил, что если кому-то и суждено влезть в шкуру Фейнмана, то таким человеком должен стать Дайсон. Тот занял место Ричарда со следующей осени и провел на нем несколько лет, пока не перебрался на постоянную должность в ИПИ (где в данный момент он сохраняет звание почетного профессора в отставке)[12].
Страсть к путешествиям заставила Фейнмана принять еще одно предложение, на десять месяцев занять должность в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Калтех, к счастью, согласился зачесть это время как творческий отпуск, так что проблем не возникло. Ричард посетил Южную Америку с кратким визитом и ему не терпелось поселиться там надолго.
Но тут, когда он оказался в Калифорнии, но еще не отправился в Бразилию, Фейнману пришло письмо от Уилера, в котором тот спрашивал, не хочет ли его бывший ученик присоединиться к проекту «Маттерхорн».
Уилер восхищался блестящим умом Фейнмана, и ему всегда хотелось заполучить того обратно в Принстон, пусть даже не насовсем. Более того, человек, сыгравший такую важную роль в «Манхэттене», был бы очень ценным активом в разработке водородной бомбы.
Свое письмо к Ричарду, датированное 29 марта 1951 года, Джон начал с размышлений о войне, что может разразиться между США и СССР. «Прекрасно знаю, что ты собираешься провести год в Бразилии, и я надеюсь, что политическая ситуация позволит. Хотя может сложиться так, что все пойдет совсем иначе. Моя личная грубая оценка – 40 процентов вероятности войны к сентябрю, ну а ты, несомненно, можешь сам оценить шансы. Ты в состоянии задуматься, что ты сможешь сделать, если возникнет чрезвычайная ситуация. Не рассмотришь ли ты возможность стать участником полноценной программы термоядерной работы в Принстоне по меньшей мере в сентябре 1952-го?»74.
Фейнман не хотел работать на военных, но еще меньше он желал обидеть Уилера, поэтому он просто повторил, что намерен полностью провести творческий отпуск в Бразилии. Он признал, что Третья мировая, разразись она, спутает его планы, но он не собирается менять их сам.
Поэтому он в самом деле отправился в Рио-де-Жанейро, с наслаждением погрузился в страстную и разнообразную культуру Бразилии, узнал больше об ее образовательной системе и стал поклонником самбы и латиноамериканской музыки.
Нет, такое приключение по своей воле он бы никогда не пропустил.
В апреле 1951 года проект «Маттерхорн» получил одобрение, ему выделили территорию рядом с кампусом Принстона, в строении, именуемом Форрестол-Билдинг. Уилер и его семья с радостью перебрались в свой старый дом на Баттл-роад, Толл и Форд присоединились к наставнику в работе, которая началась в этом же году и продолжилась в следующем.
1 ноября 1952 года США провели первые испытания водородной бомбы.
Устройство под кодовым именем «Майк» базировалось на схеме Теллера – Улама. Атолл Эниветок в Тихом океане был выбран в качестве места испытания, а монтировали и взрывали бомбу на островке Элугелаб.
После испытания остров оказался уничтожен полностью, ведь водородная бомба показала себя в восемьсот раз более мощной, чем ядерное устройство, сброшенное на Хиросиму. Столь откровенная демонстрация американской военной мощи не привела к долговременному лидерству, СССР испытал собственную бомбу всего через девять месяцев.
Уилер наблюдал за испытаниями с борта военного корабля «Кёртис», находившегося в тридцати пяти милях от места взрыва. Даже через специальные темные очки он видел яркую вспышку и вздымающееся над океаном чудовищное грибовидное облако.
Бомба сработала, а это значит, что они трудились не зря.
Пущенный под откос
Через несколько дней после испытаний «Майка» Дуайт Эйзенхауэр был избран президентом США. В это время в администрации США возникла настоящая паранойя, боязнь советских агентов. Инцидент с Фуксом оставил глубокую рану и потряс военных.
Многие генералы обвиняли ученых в том, что они слишком небрежны, ученые, в свою очередь, чувствовали, что военные с чрезмерной прытью ринулись испытывать новое оружие. То доверие между одними и другими, что существовало во времена «Манхэттена», постепенно исчезало.
Многие выдающиеся исследователи, такие как Эйнштейн и Бор, присоединились к движению, требовавшему международного контроля над ядерным оружием и постепенного разоружения. Такая позиция не радовала воинственных политиков в конгрессе США, а после избрания Эйзенхауэра – и в его администрации.
Те, кто настаивал на продолжении исследований, подозревали, что за всем стоят Советы, что те пытаются использовать движение за мир ради того, чтобы распространить свою гегемонию. Беспринципные политики, такие как сенатор Джозеф Мак-Карти, утверждали, что поклонники коммунистов и бывшие члены партии проникли всюду и заняли важные посты.
Стыдно об этом вспоминать, но Мак-Карти инициировал расследование нескольких случаев коммунистической инфильтрации. В апреле 1954 года в лапы специальной комиссии попал Оппенгеймер, выступавший против разработки водородной бомбы и обвиняемый в связях с коммунистической партией.
Теллер свидетельствовал против Оппенгеймера, и это был темный день для физики.
К счастью, Уилер никогда не столкнулся с жестокими допросами и публичным позором, что выпали на долю Оппенгеймера. Но все же ему припомнили инцидент с бумагами в поезде, и он получил упрек за ту историю непосредственно от президента.
Все произошло в январе 1953-го, когда Джон ночным поездом ехал из Трентона (Нью-Джерси) в Вашингтон. Чтобы изучить в дороге, он прихватил с собой копию секретного документа под названием «Отчет Уолкера», где рассматривалось, что мог узнать Фукс во время работы в Лос-Аламосе о ранних проектах водородной бомбы, имевшихся у Теллера, и найдут ли Советы полезной эту информацию при создании собственного взрывного устройства.
Там имелись определенные данные относительно дизайна бомбы, и не предполагалось, что Уилер может иметь при себе секретный документ такого вида, путешествуя публичным транспортом.
Поезд прибыл в Вашингтон ранним утром и некоторое время стоял, чтобы пассажиры могли выспаться перед прибытием. Уилер проснулся и обнаружил, что страницы с секретными данными исчезли, он лихорадочно попытался найти их, но не преуспел. Естественно, он тут же сообщил в ФБР, агенты перетряхнули весь состав, но ничего не нашли, так что по сей день неизвестно, что случилось с копией «Отчета Уолкера».
Эйзенхауэр узнал о происшествии вскоре после того, как въехал в Белый дом. Естественно, он разгневался, и Гарри Смит, посетивший встречу в Овальном кабинете, где разбиралась ситуация, передал Уилеру персональный упрек от президента.
К счастью, в это время работа над водородной бомбой в рамках проекта «Маттерхорн» была завершена, и Джону оставалось только составить подробный отчет – чего добился он вместе со своей командой. Планов в дальнейшем работать над военными проектами он не имел, а собирался возвратиться к преподаванию в Принстоне и собственным исследованиям.
Так что этот упрек мало повлиял на карьеру Уилера.
Мы ошибались
В то время, когда развивался проект «Маттерхорн», Фейнман все больше и больше сомневался в теории поглощения, которую они некогда разработали с Уилером. Он просто не видел, как она могла бы объяснить новые экспериментальные данные относительно электронов, позитронов и других частиц, например, тот же Лэмбовский сдвиг.
И он собирался выяснить, не испытывает ли тех же сомнений и Уилер.
«Я хочу знать твое мнение о нашей старой теории действия на расстоянии, – написал Ричард Джону в мае 1951 года. – Она базировалась на предположении, что электроны влияют только на другие электроны… Но у нас теперь есть Лэмбовский сдвиг в спектре водорода, который, предположительно, производится самовоздействием электрона»75.
Несомненно, к этому времени вклад Фейнмана в квантовую электродинамику отодвинул старую теорию на периферию внимания, она сыграла свою роль, но стала неактуальной и требовала пересмотра.
Много позже, в своей Нобелевской речи в 1965-м, Фейнман опишет, как его раздражение по поводу теории поглощения, по поводу осознания ее ошибочности, помогло ему найти мотивацию для дальнейшей работы. От теории поглощения он пришел к интегралу по траекториям, а оттуда – к диаграммам, описывающим квантовую электродинамику.
Как вспоминал Ричард: «Идея (прямого взаимодействия между электронами) выглядела столь очевидной для меня и такой элегантной, что я просто влюбился в нее. Однако единственный способ полюбить идею, как и женщину, – не знать о ней слишком много, чтобы не видеть ее недостатков. Они проявят себя позже, но к этому времени любовь станет достаточной сильной, чтобы это вас не смутило»76.
Уилер же на самом деле никогда не отказывался от старых концепций, он просто выдвигал новые, столь же дикие. С частиц, большей частью электронов, как фундамента мироздания, он переключался на чистую геометрию и энергетические поля. Как математик Уильям Клиффорд в девятнадцатом веке и Эйнштейн в начале двадцатого, Уилер видел вселенную, сплетенную исключительно из геометрических взаимосвязей.
Но только после того, как он закончил с «Маттерхорном», Уилер обнаружил себя в пенящемся море космических предположений.
Глава шестая Жизнь как амеба в пенящемся море возможностей
Можно представить разумную амебу с хорошей памятью. По мере того как идет время, амеба постоянно делится, и всякий раз дочерние амебы имеют всю память предка… Будет очень трудно убедить амебу в реальной картине, не сталкивая ее с другими ее «собственными я». То же самое истинно, если принять гипотезу универсальной волновой функции.
Хью Эверетт III. наброски диссертации. ПринстонБыть нормальным или необычным – вот в чем вопрос?
Лучше ли быть стандартным, легко постижимым и прямым или странным, непредсказуемым и текучим?
Эра Эйзенхауэра славилась всеобщим конформизмом – в растущих пригородах возникали ряды шаблонных домов, а их обитатели, стараясь не отстать от соседей, мчались в супермаркеты за новой моделью телевизора. И что они тогда могли смотреть? Низкопробных комиков, таких как Милтон Берл, наряженных в безвкусные одежды, Сида Сизара и Имоджен Кока, исполняющих дурацкие трюки?
В популярном шоу должен читаться хотя бы намек на провокацию.
Ричард Фейнман и Джон Уилер прекрасно осознавали контраст между «безумием» и общепринятыми сторонами жизни. В случае Фейнмана его протест против конформизма выражался в первую очередь в его персональном стиле, он никогда не желал быть ничем не примечательным профессором, облаченным в костюм, погруженным в мелкие бюрократические детали, любителем поболтать за сыром и вином. Игра на бонго, бары и эксцентричные выходки устраивали его намного больше. Ричарду нравилось поражать слушателей, одну за другой извлекая из рукава невероятные истории, а не вести себя как подобает серьезному ученому. Когда это было возможно, он делал так, чтобы работа веселила его, например, сложные вычисления представлял как головоломки.
Ведь Арлайн так хотела, чтобы он продолжал веселиться.
Но в то же время Фейнман остро осознавал все преимущества спокойной жизни. Надеялся когда-нибудь завести семью вроде той, в которой он некогда родился и вырос. Сохранял уважение к целостным персонам вроде Уилера, ставившего на первое место интересы других и всегда бывшего отличным семьянином.
Уилер же откровенно ценил тихий домашний уют, его утомляли перемещения с места на место, когда его, словно шарик в пинболе, носило по стране. Он надеялся на спокойное существование в идиллическом Принстоне после того, как работа над водородной бомбой закончится.
Но если посмотреть на Уилера как на исследователя, то все выглядит совсем иначе.
Он достиг большого успеха, описывая ядерные процессы и рассеяние, и вполне мог продолжать публиковаться в этой области, это было безопасно, несложно и выгодно. Однако интеллект Джона восстал против такой предсказуемости, ему хотелось исследовать границы физического мира.
Ему нравились странности космоса и то, что они говорят нам о природе.
Оба, и ученик, и учитель, чувствовали, что жизнь будет неполной без капельки безумия. Странные переживания воодушевляли Фейнмана, по крайней мере, те, что мешали его карьере физика. Игра на экзотических бразильских или африканских барабанах по ночам, путешествия по пустынным дорогам, безудержный флирт – все это придавало вкус пресному существованию.
Странные идеи интриговали Уилера, по крайней мере, те, что не бросали вызов фундаментальным принципам физики. Он называл свой подход «радикальным консерватизмом»77, и чувствовал, что лишь экстремумы любой теории дают оценку ее правдоподобности. Ему нравилось отправлять разум в странствия к дальним пределам времени, пространства и восприятия. Мельчайшие частицы, наиболее фундаментальные компоненты вселенной, самые мощные силы – все это оживляло циклотрон его мысли.
Оценивая собственные смелые экспедиции в неизвестное, Уилер однажды сказал: «Мы живем на острове, окруженном морем неведения, и чем больше растут наши знания, тем длиннее становится берег невежества»78.
Два теоретика, без сомнений, не тратили время на пустые гипотезы, любая концепция должна была опираться на факты. Псевдонаука и оккультизм их не манили. Фейнман много позже называл подобные феномены «карго-культом от науки», примитивной, нестабильной верой.
Наука может выглядеть странно, но она должна поддаваться определению, наблюдению и воспроизводимости.
Основа и уток истории
Классическая и квантовая физика демонстрируют резкий контраст между предсказуемостью и странностью. Классическая механика очерчивает жизни частиц столь точно, что их можно представить бизнесменами в серых костюмах, которые ездят по одним и тем же маршрутам каждый день. Квантовая механика, с другой стороны, выглядит капризной, отправляет частицы разными путями, словно громадный охранник у входа в ночной клуб, произвольно проводящий фейс-контроль.
В публичных выступлениях Фейнман подчеркивал, насколько сложной является квантовая физика на самом деле. Например, в серии лекций, озаглавленных «Характер физических законов», он говорил: «Я думаю, что могу с уверенностью сказать – никто не понимает квантовой механики»79.
Но все же с помощью интеграла по траекториям он сам удивительным образом сгладил это противоречие. Он блестяще показал, что, несмотря на все экзотические возможности, которые возникают в квантовой физике, принцип наименьшего действия определяет, что классическая траектория является наиболее вероятной.
Тем не менее по мере движения вглубь субатомной реальности возникает все больше и больше квантовых чудес, и в их числе – коррекции, представленные разными типами диаграмм Фейнмана.
Уилер несомненно верил, что «сплав» Фейнмана имеет больше смысла, чем классическая и квантовая механика в отдельности, но он хотел расширить такой подход. Он знал, что многие великие умы уже работали над приложениями квантовой электродинамики, и поэтому он втихую решил отойти от этой сферы и поискать способы, которыми можно приложить интеграл по траекториям к другой неисследованной области, такой как гравитация.
Соседом Уилера через улицу был ткач, и его ремесло, работа с основой и утком на ткацком станке, очаровывало Джона. Как вспоминала его дочь Элисон, отца интриговала идея сшивания реальности из нитей различных возможностей. Он иногда думал, не применить ли интеграл по траекториям ко всей вселенной. «Мой отец говорил об основе и утке истории, – рассказывала Элисон. – У вас есть отдельные потоки и пересечения, позволяющие обогатить историю»80.
Чтобы спрясть такую концепцию, Уилеру требовалось научиться использовать два ткацких станка одновременно. Первым был механизм Фейнмана, интеграл по траекториям, который Джон знал хорошо, тот выглядел новым и готовым к использованию. Второй принадлежал Альберту Эйнштейну: общая теория относительности, определяющая, как сшивается ткань вселенной. Австриец предложил эту концепцию в 1915-м, и многие считали, что она устарела. Но Уилер видел в ней потенциал, он не против был отряхнуть с этого «станка» пыль, смазать механизм, чтобы он работал лучше нового.
Немного возможностей
В конце сороковых – начале пятидесятых практически ни один молодой исследователь в США не интересовался теорией относительности. Конечно, был Питер Бергман, работавший с Эйнштейном и написавший один из учебников по теме, и Брайс Девитт, читавший этот учебник и желавший связать теорию с методами Джулиана Швингера для квантовой электродинамики. Но кроме этих редких исключений аспиранты и молодые преподаватели не трогали тему с дырой в десять парсеков (слегка преувеличенно, но вы схватили идею). Многие научные журналы, такие как Physical Review, просто не рассматривали статьи по теме.
Можно поразмыслить над причинами такого пренебрежения.
Эйнштейн был очень стар, живое напоминание о том, сколько лет прошло с того времени, когда теория относительности попала в заголовки газет, с 1919 года, когда наблюдения за солнечным затмением подтвердили одно из его важнейших предсказаний. Помимо того, мало что из новых экспериментальных результатов могло вдохновить ученых на развитие темы. Автор сам не развивал ее, сфокусировался на создании общей теории поля, попытке модифицировать общую теорию относительности так, чтобы включить в нее электромагнетизм.
Главным приложением общей теории относительности была космология, изучение вселенной. Этот предмет включал в себя несколько хорошо известных решений уравнений Эйнштейна, найденных благодаря упрощающим допущениям, таким как однородность пространства.
Ключевым прорывом оказалось открытие Эдвина Хаббла в 1929 году, что все галактики (за исключением наших ближайших соседей, которые связаны гравитационно) удаляются друг от друга. Интерпретировали этот факт так, что космос постоянно расширяется с возрастающей скоростью.
Две школы ученых спорили по поводу того, что означает такое расширение. Первая, возглавляемая Георгием Гамовым и базирующаяся на идеях Александра Фридмана, Жоржа Леметра и других, отстаивала тезис, что вселенная должна иметь горячее начало, когда вся материя и энергия были сосредоточены в крохотном объеме. Гамов приводил для этого два доказательства, о первом мы уже знаем, это расширение космоса, второе – создание более сложных элементов из простых, гелия – из водорода. Объем гелия, который мы наблюдаем сейчас, мог быть создан только в исключительно горячих условиях юной компактной вселенной, звезды просто не в состоянии сгенерировать такое его количество.
Гамов работал с Ральфом Алфером и опубликовал свою гипотезу в 1948 году. Играя с греческим алфавитом, с первыми тремя буквами, альфа, бета и гамма, он поместил Бете между собой и Алфером, пусть даже Бете непосредственно не участвовал в работе. После этого с Алфером, Бете и Гамовым в заголовке теория стала называться «альфа-бета-гамма теорией».
Три астронома, Фред Хойл, Герман Бонди и Томас Голд, составляли оппозиционный лагерь. Хойл именовал модель Гамова «Большим взрывом» и насмехался, что вся материя и энергия в ней появились в один миг из чистого ничего. Его собственная гипотеза называлась «стационарной моделью», и в ней постулировалось постепенное возникновение новой материи в крошечных количествах на протяжении долгих эонов. Вселенная расширяется, и девственная материя медленно сгущается в зарождающиеся галактики, которые постепенно заполняют пространство между старыми.
Следовательно, космос выглядит примерно одинаковым всегда.
И Большой взрыв, и стационарная модель подчиняются космологическому принципу, который определяет, что пространство и распространенная в нем материя однородны по всем направлениям. Иными словами, никакая часть вселенной в принципе не отличается от любой другой.
В результате они описываются в общей теории относительности простыми решениями уравнений Эйнштейна, которые одновременно изотропны (идентичны по всем направлениям) и гомогенны (сходны везде).
Однако лишь некоторые решения отвечают таким требованиям.
Как подчеркивали Бонди и Голд, стационарная модель соответствует тому, что они называли «совершенным космологическим принципом». Более строгий, он требовал, чтобы вселенная как целое выглядела примерно одинаково во времени, как и в пространстве. Поскольку новые галактики возникают везде, где существуют провалы между старыми, мироздание постоянно получает «уколы» космического коллагена и стареет так же мало, как Дориан Грей.
Подобно простому космологическому принципу, совершенный космологический принцип ограничивает число возможных решений уравнений Эйнштейна.
Поскольку хватало небольшой ее части для понимания известных космологических решений, и имелось лишь несколько приложений в других областях, общая теория относительности не имела шансов привлечь физиков в начале пятидесятых. Многие смотрели на нее как на «песочницу для математиков»81.
Тем не менее свежий взгляд, представленный в статье Оппенгеймера от 1939 года, и собственные мысли по поводу фундаментальных ингредиентов природы воодушевили Уилера на то, чтобы пойти против тенденции, оживить старую тему.
Края общей теории относительности
В начале 1952 года, когда проект «Маттерхорн» был в полном разгаре, мысли Уилера редко обращались к фундаментальным основам вселенной. Обозревая совместную с Нильсом Бором работу в ядерной отрасли, он наверняка возвращался к 1 сентября 1939 года, когда вышла их известная статья в Physical Review.
В том же самом выпуске была и другая статья, написанная Оппенгеймером и его студентом Хартландом Снайдером, озаглавленная «О безграничном гравитационном сжатии» и посвященная возможному сценарию последних стадий жизни массивных звезд.
Это выглядело странно, но Оппенгеймер и Снайдер предсказали, что при определенных обстоятельствах тяжелая звезда, исчерпавшая запасы ядерного топлива и лишившаяся способности выбросить большую часть своего вещества, неограниченно сжимается.
В пределах некоторого периода такие звездные гиганты превращались в бесконечно плотные объекты, именуемые сингулярностями. Их гравитационное притяжение становилось таким сильным, что даже свет, не говоря уже о других видах излучения, не мог покинуть маленькую сферическую область вокруг их центральной точки. Следовательно, никто не имел шансов заглянуть внутрь и зафиксировать, что там происходит.
Много позже Уилер назвал такие объекты «черными дырами».
Но тогда, в 1939-м, он всецело не поверил выводам Оппенгеймера и Снайдера. Джон подумал, что некий механизм, возможно, квантовый процесс или какая-то разновидность сглаживания задержит сжатие до того, как оно дойдет до сингулярности.
Сингулярности выглядели ложкой дегтя и в других теориях тоже, они плохо сочетались, например, и с понятием собственной энергии электрона. Возможно, решение вопроса с гравитацией позволит открыть нечто фундаментальное по поводу того, как природа избегает сингулярностей. Чтобы найти разумную альтернативу, было необходимо изучить общую теорию относительности так тщательно, как только возможно.
Лучший способ углубиться в некую область знания – преподавать ее, и Уилер это прекрасно знал. Он имел привычку собирать подробные записи лекций для каждого курса, которые могли послужить отличной отправной точкой, чтобы погрузиться в любую тему. Часто на полях этих записей и между строк были разбросаны различные замечания. Уилер использовал их, чтобы задавать вопросы студентам, или брался за решение сам. Ты учишься, чтобы стать преподавателем, и это вынуждает тебя учиться дальше, двигаться вверх по удивительной спирали знаний.
Он сделал запрос на свой факультет в Принстоне по поводу того, чтобы ему позволили читать первый полный годовой курс по общей и специальной теории относительности. 6 мая он получил разрешение на чтение курса в следующем академическом году.
Уилер отпраздновал это дело, написав «Относительность I» на обложке нового блокнота, проставил внутри дату и время и начал готовить план распределения материала по лекциям. Он также отметил, что надеется написать книгу по теме когда-нибудь в будущем, и данное себе обещание он через много лет исполнил, создав учебник «Гравитация» (в соавторстве с Чарльзом Мизнером и Кипом Торном).
Супержидкости и не совсем супербрак
Тем временем Фейнман готовился к важному событию другого плана: второму браку.
Вскоре после того как закончился его творческий отпуск в Бразилии, он встретил в Корнелле молодую женщину по имени Мэри Луиза Белл. Она приехала в университет из сельской глубинки Среднего Запада и привезла с собой энциклопедические знания об изобразительном искусстве.
Фактически интерес к картинам и художникам был единственным, что объединяло Ричарда и Мэри (его страсть к этой теме возникла еще когда он начал встречаться с Айрлин). Но Фейнман после визита в Бразилию сильно скучал по нормальным отношениям, ему больше не хотелось флирта со стюардессами, и ему казалось, что у них может что-то получиться.
Необдуманно и поспешно он сделал предложение по почте, Мэри Луиза приняла его и согласилась переехать в Южную Калифорнию. Они поженились в июне 1952-го и заняли дом в Альтадене, недалеко от Пасадены, где располагался Калтех. Медовый месяц прошел в Мексике, и там Ричард узнал много о культуре и искусстве майя, в том числе и об их циклической концепции времени.
Другие перемены не заставили себя ждать.
Оказавшись вдали от Ханса Бете и исследовательской группы Корнелла, Фейнман получил возможность заново оценить направление своей научной работы. И пусть он почувствовал некую завершенность, глядя на собственный труд в квантовой электродинамике, сомнения насчет методов, использованных в перенормировке, никуда не исчезли. Каким-то образом, понял он, этот процесс нуждается в капитальном пересмотре для того, чтобы ликвидировать некоторые его произвольные положения.
И в то же время можно было заняться чем-то совершенно новым.
В своей книге «QED»[13], опубликованной через несколько десятилетий, Фейнман напишет: «Игра в угадайку, которой мы занимаемся… технически именуется “перенормировкой”. Но не имеет значения, каким умным выглядит слово, поскольку оно обозначает то, что я называю дурацким процессом. Обращение к подобному фокусу мешает нам доказать, что квантовая электродинамика математически последовательна… Я подозреваю, что перенормировка математически не легитимна»82.
В первые годы в Калтехе Фейнман изучал супержидкости, вещества вроде жидкого гелия, которые никогда не становятся твердыми, вне зависимости от падения температуры. Он базировал свою работу на достижениях советского физика Льва Ландау и рассматривал вопрос, почему квантовая механика не дает таким системам возможности понижать свою энергию и переходить в твердую фазу.
Работа Ричарда показала критическое отношение к только зарождающей области.
Фейнман также изучал сверхпроводимость, другой феномен, возникающий при очень низких температурах, когда материалы теряют электрическое сопротивление полностью. Он предполагал, что некий квантовый механизм должен обеспечивать возможность постоянного, беспрепятственного течения токов в таких материалах.
Джон Бардин, Леон Купер и Джон Шриффер вскоре обнаружили этот механизм, и работа эта принесла им Нобелевскую премию. Это неприятно поразило Фейнмана, и он не стал продолжать собственные исследования, несмотря на то что они обещали значимый вклад в теорию сверхтекучести.
Тем не менее он принял приглашение Уилера и в сентябре 1953 года сделал доклад о свойствах жидкого гелия в Японии. Ему понравилось учить японские фразы, а поскольку он интересовался местными ритуалами, то остановился в традиционном отеле и решил отправиться в общественную баню. Там он по ошибке зашел не в то помещение и случайно наткнулся на отмокавшего в ванне физика Хидеки Юкаву.
Брак Фейнмана остывал куда быстрее, чем те жидкости, с которыми он имел дело. Он и Мэри Луиза совершенно не подходили друг другу, его небрежный стиль ее не устраивал, она просила его носить пиджаки и галстуки вместо обычных рубашек. Коллеги находили супругу Ричарда неприятной, она требовала его внимания даже в те моменты, когда он глубоко погружался в размышления.
Игра на барабанах сводила Мэри Луизу с ума, а расчеты ввергали в замешательство, так что ничего удивительного, что уже через несколько лет она попросила о разводе.
На протяжении судебного слушания по этому делу в июле 1956-го она дала выход давно копившемуся раздражению: «Он начинал работать над математическими проблемами, едва проснувшись, – свидетельствовала она, – и я не могла говорить с ним, поскольку он заявлял, что я прерываю его работу»83.
Ну и само собой, барабаны производили «ужасный шум».
Суд приговорил Фейнмана к выплате разового возмещения, и это помимо регулярных алиментов. Газетный отчет о слушании сообщил, что ученому пришлось расстаться с частью имущества, но барабаны он сохранил.
На беговой дорожке Эйнштейна
Уилер прочитал первый годовой курс по теории относительности осенью 1952-го и весной 1953-го, в последнем семестре главным образом сосредоточился на общей теории относительности. Ударной точкой этого курса стал состоявшийся 16 мая визит в дом Эйнштейна на Мерсер-стрит, где гостям предложили чай и дискуссию по физике. После нее восемь магистрантов получили шанс задать создателю теории любой вопрос, что придет им в голову, и единственным ограничением стали границы вселенной.
Эйнштейн очаровал гостей размышлениями о расширении пространства и остроумной критикой квантовой механики. Он даже ответил на несколько мрачный вопрос о том, что случится с домом после его смерти. «Этот дом никогда не станет местом паломничества, куда люди приходят, чтобы посмотреть на кости святого»84, – заявил он.
И когда они уже собрались уходить, Уилер спросил Эйнштейна, есть ли у того совет для молодых физиков.
Альберт Эйнштейн, Хидеки Юкава и Джон Уилер, гуляющие в Маркванд-парк, Принстон, 1954 год.
Источник: фотография Уоллеса Литвина и Джозефа Крингольда, AIP Emilio Segre Visual Archives, Wheeler Collection.
«Кто я такой, чтобы советовать?» – отозвался австриец.
Готовясь к курсу, Уилер досконально разобрался во всех аспектах общей теории относительности. Он нашел и позже использовал в своем классическом учебнике сжатый способ описания: «Пространство влияет на материю, диктуя ей, как двигаться. И наоборот, материя воздействует на пространство, говоря ему, как изгибаться»85.
С точки зрения общей теории относительности Земля движется по эллиптическому пути вокруг Солнца не из-за воздействия некой силы на расстоянии, а из-за того, что существует локальное искажение пространства, произведенное массой Солнца. Если наше светило вдруг исчезнет, пространство вокруг очень быстро разгладится, поскольку гравитационные волны путешествуют со скоростью света. И едва регион, бывший солнечной системой, станет плоским, как блин, наша планета двинется по прямой линии.
Вам даже не нужно массы, чтобы создавать изгибы или вмятины в пространстве, энергетические поля отлично справляются с этой задачей, поскольку в теории Эйнштейна масса и энергия полностью эквивалентны. Даже гравитационная энергия, обусловленная пространственными волнами, может порождать искривление. Следовательно, можно представить петлю обратной связи, в которой волны формируют другие волны.
Иными словами, геометрия порождает сама себя, безо всякой нужды в материи.
Общая теория относительности скоро стала для Уилера базовой темой, ему нравилось выводить остальные явления в физике из искривленного пространства и энергетических полей. Он отставил концепцию «все есть частицы» и стал адептом подхода «все есть поля», и это был полный переворот.
Когда-то Джон думал, что поля не более чем иллюзия, теперь он начал относиться так к материальным объектам. Однажды он поверил в действие на расстоянии, теперь убедился, что все происходит в масштабах определенной области.
Он вступил в новый мир, и этот мир обещал приключения и открытия.
Диета из червей
Статья, написанная в 1935 году Эйнштейном и его ассистентом в институте перспективных исследований Натаном Розеном, была посвящена интригующему аспекту релятивистской геометрии, когда два пространственно-временных континуума соединены узким туннелем, получившим название «мост Эйнштейна – Розена». Сконструированная ими фигура напоминала песочные часы, где верхняя часть представляла один континуум, нижняя – другой, а горлышко изображало мост. Эйнштейн и Розен попытались использовать такую геометрическую конструкцию как некий эрзац для элементарных частиц, таких как электроны.
Уилер взял ту же самую конструкцию и окрестил ее «червоточиной»[14]. Он представил поверхность яблока, символизирующую обычное пространство, и червя (энергия, порождающая экстремальное искажение), прогрызающего в яблоке короткие пути. Появившиеся в результате дыры изменили топологию (математическое описание свойств) пространства. Как только они появились, другие энергетические поля получили возможность проходить через них, перемещаться из одной точки в другую как по волшебству.
И едва Уилер начал разбираться с тем, какие эффекты могут иметь червоточины, его посетило ошеломляющее озарение. Представим совокупность линий электромагнитного поля, которые проваливаются в червоточину – им придется сойтись в некоей точке, имитируя отрицательный заряд вроде того, что есть у электрона. Затем «проглоченные» линии после путешествия через червоточину появляются на другой стороне, выходят из иной точки. Выглядит это так, как будто у них имеется положительный заряд, такой, как у позитрона. Следовательно, червоточина кажется созданной парой противоположно заряженных частиц. Заряд появляется из ничего, эффект, названный «заряд без заряда».
Уилер изучал и другую структуру: замкнутый пучок энергии, именуемый «геон». Он хотел знать, что произойдет, если электромагнитное поле получит очертания такого рода – сферы, бублика или иную конфигурацию, – что его собственная гравитация будет удерживать его цельным неопределенно долго. Такая гравитационная структура по всем внешним проявлениям станет вести себя как частица. А подчиняясь утверждению Эйнштейна о том, что энергия и масса свободно обратимы, она даже будет обладать массой. Уилер назвал этот феномен «масса без массы».
Он начал мечтать о новой разновидности физики, построенной на червоточинах, геонах и других геометрических конструктах в компании всяких энергетических полей. Старушка-материя оказалась бы просто иллюзией в новой науке «геометродинамике». Но для проверки того, будет ли работать такая радикально новая модель, требовалось проделать немало расчетов.
Общая теория относительности славится тем, что в ней трудно находить точные решения, за исключением нескольких простых случаев. Но работа в проекте «Маттерхорн» показала Уилеру, что современные компьютеры на многое способны, и что ему просто нужны одаренные ученики – такие как Джон Толл и Кеннет Форд, помогавшие в работе над водородной бомбой, – чтобы отработать технику и запустить в дело геометродинамическую программу.
Выглядело это многообещающе, и Уилер ощущал приятное оживление.
Чарли и геометрическая фабрика
Блестящие теоретики приходят в науку не так часто.
Когда Уилер встретил Чарльза Мизнера, он обрадовался, что в руки ему попал молодой, математически подкованный аспирант, столь же влюбленный в общую теорию относительности, как и он сам. Мизнер работал с полями, получая образование в университете Нотр-Дам, и там же он овладел огромным арсеналом разнообразных математических дисциплин, включая топологию.
Он поступил в аспирантуру Принстона осенью 1952 года.
Подобно Фейнману, он первое время жил в Градуэйт-колледже и хорошо знал дорогу в комплекс лаборатории Палмера. Первый год он посещал занятия и участвовал в проекте по радиоактивному распаду под руководством Артура Уайтмана, несколько раз сталкивался с Уилером и всегда пользовался возможностью, чтобы поговорить о теории относительности.
Позже, когда Уилер начал заниматься червоточинами, геонами и другими чудесами геометродинамики, Мизнер стал участником этого предприятия. Полученного ранее научного багажа Чарльза хватило, чтобы полностью понять то, что так вдохновляло Уилера. Вскоре они обнаружили, что штурмуют высоты знания вместе, и Джон выполняет обязанности научного руководителя.
В дискуссиях с Мизнером Уилер разработал модель квантовой гравитации, названную им «квантовой пеной» (известна как «пространственно-временная пена»). Представим некую разновидность супермощного микроскопа, увеличивающего ткань природы и позволяющего видеть, что происходит в мельчайшем масштабе, именуемом «планковской длиной», это 6×10–34 дюймов (1,6×10–35 метров). Триллионы триллионов объектов такого размера, уложенных рядом, не покроют и одного атома.
Само собой, что на таких малых расстояниях все работает по квантовым правилам. Пространство выглядит «пенистым», оно изгибается в пульсе случайных квантовых флуктуаций, червоточины и другие связанные структуры спонтанно возникают и так же быстро исчезают, словно пузыри в слое пены.
Чтобы понять, как классическая реальность является из такой хаотической пены, требовался процесс оптимизации, который выделил бы упорядоченный космос, доступный нашим глазам. Уилер очень хотел знать, не поможет ли справиться с этой задачей интеграл по траекториям. Наверняка методы Фейнмана позволят найти оптимальную траекторию среди всех возможных вариантов эволюции вселенной.
Результатом стала бы изящная связь между классической и квантовой теориями гравитации, способная объяснить, как порядок возникает из случайных квантовых флуктуаций.
Студенты Уилера часто дразнили его за слишком большие, почти наполеоновские амбиции. Он открыто признавал, что из-за привычки откладывать дела иногда не может воплотить мечты в жизнь. Но мечты все же не давали ему сидеть на месте. Типичный отрезок его жизни начинался с диких идей, но быстро превращался в сложный, далеко идущий проект, на котором он, тем не менее, не задерживался, а переключался на что-то еще.
Мы видели, что произошло с ранней теорией поглощения Уилера – Фейнмана.
Совместная работа с Мизнером шла в атмосфере большого оптимизма. Чарли получил задачу приложить методы Фейнмана к геометродинамике, чтобы создать в результате квантовую теорию гравитации. Это не заняло бы много времени, подчеркнул Уилер, если не задумываться над тем, какой сложности задача перед ними стояла. «Взявшись за интеграл по траекториям, можно довести дело до конца»86, – уверил он Мизнера.
Тот в свою очередь нашел концепцию интеграла по траекториям восхитительной. Он понял ее так, что «реальность продолжает существовать посредством осознания всех возможностей до того момента, как вы воплощаете одну из них»87.
Тем не менее, чтобы заняться квантовым подходом к проблеме, требовалось полностью классическое (не квантовое) описание соединения электромагнетизма и гравитации.
Мизнер принялся за дело и начал разрабатывать математические теоремы, связанные с общей теорией относительности. В то время Уилер недостаточно хорошо знал имеющую отношение к делу литературу по математике и не мог помочь в этом вопросе. Питер Бергман, имевший представление о стартовавшем проекте, помог решить эту проблему. Он обнаружил, что частью работа Мизнера сходна с результатами, опубликованными в 1925 году специалистом по математической физике по имени Джордж Райнич.
Чтобы не дублировать результаты, Мизнер решил сфокусировать усилия на приложении интеграла по траекториям к общей теории относительности, как бы самоуверенно это не звучало. За проведенное в Принстоне время он добился прогресса в формулировке проблемы и определении дальнейших шагов к тому, чтобы создать квантовую теорию гравитации с помощью методов Фейнмана.
Но в то же время Мизнер понял, что довести дело до конца будет не так легко. Диссертация под названием «Схема Фейнмановского квантования общей теории относительности» стала скорее начальным пунктом исследования, чем его завершением.
Благодаря тому, что Уилер работал с такими исключительными студентами как Фейнман и Мизнер, он начал смотреть на себя как на основателя новой научной школы, наподобие той, которую Бор создал в Копенгагене. У него было достаточное количество проектов, связанных с общей теорией относительности и квантовой физикой, чтобы заниматься ими самому, но в то же время он никогда не терял контакта с учениками – например, с Фордом и Толлом – по мере того, как они строили собственную академическую карьеру.
Уилер настолько любил работать с молодыми учеными, что он открывал двери тем, кого другие профессора вряд ли бы взяли. Отличным примером такого подхода был Питер Путнам, студент, чьи интересы лежали на пересечении философии, психологии и физики.
Обладавший прекрасными способностями, но скромный и одинокий, он оказался в Принстоне в качестве аспиранта вскоре после того, как его брат погиб на полях Второй мировой. Уилер ощутил близость к Путнаму, поскольку оба имели интерес к философии, и взял его к себе. Они много беседовали на тему: какую роль субъективный опыт играет в формировании реальности. Но нет сомнений, что частью их чувство товарищества уходило корнями в сходные события в прошлом. И хотя Путнам оставил науку и обеднел, их беседы помогли сформировать более поздние взгляды Уилера на связь между сознательным восприятием и квантовым миром.
Четыре туза
В Градуэйт-колледже Мизнер обзавелся друзьями, разделявшими его любовь к математике, а также страсть к покеру и настольному теннису. Четыре молодых человека проводили много времени вместе и не теряли контакта даже после того, как учеба осталась позади.
Рожденный в Канаде, Хейл Троттер в конечном итоге занял место профессора математики в Принстоне, а затем получил пост декана. Харви Арнольд стал известным специалистом по статистике, Хью Эверетт III начал карьеру ученого в области, именуемой «теория игр», глубоко связанной с теорией вероятностей. Но в то же время он изучал и курс физики, включавший электромагнетизм и квантовую механику. На последнем использовался ставший классическим к тому времени учебник Джона фон Неймана.
Великолепная четверка часто собиралась в комнате Эверетта88, они потягивали шерри, смешивали коктейли, развлекали себя играми и вели долгие дискуссии.
Эверетт всю жизнь был поклонником идей Эйнштейна, в возрасте двенадцати лет он написал австрийскому ученому письмо, где задал вопрос, почему вселенная остается целостной. Эйнштейн ответил, коротко, но дружелюбно, и слегка подразнил молодого человека за его любопытство.
Семьдесят пять лет великий ученый отметил 14 марта 1954 года.
Незадолго до этой даты собрался комитет, возглавляемый Оппенгеймером, чтобы решить, кому вручить Премию Альберта Эйнштейна, особую награду в честь австрийца. Победителем оказался Фейнман, получивший пятнадцать тысяч долларов и золотую медаль.
«Нью-Йорк Таймс» посвятила статью этому событию, отметив, что награда была «высочайшим знаком признания заслуг, лишь на шаг менее ценным, чем Нобелевская премия»89.
14 апреля Эйнштейн в качестве приглашенного гостя прочитал особую лекцию в лаборатории Палмера студентам, проходившим курс Уилера по теории относительности. Выступление организовал на тот момент студент (позже ставший открывателем цветного заряда в сильном взаимодействии) Оскар Гринберг, которому пришлось держать все в секрете, чтобы избежать наплыва людей, желавших просто посмотреть на великого человека.
Само собой, Мизнер не мог пропустить такого события, и, по его словам, Эверетт тоже присутствовал.
Во время выступления Эйнштейн подчеркнул, что хотя он верит в способность квантовой механики невероятно успешно предсказывать результаты одного эксперимента за другим, в ней остаются логические трещины. Он нашел смехотворным, что связь наблюдателя и процесса измерений по-прежнему остается важной частью теории.
Если требуется человек, чтобы запустить процесс коллапса волновой функции до состояний, представляющих определенные измеряемые величины, то почему мышь не в состоянии сделать то же самое?
Весь процесс квантовых измерений требовал переработки в объективном, механистическом и догматическом духе.
Главной областью интересов Эверетта по-прежнему осталась теория игр, но он с интересом прошел курс квантовой физики, прочел фон Неймана и прослушал лекцию Эйнштейна и поэтому заинтересовался проблемой квантовых измерений. По совпадению, примерно в то же самое время Уилер начал искать среди магистрантов того, кто может взяться за проект в области общей теории относительности и ее квантования.
Магистранты разговаривают с Нильсом Бором во время его визита в Принстон в 1954 году. Слева направо: Чарльз Мизнер, Хейл Троттер, Нильс Бор, Хью Эверетт и Дэвид Харрисон.
Источник: фотография Алана Ричардса, AIP Emilio Segre Visual Archives.
Осенью того же года Бор провел целый семестр в институте перспективных исследований, консультируясь с Уилером, Оппенгеймером, Юджином Вигнером и др. Он привез с собой из Дании молодого ассистента, Оге Петерсена, и 16 ноября прочитал лекцию в Градуэйт-колледж, на которой присутствовали Мизнер и Эверетт.
Одним из основных вопросов выступления стала теория квантовых измерений.
Как Эйнштейн с конца двадцатых не уходил из оппозиции к квантовой неопределенности, так же Бор не отступал от собственной интерпретации квантовой физики. Он подчеркивал, что квантовая механика нечто вроде черного ящика. Ответы, которые мы получаем с ее помощью, зависят от того, какого типа измерения мы проводим. Если мы начинаем эксперимент, чтобы узнать свойства частицы в некоторой системе, то мы получим «частицеподобный» ответ. Если мы переключаемся на опыт, где имеем дело с волнами, то наши результаты будут «волноподобными». Полного знания субатомного мира достичь невозможно, считал Бор, всегда останутся квантовые тайны. Подобно посвященным в восточные мистерии, мы просто должны принимать тот факт, что не все загадки природы можно разгадать.
Неразборчивая речь датчанина, его мягкое бормотание делало эти заявления еще более загадочными.
Молодые физики сохраняли уважение к Эйнштейну и Бору, но большей частью они придерживались более практичных интерпретаций проблемы квантовых измерений. Идея фон Неймана, последовательно отображенная в его учебнике, предлагала наилучшее описание того, что тогда уже начинали именовать «Копенгагенской интерпретацией».
Занимаясь квантовыми измерениями, ты получаешь один физический параметр, именуемый измеряемой величиной. Например, если ты ищешь способ определить местонахождение частицы, то ее позиция будет измеряемой величиной. До измерения квантовая система состоит из комбинации возможностей – например, смеси определенного количества одного позиционного состояния, определенного количества другого и так далее, и все это именуется «суперпозиционным состоянием». Эта смесь постепенно изменяется в соответствии с уравнением Шредингера. Но в тот момент, когда проводится измерение, система случайным образом коллапсирует до одного из позиционных состояний, словно карточный домик, рушащийся неким произвольным образом.
Эверетту не нравилась ни одна из существующих квантовых интерпретаций, все они выглядели произвольными и субъективными. Однажды вечером, выпив пару стаканов шерри, он поделился своими чувствами с Петерсеном, как раз зашедшим в Градуэйт-колледж. Он заявил, что квантовая физика крайне нуждается в объективном толковании, и что идея измеряемых переменных, базирующаяся на том, что ты собираешься измерять, выглядит абсурдной. Почему выбор экспериментатора должен влиять на то, что происходит в мире частиц?
Петерсен счел себя обязанным защитить взгляды своего наставника. Датчанин предложил точку зрения, согласно которой квантовое измерение было в значительной степени решенной проблемой.
Принцип дополнительности Бора обеспечивал философское обоснование, а более детальные интерпретации, такие как у фон Неймана, показывали, как рассчитывать экспериментальные результаты. Оставалось так много неисследованного в физике, и зачем изобретать колесо заново, ставить под вопрос столь успешную теорию, как квантовая механика?
Мизнер наблюдал за спором с большим интересом. Он знал, что им предстоит еще не одна такая дискуссия на протяжении семестра, и ему нравились оба подхода.
С одной стороны, он понимал сомнения Эверетта, брошенные в лицо догмам физического мейнстрима в лице Петерсена. «Хью думал, что интерпретация Петерсена просто невыносима», – вспоминал он позже.
Мизнер соглашался с Эвереттом, что неестественным кажется тот факт, что уравнение Шредингера работает для постоянных изменений, но не объясняет проблему измерения. «Это выглядело странным подходом к фундаментальному закону физики»90, – писал он.
С другой стороны, Мизнера интересовали более злободневные вопросы теории. Работа над геометродинамикой шла полным ходом, и методы Фейнмана, приложенные к гравитации, пусть и спорным образом, предлагали более осязаемую проблему, чем донкихотовская попытка внести объективность в теорию квантовых измерений.
Волновая функция вселенной
В погоне за квантовой гравитацией Мизнер и Уилер вскоре поняли, что ассортимент измеряемых переменных (базовых физических величин, которые будут определяться – эквиваленты позиции, импульса, энергии и т. д. для описания простых частиц) не столь очевиден. Общая теория относительности в исходной форме, предложенной Эйнштейном, поместила пространство и время на общую основу. Одно с легкостью могло быть превращено в другое, как вода и лед.
Тем не менее при любой разновидности реалистического наблюдения мы замечаем, как нечто изменяется пространственно на протяжении определенных временных интервалов – так вселенная расширяется на протяжении долгих эонов. Следовательно, процесс измерений естественным образом разделяет пространство и время, требуя, чтобы четырехмерный блок пространства-времени нарезался на трехмерные ломти с течением времени. Такое «нарезание» не может быть произвольным, оно осуществляется в соответствии с динамикой Эйнштейна.
Физики Ричард Арновитт и Стэнли Десер вместе с тем же Мизнером найдут решение этой внушительной проблемы через несколько лет, и оно получит название «АДМ-формализм».
Более философской оказалась задача отделения наблюдателя от наблюдаемого. Если вся вселенная представляет собой некоторую систему под наблюдением, как может иметь место независимое наблюдение, ведь никто не имеет возможности покинуть вселенную, чтобы осмотреть ее и измерить снаружи?
С другой стороны, все, находящиеся внутри вселенной, являются частью системы.
Задача увидеть, как может работать концепт волновой функции, не ссылаясь при этом на внешнего наблюдателя, представлялась сложной и интересной. Попытка развить способ проведения квантовых измерений без подобного коллапса выглядела равным образом устрашающей.
Эверетт постоянно думал об альтернативах Копенгагенской интерпретации, и однажды он явился к Уилеру с революционной новой гипотезой: предположим, что нет коллапса, предположим, что волновые функции каждой квантовой системы и вселенной как целого продолжают беспрепятственно развиваться в соответствии с уравнением Шредингера, уравнением Дирака и всеми непрерывными способами описания квантовых систем. Если нет коллапса, то нет нужды и во внешнем наблюдателе, следовательно, волновая функция вселенной может быть определена однозначным образом.
Это приносит нам единственное следствие, но очень необычное.
Вообразим, что у нас есть простая квантовая система, такая как атом, и ученый измеряет в ней некий параметр. Такие измерения происходят все время, и если проводятся корректно, то обычно получается один, а не несколько результатов. В таких случаях факт наблюдения в тот момент, когда оно происходит, не инициирует коллапс функции, а побуждает саму вселенную разветвляться на многочисленные возможности. Каждая ветвь будет представлять отличающийся результат, иными словами, альтернативную реальность.
Мизнера заинтриговала такая концепция, но у него возникли и сомнения в гипотезе Эверетта, которая очевидно нуждалась в доработке. Как он вспоминал: «Поначалу я отреагировал так, что мне не нравятся заключения Хью, но я уважаю его способность логически отстаивать свою точку зрения. Меня откровенно не устраивала теория Бора»91.
Уилер же был искренне воодушевлен, он побудил своих аспирантов искать путь определения волновой функции вселенной, и Эверетту оказалось некуда деваться. После некоторых дискуссий он решил писать диссертацию по теме, а Уилер стал его научным руководителем.
Проблема с геонами
Тем временем Уилер продолжал играть с червоточинами и геонами в их разных формах, словно ребенок, которому подарили новый конструктор. Он хотел сделать геоны ключевым компонентом в мире частиц, но по расчетам все выходило так, что минимальный размер классического геона-бублика сопоставим с размером Солнца, масса же его измерялась бы в миллионах солнечных, и вряд ли такой объект можно было отнести к элементарным частицам. Тем не менее Джон упорствовал, считая, что концепция слишком интересна, чтобы ее отбросить. Вероятным казалось, что квантовые коррекции помогут в конечном итоге уменьшить массу и размер.
Находясь в недолгой поездке в Европу, Уилер написал Эйнштейну и попросил у него совета по поводу геонов. Тот ответил, что они должны поговорить, когда Уилер вернется, но в октябре 1954-го у них состоялась телефонная беседа, и австриец изложил первоначальное мнение о концепции геонов.
Хотя они представляли реальные решения уравнений общей теории относительности, выглядели они при этом нестабильными. Поскольку гравитация слаба по сравнению с прочими фундаментальными силами, то будет трудно собрать устойчивую конфигурацию энергетических полей, опираясь только на их гравитационное взаимодействие.
Стабильные астрономические тела, такие как звезды или планеты, под завязку набиты массой, это не аморфные объекты.
Уилер поработал над вычислениями еще и решил, что Эйнштейн во всем прав. Червоточины предложенного вида тоже оказались бы совершенно нестабильными. Каждая исчезала бы, перегруженная материей или энергией, напоминая слишком сильно накачанную шину, которая лопается при малейшем ударе.
Джон все же не оставлял своего замысла, поскольку надеялся, что сможет отыскать стабильные решения, подобные постоянным волнам на поверхности турбулентного океана. Как обычно, он тщательно готовился к лекциям, делая записи, и постоянно ссылался на интеграл по траекториям Фейнмана.
Согласно листу посещений, Мизнер и Эверетт ходили на эти лекции. К этому времени приятели съехали из кампуса и сняли квартиру на двоих, и оба продолжали работать над диссертациями. Исследования Мизнера ближе соотносились с материалом курса, Эверетт имел шанс узнать больше о перспективах научной работы Уилера, лежавшей в смежной области.
18 апреля умер Эйнштейн, и Уилер лишился одного из любимых наставников. Они были очень близки в последние годы жизни великого австрийца, особенно в те времена, когда Уилер сам решил погрузиться в изучение общей теории относительности. Благодаря его усилиям и поддержке других ученых интерес к этой области начал понемногу расти. Удивительно, но десятилетие после смерти Эйнштейна стало для этой отрасли физики настоящим золотым веком.
Однажды ранней осенью Уилер отправил Фейнману предварительный образец своего семнадцатистраничного трактата по геонам. Очевидно, он хотел, чтобы Ричард посмотрел на работу и подумал, как можно прибавить квантовые коррекции к теории. Того как раз пилила жена (пока еще не бывшая) по поводу барабанов, расчетов и всего прочего, что ее раздражало, и озабоченность геонами выглядела для него приятным отвлечением.
Фейнман ответил 4 октября92 кратким, импровизированным анализом ситуации, изложив возможные квантовые коррекции первого порядка, сходные с тем, что он предлагал для Лэмбовского сдвига. Он сделал это в качестве простого умственного развлечения, поскольку не был уверен, что стабильные геоны могут существовать (фактически они не могут).
А еще он запросил у Уилера больше доказательств его концепции.
Краткое ознакомление Фейнмана с причудливой новой теорией бывшего наставника навело Ричарда на мысли о гравитации, о том, почему она так радикально отличается от других сил. Гравитация намного слабее электромагнетизма, и поэтому любая структура, что держится на ней, должна быть огромной. Атом, сцепленный гравитацией, а не электромагнетизмом, должен иметь астрономические размеры.
И прежде чем пытаться квантовать гравитацию, нужно задаться базовым вопросом – почему слабость этого фундаментального взаимодействия выпирает, точно нарыв на большом пальце?
Позже Фейнман писал в статье, посвященной квантовой гравитации: «Есть определенная иррациональность в любой работе, посвященной гравитации… показанная… в абсурдных построениях профессора Уилера и других подобных теориях, поскольку измерения столь специфичны»93.
Эссе Брайса Девитта, посвященное практическому использованию гравитации, получило первый приз Фонда по исследованиям в области гравитации в 1953 году, и в нем содержались схожие утверждения.
Любое устройство, сконструированное исключительно с помощью гравитации, должно быть планетарных масштабов из-за сравнительной слабости гравитационного взаимодействия. Ну а создание настолько больших структур превосходит наши нынешние возможности и может быть по плечу более развитым цивилизациям.
В 1955 году состоятельный промышленник Эгню Бэнсон оказался столь впечатлен этим эссе, что основал научный центр – институт полевой физики, ассоциированный в составе университета Северной Каролины (УСК), в городе Чапел-Хилл, и Девитт стал там профессором и директором по науке. Сесиль Девитт-Моретт, хотя сама по себе была выдающимся исследователем, получила должность приглашенного профессора.
Очевидной задачей центра стали исследования в области технологии антигравитации, чтобы использовать ее в создании летательных аппаратов, но Девитт расширил поле деятельности, чтобы исследовать свойства гравитации вообще. Уилер, Фейнман, Оппенгеймер, Толл и Дайсон выразили поддержку новому институту, и тот наряду с Принстоном и Сиракузами (под руководством Бергмана) сделался важнейшим узлом изучения гравитации в ее классической и квантовой формах.
Серьезная проблема, обозначенная в работах Фейнмана, Девитта и других – дисбаланс в силе между гравитацией и другими фундаментальными взаимодействиями – так и не решена до сих пор. Учитывая, что многие физики верят, что все эти взаимодействия имели одну и ту же силу во времена Большого взрыва, особенная слабость гравитации остается одной из глубочайших загадок науки.
Когда реальность раскалывается
К осени 1955 года Эверетт обдумал многие аспекты своей теории универсальной волновой функции (именно под этим именем стал известен его концепт) и был готов поделиться мыслями с Уилером. Он отправил тому несколько разных мини-отчетов, в их числе был один, озаглавленный «Вероятность в волновой механике»94, отличавшийся богатством описательного языка и качеством приведенных аналогий. Базируясь на комментариях Уилера, Эверетт соединил отчеты и получил черновик диссертации.
В отличие от богатой потрясениями концепции коллапса волновой функции, схема Эверетта выглядела гладкой как шелк. Измерения в ней никогда не вели к разрыву непрерывности. Более того, взаимодействие между наблюдателем и системой, подвергаемой изучению, плавно приводило систему к определенному состоянию.
Чтобы взять в рассмотрение случаи, когда квантовое измерение может привести к одному из нескольких разных результатов, Эверетт утверждал, что всякий результат является достоверным конечным состоянием, достигаемым посредством ветвления реальности. Наблюдатель разделяется тоже, распадается на различные, практически идентичные версии самого себя, отличающиеся только результатом измерения, которое он проводит. Ни одна копия не знает о других, поскольку остаток времени они проживают в разных отрезках времени.
Эверетт писал: «Как только наблюдение выполнено, единое состояние раскалывается на суперпозицию, в которой каждый элемент описывает отличающееся состояние системы-объекта и наблюдателя, обладающего определенным (в каждом случае иным) знанием об этой системе. Только полная совокупность состояний наблюдателя с их различными версиями знания содержит полную информацию об оригинальном состоянии системы-объекта. Но нет никаких возможных коммуникаций между наблюдателями, описанными этими различными состояниями»95.
Возьмем, для примера, известное противоречие, описанное Эрвином Шредингером, когда кота помещают в коробку, где находится сосуд с ядом и счетчик Гейгера, а также радиоактивный образец, вероятность распада которого за данное время 50 процентов. Система настроена так, что если счетчик Гейгера фиксирует распад, то сосуд разбивается, яд высвобождается, и кот умирает. С другой стороны, если радиация не возникнет, сосуд останется нетронутым, и животное не пострадает.
Чтобы указать на всю абсурдность Копенгагенской интерпретации, Шредингер утверждал, что она подразумевает – кот находится в зомбиобразной суперпозиции мертвого и живого до тех пор, пока ящик не откроют и наблюдатель не проведет «измерение» системы.
Интерпретация Эверетта обеспечивала совершенное иное предсказание.
Как только система сформировалась, и судьба кота оказалась связана с судьбой куска радиоактивного материала, реальность расходится на две ветви. В одной из них образец распадается, счетчик начинает щелкать, кот получает дозу яда, а наблюдатель рыдает. Другая характеризуется тем, что кот жив и наблюдатель может перевести дух.
Веселая и печальная копии ученого, идентичные – за исключением настроения, вызванного результатом эксперимента – возникают в момент измерения, но они никогда не узнают друг о друге и не получат возможности сверить записи. Они окажутся в двух немного отличающихся альтернативных ветвях реальности, покоящихся в абстрактной реальности, состоящей из всех возможностей.
Не будет никакого «бабах» в момент разделения, так что они не заметят ничего необычного. Без коллапса волновой функции все потечет дальше столь же мягко, как река, разделившаяся на два потока.
Уилеру нравилась идея универсальной функции и общее желание Эверетта убрать коллапс, его смущало все, относящееся к ссылкам на восприятие наблюдателем реальности. Сознание не относилось к области физики, как он думал тогда (его взгляды на этот предмет станут более гибкими несколько позже), и Джон не хотел, чтобы работа его аспиранта раздражала других членов диссертационного совета, поэтому он придирался ко всем ссылкам на раскалывание, восприятие и т. п.
Еще Уилер вовсе не желал тревожить Бора, который, как надеялся научный руководитель Эверетта, высоко оценит работу. А чтобы датчанин понял концепцию последнего и воспринял ее как шаг вперед, нужно было изложить все с особой осторожностью. Например, блестящая аналогия Эверетта с амебами, которые делятся надвое. Он представлял разумное одноклеточное создание, разделяющееся так, что каждая из копий думает о себе как об оригинале. Нечто подобное могло происходить при квантовых измерениях все время и, подобно амебам, каждая версия верила бы в свою уникальность. Уилер нашел, что метафора уводит в неправильном направлении (экспериментаторы – не амебы), и удалил ее.
И все же, несмотря на суровую редактуру со стороны Уилера, Бора работа Эверетта не заинтересовала. И он, и Петерсен не видели проблемы в существующей интерпретации квантовых измерений. Они утверждали, что все известное нам базируется на собственных методах каждого ученого, таких, как выбор аппаратуры и программы экспериментов, после чего получаются определенные результаты. Исходя из этого, можно сделать вывод, что с измерениями в области квантовых состояний все должно обстоять так же.
Идея, что мы знаем достаточно о квантовом состоянии, чтобы выводить заключения о тех воздействиях, которые оно оказывает на наблюдателя, выглядела опрометчивой, ненадежной и излишней.
По волнам
С января по сентябрь 1956 года Уилер ушел в творческий отпуск из Принстона, в это время он занимал пост приглашенного Лоренцевского профессора в Лейдене (Голландия). Из членов семьи его сопровождали только Джанет и Элисон, а Летиция и Джейми уже начали учиться в колледже. Зато к Джону присоединились три его магистранта: Мизнер, Путнам и еще один молодой американец по имени Джозеф Вебер.
Вебер интересовался изучением свойств гравитационных волн: ряби на материи пространства-времени, испускаемой флуктуирующими массивными телами (такими как сжимающиеся звезды), подобно тому, как звуковые волны исходят от вибрирующих диафрагм ораторов.
Эверетт, так пока и не защитивший диссертацию, решил не ехать.
В мае Уилер направился в Копенгаген, где встретился с Бором и Петерсеном и попытался убедить их в достоинствах теории своего ученика. Ему самому нужен был концепт универсальной волновой функции, чтобы устранить потребность во внешних наблюдателях и получить возможность описать вселенную целиком на квантовом языке.
Других разумных альтернатив он не видел.
Понятно, что ни один смертный ученый не в состоянии вскочить на звездолет, умчаться за пределы вселенной, понаблюдать ее и вызвать коллапс ее волновой функции просто для того, чтобы сделать измерения.
Уилер побуждал Эверетта присоединиться к ним в Копенгагене, принять участие в дискуссии. Но тот как раз ждал приглашения на вовсе не академическую летнюю работу для Пентагона.
Бор и Петерсен не дали так легко сдвинуть себя со своей позиции, они постарались убедить Уилера, что его ученику стоит еще раз отредактировать диссертацию перед получением степени. Они указали, что работа настолько сырая и невнятная, что мало кто из людей, не понимающих досконально точки зрения Эверетта, сможет догадаться, что он пытается сказать.
Разочарованный, Эверетт оставил чистую науку ради карьеры военного ученого. В 1959 году, взяв отпуск, он все-таки приехал в Копенгаген, но Бор снова не позволил себя убедить.
Джозеф Вебер был другим мечтателем, кого восхищала открытость Уилера к необычным идеям. Его интерес к гравитационным волнам заставил Джона обратиться к совершенно иному направлению физики. Эйнштейн предсказал существование подобных складок на ткани реальности в одной из ранних статей по общей теории относительности, но не вкладывался в эту концепцию до 1936 года, когда вышла их совместная статья с Натаном Розеном.
Вебер рассчитал силу столкновения таких волн с Землей и вывел, что воздействие будет слабым. Тем не менее оставался шанс, что достаточно чувствительный детектор сможет уловить колебания, вызванные звездной катастрофой, такой как взрыв огромной суперновой, отмечающей конец жизни массивной звезды. Если начальный взрыв энергии окажется достаточно велик, то вызванные им волны удастся ощутить за тысячи миллиардов миль.
Перспектива экспериментально «поймать» гравитационные волны зачаровала Вебера и определила его карьеру на многие десятилетия. В университете Мэриленда он сконструировал устройство размером с комнату, названное «гравитационной антенной», чтобы поймать эти слабые сигналы. Он сам отчитался, что сумел их зафиксировать, но другие ученые не смогли повторить его результаты.
Как стало ясно, для достижения успеха требовался более крупный и чувствительный детектор. Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) впервые достигла цели в сентябре 2015 года (объявлено в начале 2016-го). Она засекла гравитационные волны, произведенные парой отдаленных черных дыр, сжавших друг друга в смертельных объятиях и падающих по бесконечной спирали. Другой студент Уилера, Кип Торн, ставший профессором в Калтехе, был инициатором и ведущим специалистом этого проекта.
Но в середине пятидесятых, когда Вебер учился у Уилера, гравитационные волны были противоречивой темой. В 1955 году, когда в Берне (Швейцария) отмечался юбилей специальной теории относительности, Розен заявил, что эти волны не переносят энергию. Заявление это базировалось на расчетах, показывающих, что гравитационная энергия должна собираться в окрестностях звезд и других массивных объектов, но не в пустом пространстве. Двумя годами позже на конференции в Чапел-Хилл Фейнман предложил простую линию доказательств, объясняющих, что гравитационные волны должны переносить энергию, и она стала известна как «аргумент липких бусин».
Липкие бусины
В сентябре 1957 года чета Девиттов – и Сесиль была главной движущей силой – организовала первую в США значительную международную конференцию, посвященную общей теории относительности. Спонсорскую поддержку оказал институт полевой физики и непосредственно Бэнсон, и мероприятие получилось столь значимым, что его назвали GR1[15].
Как вспоминал Брайс Девитт: «Это была конференция только по приглашениям. Среди прочих явились Джон Уилер, Леон Розенфельд, Томми Голд, Фред Хойл и Ричард Фейнман. Это была прекрасная конференция»96.
Уилер привез нескольких магистрантов, в их числе оказались Мизнер и Вебер. Эверетт не приехал, но Уилер отправил Девитту жестоко отредактированную версию диссертации с неопределенным названием «Относительное состояние. Формулировка квантовой механики», чтобы ее вложили в материалы конференции вместе со второй статьей, в которой суммировались собственные взгляды Уилера на предмет.
Ну а учитывая, что там же было еще восемь статей Уилера и его учеников, в сумме они составляли более одной трети всех материалов. Другие участники конференции мягко подтрунивали над Джоном, обвиняя его в «захвате власти».
Фейнман согласился посетить конференцию в качестве своего рода стороннего наблюдателя, который, не являясь специалистом по гравитации, может сказать тем, кто ею занимается, имеют ли их идеи какой-либо смысл. Когда он прибыл в аэропорт Роли-Дарем97 на второй день конференции, он попросил таксиста отвезти его в университет Северной Каролины.
Но в том же самом регионе находится и Государственный университет Северной Каролины, поэтому водитель не был уверен, куда нужно пассажиру, а тот тем более. Однако у Фейнмана появилась идея, и он поинтересовался у диспетчера, куда вчера отвозили кучку персонажей откровенно не от мира сего, бормотавших нечто совершенно невнятное. Диспетчер немедленно понял, о чем речь, и велел таксисту отвезти пассажира в Чапел-Хилл.
Прибыв на конференцию, Фейнман решил подразнить Уилера по поводу странных идей последнего. Как вспоминал Девитт98, «Едва показавшись, Ричард немедленно поприветствовал Джона «Хай, Джеон![16]», а затем все время называл его Джеон Уилер».
Фейнман был не одинок в скептическом отношении к геонам.
«Никто не верил в них, – вспоминал Девитт. – Но Уилер пытался сделать то же самое, что и я. Он пытался вернуть теорию относительности обратно в центр физики. Пытался применить инженерный подход. Просто старался взять эту эзотерическую математическую штуковину и сделать из нее нечто, что ты можешь схватить и о чем ты можешь поговорить с точки зрения физики»99.
Вместе с геонами Уилер представил на GR1 целый «мешок» разных странностей, связанных с геометродинамикой, идею червоточин и пенистости пространства-времени в его мельчайшем масштабе. Он предложил хитрую метафору о том, что человек воспринимает пространство-время как вид на океан с самолета, гладкий и спокойный. Только если спуститься на уровень земной поверхности, то море может оказаться беспокойным и пенящимся. Схожим образом и пространство-время в планковском масштабе может бурлить от громадного количества эфемерных объектов вроде неустойчивых мини-червоточин.
Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на конференции, был такой: может ли пустое пространство переносить энергию в форме гравитационных волн? Участники предложили массу отличных аргументов против такой возможности, например, утверждение Розена о том, что у волн энергия вообще отсутствует. Но после комментариев Фейнмана по поводу того, что гравитацию необходимо квантовать, Леон Розенфельд указал, что приложение квантовых методов к гравитации потребует исчерпывающего описания гравитационного излучения, аналогичного тому, какое существует для электромагнетизма. Если его не создать, то совершенно непонятно, с чего начать. Следовательно, гравитационным волнам лучше бы существовать, иначе квантовая гравитация имеет шансы никогда не появиться на свет.
Глубоко обдумав проблему, Фейнман мысленно вернулся к простому опровержению негативного заключения Розена. Представим два массивных объекта, находящихся рядом, но не соприкасающихся, нечто вроде громадных костяшек на счетах. Они присоединены к одной и той же проволоке, первая жестко, вторая свободно и может скользить. Теперь вообразим гравитационную волну, проходящую через эту часть пространства и сотрясающую объекты. Вторая костяшка начнет скользить по проволоке, создавая тепловую энергию в процессе трения. Учитывая это и закон сохранения энергии, мы должны признать, что энергия откуда-то явилась, и очевидно, что ее принесла гравитационная волна. Отсюда вывод – гравитационные волны могут переносить энергию.
Если бы Фейнман был жив в 2015 году, то, безо всяких сомнений, он обрадовался бы, узнав, что его догадка подтвердилась открытием гравитационных волн, сделанным с помощью LIGO. Но его жизнь всего на несколько лет пересеклась с программой, начатой в 1984 году, когда Торн при участии Райнера Вайсса и Рональда Древера затеял проект. Когда успех после десятилетий работы оказался достигнут, Кип Торн носил звание Фейнмановского профессора теоретической физики в отставке в Калтехе.
Многомировая интерпретация
После завершения конференции Девитт взял на себя задачу отредактировать выпуск Reviews of Modern Physics, посвященный статьям и дискуссиям в Чапел-Хилл. Поскольку Эверетт не присутствовал, и его работа не обсуждалась, то включение его материала – представленного Уилером наряду с анализом, – выглядело слегка таинственно. Название вроде бы соответствовало квантовой части конференции, но почти не соотносилось с темой гравитации, за исключением общей идеи универсальной волновой функции (квантовое описание без коллапса).
Но поскольку материал предложил Уилер, то Девитт прочитал его внимательно. Поначалу он едва не смеялся, видя, что некто пытается принести нечто новое в проблему квантовых измерений, но потом стал тревожиться все сильнее и сильнее из-за смелых отсылок к участию наблюдателя в ветвлении квантовых состояний.
«Я был так потрясен, что сел и написал… (длинное) письмо Эверетту, поочередно восхваляя и осуждая его, – вспоминал Девитт. – Мое осуждение большей частью состояло из цитат из Гейзенберга, относящихся к “переходу от возможного к реальному” и упирало на тот факт, что “я не чувствую, что разделяюсь”»100.
Эверетт прислал краткий ответ.
Он воспользовался случаем, чтобы заново представить в форме сноски часть объяснения процесса раскалывания, которую Уилер вырезал из статьи. Он объяснил, как именно после квантового измерения каждая копия наблюдателя думает, что его версия реальности является исходной. Также он упомянул, что если ты чего-то не ощущаешь, то это вовсе не значит, что этого не происходит. Он напомнил читателям (и Девитту) о противниках Коперника, в дни Галилея истово доказывавших, что Земля не может вращаться вокруг Солнца, поскольку никто не ощущает ее движения. Пораженный таким остроумным контрдоводом, Девитт только и смог, что воскликнуть: «Туше!»
Гипотеза Эверетта практически пребывала в забвении до 1970 года, когда Девитт сделал ее популярное описание для Physics Today. Он дал ей имя «многомировая интерпретация» (ММИ), куда более красноречивое, чем «относительное состояние». Статья вызвала многочисленные дискуссии, и концепция стала более известной.
Девитт также решил с позволения Эверетта выпустить книгу для школьников, посвященную ММИ. Сам автор гипотезы внес свой вклад, прислав ему помятую копию ранней версии диссертации, ту самую, до которой не добрался Уилер. Из этого прототипа Девитт извлек куда более ясное понимание теории.
Остаток карьеры Девитт был наиболее пылким популяризатором и защитником концепции ММИ, он всегда подчеркивал, что любое квантовое описание вселенной не подразумевает внешних наблюдателей. Следовательно, у ММИ просто нет альтернатив. Однако он полностью понимал, почему других смущает идея реальности, которая постоянно раскалывается и создает миллиарды копий.
Частично благодаря усилиям Девитта, частично – оптимизации изначальной идеи уважаемыми физиками, такими как Дэвид Дойч, который делал постдиссертационную работу под руководством Девитта и Уилера, и Макс Тегмарк, работавший вместе с Уилером, ММИ стала уважаемой научной альтернативой (в некоторых кругах, по меньшей мере) Копенгагенской интерпретации.
Сам Уилер испытывал к ММИ смешанные чувства. По правде говоря, он видел много такого, что ему нравилось, в универсальной волновой функции, но его смущали термины вроде «многомировой», «параллельные вселенные» и «раскалывание». Зачем измышлять более чем одну вселенную?
Фейнман же большей частью игнорировал ММИ, один из немногих зафиксированных комментариев он высказал на конференции в Чапел-Хилл, после доклада Дезера. После того как Уилер упомянул о возможности того, что Эвереттовское описание универсальной волновой функции будет легче приложить к гравитации, чем стандартные техники квантовой электродинамики, Фейнман возразил: «Концепция «универсальной волновой функции» имеет серьезные концептуальные недостатки. Происходит это по той причине, что подобная функция должна содержать колебания для всех возможных миров, зависящих от всех возможностей квантовой механики в прошлом, что принуждает нас верить в равную реальность бесконечности возможных миров»101.
Как заметил позже Дайсон: «Фейнман не видел смысла в философии и ему не нравились любые философские интерпретации квантовой механики. Он говорил, что теория будет ясной и четкой, если не наводить на нее философического тумана. Цель любой теории – описывать природу, а не объяснять ее»102. Сам Дайсон тоже думал, что ММИ не имеет особой ценности. Как он вспоминал: «Я не помню, когда впервые услышал об интерпретации Эверетта. Она всегда мне не нравилась, и я рассматривал любые попытки обсуждать ее как глупую трату времени. Если использовать знаменитую фразу Паули, то она «даже не ошибочна».
Интеграл по траекториям и ММИ постулируют существование параллельных нитей реальности, подлинных лабиринтов времени. Но если первая концепция стала общепринятым средством описания мира частиц, то вторая сохранила слишком много противоречий. Можно подумать, что параллельные вселенные всюду одни и те же, но на самом деле два подхода имеют ключевые философские расхождения.
С точки зрения интеграла по траекториям в процессе квантового измерения мы проходим через пространство-время смесью разных путей, предписанных частицам в абстрактной реальности возможностей. Тем не менее смесь не может быть разбита на отдельные физически наблюдаемые сегменты. Это всегда одна вселенная, одна реальность.
ММИ, наоборот, делает реальным постоянное расщепление, если верить ей, то мир вокруг – включая нас самих, – разделяется на новые и новые версии, создавая сеть хронологий. Как в «Саду расходящихся тропок» Борхеса в одной из ветвей два человека могут быть друзьями, а в другой смертельными врагами. Возможно, в другой вселенной Фейнман мог стать актером, сыгравшим в «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро, и играл бы на барабанах конга в разных джазовых группах, в то время как профессора Джек Леммон и Тони Кертис представили бы новую статью на конференции в Чапел-Хилл.
Фейнману бы такой вариант понравился.
Подобные альтернативные реальности выглядят слишком научно-фантастическими для многих упертых физиков. Даже для человека вроде Джона Уилера, который наслаждался «дикими идеями», упоминание реально существующих параллельных вселенных казалось слишком смелым. Для него непроверяемые оценки граничили, скорее, с религиозными убеждениями, чем представляли аутентичную науку.
Мечтай в ночи, но проверяй при свете дня.
Глава седьмая Стрела времени и таинственный мистер Икс
Мы роняем яйцо на тротуар: его содержимое расплескивается. С другой стороны, видя размазанное по тротуару яйцо, мы не ожидаем, что оно соберется обратно и запрыгнет нам в руку. Так что очевидным образом законы природы выглядят иначе, если мы вдруг повернули направление времени.
Ричард Ф. Фейнман. из заметок для программы «О времени» Перепечатано в «Афористичный Фейнман»Время. Почему вообще есть такая штука, как время? Почему оно должно быть одномерным? Время не может быть фундаментальным. Идеи «до» и «после» перестают работать на очень малых расстояниях. Они перестают работать при Большом взрыве.
Джон А. Уилер. цитата из «Что случится в конце вещей?» Джереми БерштейнаСуществует заметная асимметрия между нашими воспоминаниями и предвосхищениями, нашим отражением прошлого и надеждами на будущее. Возможно, это и к лучшему, потому что если бы мы могли «помнить» будущее, то нам было бы сложно вступать в отношения или затевать проекты, зная заранее, что ничего не выйдет.
Если бы у Ричарда Фейнмана был магический кристалл в 1952 году, он с самого начала понял бы, что его второй брак обречен. Он не занялся бы сверхпроводимостью, если бы знал, что другие – Джон Бардин, Леон Купер и Роберт Шриффер – уже сделали теоретическое описание этого феномена (хотя он высказал важные догадки по данной теме и внес значимый вклад в смежную область, изучение сверхтекучести).
Схожим образом Джон Уилер, имей он возможность заглянуть в будущее, не взял бы секретные документы с собой в поезд. Он бы уделил мало внимания геонам, зная, что они окажутся нестабильными и непригодными в качестве частиц, останутся лишь теоретическим концептом, а затем и вовсе исчезнут в безвестности.
Триумфы, точно так же как и ошибки, часто удивляют нас.
В 1957 году Фейнман и Уилер не имели возможности узнать, что наступающее десятилетие будет одинаково плодотворным и счастливым для каждого из них (если исключить смерть матери Джона в 1960-м). Ричард в конечном итоге удачно женится, у него появятся дети, он разработает прославленный курс «Фейнмановские лекции по физике», откроет критически важные свойства элементарных частиц и сил природы, сделает некоторое количество находок, которые в дальнейшем двинут вперед нанотехнологии, и это еще не упоминая о Нобелевской премии за ранний вклад в квантовую электродинамику. Уилер будет счастлив увидеть, как его дети вступают в брак, станет дедушкой, его окутает честь получения Премии Энрико Ферми, медали Франклина и Премии Эйнштейна, и еще он сделается признанным авторитетом в области гравитационного сжатия звезд, в описании таких объектов, как черные дыры.
В отличие от людей, элементарные частицы не могут представить ни собственное прошлое, ни собственное будущее. Но если бы они могли, то заметили бы разницу?
До начала шестидесятых физики в большинстве своем считали, что (за исключением процессов, связанных с измерениями, проводимыми человеком) все взаимодействия между элементарными частицами полностью обратимы во времени. Снимите процесс такого взаимодействия на пленку, прокрутите ее в обратном порядке и увидите новый процесс, столь же распространенный и правдоподобный.
Затем открытие, сделанное в 1964 году Джеймсом Крониным и Валом Фитчем, которые трудились в Принстоне, доказало, что даже тела субатомного уровня могут неким образом демонстрировать различение между прошлым и будущим. Ученые показали, что временная симметрия вовсе не является универсальной чертой в мире частиц, и, более того, в некоторых процессах имеет место однонаправленная стрела времени.
Размышляя об отражении
Чтобы полностью осознать открытие Кронина и Фитча, мы должны понять концепцию симметрии в физике элементарных частиц. Некоторые симметрии выглядят непрерывными, как вращательная инвариантность. Закрутим атом водорода, находящийся на самом низком уровне энергии, и его измеряемые физические свойства будут казаться теми же самыми. Симметрия переноса (движения через пространство) также непрерывна: сдвинем немного тот же атом через пустое пространство, и он ничуть не изменится.
Другие типы симметрии являются дискретными, включают сдвиг между конечными наборами конфигураций. Симметрия зарядового сопряжения (смены знака) является хорошим примером: если поменять заряд частицы с положительного на отрицательный и ничего больше не изменится, то эта симметрия имеет место. Симметрия пространственной инвариантности возникает тогда, когда вы отражаете объект в зеркале, с математической точки зрения она включает изменение знака одной или нескольких пространственных координат – с плюса на минус или наоборот. При этом виде симметрии смена направления взаимодействия на его зеркальный образ никак не повлияет на результат.
Представим, что вы работаете в пункте приема вторсырья, и некто дает вам бумажную перчатку, чтобы превратить ее в бумажную массу. Вас не заботит, с левой руки она или с правой, это одно и то же – вот симметрия пространственной инвариантности. И наоборот, если при игре в бейсбол вы исполняете роль катчера и ловите мяч правой рукой, то перчатку для левой вы постараетесь обменять, и здесь подобной симметрии нет.
Разница между леворукостью и праворукостью называется «хиральность». Многие знакомые вещи – перчатки, обувь, ракушки, двери и т. д. – имеют соответствующую направленность. В симметрии пространственной инвариантности изменение хиральности не влияет на результат.
Временная симметрия тоже относится к дискретным, и в ее рамках существуют два выбора: вперед и назад во времени. Полностью упругое столкновение двух пляжных мячей – отличный пример существования такой симметрии. Рост ребенка по мере его превращения во взрослого – один из несметного количества образцов из нашей жизни, где такой симметрии нет. Понятное дело, что видео человеческого развития выглядит по-разному, если воспроизводить его вперед и назад во времени – случай нарушения временной симметрии в повседневном масштабе.
И в конечном итоге существуют близкие к симметричным ситуации, когда преобразование производит небольшие изменения. Протоны и нейтроны обладают почти одинаковой массой, подчиняясь почти-симметрии, называемой «изоспин». Такие почти-симметрии иногда дают нам информацию о связях между частицами. В случае с протонами и нейтронами оказалось, что и те и другие состоят из компонентов, называемых кварками и глюонами.
Диаграммы Фейнмана с перпендикулярными осями, отображающими пространство и время, наряду с прямыми и волнистыми линиями, показывающими характерные траектории частиц, могут быть использованы и для того, чтобы наглядно представить разного вида симметрии. Их можно применить, чтобы показать, что комбинация временной симметрии, симметрии зарядового сопряжения и пространственной инвариантности должна быть инвариантна для всех известных взаимодействий в мире частиц.
Например, возьмем электрон, движущийся направо – при смене заряда он превратится в позитрон, движущийся направо; отразим его в зеркале, и он превратится в позитрон, двигающийся налево; обратим направление времени, и он станет позитроном, который движется налево и одновременно в прошлое. Взяв концепцию позитронов Фейнмана и Уилера, мы представляем ее посредством смены направления осей координат в диаграмме, результатом чего станет электрон, путешествующий вправо и в будущее. Таким образом, мы описали полный цикл, показав магическую комбинацию из трех симметрий.
Другой способ описания этого феномена – взять две симметрии и показать, что их комбинация является третьей. Например, смена заряда и направления в пространстве эквивалентны изменению направления времени. Если заряд и направление постоянны, то время тоже. Изменение заряда и направления означает изменение времени.
Для электромагнитных взаимодействий каждое из трех преобразований является инвариантным. Вы можете убедиться в этом, измеряя силу отталкивания между двумя электронами, один слева, другой справа, и применяя к ним любое из преобразований. Сменим заряды, электроны станут позитронами, сила не изменится; поменяем местами электроны – то же самое, изменим направление времени – и опять ничего не меняется.
Просто, но скучно.
Более интересным выглядит слабое взаимодействие, имеющее отношение ко многим формам радиоактивного распада. В ранних моделях слабого взаимодействия предполагалась инвариантность каждой из трех симметрий, как и в электромагнетизме.
Но в 1956 году физики Янг Чженьнин и Ли Чжэндао высказали предположение, что определенные типы каонного (к-мезонного) распада демонстрируют нарушение симметрии пространственной инвариантности. Слабое взаимодействие, заявили они, характеризуется расхождением между определенными процессами и их зеркальным отображением – подобно разнице в проценте правшей и левшей. Экспериментатор Ву Цзяньсюн блестяще подтвердила их гипотезу, результатом чего стала Нобелевская премия для первых двоих в следующем году.
Левый уклон
Фейнман редко участвовал в совместных проектах, ему нравилось работать в одиночестве, ну а еще ему не хотелось приспосабливаться к изменению настроений соавтора. Сам он обычно был оптимистичен и полон энергии, но иногда просто хотел, чтобы все оставили его в покое; явись кто в его кабинет в такой день, Ричард мог без лишних экивоков попросить гостя вон. Кроме того, он никогда не стеснялся высказывать свое мнение. Если идея его не привлекала, он мог назвать ее глупой, если она его не интересовала, он мог демонстративно задремать.
Когда в руки Фейнману попадала статья, то если она не завладевала его вниманием немедленно (как в случае с геонами Уилера), он просто отбрасывал ее, даже не дочитав. Ричард всегда считал, что лучше быть идеально честным, чем тратить ценное время на ерунду.
Несмотря на все это, одной из самых значительных его работ стала соавторская, в компании коллеги по Калтеху, Марри Гелл-Мана, блестящего физика. Выяснилось, что оба они работают над слабым взаимодействием, рассматривая случаи нарушения симметрии пространственной инвариантности, а поскольку исследования проводились в рамках одного университета, то они решили объединить усилия и написать совместную статью.
Фейнмана в это время одолевала неуверенность в том, что он чего-то достиг в физике, поэтому он обратился к совершенно новой для себя области. Его теория квантовой электродинамики нуждалась в перенормировке, ей недоставало математической строгости. Несмотря на то что все признавали ее предсказательную силу, он отклонял перенормировку, называя ее «схемой для запихивания большой проблемы под ковер»103.
Еще над Фейнманом висела тень неудачи, постигшей его в работе со сверхпроводимостью.
Слабое взаимодействие выглядело многообещающей темой, поскольку за исключением усилий Энрико Ферми, она оставалась неисследованной и обещала большие открытия. Фейнман хотел двинуться дальше за пределы электродинамики, и слабое взаимодействие представлялось идеальным полем для исследований.
Летом 1957 года он осознал, что комбинация векторного (V) и псевдовекторного взаимодействий (А) может сформировать модель нарушения симметрии пространственной инвариантности, сохраняющую нетронутыми другие физические величины, такие, как заряд. Разница между вектором и псевдовектором (или аксиальным вектором) состоит в том, что последний изменяет направление при отражении.
Чтобы увидеть разницу, встанем перед зеркалом, улыбнемся, вытянем левую руку и покажем большой палец. Если отражение просто улыбнется и повторит жест, пусть даже тем, что выглядит его правой рукой, то ваш большой палец представит собой вектор. Если палец неким образом указывает вниз, а остальные сложены, как вы ожидаете, то он представит собой псевдовектор. Странным образом все будет выглядеть так, что левая рука вашего отражения в зеркале оказалась там, где должна быть правая рука, а большой палец направлен вниз, поскольку пальцы сложены определенным образом.
Фейнман обнаружил, что комбинация V-A отражает удивительное свойство: нейтрино всегда левши, в том смысле, что спин нейтрино (спин вверх или спин вниз) всегда нацелен против того направления, куда оно движется. Аналогия может быть такая – все футбольные мячи, подброшенные в воздух, вращаются по часовой стрелке, если смотреть сверху, и никогда против часовой. В случае с мячом вы можете поймать его и закрутить в противоположном направлении. Но в соответствии с информацией, доступной в то время, нейтрино должны были путешествовать со скоростью света, поскольку не обладают массой (сейчас мы знаем, что крошечная масса у них все же есть). Следовательно, их нельзя поймать и закрутить иначе.
С нейтрино, которые всегда левши и контактируют с помощью слабого взаимодействия с другими леворукими фермионами, космос выглядел несбалансированным. Ничего удивительного, что симметрия пространственной инвариантности нарушалась: зеркальным отражением леворукого нейтрино не могло быть праворукое нейтрино, поскольку таких не существует. Теория соответствовала экспериментальным данным, показывая, что зеркальная симметрия не является фундаментальной, она приложима к электромагнетизму, но не к слабому взаимодействию.
Когда Стивен Вайнберг, Абдус Салам и Шелдон Ли Глэшоу получили на троих одну Нобелевскую премию за разработку унифицированной теории электрослабого взаимодействия (электромагнетизм и слабое вместе), то V-A механизм занимал в их схемах важное место.
Фейнман гордился своей формулировкой V-A, как он сказал историку науки Джагдиш Мера: «Когда я думал об этом, когда я держал все у себя в фокусе внимания, эта проклятая штука просто искрилась, она ярко сверкала! Глядя на нее, я чувствовал, что это первый и единственный раз, когда я знаю закон природы, который больше никто не знает… Я думал “ну вот, я и достиг всего”»104!
Занимаясь собственным описанием слабого взаимодействия, он не сообразил, что и другие пришли к тем же самым заключениям. Как Фейнман вскоре узнал, физики Джордж Сударшан и Роберт Маршак из университета Рочестера уже определили V-A механизм. Базируясь на работе, завершенной несколько месяцев назад, они выпустили статью в другом журнале практически в то же самое время, что и исследователи из Калтеха в Physical Review. Тем не менее Ричард всегда был удовлетворен тем, что внес вклад в открытие нового закона природы.
Владычица озера
В сентябре 1958 года большое количество выдающихся физиков из США, Западной Европы и Восточного Блока (часть Европы, находившаяся под влиянием СССР) собрались в Женеве, в комплексе зданий ООН, чтобы провести Вторую интернациональную конференцию по мирному использованию атомной энергии. Уилер прибыл в Швейцарию (в 1954-м он посетил и Первую конференцию), оторвавшись от работы с геонами.
На конференции советские и американские ученые первый раз сравнили свои подходы к ранее тщательно охранявшимся от посторонних глаз схемам ядерного синтеза. Коллеги из разных стран поделились друг с другом не военными аспектами проблемы, но ее потенциалом в производстве энергии.
Уилер получил удовольствие, общаясь с физиками из СССР в дружеской атмосфере, это дало ему надежду, что холодная война скоро закончится примирением.
Фейнмана пригласили выступить на пленарном заседании, посвященном физике частиц, сделать резюме его и Гелл-Мана идей. Оказавшись в Женеве, он решил посетить живописный берег озера, где вступил в беседу с красивой юной дамой в бикини в горошек; дама преспокойно нежилась на пляже.
Ее звали Гвинет Ховарт, и она родилась в Англии, в Йоркшире, работала же в качестве прислуги в одной из английских семей, обитавших в Швейцарии. Рабочий день был долгим, а жалованье – скудным.
Фейнману девушка понравилась, и он упомянул, что не против, если бы она стала его домоправительницей в США, где он смог бы платить ей больше. Гвинет собиралась в путешествие по миру, и первым делом в Австралию, поэтому она пообещала лишь обдумать его предложение.
Вернувшись в Калифорнию, Ричард изучил вопрос ее приглашения с точки зрения закона. Чтобы избежать потенциальных осложнений на тот случай, если все выльется в романтические отношения, он нашел коллегу, который и пригласил Гвинет, дал ей возможность получить рабочую визу.
Она прибыла в июне 1959-го и поселилась в отдельной части дома Фейнмана. Первый год их отношения почти не выходили за рамки деловых, и хотя Ричард и Гвинет иногда появлялись вместе в обществе, оба встречались с другими. Но на следующий год Ричард понял, что влюблен, и предложил брак. Гвинет согласилась, но с одним условием: ради поддержания семейных ценностей она захотела, чтобы их поженил не судья, а священник.
24 сентября 1960 года состоялось бракосочетание. Уэсли Робб, декан факультета богословия университета Южной Калифорнии, провел церемонию, а свидетелем со стороны жениха стал армянский художник Жирайр Зортян.
Это был крепкий брак с первого до последнего дня, Гвинет хорошо понимала мужа и давала ему свободу мечтать. Они проводили вместе много времени, путешествовали по всему миру, растили двух детей. Карл родился в 1962-м, а Мишель была удочерена в 1968-м.
Зортян, ставший близким другом Фейнмана, был знаменательной личностью. Они познакомились на вечеринке, где Ричард развлекал гостей игрой на бонго, ну а Жирайр решил поддержать это дело бешеным танцем. Он исчез на минутку, вернулся по пояс голым, с торсом, разрисованным пеной для бритья, и принялся яростно скакать. Понятно, что Фейнман, любивший все необычное, оказался просто очарован.
Ему нравились картины Жирайра, и он сам был не прочь поучиться у мастера. Поэтому они заключили сделку, чтобы один учил другого рисованию в обмен на уроки физики. Под руководством Зортяна природный талант Фейнмана к рисованию расцвел так, что он мог вполне заняться карьерой художника. Он набрасывал портреты, изображал танцовщиц из местного Go-Go бара, знакомых, использовал все возможности для практики. В конечном итоге он продал часть своих работ под псевдонимом «Офей».
Великий популяризатор
В Калтехе Фейнман был любим студентами как блестящий преподаватель. «Ученичество» у Уилера и проведенные в Корнелле годы отточили его навыки, обогатили опытом. Он стал источником бесконечной энергии, самым безумным, вдохновляющим из всех профессоров. Заходя в класс, он часто начинал представление с того, что бил по столу, вставал у доски, бросал студентам вызов в виде сложного вопроса, и шоу продолжалось. Как писала «Лос-Анджелес Таймс»: «Лекция доктора Фейнмана – нечто уникальное. Драматизм и юмор, саспенс и насыщенность – по всему этому он может конкурировать с постановками на Бродвее. И помимо всего прочего, это просто образец научной ясности»105.
Фейнман начал курс, названный «Физика Икс», для студентов первого курса, и первое правило звучало так: «Спрашивайте меня о чем угодно»106. Курс затянулся на многие годы и стал символом его инновационных методов обучения.
Во внутреннем дворе Дабни-Хаус, общежития для студентов, находятся барельефы, изображающие известных ученых и философов, таких как Эвклид, Архимед, Исаак Ньютон и Леонардо Да Винчи, воздающих честь персоне в центре, долженствующей обозначать Галилея. В 1965 году студенты воспользовались возможностью обозначить эту фигуру «Фейнман», выражая тем свою любовь и уважение. Некоторые первокурсники называли ее «Оракул Фейнмана»107 и кланялись ей, взыскуя помощи в изучении физики.
Репутация Фейнмана как «великого популяризатора» росла и растекалась по миру в течение шестидесятых-семидесятых годов. В 1964 году его пригласили в Корнелл прочитать цикл лекций под запись на пленку. Эти лекции получили название «Характер физических законов» и появились в огромном количестве телевизионных программ, посвященных науке в США и Великобритании.
Одну из самых знаменитых лекций, «Там много пространства на дне», он прочитал 29 декабря 1959-го, во время встречи Американского физического общества, проходившей в Калтехе. Ричард поведал о перспективах миниатюризации, от энциклопедий, напечатанных на булавочной головке, до крошечных механизмов. Он предложил тысячу долларов тому, кто сможет выполнить такую задачу, и вызов был принят. В следующем году инженер из Пасадены Уильям Мак-Леллан прислал Фейнману мотор размером в одну шестьдесят четвертую дюйма по каждой из сторон, куда меньше, чем булавочная головка. Фейнман поздравил победителя и сразу отправил ему выигрыш.
Лекция 1959 года часто рассматривается как один из источников вдохновения для нанотехнологий. Несомненно, Ричард был во многом пророком в том, что касалось компьютеров, ведь они с течением десятилетий превратились из агрегатов, занимающих целые комнаты, в карманные устройства.
Интерес Фейнмана к этой области возник еще в Лос-Аламосе, во время войны, где он был одним из экспертов в обращении с вычислительными машинами, и не угасал никогда.
Секреты мистера Икс
Весной 1963 года Уилер и Фейнман обнаружили, что им вновь придется вместе посетить конференцию, и что там планируется отметить их вклад в теорию, о которой они давно забыли.
Оба много лет не уделяли внимания теории поглощения Уилера – Фейнмана. Философия Уилера «все есть поля» отодвинула концепцию действия на расстоянии на обочину его интересов. Фейнман смотрел на свою диссертацию как на источник, из которого вырос интеграл по траекториям, но видел ее недостатки во всех прочих отношениях.
К их большому удивлению, статья 1962 года, написанная физиком Дж. Е. Хогартом, вернула к жизни их идею и приложила ее к космологии в качестве объяснения, почему время направлено вперед. Хогарт повторил расчеты Уилера и Фейнмана, в которых равная смесь сигналов, путешествующих вперед и назад во времени, приводит к эффекту затухания излучения (уменьшение ускорения заряженной частицы по мере того, как она путешествует через пространство). Но вместо модели стационарного состояния он использовал ее вариацию – космологию расширяющейся вселенной. Поскольку пространство расширяется, оно поглощает сигналы.
Хогарт показал, что направление «космологической стрелы» (расширение вселенной) соответствует направлению, в котором угасание излучения имеет верный математический знак. Он предположил, что космологическая модель расширяющейся вселенной корректна, поскольку она позволяет получить правильную динамику для частиц.
Попытка Хогарта оживить теорию поглощения Уилера – Фейнмана стала центральной точкой конференции «Природа времени», организованной сторонниками теории стационарного состояния Германом Бонди и Томасом Голдом в Корнелле. Естественно, ее посетил Фред Хойл, привезший с собой одаренного магистранта по имени Джайант Нарликар. Они выступили сразу после Хогарта с докладом, который еще более недвусмысленно соединил стрелу времени и теорию поглощения, чтобы оправдать модель стационарного состояния.
Среди других важных гостей оказались астрофизик Деннис Сиама (в то время он поддерживал гипотезу стационарного состояния), математик Роджер Пенроуз, философ Адольф Грюнбаум, Чарльз Мизнер, Филип Моррисон, Леон Розенфельд и многие другие.
Фейнман относился к программе конференции скептически, он опасался, что все уйдет в обсуждение гипотез, которые он не может поддерживать. Например, он считал, что космологическая стрела времени (увеличение энтропии) первична и не обязательно связана с космологией. Он полагал, что выбор космологической модели должен базироваться, скорее, на астрономических доказательствах, чем на теоретических спорах о направлении времени. Не было причины думать, что то, как ведет себя пространство, имеет нечто общее с законами термодинамики.
Когда стало ясно, что дискуссии запишут на пленку, Ричард сильно расстроился. Он поговорил с Голдом, и они пришли к компромиссу – все, что он скажет, будет приписано анонимному «мистеру Икс», и никто не упомянет, что Фейнман посетил конференцию. Ну а поскольку его комментарии нельзя будет верифицировать, то никто и не сможет их процитировать.
Как вспоминал Нарликар, «Фейнман выражался совершенно недвусмысленно. Записи могли поставить в неловкое положение его самого и его научную репутацию. Мистер Икс стал компромиссом, позволяющим этого избежать, и нелегкой загадкой для того, кто взялся читать материалы конференции, особенно с учетом того, что Фейнмана официально не было в числе гостей»108.
Укрывшись под маской анонимности, Фейнман ощутил себя свободным в речах. Как обычно, он вовсе не считал нужным сохранять бесстрастие, если не был согласен с выступавшим.
Нарликар рассказал об одном инциденте: «Я вспоминаю доклад Денниса Сиамы, когда он записал решение волнового уравнения как объемный плюс поверхностный интеграл. По какой-то причине это Фейнману не понравилось, и после спора он выступил с протестом, что поверхностный интеграл не должен браться на бесконечности. Он, вероятнее всего, считал, что лимит на бесконечности не может быть определен так хорошо. Деннис продолжил выступление, и после пары шагов доказательства заявил: «Теперь я беру поверхностный интеграл на бесконечности». Фейнман начал подниматься с места, наливаясь кровью, но его удержали Филипп Моррисон и Томми Голд»109.
Псевдоним «мистер Икс» Ричард использовал, чтобы пошутить над собой. Фейнман не отступал от желания создавать себе имидж обычного парня с пролетарскими наклонностями, которому повезло заполучить сверхъестественные способности взламывать самые сложные загадки природы. Он не волновался, насколько его статус и титулы впечатляют других людей, это все он считал поверхностным и малозначительным. Намного больше ему нравилось развлекать окружающих шутками, собственным презрением к условностям и разными научными трюками.
Курс «Физика Икс» вырос из его желания стать Супер-Фейнманом, Кларком Кентом от физики, готовым в любой момент показать свою удивительную силу.
Квантовая флуктуация в начале времени
Вклад Уилера в конференцию «Природа времени», доклад «Трехмерная геометрия как носитель информации о времени», отражал его твердое убеждение, что вселенная началась с хаотического состояния: пены квантовых флуктуаций в море энергетических полей. В этой пене невозможно было идентифицировать время, прошлое, настоящее и будущее просто не существовали.
Несмотря на раннюю хаотичность, появление биологических систем на Земле миллиардами лет позднее потребовало определенного количества упорядоченной энергии, ситуации, которую физики описывают как «низкая энтропия».
Поскольку энтропия определяет недостаток уникальности, низкая энтропия ассоциируется с высоким уровнем упорядоченности. И подобное состояние требуется, чтобы запустить механизм времени, которое бы двигалось в направлении увеличения энтропии. И почему же, хотел знать Уилер, ситуация с низкой энтропией вообще реализовалась?
Он предположил, что вселенная началась с масштабной квантовой флуктуации, которая трансформировала все из предельного беспорядка в крайне маловероятное состояние низкой энтропии. В конечном итоге через миллиарды лет этот резервуар упорядоченной энергии сделал возможной эволюцию жизни и существование наделенных сознанием наблюдателей.
Подобные разумные существа могут наблюдать за вселенной и размышлять о том, каковы были условия ее возникновения. Следовательно, в некоей версии антропного принципа само наше существование налагает границы на условия изначального космоса, гарантируя, что он должен быть порожден чрезвычайно редкой разновидностью флуктуации.
Мистер Икс отверг концепцию колоссальной, снижающей энтропию флуктуации, он указал, что ненаучной выглядит попытка рассуждать о чем-то столь невероятном без единого доказательства. Он предложил не рассматривать такой неправдоподобный сценарий, а обратиться к другому объяснению.
По мере того как вселенная развивается, все большая часть прошлого становится известной. Это растущее знание представляет меру порядка, которая соответствует низкой энтропии. И наоборот, будущее остается неизвестным, оно сравнительно беспорядочно и обладает более высокой энтропией. Различие между низкоэнтропийным прошлым и высокоэнтропийным будущим создает естественную стрелу времени.
Абстрактные размышления такого рода выглядели необычными для Фейнмана. Как правило, он предпочитал не влезать в чистые спекуляции, оставляя их тому же Уилеру. Возможно, прячась под псевдонимом, он чувствовал себя свободным и говорил все, что хотел.
Уилер же продолжал настаивать на своей космологической модели. Чтобы нанести на карту эволюцию вселенной, он «порезал» четырехмерный континуум пространства-времени на трехмерные ломти, точно огромную буханку хлеба. После этого он указал, что то, как каждый из них соединяется с соседними, и составляет натуральное определение времени.
Такая переработка общей теории относительности – из замороженной в динамичную теорию – стала известна как формализм Арновитта, Дизера, Мизнера, которые опубликовали его описание в 1962-м.
К четырехмерному пространству-времени общей теории относительности, разрезанному на трехмерные доли, Уилер хотел приложить квантовую теорию, сменив детерминированные переменные на вероятностные показатели. Он нацеливался на то, чтобы единая классическая эволюция стала ландшафтом возможностей. Он надеялся позаимствовать метод наименьшего действия, так блестяще примененный Фейнманом в электродинамике, и выделить классический путь из квантовой мешанины девиантных геометрических систем.
Снова он хотел повторить трюк с развитием и квантованием классической модели и пригласить коллег, чтобы они помогли довести эту сложную задачу до конца. Начал это дело Уилер, обратившись к Девитту, они встретились в аэропорту, и это краткое пересечение привело к тому, что известно как уравнение Уилера – Девитта, попытка приложить интеграл по траекториям к квантовой гравитации.
Как вспоминал Девитт: «Он позвонил мне однажды где-то в 1964-м и сказал, что у него будет пересадка в Роли-Дареме, два часа между самолетами. Не счел бы я возможным подъехать, чтобы мы могли обсудить некоторые вопросы физики? Я знал, что он донимает всех вопросом «Что такое пространство значений для квантовой гравитации?» И я предполагаю, что он, в конце концов, придумал, что таковым является трехмерное пространство. Это не было тем направлением, на котором я тогда сосредоточивал усилия, но проблема казалась мне интересной. Так что я сказал о’кей, и записал это уравнение. Я просто нашел кусок бумаги там в аэропорту. Уилер очень воодушевился по этому поводу»110.
Девитт знал, что не может быть внешних наблюдателей для измерения той волновой функции, которую он описал. Следовательно, интерпретация Эверетта являлась единственным возможным способом последовательно с ней обращаться.
Уилер предвидел такие проблемы в дискуссиях, что последовали за его «Трехмерной геометрией». «Вселенная – не та система, за которой мы можем наблюдать снаружи; наблюдатель является частью того объекта, за коим он наблюдает, – отмечал он. – Так называемая «формулировка относительного состояния» квантовой механики Эверетта обеспечивает единственный последовательный способ описания таких ситуаций»111.
Уилер без Уилера
Хойл и Нарликар восхищались Уилером и надеялись, что он оценит достоинства их гипотезы. И еще они знали, что он отказался от действия на расстоянии и обратился к полевому подходу, и поддерживал идею, что вселенная значительным образом изменяется с течением времени, что лежало ближе к гипотезе Большого взрыва, чем к стационарной модели. Его концепция большой первоначальной флуктуации была богохульством для любого, кто верил в мироздание с одними и теми же свойствами с самого начала.
Как отмечал Нарликар, «Он начинал как противник полевой теории, но обратился к ней и стал ее апологетом. Так что несмотря на нашу работу, которой он восхищался, он придерживался полевой теории. С тех пор я всегда ссылался на теорию Уилера – Фейнмана как на “Уилера без Уилера”»112.
Концепция генезиса вселенной и тех условий, какие существовали в ней на ранней стадии, стала казаться более важной после того как примерно через год после конференции астрономы Арно Пензиас и Роберт Уилсон (не бывший коллега Фейнмана, а другой ученый с тем же именем) случайно открыли реликтовое космическое излучение (РКИ), которое наполняет все пространство, – давно остывший реликт эпохи Большого взрыва. Они искали галактические радиосигналы, используя антенну «Белл Лаб» в Холмделе, Нью-Джерси, когда заметили постоянное шипение на одной частоте. Исключив все источники излучения, они начали искать внешнюю причину шума, чуть ли не голубиный помет на приборах. Но даже после очистки ничего не изменилось, так что ученые отправились в Принстон, где обратились за советом к астрофизику Роберту Дике.
Вышло так, что Дике как раз искал фоновое излучение, пережиток Большого взрыва. Он предсказывал, что оно, охлажденное за миллиарды лет космического расширения, должно иметь температуру на несколько градусов выше абсолютного нуля. Поэтому астрофизик был ошеломлен, когда Пензиас и Уилсон явились к нему со своей проблемой. Но еще больше он изумился, узнав впоследствии, что группа Георгия Гамова провела те же расчеты еще в конце сороковых годов.
Открытие РКИ стало поворотным пунктом в принятии схемы Большого взрыва. Ранее, до того, как его описание опубликовали, научное сообщество видело в модели стационарного состояния реалистичную альтернативу, и конкурирующие гипотезы демонстрировались публике на равных основаниях.
Например, в июне 1964 года «Нью-Йорк Таймс» украсил кричащий заголовок «Ученый пересмотрел теорию Эйнштейна», с помощью которого попытались описать предложение Хойла и Нарликара. Статья открывалась так: «Новая теория опирается на математические построения двух американцев, пытавшихся отказаться от идеи о том, что электрически заряженная частица, вроде электрона, формирует электрическое поле»113. «Двумя американцами» были доктор Ричард Ф. Фейнман из Калифорнийского технологического института и Джон А. Уилер из университета Принстона. Статья цитировала Уилера, тем не менее, указывая, что теория поглощения Уилера – Фейнмана потерпела неудачу, когда ее попытались приложить к квантовому поведению частиц.
Именно поэтому Уилер больше не поддерживал гипотезу, несмотря на то, что она становилась источником новостей даже через четверть века после того, как они с Фейнманом начали над ней работать. Несомненно, это был «Уилер без Уилера» или, точнее говоря, более ранняя инкарнация его размышлений о природе и реальности.
Вскоре после того, как результаты обнаружения РКИ оказались опубликованы, почти все ученые перекочевали в лагерь сторонников Большого взрыва. Эта гипотеза стала, скорее, религиозной догмой, чем сильнейшей из конкурирующих теорий. Некоторые сторонники стационарной модели в конечном итоге предложили альтернативу, включавшую «взрывы» меньшего масштаба, разбросанные по космосу и способные породить фоновое излучение, сходное с тем, которое приписывают Большому взрыву.
Ключевое различие в том, что вместо единого акта творения пересмотренный подход, названный квазистационарной моделью, постулировал существование многочисленных актов творения, разбросанных по пространству и обнаруживающих себя неопределенным образом назад и вперед во времени.
Сегодня Нарликар остается главным сторонником такого подхода.
Самое одинокое место во Вселенной
Доклад Мизнера на конференции «Природа времени» назывался «Бесконечное красное смещение в общей теории относительности». Начинался он на юмористической ноте: «Я бы хотел поговорить о том, как люди теряют контакт друг с другом, – объяснял он, подразумевая ограничения контакта, известные как «горизонты». – Два наблюдателя, способные поговорить, отправляются в противоположных направлениях, и в конечном итоге теряется возможность коммуникации между ними… Эта ситуация имеет место, когда случается то, что описали Оппенгеймер и Снайдер, говоря о проблеме постоянного звездного сжатия»114.
«Проблема постоянного звездного сжатия Оппенгеймера-Снайдера» звучит устрашающе, поэтому сейчас этот феномен описывается простым словосочетанием «черная дыра».
Но Мизнер не слышал этого термина.
Интересно вспомнить, как словосочетание вошло в научный оборот.
Научный писатель Маршия Бартузиак объясняет, что в начале шестидесятых Дике начал сравнивать гравитационно сжимающиеся объекты с «Черной дырой Калькутты», позорно переполненной тюрьмой восемнадцатого века. Астроном Чу Хунье, слышавший высказывания Дике, мог использовать выражение «черная дыра» в январе 1964 года на встрече Американской ассоциации за прогресс в науке в Кливленде, которую Мизнер посетил. Несколько журналов, описывавших событие, повторили яркую фразу115.
Но в научном обороте термин появился только в 1967 году, когда Уилер услышал выражение во время дискуссии после доклада, и стал пропагандировать как краткое описание того, что он ранее именовал «объект, претерпевший полное гравитационное сжатие». Впоследствии Уилера назвали автором выражения, хотя он, по его собственным словам, был не более чем промоутером.
Сегодня выражение «черная дыра» обычно подразумевает остатки катастрофически сжатой звезды в конце ее жизненного цикла.
Уилер читал статью Оппенгеймера и Снайдера еще когда она вышла, и относился к гипотезе скептически. Он знал, что она базируется на модели Карла Шварцшильда, одном из первых и наиболее простых решений уравнений общей теории относительности Эйнштейна. Вышло несколько статей с применением этой модели.
Начнем с того, что порог, ныне именуемый «горизонт событий», отделяет некую область, где пространство и время «меняются местами» посредством обмена знаками (с положительного на отрицательный для пространства и наоборот для времени). Как нечто может проникнуть через столь экстравагантную границу? Кроме того, если динамика колоссальной звезды выглядела достаточно сложной, то что могло гарантировать, что ее ядро сожмется в компактный объект, описанный настолько простым решением Шварцшильда, где в счет идут только масса и радиус?
Математик Мартин Крускал, которого Уилер знал по проекту «Маттерхорн», помог объяснить природу горизонта событий черной дыры переделкой уравнения Шварцшильда в пределах новой системы координат. В пересмотренной системе координат горизонт событий вовсе не является барьером, это проницаемая мембрана, через которую может пройти что угодно (двигаясь внутрь, по крайней мере).
Крускал в частном порядке поведал Уилеру о своих находках, и тот оказался столь впечатлен, что все записал и отправил статью в Physical Review под фамилией автора, ничего тому заранее не сказав. Получив корректуру, Крускал сильно удивился, но в конечном итоге дал добро на публикацию.
Последовавшая работа Мизнера, физика Дэвида Финкльштейна и студента Мизнера Дэвида Бэкедорфа показала, что горизонт событий является однонаправленным порталом. Все, что угодно, может войти, но ничто не в состоянии выйти, даже свет. Открытие это стало основой для доклада Мизнера «Бесконечное красное смещение» и послужило одной из причин того, что словосочетание «черные дыры» сделалось в конечном итоге научным термином.
Уилер удостоверился в правильности результатов и уделил много внимания математическим моделям сжатия тяжелых звезд, которые выглядели тем материалом, из чего возникают черные дыры. Он также отметил вывод Роя Керра от 1963 года, касающийся решения для черных дыр, поскольку тот включил в рассмотрение не только массу, но и вращение. Последним шагом стала схема Эзры Ньюмана, ведь он учел не только массу, вращение, но еще и заряд, создав таким образом полную модель.
Само собой, Джон ознакомился и с выводами Пенроуза от 1965 года, что конечным результатом катастрофического гравитационного сжатия будет, в определенном случае, пространственно-временная сингулярность – центральная точка бесконечной плотности. Взвесив все доказательства, Уилер из скептика в отношении черных дыр превратился в их сторонника.
Проблема с каонами
Конференция «Природа времени» подчеркнула резкий контраст между обратимостью времени в масштабе фундаментальных частиц и его необратимостью в макромире. Эта дихотомия, помимо прочего, побудила Хогарта оживить теорию поглощения Уилера – Фейнмана, опиравшуюся на баланс из сигналов, путешествующих вперед и назад во времени, и показать, как она может объяснять космологическую стрелу времени.
Гости конференции знали, как нарушается симметрия пространственной инвариантности в определенных процессах, но при этом были уверены, что очевидным образом неизменны симметрии более высокого порядка (заряд-пространство или заряд-пространство-время). В комбинированном виде эти инвариантности означали, что временная симметрия тоже соблюдается.
Но эта «священная идея» быстро рухнула в мире физики частиц.
Кронин и Фитч в эксперименте 1964 года показали, как нарушается симметрия заряд-пространство в некоторых процессах, связанных со слабым взаимодействием, и происходит это внезапно. Их открытие продемонстрировало, что даже в мельчайшем масштабе дороги времени являются односторонними.
Эксперимент включал запись того, как распадаются нейтральные каоны (к-мезоны). В большинстве ситуаций такие частицы распадаются на три пиона, но иногда они делятся только на два. Это происходит в одном случае из тысячи, но тем не менее показывает, что нечто, считавшееся невозможным, на самом деле вполне вероятно.
Подобное отклонение было бы невозможным, если бы инвариантность заряд-пространство соблюдалась всегда, поскольку парные процессы оставались бы теми же самыми при обмене зарядов, но не при зеркальном отражении. Инвариантность заряд-пространство означает, что если одна из симметрий нарушается, то должна быть нарушена и вторая, чтобы сохранить их комбинацию.
С другой стороны, любое нарушение симметрии заряд-пространство, неважно, насколько слабое, означает, что временная симметрия тоже более не является абсолютной.
Однако нарушенная симметрия может объяснить иные нарушения баланса. Например, в наши дни существует куда больше материи, чем антиматерии, все звезды и галактики состоят целиком из материи. Антиматерию мы встречаем крайне редко, в виде крошечного компонента космических лучей, падающих на нашу планету. Чем можно объяснить такое расхождение?
Многие ученые считают, что нарушение симметрии заряд-пространство на ранней стадии существования вселенной повинно в том, что большая часть антиматерии исчезла.
В бешеном котле Большого взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть в равных количествах. Поскольку вселенная была очень горячей и плотной, частицы и античастицы постоянно аннигилировали друг друга, формируя фотоны и другие лишенные массы частицы обмена, ну а те, в свою очередь, трансформировались в пары «частица-античастица», образуя компоненты великого галактического цикла.
Но вселенная понемногу остывала, и электрослабое взаимодействие подверглось нарушению симметрии, в котором частицы обмена, связанные со слабым взаимодействием (именуемые W-, W+ и Z0), получили массу, в то время как фотоны, переносящие электромагнетизм, остались без массы. «Тяжесть» частиц обмена слабого взаимодействия определила то, что эта сила стала действовать на очень короткой дистанции.
Ну а кроме того, поскольку не всегда сохранялась симметрия заряд-пространство, природа стала немного несбалансированной. На протяжении эонов времени это привело к все более увеличивающемуся приоритету материи над антиматерией, и кончилось тем несоответствием, которое мы наблюдаем сегодня.
Тот, кто принял нобелевку без желания
Важные экспериментальные находки, такие как обнаружение Пензиасом и Уилсоном реликтового излучения, или открытие Кронином и Фитчем нарушения симметрии заряд-пространство при распаде нейтральных каонов, часто привлекают внимание Нобелевского комитета в Стокгольме. Новые теоретические методы и озарения не выглядят столь очевидными, на них смотрят реже.
В случае с квантовой электродинамикой в 1955 году Уиллис Лэмб и Поликарп Куш разделили Нобелевскую премию за экспериментальное открытие, которое породило целую область физики, а конкретно за Лэмбовский сдвиг и аномальный магнитный момент электрона.
Десятилетием позже стало ясно, насколько ценны диаграммы Фейнмана, его же интеграл по траекториям и другие техники, которые он внес в изучение частиц, насколько важными были методы перенормировки Джулиана Швингера и Синъитиро Томонаги, и какой большой вклад внесла работа Фримена Дайсона в то, чтобы собрать все три подхода под одним зонтом. Каждый год Нобелевский комитет имеет право вручить награду лишь трем индивидуумам или организациям, и, к несчастью, это привело к тому, что Дайсона не включили в список.
В 1965 году премия по физике была поделена между Швингером, Томонагой и Фейнманом за «их фундаментальную работу в квантовой электродинамике с глубокими последствиями для физики элементарных частиц»116.
У Ричарда было смутное подозрение, что он может наконец получить премию. Однако когда посреди ночи на него обрушились телефонные звонки с поздравлениями от разных репортеров, он пришел в возбуждение и раздражение, ведь он делал эту работу ради развлечения, а не ради славы.
К этому времени Фейнман вел счастливую, размеренную жизнь, наслаждался своими хобби вроде игры на барабанах или рисования. В последнем его все так же наставлял Зортян, и им требовались модели для набросков, в основном молодые женщины.
Жена доверяла Ричарду и никогда его не ревновала.
Одной из моделей Фейнмана стала молодая студентка магистратуры по направлению «астрофизика», Вирджиния Тримбл, фото которой попало в выпуск журнала «Лайф» от октября 1962 года как символ того, что красота может сочетаться с умом. Вирджиния оказалась одной из первых женщин, поступивших в Калтех, она занялась свойствами звезд и туманностей под руководством Гвидо Мюнха.
Фейнман встретил ее и предложил позировать за плату.
Как вспоминает сама Тримбл: «Фейнман заметил меня однажды, когда я шагала через кампус, двигаясь на встречу с Мюнхом (это произошло около старого здания астрономического факультета), и сказал что-то вроде: «Я охочусь. Может быть, ты знаешь жертву?» И таким образом, обычно по вторникам я приходила к нему в дом на пару часов, получала $5,50 за час (немало в те дни!) и всю физику, которую могла переварить. Гвинет приносила нам апельсиновый сок и печенье посредине сессии»117.
Тримбл в конечном итоге стала профессором астрофизики в университете Калифорнии (Ирвин) и вышла замуж за профессора из университета Мэриленда (и бывшего студента Уилера) Джо Вебера. Много лет спустя они вместе посетили устроенную в Калтехе выставку работ Фейнмана и наткнулись на набросок Вирджинии.
«Джо бросил критический взгляд на изображение моей обнаженной спины, – вспоминала она, – после чего заявил, что где-то я видел эту задницу».
Тримбл не забыла, как последствия объявления лауреатов очередной Нобелевской премии разрушили планы Фейнмана рисовать ее тем вечером: «Фейнман пришел ко мне в офис около восьми утра в тот день, чтобы отменить назначенную на вечер сессию. Откровенно говоря, я уже знала, что ничего не получится, поскольку моя мать слушала радио и позвонила мне в шесть. Мы всегда были ранними пташками, а Фейнман – нет. Только тем утром он влез в пиджак и даже повязал галстук. А когда магистранты попросили его выступить с докладом специально для них, он выбрал тему теорию поглощения излучения, часть его диссертации под руководством Уилера»118.
Фейнмана ошеломило, насколько детальное планирование предшествовало церемонии. Он получил приглашение из Швеции с подробными инструкциями по всем пунктам программы. С лекцией он бы справился, но поздравления и встреча с королем представлялись ему слишком помпезными. Ричард начал беспокоиться, что все испортит, тем более что у него были проблемы с протоколом еще со времен чая в Принстоне.
Он думал, что приз не стоит такой суеты и что, может быть, лучше отказаться.
На самом деле он не мог, поэтому они с Гвинет полетели в Стокгольм на церемонию, где он был в смокинге, а она в платье. Во время презентации научных достижений Фейнман не забыл отметить вклад Уилера, ну а больше всего ему наверняка понравились танцы.
Потом пришлось отправиться в Женеву, куда Виктор Вайскопф, ставший директором ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям), пригласил Ричарда, чтобы тот прочитал лекцию. Ну а он решил, что как нобелевский лауреат должен носить на выступлениях пиджак и галстук.
Но когда он поднялся на кафедру и объяснил, почему одет так формально119, аудитория завопила: «Нет, нет, нет!» Вайскопф, подчиняясь гласу народа, подошел к гостю и снял с него пиджак. Галстук Фейнман стащил сам, почувствовал себя комфортно, и с тех пор к теме одежды не возвращался.
Статус нобелевского лауреата был по большей части головной болью для Фейнмана. Его завалила лавина приглашений на разные мероприятия, и почти все он отверг. Несколько исключений пришлись на образовательные учреждения, например, школы, или на выступления о физике перед широкой публикой (некоторые появились на ТВ и стали популярными программами на ВВС и других каналах).
Ему предложили много почетных званий, но Фейнман от всех отказался.
Он помнил, как тяжело шла его работа в Принстоне ради докторской степени, и не хотел принизить ее значение, получив степени, которых не заслужил.
Ты говоришь: «кварки», я говорю: «партоны»
Фейнман вернулся в Калтех заслуженным, но не восторженным лауреатом, обретя мотивацию к новым открытиям. Если вспомнить четыре фундаментальных силы, то он внес вклад в квантовую теорию электромагнетизма, слабого взаимодействия и сделал отважную попытку распутать тайны гравитации.
Следующим в списке стояло сильное взаимодействие, сила, противостоящая электростатическому отталкиванию, связывающая вместе протоны и нейтроны в атомном ядре. Изучение этой силы прошло длинный путь со времен Хидеки Юкавы, были открыты многие другие частицы, подвергавшиеся ее влиянию. Все они были классифицированы как адроны (от греческого слова «массивный»), частицы же, не реагирующие на сильное взаимодействие – как лептоны (от греческого «легкий»).
Адроны в соответствии со значением спина поделили на барионы (полуцелый спин, в их число входят протоны и нейтроны) и мезоны (целый спин, включая пионы и каоны). Образцами лептонов являются нейтрино, электроны и мюоны, и все они игнорируют сильное взаимодействие полностью.
Чтобы получить отчет о прогрессе в этой области, Фейнман мог заглянуть на собственный факультет, где главным исследователем был Гелл-Ман. Он к тому времени получил признание за два открытия: Восьмеричный путь и кварки. Восьмеричный путь он назвал по состоящему из восьми шагов пути к просветлению в буддизме, и это имя он предложил для схемы классификации адронов, которая распределяла их по нескольким параметрам, включая заряд и квантовое число, именуемое «странностью», обнаруживающее себя в определенных типах распада. Упорядочение открыло определенные закономерности и симметрии.
В то время как некоторые группы содержали по восемь адронов – отсюда имя – другие включали одну, десять или двадцать семь. В схеме имелся пробел, и его наличие позволило предсказать существование новой частицы. В 1964 году исследователи из национальной лаборатории Брукхэйвена обнаружили предсказанную частицу, названную «омега-гиперон». Тем самым они заполнили модель и обеспечили важное доказательство того, что гипотеза Гелл-Мана верна. Это был настоящий триумф приложения принципа симметрии к физике частиц.
В тот год Гелл-Ман продемонстрировал, как его схема может быть объяснена, если барионы состоят из трех типов составляющих, расположенных в различных комбинациях, словно карты в покерной сдаче. Он взял название для этих составляющих из чуть ли не самой непонятной книги в истории литературы, «Поминки по Финнегану» Джойса, из романа, написанного как поток сознания, в котором есть фраза «три кварка для мистера Марка». Гелл-Ману понравилось звучание слова, которое он произносил скорее как «кварт», и он отметил, что в любом барионе есть три таких. Сложность состояла в том, что каждый обладал дробным зарядом, либо 2/3, либо –1/3 заряда протона. Антикварки, что логично, имели противоположные заряды. Подобные дробные заряды не были никогда зафиксированы в природе, хотя если предположить, что кварки всегда находятся в связанном состоянии, то это не выглядит проблемой.
Физик Джордж Цвейг, работавший над проблемой независимо, почти в то же самое время предложил схожую схему, только назвал компоненты «тузами».
Фейнман тоже заинтересовался идеей, что протоны и нейтроны состоят из неких составляющих. Он знал о модели Гелл-Мана, но целиком дистанцировался от нее, и когда «Нью-Йорк Таймс» в статье «Два человека в поиске кварка», опубликованной в октябре 1967, предположила, что они работают вместе, он ответил письмом в редакцию: «Хотя и сделал многое из того, что упоминается в вашей статье, я на самом деле не несу ответственности за то, что ученые начали думать о кварках. Это стало результатом выдающейся идеи Гелл-Мана, к которой он пришел, работая совершенно независимо»120.
Фейнмана интересовала не классификация кварков, а скорее феноменология, результаты столкновения частиц. Из разрозненных данных он делал те же самые выводы, что и Гелл-Ман: что адроны состоят из более фундаментальных «кирпичиков». Он показал, что это должны быть точечные частицы, подобные электронам, но подверженные влиянию сильного взаимодействия. Возможно, из духа соперничества с коллегой по Калтеху он назвал эти объекты «партонами», а не кварками.
Партоны в концепции Фейнмана больше походили на стандартные фундаментальные частицы, в то время как кварки Гелл-Мана представали более аморфными. Статью с изложением своей схемы Ричард опубликовал в 1969 году.
Термин «партон» имел некоторое хождение в 70-х, но победило более причудливое словечко «кварк». Мы теперь знаем, что существуют шесть «ароматов» (разновидностей) кварков: нижний, верхний, странный, очарованный, прелестный и истинный. Они значительно отличаются по массе, верхний и нижний – легчайшие и наиболее распространенные. Обычные ядра атомов состоят только из них. Другие ароматы более экзотичны, их находят в космическом излучении и «обломках», что остаются после столкновения частиц с высокой энергией.
Все адроны, существующие в природе или воспроизводимые в коллайдерах, являются комбинациями шести ароматов кварков и их противоположностей-антикварков. Барионы – это три кварка, мезоны – дуэты кварка и антикварка; например, протон – верхний, верхний и нижний кварки, нейтральный каон – смесь нижнего-антистранного и странного-антинижнего.
Когда ученые работали над теорией квантового поля кварков, они использовали квантовую электродинамику и метод диаграмм Фейнмана. Они ввели новую частицу обмена, названную «глюон», способную переносить сильное взаимодействие точно так же, как фотоны переносят электромагнетизм. Диаграмма Фейнмана представляет глюон в виде спирали.
Оскар Гринберг, студент Уилера по курсу общей теории относительности, когда они посещали Эйнштейна, придумал жизнеспособный способ описания эквивалента электрического заряда для сильного взаимодействия: цветовой заряд. Каждый кварк может обладать либо красным, либо зеленым, либо голубым зарядом, а барион комбинировать все три. Это вовсе не настоящие цвета, термин условный точно так же как «аромат», и не имеет ничего общего с реальной окраской.
Квантовая теория сильного взаимодействия стала известна под именем квантовой хромодинамики (КХД).
КХД не стояла на месте, точно так же развивалась и электрослабая теория, комбинация квантовой электродинамики и слабого взаимодействия. Поэтому теоретики в шестидесятых и семидесятых мечтали о перспективе всеобщей унификации: объединить три из четырех фундаментальных взаимодействий в единую квантовую теорию, куда будут входить кварки, фотоны, лептоны, глюоны и переносчики слабого взаимодействия. Ученые предполагали, что при достаточно высокой температуре, например в пылающей топке Большого взрыва, все три взаимодействия имели одну силу, радиус действия и прочие свойства. Только когда вселенная немного остыла, эти силы начали различаться.
Самые смелые надеялись, что в общую схему удастся добавить и четвертую силу, гравитацию. Но любые попытки квантовать ее приводили к бесконечным величинам, а дисбаланс в силе между этим взаимодействием и тремя остальными выглядел слишком большим, некоторые предлагали сначала унифицировать первые три. Но даже попытки скомбинировать сильное и электрослабое взаимодействия в Теории Великого объединения успехом не увенчались.
Любопытно, что значимое различие между сильным и слабым взаимодействиями имело отношение к инвариантности заряд-пространство. Первое сохраняло симметрию данного типа, второе ее нарушало, а если учесть соединение с временной симметрией, казалось странным, что сильные процессы выглядели одинаковыми при движении вперед и назад во времени, в то время как слабый распад мог в некоторых случаях показать разницу.
Не могло ли время наконец стать обратимым, особенно если все силы в конечном итоге едины при высоких энергиях?
Альфа и омега
Открытия в мире частиц, такие как измерения Кронина и Фитча в отношении каонов, обнаруживали странные факты о времени в очень маленьком масштабе, но и полученные космологами результаты порой выглядели не менее чудными. Данные об РКИ Пензиаса и Уилсона продемонстрировали значительную однородность в температуре вне зависимости от того, куда они направляли свои детекторы.
Космическое микроволновое излучение высвободилось, когда формировались атомы, около 380 тысяч лет после Большого взрыва. Термодинамика говорит нам, что температуры выравниваются, если характеризуемые ими области находятся в термальном контакте, то есть достаточно близко, чтобы обмениваться фотонами. Но к тому времени космос развивался уже долго, и отдельные его части далеко отстояли друг от друга. Учитывая то, что они практически не имели шансов выравниваться по температуре, почему реликтовое излучение из той эпохи выглядит столь невероятно однородным? Этот парадокс именуется «проблемой горизонта».
Астрономы знали, что данные Пензиаса и Уилсона не точны, что более совершенные инструменты могли бы обнаружить расхождения в температуре РКИ, обозначить более плотные регионы, ставшие семенами, из которых выросла структура. Подобные маленькие неоднородности могли увеличиться с течением времени под влиянием гравитационных сил и сформировать звезды и галактики.
Космические зонды, такие как Cosmic Background Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe и Planck Satellite в конечном итоге подтвердили эти подозрения, открыв, что РКИ характеризуется крошечными флуктуациями. Тем не менее такие маленькие отклонения вовсе не убрали проблему горизонта, поскольку температурная однородность в большом масштабе никуда не делась.
Уилер надеялся решить вопрос с помощью квантового толкования геометродинамики. Как он указывал на «Природе времени», вероятно, законченная теория квантовой гравитации сможет объяснить, почему энтропия в первоначальном космосе была столь низкой. Возможно, достаточно низкая энтропия соотносилась с однородным ранним космосом – примерно так же как низкая энтропия (высокий уровень порядка) промерзшего до дна пруда делает его поверхность гладкой.
Тем временем Мизнер предложил свое объяснение, названное «вселенной Миксмастера». Он основал свою модель, представленную в 1969-м, на анизотропном решении уравнений Эйнштейна, которое колеблется в различных направлениях вместо равномерного расширения. Его размышления частично подстегнула гипотеза британского космолога Стивена Хокинга о том, что вселенная могла начаться в виде сингулярности (состояния бесконечной плотности), и обогатили результаты русских физиков Владимира Белинского, Исаака Халатникова и Евгения Лифшица, показавших, как космос мог появиться из такой сингулярности в хаотическом состоянии. Уилер предупредил Мизнера о находках русских, когда тот сам глубоко погряз в собственных расчетах.
Мизнер назвал эту модель «Миксмастер» по имени популярного кухонного миксера того времени. Он надеялся, что она поможет объяснить, почему излучение вселенной на ранних стадиях существования столь однородно по температуре, но, увы, ничего не получилось. Математический аппарат теории не обеспечил достаточной степени «взбивания», чтобы объяснить имеющиеся эффекты. После миксера «Миксмастер» тоже оставались значительные неоднородности, а вовсе не то однообразие «молочного коктейля», которое мы наблюдаем сейчас.
Начало космоса представало полной загадкой, возможность его кончины подкидывала дополнительные головоломки. В те времена космологи рассматривали два сценария смерти вселенной: Большое схлопывание, обратный Большому взрыву процесс, когда расширение сменяется сжатием и заканчивается той же сингулярностью; Большое замораживание, когда расширение продолжается, но замедляется, звезды сияют миллиарды лет, но, в конце концов, выгорают, и наступает тепловая смерть мироздания.
Уилер в основном интересовался вариантом Большого схлопывания и его последствиями. Наряду с Большим взрывом и черными дырами он видел его как ключевой полигон для изучения пограничных состояний гравитации и ее влияния на время и причинность. Однажды в интервью он назвал Большой взрыв, черные дыры и Большое схлопывание «тремя вратами времени»121.
На встрече Американского физического общества в 1966-м122 Уилер говорил, что Большое схлопывание должно представить еще более странную ситуацию, когда космос начнет сжиматься. Предположим, что расширение вселенной, начатое Большим взрывом, запустило вперед время и вызвало рост энтропии. Тогда в эру схлопывания энтропия может начать уменьшаться, и это будет связано с изменением потока времени. Биологические процессы могут пойти назад, и люди начнут жить свои жизни в обратном порядке. В конечном итоге человечество превратится в одноклеточных существ, от которых некогда произошло. По мере сжатия космоса Земля снова станет облаком пыли, и потом вселенная сожмется в точку бесконечной плотности.
Но в заключение Уилер признал, что это все не более чем чистая теория.
Карусель Гёделя
Математик Карл Гёдель был одержим идеей двинуть в обратном направлении стрелки часов. Близкий друг Эйнштейна, он вместе с ним работал в институте перспективных исследований в Принстоне. Прославился он в первую очередь теоремами неполноты, опубликованными в 1931 году, в которых показал, что никакая логическая система не может быть самодостаточной. Эти выводы вдохновили британского математика Алана Тьюринга спроектировать машину Тьюринга, развить систематический подход к процессу вычислений, что в свою очередь стало источником вдохновения для Джона фон Неймана, создавшего первые электронные компьютеры.
В 1949 году, в канун семидесятого юбилея Эйнштейна, Гёдель продемонстрировал другу то, что сам он счел знаменательным открытием: вращательное решение уравнений общей теории относительности, делавшее возможным движение обратно во времени. Если вселенная обладает в точности правильным количеством вращения, а также корректной пропорцией материи определенного типа, то петли определенного типа, описанные в пространстве, дадут возможность переместиться в прошлое. Следовательно, при особенных условиях теория гравитации Эйнштейна допускает некую разновидность путешествия во времени.
Эйнштейн не мог спорить с тем, что математически решение Гёделя адекватно, но вот физической значимости он в нем не обнаружил. Существует большое количество решений для этих уравнений, почему нужно сосредоточиваться на таком странном? Научное сообщество практически забыло вращательную модель.
К концу шестидесятых Гёдель страдал от параноидального бреда, подорвавшего его здоровье. Он был убежден, что кто-то пытается отравить его, поэтому ел мало, редко и сильно потерял в весе. Истощение было так велико, что математику приходилось носить пальто просто для того, чтобы согреться даже в теплые весенние дни. В то же самое время он пытался собрать достаточно сведений о дисбалансе во вращательном движении галактик, которые помогут определить общий спин вселенной в целом и подтвердить возможность путешествий назад во времени.
Идея победить время всецело завладела им.
Уилер интересовался работой Гёделя, и в 1970-м, когда он, Мизнер и Кип Торн готовили учебник «Гравитация», то обращались к его идеям. К тому времени и Мизнер, и Торн получили преподавательские места – один в университете Мэриленда, другой – в Калтехе, и им требовалось собираться специально, чтобы работать над книгой. И когда однажды они посетили Принстон, чтобы встретиться с Уилером, институт перспективных исследований великодушно выделил им помещение в том же здании, где работал Гёдель. Из любопытства соавторы постучались к нему в дверь. Рассказали о своем учебнике, и Гёдель спросил, что в нем говорится о вращающихся вселенных, а когда услышал, что вообще ничего, то оказался сильно разочарован.
Хотя позже Уилер получил некоторые данные, способные подтвердить дисбаланс во вращении галактик, и передал их Гёделю, сам он не был сторонником столь экзотической модели. Его областью интересов оставалась стандартная космология и черты вселенной, проявляемые в экстремальных гравитационных ситуациях, например – искажение пространства-времени в окрестностях черных дыр.
У черных дыр нет волос
Конечные стадии Большого схлопывания имеют некоторое сходство с ультракомпактными условиями в черных дырах. И там, и там есть сжатие в сингулярность. Но можно спросить – если время идет в обратную сторону при Большом схлопывании, что происходит с ним в черной дыре?
Если рассматривать окрестности черной дыры, используя координаты Крускала, нет оснований предполагать, что время изменит направление для того, кто приблизится к объекту. Фактически расчеты показывают, что для космонавта, прошедшего через горизонт событий (отмечающий точку невозврата из черной дыры), часы на его корабле продолжат идти вперед. Только с внешнего наблюдательного пункта злополучный исследователь будет виден как замороженный во времени.
Печально, но в случае черных дыр шварцшильдовского типа наш путешественник будет притягиваться все ближе к центральной сингулярности черной дыры. Гравитационные приливные силы растянут его в направлении его движения и сожмут во всех остальных направлениях – процесс этот именуют «спагеттификацией». Миг, и его разорвет на куски. У черной дыры Керра или Керра – Ньюмана центральная сингулярность представляет собой кольцо, и знакомства с ней в принципе можно избежать. Но если мы находимся за пределами горизонта событий, то даже самый мощный телескоп не поможет нам увидеть это безобразие. Как предположил в 1970 году Уилер, работавший со своим студентом Ремо Руффини, мы сможем определить только общую массу черной дыры, ее заряд и спин (а именно, угловой момент).
Чтобы донести до остальных то, что черные дыры не обладают какими-либо свойствами за исключением вышеперечисленных, Уилер придумал выражение «У черных дыр нет волос», которое стало известно как «теорема о лысой черной дыре». Он указал, что они подобны новобранцам с обритыми головами, которые выглядят одинаково сверху.
Само собой, Фейнман не упустил случая поддеть бывшего наставника, обвинив того в похабщине. «Как можно говорить о таких непристойных вещах! – заявил Ричард. – Немедленно позовите ректора!»
Во вселенной, которая заканчивается Большим замораживанием, звезды с массой примерно равной солнечной в конечном итоге раздуваются, превращаясь в красные гиганты. Их внешние оболочки испаряются в космос, оставляя только белых карликов. Массивные же звезды становятся супергигантами и взрываются сверхновыми, от которых остаются только сжимающиеся, компактные ядра. В зависимости от массы они становятся либо нейтронными звездами (состоят из ультраплотного ядерного материала), либо черными дырами. Энтропия будет либо находиться на одном уровне, либо расти, до тех пор, пока не наступит состояние тепловой смерти.
Изучая черные дыры, Уилер хотел понять, возможны ли отклонения от схемы. Если черная дыра поглощает объект, проглатывает ли она энтропию объекта тоже? Способна ли таким образом черная дыра обходить второй закон термодинамики, снижая общую энтропию космоса? И вскоре новый способ описания энтропии черных дыр позволил ответить на эти вопросы.
Глава восьмая Разумы, машины и космос
Разговор с тобой о чем угодно стоит того, чтобы преодолеть много миль.
Джон. А. Уилер Ричарду Ф. Фейнману. 28 ноября 1978 (архивы Калтеха)Его идеи – странные, я им вообще не доверяю. Но удивительно, как часто позже мы понимаем, что он был прав.
Ричард Ф. Фейнман, ссылаясь на Джона. А. Уилера в «Внутри разума Джона Уилера», 1986В начале семидесятых с появлением мониторов компьютерная симуляция стала намного более интересной. Впервые появилась возможность увидеть результат расчетов в реальном времени прямо перед глазами. Это оказалось не только полезно, но иногда и зрелищно. Совпадение или нет, но то время отмечено расширением разума – появился прогрессивный рок, психоделическое искусство, возрос интерес к восточной философии и потребление влияющих на сознание веществ.
Обычным развлечением для молодого программиста или инженера того времени была математическая игра «Жизнь», придуманная Джоном Конвеем и популяризованная Мартином Гарднером в журнале Scientific American. Игра симулировала биологическую структуру на двумерной решетке, где нули обозначают мертвые клетки, а единицы соответствуют живым клеткам. Если описывать ситуацию категориями того, что Джон фон Нейман и Станислав Улам назвали «клеточным автоматом», то все сводилось к простым алгоритмам, определяющим изменение значений в каждом узле решетки в зависимости от значений в соседних узлах.
Правила «Жизни» определяют, какие клетки погибнут к следующему поколению и в каких местах появятся молодые клетки. Например, любой «ноль» (пустое место), окруженный тремя «единицами» (живыми клетками), окажется заполнен, любая живая единица, окруженная более чем тремя соседями, погибнет от перенаселенности, а если у нее два и меньше соседей, то вымрет от скудности популяции. Если соседей ровно три, то клетка выживет.
Базируясь на этих правилах, фигуры эволюционируют шаг за шагом из одной конфигурации в другую, иногда напоминают живые существа, которые ползут по экрану, пожирают друг друга, порождают других, иными словами, ведут себя как настоящие организмы. Поклонники игры находят ее интересной и способны развлекаться часами, населяя экран различными начальными комбинациями, запуская процесс и наблюдая, как искусственные создания исследуют свой мир.
Фейнман, как всегда, отождествлявший себя с бунтарской юностью, начал отращивать каштановые волосы (кое-где с сединой) более длинными и одеваться еще небрежнее. К этому времени он стал женатым человеком и никак уж не мог назвать себя хиппи, но мысль о свободной жизни в дороге его так и не покинула.
Для человека около пятидесяти, сделавшего карьеру, он был невероятно жизнерадостным и открытым для нового. Никакой тяжеловесности по-прежнему не наблюдалось в его поведении, а студенты Калтеха почитали Ричарда словно рок-звезду.
Фейнман имел богатый опыт в расчетах, и в выступлении 1959 года он предсказал развитие нанотехнологий, поэтому не удивительно, что его очаровали новые возможности компьютерной техники. Частично его интерес к этой области мотивировали наклонности сына Карла, который в конечном итоге стал изучать вычислительную технику в МТИ.
Симуляции вроде «Жизни» предполагали, что вселенная на фундаментальном уровне может действовать как автомат, управляемый бинарными величинами. Главным защитником такого подхода был профессор компьютерных наук из того же МИТ Эдвард Фредкин, проведший год в качестве приглашенного исследователя в Калтехе.
Фейнман был предсказуемо осторожен по поводу идей, не имевших экспериментальной опоры, но Фредкин и его коллеги все же иногда вовлекали его в дискуссии. В своих беседах они затрагивали и вопрос о том, может ли человеческий мозг функционировать как процессор.
Марвин Минский, другой специалист по компьютерам из МИТ и ведущий исследователь искусственного интеллекта, предположил, что человеческий мозг не более чем разновидность перерабатывающего информацию устройства. Фейнман знал Минского хорошо и не стеснялся беседовать с ним о подобных гипотезах.
Что еще более удивительно, Джон Уилер пришел к схожему, опирающемуся на информацию, взгляду на предмет, связав его с теорией квантовых измерений. На финальной стадии исследовательской карьеры он оставил воззрение «все есть поля» ради «все есть информация». Свой подход он называл «все из бита», и его влияние в данном направлении оказалось столь велико, что некоторые ученые в области вычислительной техники назвали его «прадедушкой квантовой информации».
Среди причин, изменивших мировоззрение Уилера, можно назвать его взаимодействие с новым поколением студентов, куда лучше знакомых с компьютерами и их возможностями. Нильс Бор умер в 1962-м (для студентов Джона – в древние времена), и появилось много новых интерпретаций квантовых измерений.
Отход от Копенгагенской схемы больше не рассматривался как ересь.
Научно-популярная статья Брайса Девитта, посвященная многомировой теории Хью Эверетта, например, оказалась принята очень хорошо. Уилер похвалил Девитта за его популяризацию идеи, хотя выразил вежливое несогласие с терминами вроде «многомировой» или «параллельные вселенные».
Природа времени очень серьезно рассматривалась в новом подходе Уилера.
Стрела времени соединена с энтропией посредством второго закона термодинамики, который предписывает, что та не может уменьшаться с течением времени. Энтропия, в свою очередь, связана с теорией информации посредством формулы, предложенной пионером в области электронных коммуникаций Клодом Шенноном, которая определяет отдельное значение «информационной энтропии» для каждого потока данных. Следовательно, понимание того, как течет поток информации – не более чем иной способ смоделировать время.
Но даже погрузившись в проблемы информации и квантовых измерений, Уилер не забыл о космологии, гравитации и черных дырах. На самом деле предположение, что черные дыры обладают энтропией и, следовательно, сохраняют информацию, стало одной из первых вылазок в сторону теории информации.
Скрывая доказательство
В конце семидесятых Уилер вместе с целым рядом талантливых аспирантов работал над проблемами, связанными с черными дырами. Одним из этих одаренных молодых ученых был Яаков Бекенштейн, родившийся в Мексике в семье еврейско-польских иммигрантов. Вдвоем они часто обсуждали свойства черных дыр, в том числе и «безволосую» теорему.
Однажды Уилер в присутствии Бекенштейна пошутил123, что всякий раз, когда он ставит чашку горячего чая около стакана со льдом и позволяет им прийти в равновесие, он совершает преступление, увеличивая энтропию во вселенной. Причина в том, что по второму закону термодинамики свободная для использования энергия из-за разницы температур становится связанной. Обычно такой процесс нельзя обратить, и тем самым он слегка ускоряет наступление тепловой смерти. «Эх, если бы под рукой у нас была черная дыра, чтобы бросить в нее чашку», заявил Джон.
Эта шутка побудила Бекенштейна задуматься о том, что происходит с энтропией тел, поглощенных черными дырами. Его также вдохновила статья 1970 года одного из аспирантов Уилера, ставшего математиком, Деметриоса Христодулу, показавшая, что в процессе поглощения материала поверхность горизонта событий черной дыры всегда увеличивается или остается той же самой, но никогда не уменьшается.
Бекенштейн предложил блестящую схему определения энтропии черной дыры: что, если площадь поверхности черной дыры является астрономическим эквивалентом энтропии? Единицы были разные, поэтому требовался фактор пропорциональности. Открывался естественный путь для применения второго закона термодинамики к черным дырам. Таким образом Уилеру не пришлось бы беспокоиться по поводу нарушения закона, начни он швырять свои напитки в гравитационно сжатый объект.
Когда Стивен Хокинг, изучавший свойства черных дыр, такие, например, как условия для сингулярностей, узнал о гипотезе Бекенштейна, он поначалу засомневался. Если черные дыры обладают энтропией, они должны обладать и температурой, а это значит, что они излучают, ведь что угодно с температурой выше абсолютного нуля, окруженное холодным вакуумом, должно испускать тепло. Но ведь все знают, что по классической теории, ничто не может покинуть черную дыру, даже излучение.
Тем не менее Хокинг обладал открытым умом и посчитал, что произойдет в простой квантовой картине. И, к его большому удивлению, он определил, что черная дыра все же может незначительно излучать в окружающее ее пространство. Этот эффект получил название «излучение Хокинга», и оно постепенно понизит температуру дыры до равновесия с ее окружением, хотя процесс может потребовать миллиардов лет в зависимости от размеров дыры.
Хокинг объявил о результатах в поразительном докладе «Черные дыры раскалены добела».
Существование излучения Хокинга и энтропии черной дыры стимулировало изучение вопроса информационного содержания черной дыры. «Информация» в этом контексте относилась к наборам нулей и единиц, именуемых битами, в соответствии с описанием Шеннона. В статье 1948 года «Математическая теория коммуникации» он высказал идею, что любой объем информации может быть выражен последовательностью битов, ну а те можно передавать из одного места в другое и расшифровывать. Именно эта идея легла в основу сегодняшнего цифрового века.
Шеннон также определил особую разновидность энтропии, «информационную энтропию» или «энтропию Шеннона», связанную с количеством информации, которую переносит последовательность. Она зависит от количества возможных исходов и вероятности каждого из них. Концепция эта происходит от австрийского физика Людвига Больцмана, от его раннего определения энтропии в термодинамике, которое учитывает, насколько много возможных комбинаций микросостояний (расположения частиц) может привести к тому же термодинамическому макросостоянию (общее состояние, которое определяется температурой, давлением и т. д.).
Если огромное число комбинаций дает одно и то же общее состояние – как, например, конфигурации быстрых молекул в нагретом газе – система обладает высокой энтропией. И наоборот, если только немногие комбинации производят определенный общий эффект, например, молекулы воды, образующие снежинку – энтропия низкая.
Шеннон перевел эту идею на язык битов с языка молекул.
Впоследствии Бекенштейн и другие поняли, что площадь горизонта событий черной дыры служит не только мерилом энтропии, но и показателем информационного содержания. Как отметил Уилер, если вы разделите горизонт на квадраты со стороной планковской длины (квантового размера), то один бит информации (ноль или единица) может занять эту крошечную площадь. Следовательно, чем больше горизонт событий по площади, тем большей длины последовательность бинарных разрядов он может содержать.
Уилер рассматривал эту взаимосвязь как квинтэссенцию принципа «все из бита»: моделирование динамики вселенной в квантовом масштабе с помощью алфавита бинарных разрядов.
Его речи всегда отдавали сумасшедшинкой
В 1971 году, когда написание «Гравитации» шло полным ходом, Уилер посетил Калтех. Он воспользовался возможностью пообедать с Фейнманом и Кипом Торном в ресторане с армянской кухней, где они могли спокойно расслабиться и обменяться идеями.
Во время трапезы Уилер описывал бывшим студентам собственное видение того, как законы физики появились из топки Большого взрыва, и что могут существовать другие вселенные за пределами нашей, обладающие иным набором законов. Он намекал, что должна быть некая причина, почему в нашем мироздании законы именно такие, какие есть. Возможно, если бы они были иными, то не возникло бы жизни и разумных существ, способных постичь эти законы.
Утверждения Джона отражали вариацию «антропного принципа», концепции, согласно которой вселенная такова, какой мы ее видим, по той причине, что если бы она была иной, то нас бы в ней не существовало. Подобные абстрактные утверждения звучали анафемой для Фейнмана, поскольку их невозможно как-то доказать или опровергнуть. Параллельные траектории выглядели хорошо в квантовых расчетах, поскольку они объясняли результаты экспериментов, но никто не в состоянии подготовить набор разных вселенных и посмотреть, что будет.
Какой смысл говорить об этом?
Если верить Торну, Фейнман повернулся к нему и предложил мудрый совет по поводу Уилера: «Это парень несет чушь. Но чего не знают люди твоего поколения – он всегда нес чушь. Но когда я был студентом, я обнаружил, что если взять одну из его бредовых идей и снять с нее слои безумия так, как ты снимаешь кожицу с лука, то часто в сердце идеи можно найти зерно истины»124. Потом он рассказал, как «сумасшедшая» мысль Уилера о том, что позитроны – это электроны, путешествующие обратно во времени, помогла ему получить Нобелевку. Он просто очистил с гипотезы слои безумия и оставил проверяемое сердце истины.
И после того как их совместные дела в Принстоне закончились, Уилер продолжил оказывать влияние на мышление Фейнмана. Изучение некоей области знания с помощью ее преподавания, представление концептов в виде диаграмм – все это Ричард взял у наставника, у него же он позаимствовал склонность резко и непредсказуемо менять поле научных интересов – от квантовой электродинамики к сверхтекучести, к партонам, а затем и к компьютерам.
И в конечном итоге у Уилера Фейнман воспринял ценности семейной жизни, которой он наслаждался много лет.
Естественно, Джон тоже немало получил от такого блестящего и успешного ученика. Он часто отправлял тому статьи, чтобы понаблюдать за реакцией, он давал студентам проекты, связанные с теориями и методами Фейнмана, например, работа Чарльза Мизнера о приложении интеграла по траекториям к гравитации. И кроме того, Уилер, ведший сравнительно размеренную жизнь, получал удовольствие, выслушивая рассказы Ричарда о диких приключениях последнего.
Джон Уилер и странная метаморфоза судьбы
К середине семидесятых эксцентричный стиль Уилера, в котором он излагал свои идеи, его странная терминология и двусмысленные рисунки, все это стало известно не только его бывшим студентам, но и растущему сообществу теоретиков, изучающих общую теорию относительности. В 1973 году вышла «Гравитация», настоящая проповедь уилерианской философии и методов, ее быстро перевели на многие языки, и она прославилась на весь мир. Толстый том отличался оригинальностью и полнотой изложения, поэтому ничего удивительного, что он сделался классикой на десятилетия.
Но тогда практически никто среди специалистов по общей теории относительности не мог разобраться в уилерианских поворотах фразы или от руки сделанных картинках с первого раза. Все выглядело так, словно он изобрел собственный язык и сопроводил его особым стилем научного рисунка.
Когда-то мягкая, неразборчивая речь Нильса Бора попала в фольклор науки, и вот теперь туда же угодил и Уилер. Датчанина часто пародировали, та же участь ждала и американца. Специалисты по общей теории относительности испытали прилив любопытства, когда почтой им пришли копии отпечатанного на машинке манускрипта Джона Арчибальда Вилера из Принстона под заглавием «Распутин, наука и странная метаморфоза судьбы»125. Вскоре стало ясно, что чем дальше от начала, тем бессмысленнее текст, пока все не превращается в полную ерунду.
Джон Уилер читает лекцию о гравитации, используя пространственно-временную диаграмму (1986 год).
Источник: фотография Карла Траппе, AIP Emilio Segre Visual Archives, Wheeler Collection.
Сочинил этот «трактат» физик Билл Пресс, студент Торна в Калтехе, достигший мастерства в том, что касается имитации стиля Уилера вплоть до языка и необычных диаграмм.
Вот небольшой образец пародии, опубликованный в журнале General Relativity and Gravitation на 1 апреля 1974 года: «Предположим, что у вселенной есть судьба… Нырнем внутрь философа (sic). Он производит моментальное нарушение в пространстве судьбы, затем он тоже сжимается в катаклизмическом ежегодном повторении, а потом исчезает. Нырнем в ученых всех дисциплин и фракций. Они тоже претерпевают странную трансформацию, после которой ничего не остается, только определенность. Назовем результирующее единство “черное целое”[17] и суммируем безупречность его финального состояния. Скажем “черное целое не обладает отличительными чертами”»126.
В завершении статьи прилагался длинный лист благодарностей, где встречались помимо прочих Р. Финниман, Ф. Дуйсон, С. Хакинг, Ч. Миснер, Р. Пинароз и др. Фейнман, к сожалению, частенько позволял бумагам накапливаться в кабинете, так что вряд ли он видел ссылку на себя.
Ну а Уилер, без всяких сомнений, хихикал, читая пародию, поскольку его чувство юмора было удивительным. Он прекрасно осознавал, что другие могут найти его терминологию необычной, но это его не смущало, поскольку яркие определения вроде «сумма по историям» или «червоточина» запоминались куда лучше, чем бесцветные нагромождения терминов. Да, строго говоря, не он предложил термин «черная дыра», но он сделал все, чтобы тот стал достоянием широкой аудитории. Поэтому Уилер понимал, что пародии – плата за склонность к красноречию. Неужели не доставалось то же самое и Бору в «Журнале юмористической физики»?
Космический код
В то время как Уилер, Бекенштейн, Хокинг и другие изучали роль информации в черных дырах, Фредкин начал изучать еще более важную роль скромных битов: элементов компьютерного кода для самой вселенной.
Возможно, непрерывность времени и пространства не более чем иллюзия, в планковском масштабе космос может быть дискретным, подобно пикселям на телевизионном экране. Учитывая, что простая компьютерная программа вроде «Жизни» в состоянии породить сложные сущности, можно предположить, что вселенная на квантовом уровне управляется простыми правилами превращения нулей в единицы и обратно.
Может быть, этот базовый алгоритм порождает все законы физики и другие принципы природы.
Фредкин не был хорошо известен среди физиков, он отличался острым умом, но презирал условности и так и не закончил колледж. Тем не менее Минский нашел возможность назначить его, базируясь на таланте и идеях, на факультет компьютерных наук МТИ, и они вдвоем, используя частично гранты от министерства обороны, начали работать над проблемой искусственного интеллекта.
Фредкин и Минский первый раз встретили Фейнмана, когда решили пошутить127.
Оказавшись в Пасадене в командировке, они обнаружили, что у них есть свободное время, и принялись обзванивать всех ученых, кем восхищались, для чего добыли телефонную книгу. Сначала они попытались дозвониться до нобелевского лауреата по химии Лайнуса Полинга. Ответа не получили, и по решению Минского остановились на Фейнмане, а тот, к большому их удовольствию, взял трубку и даже вступил в беседу. И хотя он не знал ни того, ни другого, он тем же вечером пригласил их в гости. Они беседовали о физике и компьютерах до поздней ночи, и этот разговор стал начальной точкой плодотворного общения.
Фейнман решил узнать больше о вычислительной технике, и в 1974 году он позвал Фредкина в Калтех в качестве приглашенного исследователя. И год этот оказался продуктивным, гость воспринял от Ричарда многие идеи, касавшиеся квантовой механики, и решил проблему, терзавшую его мозг годами: разработал обратимые во времени алгоритмы, действовавшие одинаково как вперед, так и назад.
Если физика частиц (за исключением некоторых видов распада нейтральных каонов) симметрична по времени, то такими же должны быть и компьютерные схемы, моделирующие данную область науки. Обратимый алгоритм, разработанный в Калтехе, стал известен как «вентиль Фредкина». Как выяснилось, Чарльз Беннет из IBM уже представил образец обратимых вычислений, но модель Фредкина все равно была достижением. Его визит в Калифорнию дал Фейнману возможность ознакомиться с только зарождающейся областью изучения искусственного интеллекта.
Не обращаться осторожно
В 1976 году Уилер достиг пенсионного возраста в Принстоне, но он был далек от мысли бросить научную жизнь. Ведь осталось слишком много интригующих загадок! Джон принял звание «заслуженного профессора», но не отказался и от благородного предложения занять пост в университете Техаса, Остин (куда уже перебрался Девитт). Одновременно он принял место директора нового Центра теоретической физики.
Да, в Принстоне у него было много друзей, но они с Джанет с удовольствием начали новую фазу жизни в Штате Одинокой Звезды.
Фейнман так и продолжал работать в Южной Калифорнии, они с Гвинет купили «Додж трейдсмен максивэн» и сами разрисовали его желто-коричневые бока диаграммами Фейнмана. Естественно, им хотелось, чтобы номерной знак соответствовал дизайну, и ограничение в шесть букв заставило их обойтись шестью буквами «QUANTUM»[18]. Грузовичок идеально подходил для пикников и выездов в дом на берегу, который они купили.
Фейнман получал большое удовольствие, проводя время с детьми, для Мишель он покупал множество мягких игрушек, и каждый вечер, отправляясь в кровать, она выбирала только одну, правильную. Иногда он изображал радио, давая ей крутить свой нос, чтобы настроиться на разные «станции», то есть исполнять песни в разных стилях. Понятно, что такие занятия просто тонули в смехе.
Однажды, когда она стала постарше, одна из подруг, чьи родители уезжали на каникулы, оставила Мишель на месяц домашнего боа констриктора, чтобы девочка могла с ним «понянчиться». Фриман Дайсон, в это время как раз посетивший Фейнмана, со смехом вспоминал последовавший бардак. К ужасу Ричарда128, диета змеи состояла из живых мышей. Он их добыл и с отчаянием смотрел, как удав без всякого желания взирает на свою добычу. Грызуны же без сомнений начали кусать боа, повреждая его чешую, так что того пришлось буквально защищать. Подруга Мишель оказалась страшно разочарована, получив питомца обратно со следами укусов. Фейнман же заявил, что никогда больше не допустит ничего подобного.
Одновременно он держал несколько собак и с радостью обучал их разным трюкам.
С Карлом, уже подростком, Фейнман развлекался, обмениваясь шутками по поводу семейного обеденного стола, в точности так же, как он делал со своей матерью много лет назад. В то время она жила неподалеку и часто сопровождала их в поездках на пляж. Это были счастливые, запоминающиеся времена для всего семейства.
В те годы Уилер по меньшей мере дважды появлялся в Южной Калифорнии и неизбежно заходил к бывшему ученику на обед. Как вспоминал Карл позже: «Я любил “Гравитацию” в детстве и был воодушевлен встретиться с еще одним автором книги. Торна к тому времени я уже видел»129.
Более частым гостем был друг и партнер Фейнмана по игре на барабанах Ральф Лейтон. Они обедали вместе, а затем удалялись в домашнюю студию Ричарда, где лупили палочками, словно дикари. На одном из обедов в 1977 году Фейнман бросил вызов семье и Лейтону, начав задавать им вопросы по географии. Он поинтересовался, знают ли они все страны в мире. Ральф пробормотал: «Ага, конечно».
Выдержав паузу для драматического эффекта, Ричард спросил: «А что произошло с Танну-Тува[19]»?130
Ребенком Фейнман видел почтовые штемпели этого государства и интересовался, где оно находится и что с ним произошло. Они с Лейтоном залезли в энциклопедию, узнали, что Тува вступила в состав СССР, а находится она в Азии, на границе с Китаем. Прочитав о культуре этой небольшой территории все, что нашли, особенно о знаменитом «горловом пении», они сочли, что отдаленный регион выглядит заманчиво. Решив посетить его, они начали думать, как это сделать, но, увы, Фейнману не суждено было воплотить этот план.
Летом 1978 года здоровье Ричарда начало ухудшаться, появились первые симптомы болезни, мешавшей ему путешествовать следующие десять лет, к сожалению, его последние десять лет. В июне он получил приглашение от Уилера принять участие в симпозиуме, посвященном столетию со дня рождения Эйнштейна. Джон попросил Фейнмана выступить с докладом131 на тему «Эйнштейн и физика будущего», или выбрать другую тему. Фейнман вежливо отклонил приглашение132, шутливо сообщив, что он поговорил с «мистером Икс», и тот тоже не сможет присутствовать.
Он был в то время не в лучшей форме, начались острые боли в брюшной полости. Врач диагностировал липосаркому, одну из разновидностей рака, и поскольку единственным способом бороться с ней являлась хирургия, то Ричард отправился под нож. Большую опухоль, давившую ему на печень и почку, удалили. Но после операции требовались месяцы домашнего покоя для восстановления.
28 июля Уилер отправил Фейнману письмо с пожеланиями выздоровления. «Добро пожаловать домой, – написал он, – после опыта… сравнимого только с отчаянием быть президентом Калтеха… Самые теплые пожелания быстрого восстановления». В письмо он вложил материалы для чтения, надеясь, что они помогут Фейнману оправиться. Среди них оказалась статья «Закон без закона», позднее ставшая частью более обширной работы «Границы времени». В то время Уилер вел занятия по теории квантовых измерений, и ему пришлось заново изучить тайны взаимодействий на квантовом уровне.
Кто на первой базе? Что на второй? Я не знаю, это квант
В 1978 году Уилер придумал блестящий мысленный опыт, названный «эксперимент с отложенным выбором», предназначенный для того, чтобы пролить свет на странности теории квантовых измерений. Он представил все так, как будто смог убедить Эйнштейна, что Бор был прав в их знаменитом споре по поводу квантовой механики: имеет ли место вероятностный «бросок костей» и можно ли с его учетом назвать квантовую механику полной физической теорией (Бор говорил «да», Эйнштейн – «нет»).
Как ни странно, гипотетическая конструкция Уилера позволила заглянуть дальше, чем принцип дополнительности Бора, который утверждал, что выбор наблюдателя перед или в процессе измерения может влиять на протон, электрон, на другие субатомные объекты, демонстрирующие или волновые свойства, или свойства частицы. Джон предположил, что решение, принятое в будущем, может ретроспективным образом влиять на результат измерений.
Построения Уилера выглядели просто, но разумно: он представил бейсбольную площадку с зеркалами, размещенными на основной базе и на каждой из трех остальных баз. Зеркала должны быть двух разновидностей: те, что на первой и третьей базе – обычные, отражающие весь свет, а на основной и на второй – специальные, посеребренные наполовину (полупрозрачные), которые отражают половину света, а вторую пропускают. Зеркало на второй базе обладает дополнительным свойством убираться в землю при нажатии переключателя, и в начальном положении оно убрано.
Предположим, что наполовину посеребренное зеркало на основной базе размещено так, что падающий в направлении первой базы луч света частично проходит, а частично отражается в направлении третьей базы. Через крохотную долю секунды свет, нацеленный на третью базу, достигнет размещенного там зеркала и отразится в сторону правого поля; сходным образом свет, направленный на первую базу, отразится к левому полю.
Детекторы, размещенные в правом и левом полях, фиксируют ожидаемый результат: 50 процентов исходного светового потока достигло правого поля, и 50 – левого. Как и в фейнмановском интеграле по траекториям, оба исхода случаются одновременно и имеют равную вероятность. Свет распространяется по двум различным маршрутам, подобно волновому паттерну в хорошо известном эксперименте с двумя прорезями, который демонстрирует квантовую неопределенность.
Теперь представим, что произойдет, если мы нажмем переключатель, и наполовину посеребренное зеркало на второй базе поднимется на уровень остальных зеркал. Поначалу процесс пойдет точно так же, лучи в равной пропорции отправятся к первой и третьей базам. Сориентированное в определенном направлении зеркало второй базы будет отклонять весь свет с первой и третьей баз в сторону правого поля (пропущенный в первом случае и отраженный во втором), так что света левому полю не достанется (поскольку оба луча погасят друг друга в процессе, именуемом деструктивной интерференцией). В результате мы получим совершенно иной исход: 100 процентов справа, 0 процентов слева, и свет перенесется в одном направлении, как частица.
Свету требуется время на путешествие, его движение не бывает мгновенным. Следовательно, вообразим ситуацию, в которой исходный луч включен и выключен так быстро, что только горсть фотонов (или даже единственный фотон) отправился в путь: ограниченный световой пакет, а не постоянный поток. Далее предположим, что наблюдатель рядом со второй базой был проинструктирован поднять зеркало после того, как исходная вспышка произошла, но до того, как она достигла второй базы. Произвольным образом он решает, поднять ему зеркало или оставить опущенным. Базирующийся на отложенном выборе, воплощенном уже после того, как эксперимент начался, результат может быть любой: волноподобный или корпускулярный.
Например, представим, что пакет света был отправлен с намерением произвести волноподобную интерференционную картину с двумя разными пиками в правом и левом поле. Но затем экспериментатор изменил намерения и нажал переключатель, чтобы поднять зеркало на второй базе. Свет ударит в него и отразится целиком в сторону правого поля, показав частицеподобные свойства.
Как может свет, уже испущенный, «знать», что он должен трансформировать себя? Или нажатие выключателя неким образом ретроспективно влияет на свойства передаваемого света? Если это возможно, тогда квантовые измерения могут оказывать влияние как вперед, так и назад во времени.
Эксперименты, проведенные в 1984 и 2007 годах, подтвердили гипотезу Уилера.
После дальнейших размышлений он сделал еще шаг вперед и расширил эксперимент с отложенным выбором на вселенную целиком. Вместо бейсбольной площадки он вообразил сверхъяркий, невероятно удаленный объект, такой как квазар (формирующаяся галактика), расположенный на основной базе, и две приемлемым образом расположенные галактики, которые служат первой и третьей базой. Посредством процесса гравитационного линзирования (изгибание луча света из-за искажения пространства) они обе перенаправляют свет квазара к Земле, которая назначается второй базой (именно тут принимается решение поднять или опустить наполовину посеребренное зеркало).
На Земле ученые могут решить, на какую из двух галактик нацелить телескоп. Альтернатива состоит в том, что они используют зеркало, чтобы собрать световой поток от двух разом. Нацеливание телескопа на одну из галактик позволит получить частицеподобное решение, в котором квазар будет представлен в виде точки. Наоборот, использование зеркала даст волноподобное решение, и квазар предстанет размытым объектом. Таким образом, астрономы через миллиарды лет после того, как свет квазара отправился в путь, могут выбрать, воспринимать его как частицу или как волну.
Когда дополнительность встречается с космологией, результат получается странным.
Друг в нужде
Как только Фейнман вернул себе способность путешествовать, Уилер начал приглашать его на научные конференции, предлагая широчайший выбор разных тематик. Все, к чему приложил руку его бывший блестящий студент, могло снова привлечь его внимание. Ричард отверг почти все предложения, но некоторые все же принял.
В 1981 году он решил посетить конференцию в районе Остина, для которой был выбран теннисный курорт на озере Трэвис. Он и многие другие физики сочли такой выбор безвкусным, тот же Фримен Дайсон вспомнил, что даже бассейн там был в виде теннисной ракетки.
Получилось так, что это была последняя личная встреча Фейнмана и Дайсона133.
Открыв дверь номера, Фейнман был ошеломлен – люкс оказался слишком роскошным для его спартанских вкусов. Он подумал, что это напрасная трата денег. Менеджмент не смог найти номер меньше и дешевле, у них не осталось свободных мест. Так что он решил отменить бронирование и найти место снаружи, благо пустынный климат обещал теплую ночь.
Но едва стемнело, температура упала и Фейнмана начало трясти от холода. Пришлось достать из чемодана свитер и укрыться всем, что только попалось под руку.
Когда корреспондент местной газеты «Остин Американ-Стейтсмен» спросил, почему нобелевский лауреат, профессор Калтеха с хорошим доходом ночует как бездомный, Фейнман ответил: «Я большой идиот, но я получаю удовольствие от жизни»134.
Ему не пришлось долго терпеть ночной холод, о ситуации узнал Уилер и немедленно пригласил старого друга к себе. Ричард был очень благодарен, и он сказал репортеру по этому поводу: «Одно из величайших сожалений моей жизни, что я не столь приятный человек, как Уилер. Я никогда не звал никого из них к себе в дом и не поддерживал с учениками таких теплых и долгих отношений, как он135».
Удар бонго, рев толпы
Несмотря на то что Фейнман говорил о себе и Уилере, он несколько десятилетий пользовался любовью студентов Калтеха и отвечал им взаимностью. Ему нравилось проводить время с яркими молодыми людьми, которые относились к нему так, словно он был Зевсом с Олимпа. Он активно участвовал в программе профессиональной ориентации университета, не забывал про внеучебные виды деятельности, и первокурсники знали его с первых дней в стенах вуза.
Когда Ширли Марнеус, режиссеру театральной программы Калтеха, понадобился барабанщик на бонго для постановки мюзикла «Парни и куколки», ей тут же рассказали о талантах Фейнмана. До того момента она даже не слышала о нем, но ей показалось, что позвать его – хорошая идея. Когда он согласился, она узнала, что он лауреат Нобелевской премии. Встретившись с Ричардом, из уважения к такому статусу Ширли попробовала назвать его «доктор Фейнман», на что он решительно ответил: «Я – Дик». Он без возражений воспринял указания и получил две роли: игрока на бонго и закадровый голос в сцене, где присутствовала игра в кости.
Фейнман заинтересовался, ему понравилось играть на сцене, быть частью коллектива. Постановка дала ему шанс скрыть самого себя и на время стать кем-то другим. Он подчинился всем требованиям режиссера, осознавая, что она понимает в этом деле больше.
В следующем году он получил более крупную роль: гангстера Франки Скарпини в музыкальной постановке «Фиорелло!» Появление Ричарда из-за кулис в дурацком костюме, и то, как он принялся корчить из себя бандита, вызвало взрыв смеха.
Марнеус ожидала, что человек с таким статусом не захочет тратить время на репетиции. Но Фейнман почти всегда посещал репетиции полностью, проводил там по несколько часов. Когда его не приглашали играть, он частенько сидел в проходе и помогал студентам делать домашние работы по физике, или решал с ними задачи на доске, что располагалась за сценой.
Марнеус находила его очаровательным и всегда готовым помочь.
Бывший студент и сотрудник Фейнмана Аль Хиббс каждый год на 1 апреля устраивал тематические костюмированные вечеринки. Они давали Ричарду дополнительную возможность переодеться и подурачиться, так что в разных случаях он изображал индийского монаха, Бога (щеголявшего длинной седой бородой) и даже королеву Елизавету Вторую. Марнеус была изумлена, когда на посвященную астрономии вечеринку он явился в обычном костюме и назвал себя «Сириус».
Однажды она увидела его упрямую сторону, когда на одно мероприятие в кампусе явился посетитель с книгой «QED», пособию по квантовой электродинамике, которое базировалось на лекциях 1979 года. Он попросил автограф, и Фейнман почти согласился, но тут посетитель сказал, что книга столь хороша, что ее должен прочесть каждый студент. Отпрянувший Ричард выбранил незнакомца за то, что он пытается навязать книгу другим, и отказался. Никакие мольбы не помогли, и Марнеус пришлось вмешаться, чтобы уже чуть не плачущий посетитель добыл автограф.
В 1981 году, через несколько лет после первой операции, Фейнман получил не самые хорошие новости. Рак вернулся и снова начал распространяться по внутренностям. Вновь единственным выходом стала операция, удаление опухоли и больших участков ткани вокруг нее. Она продлилась десять часов, шла сравнительно хорошо и обещала успех, пока при зашивании не лопнула одна из больших артерий около сердца. Он потерял так много крови, что потребовалось срочное переливание, и в течение нескольких часов нашлись сотни волонтеров, включая многих студентов, готовых помочь. Благодаря врачам и донорам Фейнман выжил, он стал куда слабее, но все же перенес все процедуры и смог вернуться к научной и семейной жизни.
Поначалу он решил, что из-за проблем со здоровьем он должен будет пропустить следующую музыкальную пьесу «Юг Тихого океана». Из-за этого Ричард впал в такую депрессию, что семья настояла на том, чтобы они поговорили с Марнеус о роли. Она предложила, чтобы он взял небольшую партию вождя с острова Бали-Хай, и играл, окруженный танцорами и барабанщиками. Это потребовало бы цветастого костюма, большого головного убора и умения отдать несколько команд на таитянском языке.
«Но Ширл, – ответил Фейнман, – у меня остался шрам от операции». Шрам находился на животе, и был хорошо заметен, и костюм не скрыл бы его. Ричард же не хотел, чтобы аудитория чувствовала к нему жалость.
Марнеус задумчиво посмотрела на собеседника, представляя его в облике вождя, и заявила: «Ты получил этот шрам, ныряя на глубину, чтобы добыть жемчужины, ты сражался с акулой, и она укусила тебя. Ты сумел подняться на поверхность, девы взяли тебя в каноэ и покрыли лепестками. А затем островитяне избрали тебя предводителем».
«Ты не шутишь? Так все и было? Тогда я, конечно, согласен», – заявил Фейнман, вообразивший себя в роли отважного воина, а вовсе не недавнего пациента.
И он больше никогда не вспоминал про этот шрам.
Когда пришло время выступать, Фейнман проскользнул за сцену и оставался там в ожидании своего выхода. И он сыграл так сильно и убедительно, что покорил зрителей. Марнеус запомнила реакцию зала, когда собравшиеся люди увидели, что на подмостки вышел Ричард, недавно перенесший операцию, едва не расставшийся с жизнью: «Был момент ошеломленного молчания. Потом они заорали и вскочили на ноги. Аплодисменты, аплодисменты. Его любили на самом деле»136.
Фейнман продолжал играть, он исполнил многие роли, среди них коварный Король-Швец из «Безумная из Шайо», и сторож в «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая».
Он был прирожденным актером.
Искусственные разумы
Фейнман был доволен, когда МТИ, его альма-матер, принял Карла на факультет компьютерных наук. Его самого интриговала проблема искусственного интеллекта, интересовали работы Фредкина и Минского (оба они работали в МТИ), так что Ричард думал, что его сын попал в хорошее место. Все время, пока Карл учился, интерес Фейнмана-старшего к вычислительной технике только рос.
В мае 1981 года Фейнман выступил с докладом «Моделирование физики с помощью компьютеров», в котором представил описание процесса квантового вычисления. Начал он свою речь с благодарностей Фредкину, которого он «винил» в том, что сам обратился к этой области. Затем, стартовав с концепции простых вычислительных систем, таких как клеточные автоматы, он объяснил, как классическая физика в ее детерминистической форме может быть смоделирована.
Прорыв в области обратимых вычислений, подчеркнул он, был ключом к такой симуляции, поскольку классическая физика обратима во времени.
Для недетерминистических систем вероятность может быть встроена в механизм, подобно тому, как она программируется на игровых автоматах в казино. Но для того чтобы создать реалистическую модель квантовых систем, недостаточно будет стандартных механизмов и обычных компьютеров. Воспроизведение странности квантовой механики потребует квантовых компьютеров, базирующихся на суперпозициях состояний.
Он предложил использование либо электронов с суперпозицией верхнего и нижнего спинов, либо фотонов с комбинацией поляризации по и против часовой стрелки в качестве бинарных элементов. Такие квантовые генерализации битов стали широко известны как «квантовые биты» или «кубиты». Термин часто приписывают Бенджамину Шумахеру, одному из учеников Уилера.
Квантовые биты могут быть собраны в решетки, во многом подобные квантовым автоматам, с каждой клеткой, взаимодействующей с ближайшими соседями в соответствии с правилами квантовой динамики. Такие устройства привели бы интеграл по траекториям в кибернетическую реальность, позволили бы переносить более широкий спектр информации до тех пор, пока измерение не сведет суперпозицию квантовых состояний в один из ее компонентов и будет получен окончательный результат. Вместо одной линейной траектории, ведущей к ответу, тут были бы испытаны все возможные пути, причем в один момент, что позволило бы сэкономить время. Это подобно лабиринту, где кусок сыра ищет множество крыс, и велики шансы, что они доберутся до цели очень быстро.
Удивительно, но сорок лет спустя после разработки интеграла по траекториям Фейнман смог найти новое применение для своего детища.
Он продолжал интересоваться, чем занимается в Массачусетсе его сын. В лаборатории искусственного интеллекта Минского Карл был вовлечен в разработку схем параллельных вычислений: набор процессоров, работающих в тандеме, чтобы быстрее и эффективнее выполнять вычисления.
В 1983 году Даниэль Хиллис, магистрант, трудившийся вместе с Фейнманом-младшим, решил основать компанию «Синкинг Машинс Корпорейшен», чтобы разрабатывать и производить компьютеры нового поколения, названные «машинами логических соединений», с миллионами параллельных процессоров в каждой. Карл привез Хиллиса в гости, чтобы познакомить с отцом, и хотя тот поначалу встретил идею скептически, потом он отнесся к ней лучше.
Хиллис был поражен Фейнманом-старшим (он в то время мог путешествовать), когда тот вызвался некоторое время поработать в зоне для стартапов в Бостоне. Бизнес отправился в «плавание», Карл занял в компании важное место, и через несколько лет Ричард с энтузиазмом докладывал: «Год назад я говорил тебе, что польза от большого числа запараллеленных компьютеров ограничена. Сейчас все сложнее и сложнее найти что-то такое, что они не в состоянии делать»137.
Кубиты и суперструны
Все еще занимаясь теорией информации черной дыры, Уилер продолжал проповедовать веру «все из бита» любому, кто готов был слушать. Хотя он и Фейнман сосредоточились на одном и том же, на бинарных вычислениях, подход у них был разный. Джон был мечтателем, а Ричард – практиком, первый смотрел на звезды, на будущее и прошлое, а второй думал, как заставить работать вещи на Земле здесь и сейчас.
В 1985 году многие физики-теоретики были воодушевлены перспективой обобщения теорий гравитации и остальных взаимодействий, которую представила «теория суперструн». Ее разработали Майкл Грин из университета Лондона и Джон Шварц из Калтеха, опиравшиеся на идеи многих других исследователей.
Эта концепция содержала несколько необычных элементов.
Во-первых, она замещала точечные частицы, такие как кварки и электроны, вибрирующими нитями энергии планковской длины. Поскольку они обладали конечными размерами, то бесконечные величины в полевой теории становились конечными, тем самым отпадала необходимость в перенормировке. Концепция опиралась на новую симметрию между фермионами, компонентами материи, и бозонами, переносчиками взаимодействий, при которой одни могли трансформироваться в другие. Возможно, более удивительным выглядело то, что она имела математический смысл только при наличии десяти и более измерений. Поскольку в доступном нам пространстве-времени их четыре, остальные шесть должны быть свернуты крайне плотно в масштабах той же планковской длины и нам недоступны.
Множество выдающихся теоретиков, недовольных отсутствием прогресса в квантовании гравитации с помощью стандартных методов (обобщение квантовой электродинамики) обратились к теории струн, сочли ее перспективной. Но и Уилер, и Фейнман остались скептиками, хотя и по разным причинам: первому она казалась слишком маломасштабной, второму не хватало доказательств.
«Мы должны смотреть на вещи шире, – говорил Уилер. – Как возникает бытие? Откуда берется квант? Я помню одного коллегу, взявшегося прочесть лекцию по теории струн, так он описал мне все, словно пресвитерианский священник, читающий Библию»138.
«Я заметил, что когда я был моложе, многие старики в нашей области не могли хорошо понять новые идеи… как Эйнштейн оказался не в состоянии постичь квантовую механику, – говорил Фейнман. – Я сам теперь старик, и вот они, новые идеи, и они выглядят для меня безумием, выглядят так, словно уводят нас не в ту сторону»139.
Опубликованная в том же году статья, написанная Дэвидом Дойчем, «Квантовая теория, принцип Черча – Тьюринга и универсальный квантовый компьютер»140, предложила идеи, куда более близкие Уилеру и Фейнману. Дэвид Дойч показал, как обобщить детерминистические машины Тьюринга в универсальные квантовые компьютеры, базирующиеся на кубитах. Он продемонстрировал, как квантовое параллельное вычисление может быть быстрее стандартных линейных алгоритмов. И в конце концов, он доказывал, что многомировая интерпретация квантовой механики Хью Эверетта является наиболее логичным путем описания того, как функционирует подобное устройство.
Дойч был не одинок в защите теории Эверетта. Немецкий физик Дитер Цее использовал ее положения в версии, именуемой «многоразумовой интерпретацией» (1970 г.). Цее предположил, что наблюдатель сам по себе не расщепляется в процессе наблюдения, а остается в суперпозиции состояний вместе с тем, что измеряется. Вместо коллапса его волновая функция становится запутанной (связанной с тем же квантовым состоянием) с подвергающейся изучению квантовой системой. Почему тогда он воспринимает определенное значение, а не набор возможностей? Потому что, согласно Цее, его ментальное состояние раздваивается, и каждая из альтернатив выносит свое заключение. Поскольку тело может похвастаться только одним умом, его направляющим, то другие выборы существуют, но признаются нерабочими.
Цее помог развить другую идею, связанную с его многоразумовой интерпретацией, именуемую «декогерентностью». Войцех Журек, студент Уилера в университете Техаса, стал вторым автором концепции.
Декогерентность утверждает, что для каждого квантового измерения система становится запутанной с ее окружающей средой. Из-за этого запутывания на краткий период ее суперпозиция разлагается в определенное состояние, подобно тому, как дерево, качаемое сильным ветром, в конечном итоге опрокидывается. Только крохотные системы, изолированные от окружения, могут долгое время оставаться в суперпозиции, а большие, подверженные влиянию среды, постоянны и однозначны. Таким образом, они остаются в конкретных состояниях, а не в суперпозициях, и поэтому именуются «классическими».
Видящее «я» и контур самовозбуждения
Взаимодействие Уилера с его творчески настроенными студентами все более увлекало его в направлении «все есть информация». Он по большому счету отложил в сторону свой интерес к общей теории относительности, чтобы заняться проблемами квантовой информации. Его применение модели отложенного выбора к вселенной целиком все сильнее тянуло его к философским вопросам, а ведь подобное некогда происходило и с Нильсом Бором. «Философия слишком важна, чтобы оставить ее на откуп философам»141, – как-то сказал Уилер. Свою новую философию он называл «коллективным антропным принципом». Подобно дополнительности Бора, эта схема подчеркивала роль наблюдателя, но при наличии отложенного выбора этот наблюдатель имел силу изменять прошлое точно так же, как и будущее. Вспомним астронома, добавляющего полупрозрачное зеркало к телескопу, чтобы воспринять фотоны от древнего квазара как волну, а не как частицу.
С ранних работ в области геометродинамики и квантовой пены Уилер верил, что воздействие на волновые функции структур в прошлом может определять судьбу всей вселенной. Следовательно, человеческое наблюдение, возможно, и придало ранней вселенной такую форму, что она эволюционировала в сторону появления жизни. Отсюда вывод, что наш вид сегодня, с его далеко простирающимися возможностями наблюдения, уходящими далеко в прошлое, в некотором смысле создал условия для собственного существования. Заимствуя аналогию из электроники, Джон назвал идею «контуром самовозбуждения» и изобразил ее как U-образный объект с глазом на одной из веточек, который смотрит на другую, находящуюся в прошлом.
«Вселенная не существует “где-то там”, независимо от нас, – однажды написал он. – Мы неотвратимо вовлечены в процесс определения того, что должно происходить. Мы не только наблюдатели. Мы участники. В некотором странном смысле это наша коллективная вселенная»142.
Уилер часто обсуждал «Двадцать вопросов: версия с сюрпризом», игру, проливающую свет на концепт наблюдателя, создающего нечто новое. В ней группа приятелей приходит к тайному соглашению, что они собираются играть в классические «Двадцать вопросов» с неким поворотом: в начале никто не держит в голове конкретное слово. Тот, кто задает вопросы (его нет в комнате, когда игроки составляют заговор), не знает о подобном обороте дела. Он задает вопросы и, по мере того, как звучат ответы, каждый слушает слова других и заботится о том, чтобы его собственные сочетались с высказываниями других. Обычно при этом вариантов быстро становится все меньше.
Например, предположим, задающий вопросы интересуется: «Это физик?»
Первый игрок, не думая ни о ком конкретно, отвечает: «Да».
Задающий вопросы думает, что это Эйнштейн, и осведомляется: «Некто, играющий на скрипке?»
Второй игрок говорит: «Нет».
Задающий вопросы обобщает: «Некто, играющий на музыкальном инструменте?»
Третий игрок отвечает: «Да».
«Некто, родившийся в Европе?»
«Нет».
Задающий вопросы импульсивно восклицает: «Некто, играющий на барабанах?!»
Пятый игрок: «Да».
Это сужает круг возможностей очень сильно, допрос продолжается, и в конечном итоге, когда вопросов почти не осталось, звучит такой: «Это Фейнман?» Даже если группа вовсе не имела Фейнмана в виду в начале, то последний игрок не может вспомнить другого физика, чье описание соответствует прозвучавшим ответам. Поэтому после долгой паузы он вынужден ответить «да», сгенерировав ответ «Фейнман» на основе результатов «предыдущих наблюдений».
Глубокая связь между игрой и концепцией «все из бита» для Уилера была в том, что у всех вопросов имелся бинарный ответ: «да» или «нет», эквивалент единицы и ноля. Следовательно, не только ответ формировался вопросами, но его можно было представить в виде бинарного потока ответов. Схожим образом, бинарное изменение условий в эксперименте с отложенным выбором – произвольное поднятие или опускание ключевого зеркала, что определяет волновые или частицеподобные свойства – кодирует его исход. Прилагая эксперимент к вселенной целиком, как это делал Уилер, можно представить, что ее свойства закодированы посредством серии бинарных решений относительно того, какие разновидности космологических измерений провести.
Фейнмана как-то спросили во время интервью, что он думает по поводу утверждений Уилера о том, как воплощаются законы физики. Он отказался отвечать, сказал только, что это слишком умозрительно на его вгзляд, и в том же интервью он отклонил вопрос о том, корректна или нет многомировая интерпретация.
Он всегда фокусировался на более практических вещах.
«Мне интересно только, – говорил Фейнман, – искать правила, которые будут соответствовать тому, как ведет себя природа, и не заходить слишком далеко за их пределы. Я считаю большую часть философских дискуссий психологически полезными, но в конечном итоге ты смотришь на то, что было сказано, причем сказано с таким пылом, и почти все – в некоторой степени – чепуха»143.
Возвращение в Принстон
Разум Уилера оставался столь же активным как и ранее, но возраст начал сказываться. В апреле 1986 года он перенес тройное шунтирование, операцию на открытом сердце, и этот мучительный опыт заставил Джона задуматься о собственной смерти. В то время эта процедура была очень рискованной, она требовала остановки сердца и его помещения в лед на два часа. После успешного завершения операции требовалось два месяца оставаться в лежачем положении. К счастью, у него была любящая, верная жена. К июню он почувствовал себя лучше, ощутил, что получил новый арендный договор на жизнь. Он написал Фейнману: «Физика была тогда завлекательной. Сегодня я нахожу ее еще более манящей, и в один из этих дней я собираюсь взяться за дело снова, заманить тебя и поболтать по поводу физики информации»144.
Имя Фейнмана тогда все время звучало в новостях, поскольку после того, как разбился шаттл «Челленджер», Ричарда пригласили принять участие в изучении причин катастрофы. Как и следовало ожидать, он хотел прийти к независимым выводам и поэтому затеял собственное расследование. Его внимание привлекли резиновые уплотнительные кольца, которые использовались для герметизации соединений в ракетных двигателях шаттла. Изучив их свойства, Фейнман пришел к выводу, что они были недостаточно стойкими, чтобы противостоять температурным перепадам. На слушаниях он бросил такое кольцо в стакан воды со льдом и продемонстрировал его хрупкость.
Выпущенный комиссией отчет Ричард счел слишком уклончивым и в приложении высказал собственные, намного более резкие замечания. Он детально описал допущенные ошибки, включая то, что никто не предсказал возможность появления трещин в разных системах, а закончил предостережением: «Природу нельзя одурачить, поэтому в успешной технологии реалистичность должна превалировать над пропагандой»145.
Разум же Уилера продолжал фонтанировать небанальными идеями, в августе он отправил Фейнману только что законченную теоретическую статью «Как возникает квант?». Он приложил к ней записку, сообщающую адресату о том, что текст просто возмутителен: «Разве не от тебя я унаследовал склонность к безумным идеям?»146.
Умозрительные статьи Уилера, как правило, посвященные пограничным проблемам, были почти немыслимо абстрактными. Они выглядели столь философскими, что никто не мог представить, как проверить его утверждения с помощью экспериментов.
Какой опыт мог ответить на вопрос «Как возникает реальность?»
Но Уилер не имел желания становиться эзотерическим гуру или псевдоученым. Например, он активно протестовал147, когда на встрече Американской ассоциации за прогресс в науке его поместили в одну секцию вместе с парапсихологами.
Фейнману подобные ассоциации требовались еще меньше, но в 1984-м он выступил с лекцией «Крохотные машины», показавшей обновление его взгляда на нанотехнологии, в институте Эсален в Биг-Сюр, Калифорния, а ведь этот институт был настоящей Меккой для фанатов движения Нью Эйдж. Фейнман принял участие в экспериментах с камерой сенсорной депривации, наблюдал за тем, что в подобных условиях произойдет с его мыслями.
Уилер же променял бы все подобные камеры на тихий, скалистый, уединенный пляж в штате Мэн. Статья под названием «Внутри разума Джона Уилера», опубликованная в сентябрьском выпуске «Ридерс Дайджест» от 1986 года, преувеличила некоторые его взгляды и принесла ему нежеланное внимание со стороны поклонников мистических учений. Статья сообщила, что Уилер нашел связующее звено между наукой и религией, и, само собой, за ней последовали письма от дюжин вероятных последователей со всего мира. Словно он в один миг стал махариши от физики. Уилер не отвечал на послания, полные безумных теорий, и решил игнорировать инцидент.
Хотя энергии в нем еще оставалось достаточно, в возрасте семидесяти пяти он все же решил уйти с должности в университете Техаса. Десять лет в Остине прошли на редкость продуктивно, он исследовал ранее совершенно темную территорию. Но теперь настало время вернуться домой, как Одиссею из дальнего плавания, и это для Уилера означало Восточное побережье, и в особенности район Принстона.
Он нашел подходящее жилье недалеко от университета, получил офис в Джадвин-холле (новое здание, куда поселили всех физиков Принстона) в качестве заслуженного профессора, и в конце февраля 1987-го переехал.
Червоточины как порталы в прошлое
В последние десятилетия карьеры Уилер в публичных выступлениях и статьях упоминал черные дыры много чаще, чем червоточины. Опирался он при этом на видимое, доступное наблюдению, и его рассматривал в качестве лакмусовой бумажки, ведь астрономы обнаружили множество объектов, могущих быть черными дырами, а червоточины оставались гипотетическими конструкциями без реалистического, надежного обоснования. Физические журналы едва о них упоминали.
Тем не менее когда в середине восьмидесятых астроном и писатель Карл Саган спросил у Кипа Торна, знакома ли тому заслуживающая доверия схема межпланетных путешествий (для романа Сагана «Контакт»), Торн решил стряхнуть пыль с гипотезы червоточин и посмотреть, можно ли использовать их в качестве коротких путей. Он привлек к работе своего студента Майкла Морриса, и они представили не крохотные червоточины в пространственно-временной пене (как рисовал их Уилер), а занялись гипотетическими объектами, достаточно большими и стабильными, чтобы через них могли проходить корабли, желающие достичь удаленных районов космоса.
Вскоре Торн и Моррис нашли ключевое условие, при котором такие червоточины становились возможными: нужна материя, предположительно обладающая отрицательной массой. Если использовать такой материал вместе с обычной субстанцией с положительной массой, то можно создавать червоточины достаточно объемные и долгоживущие.
В принципе, космонавт мог войти через «рот» (вход) такого объекта, миновать «глотку» (район соединения) и через второй рот спустя короткое время попасть на другой конец вселенной. Исследователи признавали, что их схема перемещения через червоточины требует технологий, лежащих далеко за пределами наших возможностей. Только невероятно могущественная, продвинутая цивилизация могла бы создать подобные структуры. Более того, не было известно материалов с отрицательной массой. Но несмотря на все это, статья, опубликованная Торном и Моррисом, вызвала значительный интерес среди физиков, занимающихся гравитацией, и послужила источником вдохновения для многих других работ.
Вскоре после завершения первой статьи с Моррисом Торн пригласил другого своего студента, Улви Юртсевера, присоединиться к их работе и сделать второй материал, связанный с путешествием во времени через червоточины. Втроем они показали, как можно манипулировать подобными объектами, чтобы они позволили отправиться в прошлое. Все эти исследования подняли доверие к старым теориям Курта Гёделя о петлях в пространстве, обеспечивающих движение и во времени (требующих вращения вселенной).
В теории относительности путешествия в будущее сравнительно просты. Предположив, что технологические трудности устранены, мы запрыгиваем на звездолет и путешествуем на скорости, близкой к скорости света. Время замедлится, и наши внутренние часы будут идти медленнее, чем у тех, кого мы оставили на Земле. Следовательно, после возвращения мы обнаружим, что родные и близкие постарели сильнее, чем мы. Чем быстрее путешествие, тем сильнее замедление времени, и тем дальше в будущее можно отправиться.
Путешествие в прошлое намного сложнее, ведь необходимо обойти эффект причины и следствия, запустить обратно стрелки часов. Но все же, как продемонстрировала команда Торна, если продвинутая цивилизация сможет создать годную для путешествия через нее червоточину и разогнать один из входов в нее до скорости, близкой к световой, то корабль, прошедший через этот вход, через горловину и другой вход, окажется в прошлом. Схема опирается на замедление времени для первого входа сравнительно со вторым, из-за этого замедления первый уходит дальше в будущее, оставляя второй позади.
Например, предположим, что цивилизация чужаков в нашем 1938-м сконструировала червоточину и ускорила один из ее входов так, что за год по времени червоточины он «прожил» сто лет и оказался по нашему исчислению в 2038-м. Другой вход «постарел» ровно на один год, и следовательно он теперь находится в 1939-м. Представим, что оба входа расположены рядом с Землей, и космонавт-человек может до них добраться и вернуться. Следовательно, отважный путешественник в силах войти в первый «рот» в 2038-м, пройти через горловину и оказаться в 1939-м. Если он вернется там на нашу планету, то сможет посмотреть, как Фейнман знакомится с Уилером.
Если вы читали достаточное количество научной фантастики, то к этому моменту вы наверняка вспомнили о временных парадоксах. Например, что будет, если отправиться в Принстон 1939-го и устроить так, что Ричард стал ассистентом Юджина Вигнера, а не Джона Уилера? Может быть, физика частиц после этого пойдет совершенно иным путем.
Чтобы избежать разрушения истории, Торн и его группа предположили, что путешествия обратно во времени должны быть самодостаточными. Другими словами, все, что произойдет в прошлом, должно совпадать с известным нам ходом событий. Откровенно говоря, вы можете попытаться что-то изменить, но успеха не добьетесь. Ваши выходки в прошлом просто будут куском бетона в огромном здании времени.
Червоточины остаются гипотетической конструкцией, астрономы-наблюдатели куда больше интересуются известными небесными телами и событиями, чем поиском подобных объектов. И одним из самых ярких зрелищ неба является взрыв сверхновой.
Сверхновая Фейнмана
Конец жизни массивной звезды знаменуется грандиозным всплеском светимости. За короткий период времени сверхновая высвобождает колоссальный объем энергии, больше, чем целая галактика. Вспышка состоит из фотонов разных частот, нейтрино, гравитационных волн и материи, выброшенной с поверхности звезды. Фотоны нагревают межзвездный газ в окрестностях и, комбинируясь с выброшенным материалом, он создает красочные остатки сверхновой.
Подобные взрывы – явление нечастое, если мыслить масштабами одной галактики. Такие катастрофические события, произошедшие достаточно близко, чтобы увидеть их с Земли невооруженным взглядом, случаются раз в несколько столетий. Поэтому астрономы оказались воодушевлены, когда 23 февраля 1987-го они отметили вспышку в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути. Через несколько часов после того, как вспышка света достигла нашей планеты, начался дождь из невидимых нейтрино. Для того чтобы улавливать последние, используются размещенные глубоко под землей специальные сооружения, и тот год стал началом эры нейтринной астрономии.
Джо Вебер, собиравший данные в университете Мэриленда, и физик Эдоардо Амальди, работавший в Риме, оценили ситуацию так, что они обнаружили доказательство существования гравитационных волн, источником которых был взрыв. Оба исследователя заявили, что отметили одинаковые сигналы в одно и то же время. Однако другие астрономы возразили, что их инструменты недостаточно чувствительны, и результаты оказались не приняты научным сообществом.
Если бы LIGO уже существовала в то время, ей нашлось бы чем заняться.
Вскоре после взрыва сверхновой, читая начальную лекцию курса физики для первокурсников в Калтехе, Фейнман сказал: «У Тихо Браге была своя сверхновая, у Кеплера – своя. Потом их не видели четыреста лет. А вот теперь у меня есть собственная»148. Вероятнее всего, он имел в виду, что чувствует себя везунчиком, что он застал такое редкое событие, да еще и находясь не так далеко от смерти.
Карьера Фейнмана была не взрывом сверхновой, он постоянно и ярко светил много десятилетий. Но в то время напряжение от возвращающегося, распространяющегося рака начало сказываться. В октябре 1986-го он перенес еще одну операцию, но прежней формы так и не вернул. Всего за несколько лет он значительно постарел, и все же сохранил оптимизм и бодрость духа, он даже не отказался от планов совместного с Лейтоном путешествия в Туву.
Последняя и самая тяжелая операция состоялась в октябре 1987-го.
После удаления значительного количества злокачественной ткани, Фейнмана отказали почки и ему потребовался диализ. После этого для него стало настоящим вызовом поддержание обычной активности, поскольку боли не прекращались, и одолевала слабость. Тем не менее он счел себя обязанным прочитать назначенный ему курс теории элементарных частиц.
Несмотря на операцию, рак вернулся через несколько месяцев и уже в неоперабельной форме. 3 февраля 1988-го Фейнмана в плохом состоянии доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ричард понимал, насколько плохи его дела, поэтому он отказался от дополнительного лечения, попросил только о комфортабельном завершении жизни. Фейнман чувствовал, что уже сделал все, что мог, для мира, и более долгая жизнь не имела смысла. Только что был завершен второй том его юмористических воспоминаний – первый сразу стал бестселлером – и это сфокусировало его мысли на прошлом.
К нему в больницу пришли Жирайр Зортян с женой, и Фейнман, обычно насмешливый, чувствовал слишком сильную боль. Вернулись воспоминания о последних годах Арлайн, настолько яркие, что Ричард заплакал. Зортян только и смог, что попрощаться со старым другом, но тот сумел справиться с эмоциями и пожелать гостям «неплохо повеселиться».
Через несколько дней, 15 февраля 1988-го, Фейнман провел свои последние часы с Гвинет, сестрой Джоан и двоюродным братом Френсисом Левиным. Как стало известно, вице-президент Академии наук СССР149 только что прислал Ричарду приглашение посетить СССР и Туву, но оно пришло слишком поздно.
После визита Зортянов Фейнман то впадал в забытье, то выходил из него, и в очередной короткий период прояснения, едва имея силы говорить, он медленно прошептал: «Мне бы не понравилось умирать дважды. Это так скучно»150.
В тот день студенты Калтеха повесили большой баннер на высоком здании библиотеки Милликана: «Мы любим тебя, Дик». Он был для них легендой, героем, Гудини от науки, и, возможно, они надеялись, что он неким магическим образом разорвет путы времени и появится в кампусе здоровым, как он однажды по волшебству очутился на сцене мюзикла.
Если бы только кто-то сумел раскрыть секрет выживания вопреки всему…
Как возникает бытие?
Откуда берется существование? Как приходит смерть?
Почему время Фейнмана на земле так быстро закончилось?
В последние свои десятилетия Уилер столкнулся с отрезвляющим пониманием того факта, что он пережил большинство своих учеников. Хью Эверетт умер в 1982-м от сердечного приступа в возрасте пятидесяти одного года, но он по меньшей мере увидел, что его работа признана (благодаря Девитту). С тех пор многомировая интерпретация стала еще более популярной из-за интереса к ней медиа, вспомнить только документальный фильм ББС «Параллельные жизни, параллельные миры».
Питер Путнам, с которым у Уилера были хорошие дружеские отношения, оставил физику вскоре после защиты диплома. Некоторое время он преподавал философию в Объединенной теологической семинарии, затем переехал в Хауму (Луизиана), чтобы помогать бедным семьям в получении юридической помощи, а по ночам работал сторожем. Естественно, сам он обеднел, а в 1987 году во время прогулки на велосипеде Питера насмерть сбил пьяный водитель. За много десятилетий до этого события мать Питера, Милдред Путнам, пожертвовала Принстону изумительную коллекцию скульптур, большей частью чтобы почтить память ее другого сына (он погиб на войне), но и в благодарность за доброту Уилера. Мемориальная коллекция Джона Б. Путнама-младшего до сих пор украшает кампус.
Уилер часто думал об ушедших, а уж о Фейнмане у него было огромное количество приятных воспоминаний. Тем не менее он оставался бодрым и ценил то время, что осталось ему в этом мире, и получал удовольствие от общения с Джанет, детьми и внуками. Его активность в физическом сообществе не падала, он посещал конференции, писал статьи и встречался с молодыми исследователями.
Уилер делил время между Принстоном, где с помощью ассистента, Эмили Беннет, работал в офисе как профессор в отставке, и Хай-Айленд, Мэн, своим летним убежищем, где собиралась вся семья. Тихо и щедро он помогал тем, кто занимается историей физики, и продолжал общаться со многими из бывших студентов, особенно с Кеном Фордом. В соавторстве они написали автобиографию Джона.
Достигнув девяностолетнего возраста, Уилер решил, что нужно немножко замедлить темп и сконцентрировать усилия на более важных делах. Он сосредоточился на вопросе «Откуда возникает бытие?», осознавая, что простого ответа тут быть не может. И даже когда здоровье его начало слабеть (сердечный приступ поразил Уилера в 2001-м), он раз или два в неделю являлся в офис, чтобы прочесть письма, узнать новости из области физики и поработать самому.
Утром 13 апреля 2008 года, тихим весенним воскресеньем, Джон Арчибальд Уилер мирно умер в своем доме после воспаления легких. Некролог в «Нью-Йорк Таймс» процитировал слова Фримена Дайсона: «Поэтический Уилер подобен пророку, что стоит как Моисей на вершине горы, глядя на обетованную землю, которую его люди унаследуют в один день»151.
Заключение Путь через лабиринт
Слово «время» не было передано с небес как дар свыше. Идея времени и само слово изобретены человеком – и если есть загадки, с ним связанные, то чья в том вина? Это наша вина.
Джон. А. Уилер. Цитата из фильма «Краткая история времени» (1991)Ты – лабиринт узких изгибающихся проходов, и все они разные.
Colossal Cave Adventure (ранняя интерактивная компьютерная игра Уилла Кроутера и Дона Вудса)Как появляется заключение? Почему мы завершили нашу книгу последней главой?
Что это говорит о природе времени?
Во многих древних культурах конец всегда был одновременно и началом, саги рассказывали снова и снова, дословно, поколение за поколением слушателей; смерть всегда вела к новому рождению.
Ритмы повседневной жизни и движение знакомых нам астрономических тел, таких как Солнце, Луна и планеты, наводят на мысль, что время циклично, что одни и те же шаблоны повторяются снова и снова, и результат их предсказуем. Знание того, что будет, выглядит успокаивающим, и ничего удивительного, что многие люди любят ритуалы, начиная от религиозных церемоний и заканчивая ежегодными праздниками.
Циклическое время успокаивает, линейное же представляет сулящий награду вызов. Того, кто добрался до конца книги, ждет определенная веха: конец усилиям. Линейная история с введением, основной частью и заключением обеспечивает ощущение порядка и цели.
Есть много стрел времени: существует космологическая стрела времени, связанная с расширением вселенной, термодинамическая стрела неуменьшающейся энтропии, эволюционная стрела увеличения сложности, стрела контура распада при слабом взаимодействии, психологическая стрела сознания и т. д. Но остается загадкой, как связаны между собой все эти стрелы.
Циклическое против линейного – традиционное противопоставление, когда речь идет о времени. Философские соображения заставляют многих мыслителей выбрать одно из двух – например, в дебатах по поводу того, было ли время до Большого взрыва или даже сам Большой взрыв. Но по большому счету ученые предпочитают строить свои модели на основе доказательств, а не на умозрительных выкладках. Природа (по меньшей мере на знакомом нам, классическом уровне) показывает наличие как того, так и другого: некоторые процессы повторяются, другие являются однонаправленными. Сегодня мы имеем третий взгляд на время: как на лабиринт из миллиардов возможностей. В современную информационную эпоху с Интернетом и гипертекстом мы оказались в лабиринте бесконечной сложности.
Работы Хорхе Луи Борхеса, Филипа Дика и многих других писателей представляют время как калейдоскоп альтернативных реальностей, взаимодействующих друг с другом. Каждый день мы совершаем огромное количество актов выбора онлайн, и понимаем, пусть даже в литературном смысле, что мы навеки потеряны в саду расходящихся тропок.
Интернет, обладающий лабиринтоподобной структурой, может служить эмблемой того, что наука двигается в сторону параллелизма, оставив позади цикличность и линейность. Ключевая идея в том, что нет определенности для любого объекта – перемещаться ему по кольцевой, прямой или изогнутой траектории, но каждый компонент системы должен взаимодействовать с другими всяким возможным путем.
Столько вариантов…
Только законы сохранения и другие физические ограничения, например постоянство электрического заряда, сдерживают подобные взаимодействия. Иногда, правда, их пересматривают в соответствии с экспериментальными данными, и это требует размышления о том, как налагать новые ограничения.
В конечном итоге появляется нить Ариадны, с помощью которой можно пройти через лабиринт возможностей: организующий принцип. Такой механизм отбора открывает оптимальный маршрут через реальность вероятностей, и иногда, например, в классической физике, он один, определенный конкретным образом, но в других случаях, как в квантовой физике, это набор пиков на диаграмме распределения вероятностей.
Если взять чтение, книга – с введением, основной частью, и да, с заключением – может служить организующим принципом для темы, на которую она написана. Выборы, сделанные автором (-ами), редактором (-ами) и др. создают линейное повествование, которое служит путеводителем через громадный лабиринт информации.
Как Ричард Фейнман понял еще в молодые годы, прототипом для всего этого является оптика. Простыми словами, мы представляем, что свет путешествует по прямой, отражается от зеркал и изгибается в линзах, поскольку он всегда сфокусирован в виде тонкого луча. Но если мы не имеем дело со специально настроенным лазерным лучом, то реальная картина выглядит иначе. Фейнмановское прочтение принципа наименьшего времени Ферма помогло ему догадаться, что каждый луч – не более чем хребет на вершине невидимой горной цепи интерферирующих волновых паттернов. Наименьшее время как организующий принцип приносит порядок в мешанину световых волн в пространстве, и результатом становятся световые лучи.
Фейнман блестяще приложил тот же концепт лабиринта взаимодействующих компонентов – в рамках законов сохранения и организующего принципа – к области элементарных частиц. Как он описал свою общую методологию, выступая в Эсалене: «Моя игра очень интересна. Это воображение в жестких рамках. Позволяется лишь то, что согласуется с известными законами физики»152.
Джон Уилер восхищался, что интеграл по траекториям Фейнмана заключает в себе сущность диапазона квантовых вероятностей, сводимых к определенному результату, связывая квантовое и классическое непредсказуемым образом. В то время как частицы и поля взаимодействуют любым способом, который физически возможен, взвешенные суммы серий их контактов производят то, что мы реально видим.
Поддержка Уилера вдохновила других великих физиков, таких как Брайс Девитт и Чарльз Мизнер, изучить возможные модели квантовой гравитации. Вопросы, поднятые Уилером по поводу квантовых измерений, сподвигли Хью Эверетта на разработку его многомировой интерпретации, где наблюдатели раскалываются вместе с системой, за которой они наблюдают.
Диаграммы Фейнмана, описывающие возможности интеграла по траекториям, стали полезным инструментом для современных теоретиков. Расширенные на слабое и сильное взаимодействие точно так же как на электромагнетизм, они оказались полезными в развитии Стандартной модели в физике частиц. Стандартная модель, с ее исчерпывающим описанием взаимодействия между силами (исключая гравитацию) и известными материальными компонентами природы, является одной из наиболее успешных схем всех времен.
На протяжении всей жизни Уилер хотел понять наиболее фундаментальные компоненты космоса. Он менял свой подход несколько раз за карьеру, начав с частиц, затем перейдя к полям и геометрии, и, в конце концов, погрузившись в теорию информации. Он хотел понять и организационные принципы, движущие эти компоненты по определенным шаблонам. Интеграл по траекториям, основанный на принципе наименьшего действия, приложенном к квантовой физике, оказался подходящей идеей, но он рассматривал и другие. В конечном итоге он остановился на том, что ответ может дать «контур самовозбуждения»: симбиоз между разумными наблюдателями и тем, что они наблюдают, а именно, прошлым космоса. Неким образом, глядя на то, что происходило когда-то, мы организовали вселенную, извлекли из квантовой пены и сделали такой, какая она есть. Следовательно, с точки зрения Уилера, вопросы «Как возникает бытие?» и «Как возникает квант?» оказались сложным образом связаны.
Сегодня, когда мы превозносим Стандартную модель, мы признаем ее ограничения и хотим за них выйти. Одно из ее упущений просто зияет: она не включает темную материю и темную энергию, невидимые компоненты вселенной, теоретически найденные в последние годы жизни Уилера, но так и не идентифицированные. Темная материя – скрытый «клей», сохраняющий галактики нетронутыми и собирающий их в кластеры.
Вера Рубин, учившаяся в Корнелле в конце сороковых, слушавшая лекции Бете и Фейнмана, выяснила, что такой компонент необходим, еще в шестидесятых-семидесятых, когда вместе с Кентом Фордом изучала вращение галактик в институте Карнеги в Вашингтоне. Оценив несколько спиральных галактик, Рубин и Форд открыли, что звезды в их внешних областях вращаются вокруг центра намного быстрее, чем можно ожидать, если учитывать только видимую материю. Впоследствии в исследование включили больше галактического материала, и дальнейшие наблюдения подтвердили наличие во вселенной темной материи, но не помогли ее найти.
Темная энергия, неизвестное топливо ускоряющегося расширения космоса, является другой великой тайной науки. Как обнаружили две группы исследователей в конце девяностых, вселенная не просто расширяется после Большого взрыва, но скорость этого расширения постоянно растет. В 2011 году руководители этих групп – Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рисс – получили Нобелевскую премию по физике за данное открытие.
Никто не знает, что заставляет пространство расширяться со все возрастающей скоростью. Ученые не уверены, будет ли она увеличиваться, уменьшаться или останется прежней. Любопытно, но космологическая постоянная, отброшенная Альбертом Эйнштейном после того, как в 1929 году Эдвин Хаббл открыл, что галактики убегают друг от друга, прекрасно соответствует схеме с учетом темной энергии.
В настоящий момент продолжаются исследования по обнаружению компонентов темной материи и темной энергии. Если ученые смогут определить составляющие того и другого, то им, вероятно, придется модифицировать Стандартную модель. «Кирпичиками» темной материи могут быть аксионы, гипотетические частицы, предложенные физиком Фрэнком Вильчеком, чтобы объяснить, почему сильное взаимодействие, в отличие от слабого, обладает инвариантностью заряд-пространство, и суперсимметричные компаньоны стандартных частиц. Определенные гипотетические расширения Стандартной модели, принятые, чтобы представить низкоэнергетические пределы теории суперструн, предсказывают последний вариант. Природа темной энергии еще сложнее, и заслуживающих доверия гипотез тут немного.
Другая загадка, оставшаяся со времен Фейнмана, Уилера и Девитта – почему гравитация столь нетипична? Почему она намного слабее, чем другие взаимодействия? Как можно описать ее математически последовательно, используя методы квантовой теории поля? Сейчас чаще всего пытаются ее решить, создав унифицированное описание всех взаимодействий, в рамках так называемой М-теории, обобщения теории струн, включающего вибрирующие энергетические мембраны наряду с различными конфигурациями струн (суперсимметричных и не суперсимметричных). Вместо точечных частиц ее фундаментальными частицами являются струны и мембраны масштаба планковской длины, взаимодействующие друг с другом различными способами. Математически достоверным все это выглядит только в пространстве с десятью или одиннадцатью измерениями, и по меньшей мере шесть из них свернуты в похожие на крендели формы, именуемые «пространствами Калаби-Яу».
Теоретики модифицировали диаграммы Фейнмана, чтобы принять в расчет взаимодействия в подобных многомерных пространствах.
Главной проблемой М-теории является то, что она предлагает умопомрачительный набор возможностей для свойств ее компонентов и способов, как пространство Калаби-Яу может быть свернуто. Для последнего некоторые ученые выдают оценку около 10500 (десять, за которым следует пятьсот нулей) возможностей: безумно сложный лабиринт, лежащий далеко за пределами ночных кошмаров Борхеса. Сужение «ландшафта» М-теории так, чтобы он включал только реальность и ничего больше – устрашающий процесс, требующий невероятно строгих правил отбора. Физик из Стэнфорда Леонард Сасскинд, друг Фейнмана, предлагал использовать антропный принцип для решения задачи, другие сомневались, что он окажется достаточно сильным, чтобы исключить такое количество альтернатив.
Родственной умозрительной идеей является концепт «мультиверсума», ансамбля из более чем одной вселенной. В отличие от многих миров Эверетта, мультиверсумы существуют в физическом пространстве, пусть даже и в областях, которые мы не можем наблюдать. Модель появилась в восьмидесятых, когда физик Андрей Линде предложил теорию «хаотической инфляции». В этой схеме, которая представляет собой вариацию более ранней модели раздувающейся вселенной Алана Гута, мироздание начиналось как почва для случайных квантовых флюктуаций в том, что именуется «скалярным полем». Особенно успешные флюктуации производят семена вселенных-пузырьков, которые переживают сверхбыстрые интервалы расширения, называемые «эрами инфляции». Растягивание космоса с невероятной быстротой помогает сгладить температурные различия, и оно же объясняет однородность фонового космического излучения, решая проблему, поднятую Мизнером, когда он работал над своей вселенной «Миксмастера».
Идея мультиверсума создает многие странные возможности. Например, в другом пузырьке-вселенной может случайным образом появиться планета, идентичная Земле, но с небольшими отличиями, ну, скажем, где Джона Кеннеди не убили в 1963-м.
Отметим, что нам не нужно много пузырьков-вселенных, чтобы представить аналог или почти аналог Земли, с этой задачей вполне справляется бесконечная единая вселенная. Чем больше планет во вселенной, тем больше шансы, что где-то возникнет копия нашей родной планеты.
Может быть, другая ваша версия в данный момент заканчивает читать эту книгу.
Поздравления всем вам!
Теперь мы достигли заключения в заключении – конечной точки нашего путешествия через время и пространство. Наша охота за призраками прошлого потребовала много изгибов и поворотов, включая встречи с альтер-эго «Джеоном Уилером», «Джоном Вилером», «Р. Финниманом» и знаменитым «Мистером Икс». Мы столкнулись с игроками на бонго, художниками, солипсическими электронами и супругой, ненавидевшей математику. Мы поспали рядом с роскошными отелями и внутри потрепанных, ну а число «диких идей», с которыми мы столкнулись, может ужаснуть.
Но все это время мы придерживались надежного руководящего принципа: интеграл по траекториям говорит нам, что не важно, насколько странным выглядит наш путь через пространство-время, существует много других, еще более причудливых.
Эпилог Встречи с Уилером
Два героя этой книги живут в памяти тех, кто с ними работал и жил, учился у них и сталкивался с ними иным образом. Сотни студентов прошли курс «Физика Икс», который Фейнман читал в Калтехе, и все помнят его яркую, необычную манеру изложения и теплое отношение. Многие участвовали в постановках вместе с ним или, по крайней мере, видели, как он играл на барабанах, облачившись в дурацкий костюм. Миллионы созерцали его на экранах ТВ.
Я никогда лично не встречался с Фейнманом, но несколько раз видел выступления Джона Уилера. Я вспоминаю доклад, с которым он появился в Американском физическом обществе, и когда он заговорил о смерти своего брата Джо, то голос его дрогнул, и слезы показались на глазах. Гибель брата всегда была для него одним из самых болезненных воспоминаний.
В другом случае меня пригласили на академическое празднование девяностолетия Уилера, озаглавленное «Наука и предел реальности». Спонсировал это мероприятие фонд Джона Теплтона, и состоялось оно около Принстона в начале 2002 года. Список выступающих выглядел феноменально, перекрывая весь набор интересов юбиляра за его долгую и продуктивную карьеру. Одним из светил был Брайс Девитт, подробно рассказавший о многомировой интерпретации. Позже я увидел, как он разговаривал на французском с женой Сесиль. Мне кажется, что это одна из последних конференций, которую они посетили вместе, поскольку Девитт умер двумя годами позже. Большое число выдающихся молодых физиков – Лиза Рэндалл, Хуан Мальдасена, Ли Смолин, Макс Тегмарк и многие другие – рассказывали о своих исследованиях. Доклады и последующие дискуссии Уилер слушал, сидя в первом ряду153, и принимал участие в обсуждениях.
Позже в том же году я получил грант на изучение истории теорий многомерности в физике. Когда я решил взять интервью у знаменитых ученых, у тех, кто мог быть знаком с такими теориями, мне на ум пришло имя Уилера. Я написал ему письмо и пообщался с его другом, сотрудником и бывшим студентом Кеном Фордом. Тот помог мне организовать встречу с Уилером, который все еще появлялся в офисе в Принстоне.
Перспектива получить несколько часов его времени меня взбудоражила.
Меня заранее предупредили, что память Уилера уже не та, что раньше, но во время нашей беседы он вспоминал все без проблем. Он рассказал о том, каков был Альберт Эйнштейн в качестве соседа, и как сам Уилер водил к нему собственных студентов. Упомянул, как пытался убедить австрийца, что интеграл по траекториям Фейнмана делает квантовую теорию более приемлемой, но Эйнштейн так и остался в оппозиции.
Более забавным получился рассказ, как кот Уилеров однажды забрался к соседу в дом. Эйнштейн позвал Джона, а когда тот забирал животное, то поинтересовался у кота, что именно тот узнал об общей теории относительности.
Тонкое чувство юмора Уилера было просто чудесным, и когда я похвалил его книгу «Гравитация» (в соавторстве с Чарльзом Мизнером и Кипом Торном), он подарил мне экземпляр на китайском. «Ну, вот шанс развить свой ум. Вы читаете на английском. Теперь вы можете читать на китайском»154, – сказал он с ехидной улыбкой.
Я мог понять, почему студенты и коллеги Уилера так сильно любили и уважали его. Он был обаятельным и тактичным, исключительно вежливым и замечательно находчивым. Он напряженно думал о том, как прожить жизнь, одновременно полнокровную для себя самого и полезную другим.
Встреча с ним оказалась магическим трансформирующим опытом, вдохновляющим и оживляющим, ведь в тот момент его научные интересы сходились к значению жизни, к ответу на вопрос «Как возникает бытие?»
Уилер тогда как раз получил премию Эйнштейна за достижения в физике гравитации, он разделил ее с Питером Бергманном. Он позвонил Бергманну, чтобы поздравить, и оставил сообщение, но до того, как они смогли поговорить, Питер умер.
Я не был уверен, что когда-либо увижу Уилера снова, но, к счастью, появилась еще одна возможность. В июне 2004 года в Филадельфии состоялось «Большое ничто», праздник в честь пустоты и существования. Это была область Уилера. Группа художников из галереи Тайлера в Темпльском университете решила построить свое шоу на работах Джона, и назвали они его «Вселенная Миксмастер». Такая идея меня заинтересовала, и я вызвался принять участие с биографическим эссе об Уилере. Я указал, что Мизнер придумал «вселенную Миксмастер» и предложил, чтобы его тоже пригласили. Он посмотрел шоу и был заинтригован набором художественных интерпретаций его и Уилера работ.
Совсем недавно я встретился с докторами Джейми и Дженетт Уилер (сыном и невесткой Уилера), сначала на докладе научного писателя Аманды Гефтер и затем на дискуссии о Фейнмане, которую я вел в театре «Лантерн» после того, как они поставили «QED» в виде пьесы. В последнем случае Джейми живо рассказал о том, как Фейнман развлекал их с помощью банки консервированного супа.
История всегда выглядит более живой, когда ее пересказывают непосредственные свидетели.
Я всегда буду с радостью вспоминать тот разговор с Джоном Уилером и другие встречи с ним и его коллегами. Его дух осеняет жизни всех, кто соприкасался с его озарениями, разумом, поддержкой или общим великодушием.
Благодарности
Я бы хотел поблагодарить преподавателей, вспомогательный персонал и администрацию университета Сайнесиз в Филадельфии за их поддержку в данном проекте. Отдельное спасибо Полу Катцу, Сюзанне Мерфи, Элии Эшенази, Роберто Рамосу, Питеру Миллеру, Кевину Мерфи, Сэму Тэкотту, Джастину Эверетту и Джиму Каммингсу за полезные замечания и поддержку.
Я ценю помощь, оказанную мне семьями Уилера и Фейнмана, в том числе Джеймсом Уилером, Летицией Уилер Аффорд, Элисон Уилер Лэнстон, Карлом Фейнманом, Мишель Фейнман и Джоан Фейнман, и благодарен за позволение опубликовать избранные места из личной переписки. Я очень благодарен за творческие замечания Фримена Дайсона, Чарльза Мизнера, Вирджинии Тримбл, Джайанта Нарликара, Лори Браун, Ширли Марнеус, Сесиль Девитт-Моретт, Курта Готтфрида, Кеннета Форда и Линды Дэлримпл Хендерсон. Спасибо также Бетси Дивайн, Френку Вилчеку, Алану Ходосу, Дину Риклсу и Крису Девитту. Я в долгу перед Джоном Уилером и Брайсом Девиттом за интервью, взятые у них в 2002 году.
Спасибо литературному сообществу, всем историкам науки, научным писателям, кто ободрял меня во время работы, включая Майкла Майера, Роберта Йанцена, Питера Пешича, Дэвида Джексона, Грегори Гуда, Дэвида Кэссиди, Дона Ховарда, Алекса Веллерштайна, Роберта Ромера, Джозефа Мартина, Камерона Рида, Роберта Криза, Кэтрин Вестфалл, Маркуса Чауна, Грэхама Фармело, Тансима Зехра Хусаина, Джона Хайлброна, Джеральда Холтона, Роджера Стувера, Джино Сегре, Джо Алисон Паркер, Тони Кристи, Кэйт Бекер, Кори Паэлла, Этана Сигеля, Дэйва Голдберга, Ритера Роза, Грега Лестера, Митчелла и Венди Кальтц, Марка Сингера, Симону Зелич, Дуга Буххольца, Ванса Лемкуль, Джона Ашмеда, Теодору Ашмед, Дэвида Зитарелли, Питера Смита, Роланда Орсабаля, Майкла Кросса и Лизу Тенцин-Долма. Я благодарен Аманде Гефтер за вдохновляющую лекцию об Уилере, прочитанную в Американском философском обществе. Спасибо Виктории Карпентер за полезные дискуссии и консультации по поводу природы времени в латиноамериканской литературе.
Я сильно обязан Крэйгу Геттингу и К. К. Мак-Миллану из театра «Лантерн» в Филадельфии за то, что они предоставили мне возможность быть научным консультантом при подготовке пьесы «QED» и пригласили на последовавшую за постановкой дискуссию о Фейнмане. Я также благодарен галерее Тайлера при Темпльском университете за приглашение в качестве научного консультанта на выставку в честь Джона Уилера. Выражаю благодарность Американскому философскому обществу за доступ к бумагам Джона Уилера, к архиву и библиотеке Нильса Бора; Американскому институту физики за доступ к их коллекциям, и архивам Калифорнийского технологического института за доступ к бумагам Ричарда Филипса Фейнмана.
Этот проект был бы невозможен без экстраординарной работы редакторов «Бейсик Букс», включая Т. Дж. Келлехер, Хелен Бартелми, Колин Трэйси, Джен Келланд и Кья До. Я благодарен моему фантастическому агенту Джайлсу Андерсону и Anderson Literary Agency за помощь и постоянную поддержку.
Я ценю любовь и поддержку моей семьи и друзей, включая моих родителей Стэнли и Бернис Халперн, а также Джозефа и Арлеин Финстон, Шару Эванс, Лэйн Гуревитц и Джилл Берштейн. Благодарности Майклу Элричу и Фреду Шупферу за их дружеское ободрение. И сверх всего огромное спасибо моей жене Фелиции за ее ценные, полезные замечания, и моим сыновьям, Эли и Адену, за их вдохновляющую изобретательность.
Библиография
1. Гефтер, Аманда «На лужайке Эйнштейна. Что такое НИЧТО, и где начинается ВСЕ». М.: АСТ, 2016.
2. Дирак, Поль «Принципы квантовой механики». Перевод 4-го изд. М.: Наука, 1979.
3. Мах, Эрнст. Механика. Историко-критический очерк ее развития. Ижевск: Ижевская республиканская типография, 2000.
4. Мизнер, Чарльз; Торн, Кип и Уилер, Джон. Гравитация. М.: Мир, 1977.
5. Млодинов, Леонард. Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни. М.: Гаятри/Livebook, 2014.
6. Фейнман, Ричард. КЭД – странная теория света и вещества. М.: Астрель, 2012.
7. Фейнман, Ричард. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! М: КоЛибри, 2008.
8. Хэлперн, Пол. Играют ли коты в кости? Эйнштейн и Шрёдингер в поисках единой теории мироздания. СПб.: Питер, 2016.
9. Bartusiak, Marcia. ”How an Idea Abandoned by Newtonians, Hated by Einstein, and Gambled on by Hawking Became Loved”, New-Haven, CT, Yale University Press, 2015.
10. Bernstein, Jeremy. “What Happens at the End of Things?”, Alcalde 74 (November/December 1985) 4–12.
11. Boslough, John. “Inside the Mind of John Wheeler”, Reader’s Digest (September 1986) 106–110.
12. Brown, Julian. “Minds, Machines and the Multiverse”, New-York, Simon and Schuster, 2000.
13. Brown Laurie M. and John S. Rigden. “Most of the Good Stuff”: Memoirs of Richard Feynman, Washington, DC: American Institute of Physics, 1993.
14. Byrne, Peter. “The Many Worlds of Hugh Everett III. Multiple Universes, Mutual Assured Destruction, and the Meltdown of a Nuclear Family”, New-York, Oxford University Press, 2013.
15. Carpenter Victoria and Paul Halpern. “Quantum Mechanics and Literature: An Analysis of El Tunel by Ernesto Sabato”, Ometeca 17 (2012) 167–187.
16. DeWitt-Morette, Cecile. “The Pursuit of Quantum Gravity: Memoirs of Bryse DeWitt from 1946 to 2004”, New-York, Springer, 2011.
17. Dresden, Max. “H. A. Kramers: Between Tradition and Revolution” New York: Springer Verlag, 1987.
18. Dyson, Freeman J. Disturbing the Universe. New York: Basic Books, 1981.
19. Everett, Justin and Paul Halpern. “Spacetime as a Multicursal Labyrinth in Literature with Application to Philip K. Dick’s The Man in the High Castle.” KronoScope 13, no. 1 (2013).
20. Farmelo, Graham. The Strangest Man: The Hidden Life of Paul Dirac, Mystic of the Atom. New York: Basic Books, 2009.
21. Feynman, Richard P. Classic Feynman: All the Adventures of a Curious Character, ed. Ralph Leighton. New York: W. W. Norton & Company, 2006.
22. Feynman, Richard P. Feynman’s Thesis: A New Approach to Quantum Theory, ed. Laurie M. Brown. Singapore: World Scientific, 2005.
23. Feynman, Richard P. Perfectly Reasonable Deviations (from the Beaten Track). ed. Michelle Feynman. New York: Basic Books, 2006.
24. Feynman, Richard P. The Quotable Feynman, ed. Michelle Feynman. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.
25. Feynman, Richard P. “What Do You Care What Other People Think?”: Further Adventures of a Curious Character, ed. Ralph Leighton. New York: W. W. Norton & Company, 2001.
26. Ford, Kenneth W. Building the Bomb: A Personal History. Singapore: World Scientific, 2015.
27. Gefter, Amanda. “Haunted by His Brother, He Revolutionized Physics.” Nautilus, January 16, 2014, -by-his-brother-he-revolutionized-physics.
28. Gleick, James. Genius: The Life and Science of Richard Feynman. New York: Vintage, 1993.
29. Gribbin, John, with Mary Gribbin. Richard Feynman: A Life in Science. London: Penguin Books, 1997.
30. Halliwell, J. J., J. Perez-Mercader, and W. H. Zurek, eds. The Physical Origins of Time-Asymmetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
31. Halpern, Paul. The Great Beyond: Higher Dimensions, Parallel Universes, and the Extraordinary Search for a Theory of Everything. Hoboken, NJ: Wiley, 2004.
32. Halpern, Paul. “Time as an Expanding Labyrinth of Information.” KronoScope 10, nos. 1–2 (2010): 64–76.
33. Halpern, Paul. Time Journeys: A Search for Cosmic Destiny and Meaning. New York: McGraw-Hill, 1990.
34. Husain, Tasneem Zehra. Only the Longest Threads. Philadelphia: Paul Dry Books, 2014.
35. Kaiser, David. Drawing Theories Apart: The Dispersion of Feynman Diagrams in Postwar Physics. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
36. Krauss, Lawrence M. Quantum Man: Richard Feynman’s Life in Science. New York: W. W. Norton & Company, 2012.
37. Leighton, Ralph. Tuva or Bust! Richard Feynman’s Last Journey. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
38. Mehra, Jagdish. The Beat of a Different Drum: The Life and Science of Richard Feynman. New York: Oxford University Press, 1994.
39. Schweber, Silvan S. QED and the Men Who Made It: Dyson, Feynman, Schwinger, and Tomonaga. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
40. Sykes, Christopher, ed. No Ordinary Genius: The Illustrated Richard Feynman. New York: W. W. Norton & Company, 1994.
41. Weisskopf, Victor. The Joy of Insight: Passions of a Physicist. New York: Basic Books, 1991.
42. Wheeler, John Archibald. “Time Today.” In The Physical Origins of Time-Asymmetry, edited by J. J. Halliwell, J. Perez-Mercader, and W. H. Zurek, 1–29. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
43. Wheeler, John Archibald, with Kenneth W. Ford. Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics. New York: W. W. Norton & Company, 2000.
44. Yourgrau, Palle. A World Without Time: The Forgotten Legacy of Gödel and Einstein. New York: Basic Books, 2004.
Примечания
ВВЕДЕНИЕ
1 Джон А. Уилер, цитата из Кристофер Сайкс «Неординарный гений: иллюстрированный Ричардом Фейнманом» (New York: W. W. Norton & Company, 1994), с. 44.
2 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Пионер мысли» Дика Стэнли (Austin American-Statesman, 8 февраля 1987).
3 Интервью Ричарда Фейнмана, взятое Чарльзом Вайнером 5 марта 1966 г., Niels Bohr Library & Archives, American Institute of Physics (AIP).
4 Ричард Ф. Фейнман, «Классический Фейнман: все приключения любопытного характера» (New York: W. W. Norton, 2006), с. 60.
5 Ч. П. Сноу. «Физики» (Boston: Little Brown and Company, 1981), с. 143.
6 «Призы, врученные в области математики», New York Times, 19 мая 1935 г.
7 Фейнман, «Классический Фейнман», с. 325.
8 Мелвилл Фейнман, по словам Ричарда Фейнмана, «Неординарный гений», с. 39.
9 Ральф Лейтон, интервью в «Загадки побуждают физиков с наклонностью к исследованиям» Уоррена Е. Лири, Sunday Telegraph, 13 апреля 1986 г.
10 Джон Уилер, цитата из «Внутри разума Джона Уилера» Джона Бослоу, Reader’s Digest, сентябрь 1986, с. 107.
11 Джеймс Глейк. «Гений: жизнь и наука Ричарда Фейнмана» (New York: Vintage, 1993), с. 27.
12 Джон Арчибальд Уилер и Кеннет У. Форд. «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике» (New York: W. W. Norton & Company, 2000), с. 81–82.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
13 Интервью Джона Уилера Томасу С. Куну и Джону Л. Хейлброну 24 марта 1962 г. Niels Bohr Library & Archives, AIP.
14 Интервью Ричарда Фейнмана Чарльзу Вайнеру 5 марта 1966 г., Niels Bohr Library & Archives, AIP.
15 Ричард Ф. Фейнман к Люсиль Фейнман, 11 октября 1939 г., в Ричард Ф. Фейнман «Идеальные разумные отклонения (от проторенной дороги)» (New York: Basic Books, 2006), с. 2.
16 Джон А. Уилер, интервью, взятое автором в Принстоне 5 ноября 2002 г.
17 Чарльз Мизнер, телефонное интервью, взятое автором, 6 декабря 2015 г.
18 Интервью Ричарда Фейнмана Чарльзу Вайнеру 5 марта 1966 г., Niels Bohr Library & Archives, AIP.
19 Ричард Ф. Фейнман. «Классический Фейнман: все приключения любопытного характера» (New York: W. W. Norton & Company, 2006), с. 44, 60.
20 Кристофер Райли. «Джоан Фейнман: от северных сияний до антропологии», в «Страсть к науке: рассказы об открытиях и изобретениях» (London: FindingAda, 2015).
21 Джоан Фейнман, устное сообщение автору, 23 декабря 2015 г.
22 Джеймс Уилер, телефонное интервью автору, 31 октября 2015 г.
23 Летиция Уилер Аффорд, телефонное интервью автору, 31 октября 2015 г.
24 Элисон Уилер Лэнстон, телефонное интервью автору, 31 октября 2015 г.
ГЛАВА ВТОРАЯ
25 Герман Минковский, обращение, посвященное Восьмидесятой ассамблее немецких натуралистов и физиков, 21 сентября 1908 г.
26 Альберт Эйнштейн к Веро и Байсе Бессо, 21 марта 1955, цитата из Альбрехт Феслинг «Альберт Эйнштейн» (New York: W. W. Norton & Company, 1997), с. 741.
27 Сообщено Ричардом Ф. Фейнманом Ральфу Лейтону. «Классический Фейнман: все приключения любопытного характера» (New York: W. W. Norton & Company, 2006), с. 67.
28 Арлайн Гринбаум Ричарду Фейнману, в Ричард Ф. Фейнман «Идеальные разумные отклонения (от проторенной дороги)» (New York: Basic Books, 2006), с. 7.
29 Поль Дирак. «Лагранжева переменная в квантовой механике», Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion 3, № 1 (1933), с. 64–72. Перепечатано в «Диссертация Фейнмана: новый подход к квантовой теории» (Singapore: World Scientific, 2005), с. 113–121.
30 Кеннет У. Форд, письмо автору, 28 декабря 2015 г.
31 Джон А. Уилер, интервью, взятое автором в Принстоне 5 ноября 2002 г.
32 Джон Арчибальд Уилер и Кеннет У. Форд. «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике» (New York: W. W. Norton & Company, 2000), с. 182.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
33 Джон А. Уилер Ричарду Ф. Фейнману, 26 марта 1942 г., бумаги Ричарда Фейнмана, архив Калифорнийского технологического института.
34 Ханс Бете, цитата по «Ханс Бете: пророк энергии» Джереми Бернштейна (New York: Basic Books, 1979), с. 61.
35 Стефан Груэ. «Проект «Манхэттен»: нерассказанная история создания атомной бомбы» (Boston: Little Brown and Co., 1967), с. 202.
36 Ли Эдисон. «Человек от науки на все времена», New York Times, 10 марта 1966 г.
37 Роберт Оппенгеймер Рэймонду Бирджу, ноябрь 1943 г., цитата из «QED и люди, ее создавшие: Дайсон, Фейнман, Швингер и Томонага» Сильвана Швебера (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), с. 398–399.
38 Эдвард Теллер. «Мемуары»: путешествие через политику и науку XX века» (Cambridge, MA: Perseus, 2001), с. 168.
39 Там же.
40 Интервью Джона Уилера Кеннету Форду 5 октября 1994 – 12 апреля 1995. Niels Bohr Library & Archives, AIP.
41 Ричард Ф. Фейнман Ральфу Лейтону. «Классический Фейнман: все приключения любопытного характера» (New York: W. W. Norton & Company, 2006), с. 149.
42 Нильс Бор. «Атомная теория и описание природы» (Cambridge: Cambridge University Press, 1934).
43 Х. Тетрод «Über den Wirkungszusammenhang der Welt. Eine Erweiterung der Klassischen Dynamik,” Zeitschrift fьr Physik 10» (1922), с. 317.
44 Джон А. Уилер и Ричард Ф. Фейнман. «Взаимодействие с абсорбером как механизм излучения», Reviews of Modern Physics, 17, № 2–3 (апрель – июль 1945), с. 180–181.
45 Джон Арчибальд Уилер и Кеннет У. Форд. «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике» (New York: W. W. Norton & Company, 2000), с. 19.
46 Ричард Ф. Фейнман в Кристофер Сайкс. «Неординарный гений: иллюстрированный Ричардом Фейнманом» (New York: W. W. Norton & Company, 1994), с. 55.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
47 Ричард Фейнман к Арлайн Гринбаум, 17 октября 1946, перепечатано в Ричард Ф. Фейнман. «Идеальные разумные отклонения (от проторенной дороги)» (New York: Basic Books, 2006), с. 69.
48 Там же.
49 Интервью Джона Уилера Кеннету Форду 5 октября 1994 – 12 апреля 1995, Niels Bohr Library & Archives, AIP.
50 Джон А. Уилер, изложено в «Супер-урановое деление возможно; на 50 % сильнее, чем нынешние атомные бомбы» Уильяма Лоуренса, New York Times, 3 декабря 1947 г.
51 Ричард Ф. Фейнман, изложено в «Будущее ядерной физики» (обзор, подготовленный Д. Р. Гамильтоном, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1946).
52 Малколм Брауни. «Физики предсказывают прогресс в решении проблемы гравитации», New York Times, 5 ноября 1996 г.
53 Интервью Ричарда Фейнмана, взятое Чарльзом Вайнером 27 июня 1966 г., Niels Bohr Library & Archives, AIP.
54 Сильван Швебер. «QED и люди, ее создавшие: Дайсон, Фейнман, Швингер и Томонага» (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), с. 160.
55 Фримен Дайсон Уиллису Лэмбу, по сообщению Сильван Швебер «QED и люди, ее создавшие: Дайсон, Фейнман, Швингер и Томонага» (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), с. 218–219.
ГЛАВА ПЯТАЯ
56 Интервью Ричарда Фейнмана, взятое Чарльзом Вайнером 27 июня 1966 г., Niels Bohr Library & Archives, AIP.
57 Курт Готтфрид, письмо автору, 20 мая 2016 г.
58 Ричард Ф. Фейнман Теду Велтону, 19 ноября 1949 г, цитата из Дэвид Кайзер «Раздвигая границы теорий: распространение диаграмм Фейнмана в послевоенной физике» (Chicago: University of Chicago Press, 2005), с. 178.
59 Дэвид Кайзер. «Раздвигая границы теорий: распространение диаграмм Фейнмана в послевоенной физике» (Chicago: University of Chicago Press, 2005), с. 177.
60 Фримен Д. Дайсон. «Беспокоя вселенную» (New York: Basic Books, 1981), с. 13.
61 Там же.
62 Фримен Дайсон, письмо автору от 19 декабря 2015 г.
63 Марк Кац. «Загадка шанса: автобиография» (New York: Harper & Row, 1985), с. 25.
64 Ханс Бете, устное интервью Джудит Р. Годштайн 17 февраля 1982 г., архивы Калифорнийского технологического института.
65 «Классический Фейнман: все приключения любопытного характера» (New York: W. W. Norton & Company, 2006), с. 200.
66 Письмо Дайсона, 15 декабря 2015 г.
67 Барри Саймон. «Функциональное интегрирование и квантовая физика» (New York: Academic Press, 1979), предисловие, процитировано в Сесиль Девитт-Моретт «Поиски квантовой гравитации: воспоминания Брайса Девитта с 1946 по 2004» (New York: Springer Verlag, 2011), с. 13.
68 Фримен Дайсон. «Историческая заметка: Ричард Фейнман», Институт перспективных исследований.
69 Письмо Дайсона от 19 декабря 2015 г.
70 Брайс Девитт, телефонное интервью автору 4 декабря 2002 г.
71 Сесиль Девитт-Моретт. «Воспоминания», Институт перспективных исследований.
72 Джон А. Уилер и Кеннет У. Форд. «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике» (New York: W. W. Norton & Company, 2000), с. 188.
73 Кеннет У. Форд. «Создавая бомбу: личная история» (Singapore: World Scientific, 2015), с. 1.
74 Джон А. Уилер Ричарду Ф. Фейнману, 29 марта 1951 г., перепечатано в Ричард Ф. Фейнман «Идеальные разумные отклонения (от проторенной дороги)» (New York: Basic Books, 2006), с. 83.
75 Ричард Ф. Фейнман Джону А. Уилеру 4 мая 1951 г., бумаги Ричарда Фейнмана, архив Калифорнийского технологического института.
76 Ричард Ф. Фейнман. «Нобелевская лекция», 11 декабря 1965 г.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
77 Чарльз У. Мизнер, Кип С. Торн и Войцех Х. Журек. «Джон Уилер, относительность и квантовая информация», Physics Today (апрель 2009), с. 40.
78 Джон А. Уилер, цитата из «Квантованная гравитация?» Джона Хоргана, Scientific American, 267, № 3 (сентябрь 1992), с. 18–19.
79 Ричард Ф. Фейнман. «Характер физических законов», BBC Television, 1965.
80 Элисон Уилер Лэнстон, телефонное интервью автору, 31 октября 2015 г.
81 Джон А. Уилер и Кеннет У. Форд. «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике» (New York: W. W. Norton & Company, 2000), с. 232.
82 Ричард Ф. Фейнман «QED: странная теория света и материи» (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), с. 128.
83 «Африканские барабаны муженька взяты под наблюдение», Star-News, 18 июля 1956 г.
84 Оскар Уоллес Гринберг. «Визиты с Фейнманом и открытие цвета в кварках: воспоминания об институте перспективных исследований», Институт перспективных исследований, 2015.
85 Чарльз У. Мизнер, Кип С. Торн и Джон А. Уилер. «Гравитация» (San Francisco: W. H. Freeman, 1973), с. 5.
86 Интервью Чарльза Мизнера Кристоферу Смеенку 22 мая 2001 г., Niels Bohr Library & Archives, AIP.
87 Чарльз У. Мизнер, телефонное интервью автору 6 декабря 2015 г.
88 Питер Бирн «Множество миров Хью Эверетта: множественные вселенные, взаимно обеспеченные деструкции и расплавление ядерной семьи» (New York: Oxford University Press, 2013), с. 57.
89 «Премия Эйнштейна для профессора», New York Times, 14 марта 1954 г.
90 Чарльз У. Мизнер, телефонное интервью автору 6 декабря 2015 г.
91 Там же.
92 Ричард Ф. Фейнман Джону А. Уилеру 4 октября 1955 г., архив Уилера, Американское философское общество.
93 Ричард Ф. Фейнман. «Квантовая теория гравитации», Acta Physica Polonica, 24 (1963), с. 267.
94 Питер Бирн. «Множество миров Хью Эверетта: множественные вселенные, взаимно обеспеченные деструкции и расплавление ядерной семьи» (New York: Oxford University Press, 2013), с. 138.
95 Хью Эверетт. «Теория универсальной волновой функции», набросок диссертации, Принстонский университет, перепечатана в «Многомировая интерпретация квантовой механики» (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973), с. 98–99.
96 Брайс Девитт, телефонное интервью автору от 4 декабря 2002 г.
97 Ричард Ф. Фейнман. «Классический Фейнман: все приключения любопытного характера» (New York: W. W. Norton & Company, 2006), с. 273.
98 Брайс Девитт, телефонное интервью автору от 4 декабря 2002 г.
99 Там же.
100 Брайс Девитт, по сообщению Сесиль Девитт-Моретт «Поиски квантовой гравитации: воспоминания Брайса Девитта с 1946 по 2004» (New York: Springer Verlag, 2011), с. 94.
101 Ричард Ф. Фейнман, по сообщению «Роль гравитации в физике»: отчет о конференции 1957 года в Чапель-Хилл» (Berlin: Edition Open Access, 2011), с. 27.
102 Там же.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
103 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Нобелевский лауреат из Калтеха проявляет скромность», Los Angeles Times, 22 октября 1965 г., с. 2.
104 Ричард Ф. Фейнман, интервью Джагдиш Мера, Пасадена, Калифорния, январь 1988, по сообщению Джагдиш Мера «Стук отличающегося барабана: жизнь и наука Ричарда Фейнмана» (New York: Oxford University Press, 1994), с. 453.
105 Ирвинг С. Бенгельсдорф. «Фейнман из Калтеха приносит искусство в физику», Los Angeles Times, 14 марта 1967 г.
106 Джеймс Каммингс, разговор с автором, 25 января 2016 г.
107 «Преклоняющийся первак ищет вдохновения в физике перед Оракулом Фейнмана», подпись к фото, California Tech, 28 октября 1965 г., с. 1.
108 Джайант Нарликар, письмо автору от 9 января 2016 г.
109 Там же.
110 Брайс Девитт, телефонное интервью автору от 4 декабря 2002 г.
111 Джон А. Уилер. «Трехмерная геометрия как носитель информации о времени», в «Природа времени» (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967), с. 106–107.
112 Джайант Нарликар, письмо автору от 9 января 2016 г.
113 Уолтер Салливан «Ученый пересматривает теорию Эйнштейна», New York Times, 21 июня 1964 г.
114 Чарльз Мизнер. «Бесконечное красное смещение в общей теории относительности», в «Природа времени» (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967), с. 75.
115 Том Зигфрид. «Пятьдесят лет спустя трудно сказать, кто придумал термин «черные дыры», Science News, 23 декабря 2013 г.
116 «Нобелевская премия по физике 1965 г.», Nobelprize.org, 25 июня 2016 г.
117 Вирджиния Тримбл, письмо автору от 10 февраля 2017 г.
118 Вирджиния Тримбл, письмо автору от 9 февраля 2017 г.
119 Джагдиш Мера. «Стук отличающегося барабана: жизнь и наука Ричарда Фейнмана» (New York: Oxford University Press, 1994), с. 576–577.
120 Ричард Ф. Фейнман, письмо редактору, New York Times, 5 ноября 1967 г.
121 Линда Антони. «Большой взрыв… Большое схлопывание», Austin American-Statesman, 20 мая 1979 г., архив Уилера, Американское философское общество.
122 Уолтер Салливан. «Размышления физика об идущем назад времени», New York Times, 30 января 1966 г.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
123 Джон Арчибальд Уилер и Кеннет У. Форд. «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике» (New York: W. W. Norton & Company, 2000), с. 314.
124 Чарльз У. Мизнер, Кип С. Торн и Войцех Х. Журек. «Джон Уилер, относительность и квантовая информация», Physics Today (апрель 2009), с. 44–45.
125 Чарльз У. Мизнер. «Джон Уилер и повторная сертификация общей теории относительности с точки зрения настоящей физики», из «Джон Уилер и общая теория относительности» (New York: Springer Verlag, 2010).
126 Джон А. Вилер (псевдоним). «Распутин, наука и странная метаморфоза судьбы», General Relativity and Gravitation, 5, № 2 (1975), с. 176–177.
127 Джулиан Браун. «Умы, машины и мультивселенная: квест за квантовым компьютером» (New York: Simon and Schuster, 2000), с. 60.
128 Фримен Дайсон, личные воспоминания автора, Институт перспективных исследований, Принстон, 9 декабря 2016 г.
129 Карл Фейнман, письмо автору 24 июля 2016 г.
130 Ричард Ф. Фейнман, со слов Ральфа Лейтона, «Тува или кутеж! Последнее путешествие Ричарда Фейнмана» (New York: W. W. Norton & Company, 1991), с. 248.
131 Джон А. Уилер Ричарду Ф. Фейнману 14 июня 1978 г., архив Уилера, Американское философское общество.
132 Ричард Ф. Фейнман Джону А. Уилеру 14 июня 1978 г., архив Уилера, Американское философское общество.
133 Фримен Дайсон, личные воспоминания автора, Институт перспективных исследований, Принстон, 9 декабря 2016 г.
134 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Пионер мысли» Дика Стэнли, (Austin American-Statesman, 8 февраля 1987).
135 Там же.
136 Ширли Марнеус, телефонное интервью автору, 21 февраля 2017 г.
137 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Компьютер, полный сюрпризов» Дэвида Е. Сангера, New York Times, 8 мая 1987 г.
138 Джон А. Уилер, интервью, взятое автором в Принстоне 5 ноября 2002 г.
139 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Суперструны: теория всего?» (New York: Cambridge University Press, 1988), с. 193.
140 Дэвид Дойч. «Квантовая теория, принцип Черча – Тьюринга и универсальный квантовый компьютер», «Материалы Лондонского королевского общества» А400(1985), с. 97–117.
141 Джон А. Уилер, по сообщению Дуайта Е. Нойеншвандера, «Научное наследие Джона Уилера» (2009).
142 Джон А. Уилер. «Коллективная вселенная», Science, 81 (июнь 1981 г.), с. 66–67.
143 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Суперструны: теория всего?» (New York: Cambridge University Press, 1988), с. 203.
144 Джон А. Уилер Ричарду Ф. Фейнману 27 июня 1986 г., архив Уилера, Американское философское общество.
145 Ричард Ф. Фейнман. «Личные наблюдения по поводу надежности космического челнока», приложение F, отчет комиссии Роджерса, НАСА (1986).
146 Джон А. Уилер Ричарду Ф. Фейнману 7 августа 1986 г., архив Уилера, Американское философское общество.
147 Джон А. Уилер. «Декада вседозволенности», New York Review of Books, 17 мая 1979 г., с. 41–44.
148 Дэвид Голдштейн и Джерри Нойгебауэр, особое предисловие к Ричард Ф. Фейнман, Ральф Б. Лейтон и Мэтью Сэндс «Шесть не таких простых частей: относительность Эйнштейна, симметрия и пространство-время» (New York: Basic Books, 2011).
149 Джагдиш Мера. «Стук отличающегося барабана: жизнь и наука Ричарда Фейнмана» (New York: Oxford University Press, 1994), с. 606.
150 Ричард Ф. Фейнман «Идеальные разумные отклонения (от проторенной дороги)» (New York: Basic Books, 2006), с. 373.
151 Фримен Дайсон, цитата из «Джон А. Уилер, физик, придумавший термин «черная дыра», умер в возрасте 96 лет» Денниса Овербая, New York Times, 14 апреля 2008.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
152 Ричард Ф. Фейнман, цитата из «Неординарный гений: иллюстрированный Ричард Фейнман» (New York: W. W. Norton & Company, 1994) Кристофера Сайкса, с. 98.
ЭПИЛОГ
153 Чтобы ознакомиться с очаровательным изложением девяностолетия Уилера, читайте: Аманда Гефтер. «На лужайке Эйнштейна. Что такое НИЧТО, и где начинается ВСЕ» (New York: Bantam, 2014).
154 Джон. А. Уилер, интервью, взятое автором в Принстоне 5 ноября 2002 г.
Примечания
1
Перевод Б. Дубина. (Здесь и далее – прим. перев.)
(обратно)2
Перевод С. Маршака.
(обратно)3
Англ. «spin» – кружение, верчение.
(обратно)4
Перевод Б. Дубина.
(обратно)5
Экклезиаст, 3:1, синодальный перевод.
(обратно)6
Этимология слова «лабиринт» неоднозначна, приводимая автором версия далеко не единственная.
(обратно)7
Перевод Б. Дубина.
(обратно)8
Англ. Lamb – досл. «ягненок».
(обратно)9
28 мая.
(обратно)10
Англ. «Иосиф» – Joseph, советское обозначение – РДС-1.
(обратно)11
Типичная пропагандистская пугалка. Таких планов у СССР не было.
(обратно)12
На январь 2019-го Фримен Дайсон еще жив.
(обратно)13
QED: Strange Theory of Light and Matter, в русском переводе: КЭД – странная теория света и вещества (прим. ред.).
(обратно)14
Также используется название «кротовая нора».
(обратно)15
От General Relativity, общая теория относительности (прим. ред.).
(обратно)16
«Geon» по-английски произносится «Джеон».
(обратно)17
Англ. «black whole» – созвучно с «black hole» (черная дыра).
(обратно)18
Англ. квант, квантовый.
(обратно)19
Официальное название Тувинской Народной Республики в 1921–1926 гг.
(обратно)





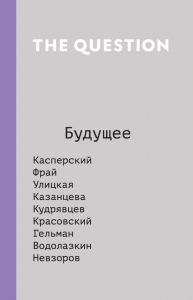

Комментарии к книге «Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность», Пол Халперн
Всего 0 комментариев