Пути в незнаемое
Писатели рассказывают о науке
Сборник двадцать первый
Редакционная коллегия:
А. З. Анфиногенов, Д. М. Балашов, З. Г. Балоян, Ю. Г. Вебер, Б. Г. Володин, Я. К. Голованов, Д. А. Гранин, Д. С. Данин, В. П. Карцев, Л. Э. Разгон, А. Е. Русов, И. В. Скачков, В. М. Стригин, Д. А. Сухарев, М. Б. Чернолусский, Н. Я. Эйдельман, Л. Я. Яншин
Составители:
Б. Г. Володин. B. М. Стригин
Художник
Борис Жутовский
Алесь Адамович Проблемы нового мышления
Вначале было чувство. И слово, его выразившее. Свидетельствуют, что, когда первое ядерное устройство сработало, американский профессор Пендридж воскликнул:
— Теперь все мы негодяи!
Причастные к факту появления, привода в мир, и без того расколотый, тревожный, оружия космической мощи, ученые-физики первые и осознали то, что до остальных людей дошло потом, доходило постепенно. А именно: мир стал совершенно другим и необходим новый способ мышления, чтобы человечество выжило и развивалось дальше.
В манифесте Рассела — Эйнштейна 1955 года, ставшего программным документом Пагуошского движения ученых за мир, мысль эта развивается следующим образом:
«Мы должны научиться мыслить по-новому, мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринимать для достижения военной победы над тем лагерем, к которому мы не принадлежим, ибо таких шагов не существует; мы должны задавать следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников».
Когда-нибудь, очевидно, напишут исследования, какими сложными, противоречивыми путями шли к этой истине и пришли наиболее прозорливые политики, другие ученые, дальновидные военные. Но нам представляется, что решающими были последние годы — первая половина 80-х годов.
Разрядка в 60–70-е годы так и не стала необратимой. Силы милитаризма, правые силы на Западе все сделали, чтобы ее таранить. Сегодня у процесса разрядки возникает дополнительный фактор, глубокий тыл — процесс перестройки всей нашей жизни на путях демократизации экономики, социальных отношений, самого мышления. И что очень важно: осознание, что во всем необходимо новое мышление, адекватное ядерной эре, стало сутью и формой государственной политики нашей страны. Феномен невиданный.
Вот почему наши предложения в Рейкьявике выглядели воистину как из третьего тысячелетия, то, что им противостоит — чем-то дремуче древним. Все сдвигается в нашем мире невероятно круто и стремительно: отстал на год — выглядишь неандертальцем! Какие бы тебя супертехнологические идеи ни обуревали!
Мои рассуждения будут затрагивать узкую проблематику не столько теоретического характера, сколько поведенческого: как каждому из нас мыслить и действовать, дабы не оказаться в положении и роли «неандертальца»? В своей, конечно, области и в своем масштабе. От каждого в конце концов зависит, чтобы необратимым стал процесс перестройки всей нашей жизни, нашего практического мышления. А также и разрядки. Сорвется здесь — сорвется и там: у растянутой пружины два конца и оба должны быть закреплены прочно.
Как-то позвонил мне крупный наш ученый-математик и уличающе зачитал-процитировал мое же — из «Карателей», тогда опубликованных: «И еще неизвестно, по чьим формулам — физиков или поэтов — взорвут Землю…»
Кажется, доволен был «физик» самокритичностью «лириков». И действительно, невиновных не будет, если случится самое страшное. Как сказано в «Катастрофе» белорусского романиста Эдуарда Скобелева:
«Потеряв веру, люди шарахались от мысли о жертве. Никто не восходил на костер, уверенный, что сгорит. И потому все сгорели».
Если и примериваемся — взойти или не взойти, — то все еще с безопасного расстояния. Вот и в связи с чернобыльской аварией, ее последствиями — именно так себя вели, ведем. Свой личный кусок все еще дороже судеб народных, хотя уже и сознаем, что кусок-то уже радиоактивный!
Да, чувство личной исторической ответственности (сознательно ставим рядом слова: личной и исторической) обязательно сегодня не только для тех, кто привел в мир оружие Судного дня, ученых-физиков. В не меньшей степени — и для политиков, и для военных, и для нас, «прочих лириков».
Прошли времена простительной (впрочем, простительной ли?) наивности ученых или суперспециалистов, когда великий Ферми мог, например, вспылить: «При чем тут нравственность? Просто это интересная физика!» Сегодня восемь тысяч ливерморцев разной квалификации занимаются «интересной астрономией» — готовя оружие для самоистребительных «звездных войн». Но уже в условиях моральной осады — даже у себя в Америке. Тысячи и тысячи крупнейших американских ученых (в числе их — более половины проживающих в США нобелевских лауреатов) публично отказались иметь дело с СОИ.
Да что ученые! Появилось невиданное в истории: генералы-пацифисты. И они, так же как ученые, печатают манифесты-предупреждения, объясняющие их позицию:
«В наши дни военный, осознающий свою ответственность, не может проводить грань между выполнением своих военных обязанностей и чувством своего морального долга. Он должен выполнить этот моральный долг, пока не стало слишком поздно и дело не дошло до выполнения им военного приказа. Первый долг современного военного — предотвратить войну»[1].
Ситуация-то какова? Небывалая, невиданная! И самые толковые и честные из военных ее уяснили: профессиональная готовность наилучшим образом выполнить свой долг, когда война началась бы (ядерная война!), — не что иное, как готовность взять на себя бóльшую долю в коллективном самоубийстве. «Лучше», «успешнее» воевать в войне термоядерной означает лишь одно — внести больший «вклад» в убийство человечества и всего живого на Земле.
Вот она, правда нашего времени, придя к ней, уже не спрячешься от всех этих вопросов, от необходимости решать их для себя, в согласии с собственной совестью.
Ну а у «лириков», гуманитариев, обществоведов, философов и пр. и пр. в чем высший профессиональный долг? От гуманитариев если и холодно или жарко, то ведь не в такой степени, как от политиков, военных?
Это как посмотреть!
Кто подсчитает, сколько килотонн угрозы человеческому роду таится в формуле, которую, похоже, какой-то их «лирик» подбросил западным политикам и обывателю: «Лучше быть мертвым, чем красным!»
Орудие нашего труда, а иногда и оружие — слово. Бывают великие слова, когда за ними великое озарение. Вот как эти: в ядерной войне не может быть победителей! Она не должна быть развязана!
Не случайно М. С. Горбачев эти «простые и ясные слова» определил как «аксиому международных отношений нашей эпохи»[2].
Не словами направлялась история, создавались, уничтожались или удерживались от погибели цивилизации. Но и словами тоже: в которых отражены, выражались дела и нормы человеческие.
Не делай другому, чего не пожелал бы себе самому…
Не убий!
Хочешь мира — готовься к войне.
Война — есть продолжение политики иными средствами.
Если враг не сдается — его уничтожают!
Наше дело правое — мы победим!
Погибнет миллион, зато свободу, счастье обретут сотни миллионов.
И наконец:
Если человечество хочет выжить, ему необходима совершенно новая система мышления.
И вот это: в век ядерного оружия невозможно спастись, выжить в одиночку, безопасность может быть только коллективная, всеобщая.
Все что люди думали, произносили, совершали во времена доядерные, имело альтернативный характер. Просто потому что у рода человеческого имелось гарантированное будущее: не через год, так через сто, пятьсот лет опасный или ложный ход истории мог быть выправлен на более приемлемый. Даже планетарная победа «тысячелетнего рейха» Гитлера не отменила бы род человеческий.
А ядерная война отменит.
Потому-то опыт прошлого, всегда служивший копилкой мудрости, не на все дает ответы. Их следует искать и в новых реалиях, а это всегда трудно.
Еще на памяти ныне живущих поколении та эпоха (20–30-е годы), когда локомотив, бульдозер истории, упирался в уровень производительных сил — в будущее, где все проблемы как нам представлялось, решаться будут уже и легче и проще. Избыток энергии материальных благ, мощные производительные силы, возможности, ну и соответственно — более гармонические производственные отношения…
И вдруг стенка проломилась, мы, люди двадцатого века, с разгона пролетели даже дальше, чем рассчитывали. Каждые несколько лет научная и производительная мощь нарастает в невиданной прогрессии, можем всё, почти всё, а чего не можем, так сможем через год, через десять…
Так было буквально вчера. А сегодня?
Сегодня все упирается в мышление.
Каково оно есть, станет, будет — таково и будущее человечества. И вообще быть или не быть самому будущему — зависит прежде всего от мышления, от способности или неспособности как можно большего числа людей мыслить адекватно ядерной действительности.
«Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне…» — жаловались поэты в 40–50-е годы.
Времена изменились, в почете сегодня именно «лирики». Они бомб не изобретали. Но это добродетель, так сказать, неделания. Правда, в последнее время проявили себя и в действии, активном: по спасению рек, лесов, почв, а также культурных, духовных ценностей.
Но вот в главное дело — разрушение опасных стереотипов во взгляде на войну — вклад их не столь заметен.
Военно-патриотическое воспитание — в этом литераторы кое-что смыслят. Но скажите им, даже сегодня, что в согласии с ядерным веком вернее было бы: антивоенно-патриотическое воспитание — и посмотрите, как он на вас посмотрит. По крайней мере, многие. С каким недоумением, если не с испугом.
А ведь если военная победа над противной стороной невозможна, а расчет на таковую — просто преступление перед человечеством, тогда логично рассудить, что высший патриотизм, то есть желание исключительно добра своему народу (как и всем другим — сегодня это неразделимо), заключается в ненависти к войне. Не к «противнику», а к войне и всем, кто ее провоцирует, готов развязать.
Впрочем, эта потребность времени все-таки проявилась если не в формулировках, то в самой литературной практике нашей: во всем мире нет такой антивоенной литературы, какая есть у нас. Ее уже называют великой (хотя по инерции мы все еще именуем — «военной»).
Да, говоря словами Вольтера, каждому обрабатывать свой сад. Но дело это все-таки коллективное — выработка нового мышления. Великолепно, когда поможет тебе сосед. Нет, не в качестве этакого недоброй памяти фининспектора послевоенной поры, который если и заглянет в сельский двор, так лишь для того, чтобы уличить и обложить разорительным налогом каждое деревце в саду, каждую курицу. Такими «фининспекторами» по отношению к другим наукам — кибернетике, генетике и пр. — в прежние времена очень часто выступали наши вездесущие философы. Сейчас естественные, точные науки имеют против них высокий забор специальных знаний, перелезть через который не всякому легко.
А вот в наш огород, литературный, они захаживают, набеги делают частенько. Редко с новыми, свежими идеями, чаще с ношкой нафталина. С привычной миссией контролеров-запретителей.
Зато как мы от непривычки благодарны, когда философы-обществоведы сами показывают пример смелого мышления.
Помню, какую радость и именно благодарность испытали мы с Даниилом Граниным, когда прочли в журнале «Век XX и мир» статью Г. Шахназарова «Логика ядерной эры» (1984, № 4). Мы неожиданно для самих себя отправились к незнакомому автору, чтобы выразить благодарность, прямо-таки личную.
Именно личную. Это было время, когда за высказывание мыслей, сродни шахназаровским, в нашей, писательской, среде запросто было заработать ярлык: «пацифист». Притом в ругательном значении. У нас, конечно, свой понятийный аппарат, но тоже «святых коров» достаточно. Некоторые разлеглись прямо-таки посредине дороги — ни пройти, ни проехать.
Такую же прямую помощь ощутили мы, литераторы, в наших попытках мыслить нестандартно — от физика Е. П. Велихова, от его выступлений по проблемам войны и мира. Это сегодня никого таким не удивишь, а когда несколько лет назад Е. П. Велихов сказал (по первому телемосту), что ядерная бомба — такой же всеобщий враг, как вчера был фашизм, что ядерное оружие совсем не мускулы, а раковые клетки и что это безумие — «наращивать» ядерную опухоль, помнится, как растеряны были наши некоторые «идеологи», никак не могли переварить простую эту истину. И как тут же один из «фининспекторов» взялся уличать в «пацифизме» журнал «Век XX и мир», когда тот напечатал статью на тему «бомба — Гиммлер», «бомба — Гитлер»…
Здесь, мол, нужен классовый подход: есть бомба, а есть «бомба»; наша, не наша!.. — глубокомысленно напомнили журналу и автору.
Все еще не по силам было людям с пенсионным мышлением понять истинную диалектику времени: общечеловеческий интерес и есть высший «классовый интерес», особенно в наш век.
Мне и физик один втолковывал: ну что вы все одним миром мажете, ведь ножом можно человека зарезать, а можно хлеб разрезать — важно, в чьих руках. Логично вроде бы. Да только формальная это логика, не учитывающая, что «нож» этот, например, может в руках взорваться, насмерть уложив и правых и виновных. И нет «христианской» ядерной бомбы (это и епископы американские признали), как нет и «марксистской». Единственный аналог ей — фашизм. 20 килотонн — гауляйтер Кубе, 100 — Кох, мегатонна — Гиммлер, 10 мегатонн — Гитлер…
Когда напуганные перспективой остаться один на один с острыми социальными проблемами своих стран, стран, развивающихся соревнованием с социалистической системой, политические деятели не только США, но и Англии, ФРГ, начинают что-то такое бормотать о «ядерной гарантии», о «полисе» в виде космического оружия, — все и сразу понятно: страшновато оставаться без мегатонных гиммлеров, гитлеров…
Нужен, нужен все-таки им фашизм — на крайний случай! Хотя бы в таком вот свернутом виде, в бомбе спрятанный. Прежнего фашизма сегодня вроде бы стыдятся (геноцид, лагеря смерти), этот же, материализованный в бомбе, в складированном виде геноцид, иметь даже «престижно».
За «круглым столом» АПН, в котором мне довелось участвовать в октябре месяце 1986 года, выступал вдохновенный француз… в защиту ядерного оружия как гаранта именно величия Франции. Поразительно!
Думается, что новое политическое мышление должно кликать на помощь и чувства. Например, в этом пункте прямая задача литературы — выработка чувства стыда. Чтобы стыдно было иметь материализованный геноцид в виде бомбы не менее, чем в виде фашистских фабрик смерти. Но для этого нужна вся правда о бомбе, о последствиях не только применения ее, но и о производстве, накоплениях. Правда — без всяких оговорок — исключений в свою пользу, какие выискивал тот француз.
Кажется, что, появись сейчас над нами те самые «неопознанные», да если бы знали про все арсеналы землян, они, наблюдая людей, смотрели бы на многих и многих как на лунатиков. Ходят-бродят по карнизам, чем-то заняты, ораторствуют, не открывая глаз.
Рейкьявик — это встреча не только двух идеологий, но и двух психологий. Одна вот эта, лунатическая, и вторая — людей, заглянувших в пропасть, не уводящих трусливо взгляда от нее, не выпускающих из поля зрения.
Что и говорить, мы — профессия диктует — когда слушали пресс-конференцию Михаила Сергеевича Горбачева после Рейкьявика, не могли не отметить печать личной драмы человека, который не политику приехал делать в обычном понимании, а к такому же человеку: должен же, должен видеть и он, над какой бездной все мы оказались!
Рональда Рейгана, настаивающего на программе «звездных войн», западная пресса предпочитает изображать в этаком снисходительно-ироническом тоне: ну, у кого нет своих чудачеств, слабостей! Оставьте игрушку президенту! Раз уж он так держится за нее, будет неразумно и даже провокационно покушаться на нее.
Все это напоминает сценку-притчу польского драматурга Славомира Мрожека. У Мрожека странный старик бегает по сцене и целится из охотничьего ружья во всех, кто на глаза попадается: в женщину, в ребенка. Люди, конечно, испуганно шарахаются, возмущаются, кое-кто пытается вырвать из рук его ружье.
Но старик не один, за ним следуют два здоровенных молодца и увещевают, устыжают публику вот таким объяснением:
— Дядцэк хцэ щелять!
То есть дедушка хочет стрелять. Ну какие же вы нехорошие, дедушка хочет стрелять, блажь у него такая, а вы мешаете!
Вот и нас уговаривают: не мешайте президенту, его звездное оружие, может быть, еще и не выстрелит. Он, может, даже вам даст поиграться!..
Думается, не случайно и не бескорыстно рисуют нам такой образ президента США — мол, все дело в нем и его звездных чудачествах.
Хотя его скорее представляешь заложником этой программы, с какого-то момента уже не вольным в своих действиях.
Ну, вот вообразим, что Рональд Рейган решил бы ликвидировать те многомиллиардные заказы, которые по программе СОИ получили военные корпорации и которые еще рассчитывают получить — в следующие десятилетия.
И вернулся бы с этим из Рейкьявика. Что бы встретил дома, с чем бы его встретили?..
Кстати, во время упомянутого уже «круглого стола» по теме «Мораторий, разоружение, новое политическое мышление в ядерный век», который в конце октября сего года проводило АПН, я задал вопрос Пьеру Солинджеру, парижскому корреспонденту американской телекомпании Эй-Би-Си, что, по его мнению, произошло бы в таком случае и как бы президента встретили дома?..
Он согласился, что Рейгану не поздоровилось бы, правда, акцент делая на настроениях рядовых американцев, которые, дескать, всерьез поверили в «соивую» защиту от ракет. Ну, а кто такое настроение и в чьих интересах создали и поддерживают — это ни для кого не секрет.
Пример нового мышления, по-особенному драматический (думается, что история еще оценит это), выражен в словах М. С. Горбачева, сказанных на XXVII съезде партии (мысль эту он повторит и после Рейкьявика):
«Мы не можем принять „нет“ в качестве ответа на вопрос, быть или не быть человечеству».
То есть сколько бы ни бросало нам в лицо «нет» другая сторона, порой делая это в сознательно обидной форме, даже провокационной, как бы по-человечески ни хотелось в ответ хлопнуть дверью, на воинственность и непримиримость ответить тем же, — сделать это мы не имеем права. Потому что в конечном счете не о системах уже идет речь — социализме, капитализме, — о самой жизни на Земле, быть или не быть человеку.
Новое мышление стало нашей государственной политикой — и это великий факт, но это никак не избавляет каждого специалиста в отдельности от необходимости самому в этом же направлении трудиться, нарабатывать новые качества мышления. Каждому в своей области.
Очень это важно сегодня всем нам, и «физикам» и «лирикам», — двигаться этим маршрутом. Но хорошо бы при этом не забалтываться. А то ведь это мы умеем. И когда говорим-пишем о перестройке. И вот об этом — новом мышлении. Ведь смысл слова «ускорение» может быть и обратный. Если, например, развернуться на сто восемьдесят градусов и нажать на газ. Это даже привычней.
Развивали, развивали инициативу на местах, чтобы как-то залатать прорехи в снабжении населения овощами, мясом-молоком, но вот прочли Постановление о нетрудовых доходах, и…
Японцы сейчас выпускают фотоаппараты и прочую бытовую технику в расчете на законченных олухов. Не умеешь, а сфотографируешь как следует (по выдержке, по расстоянию), невежда в технике, а не испортишь, хоть не так и не там нажмешь.
Надо бы нам и постановления писать-печатать с прикидкой на олухов: заранее прикидывать, что и где перегнут. Заранее делать нужные оговорки, ставить ограничения.
Не учли этого — и вот перестарались на местах. И что характерно: никогда ведь не перегнут в сторону полезную, всегда в привычном направлении — ищи и вылавливай тех, кто еще не отучен работать, кто готов копаться в земле-навозе.
И снова опустели базары, прилавки.
Подумалось: а что, если какую-нибудь идеологическую передовицу в газете поймут как сигнал: всем назад! С какой интенсивностью, сколь дружно бросятся назад, на стезю привычную. И снова загремит: пацифизм! абстрактный гуманизм! неклассовый подход!
Мечтательно рассуждаем: некоторым товарищам надо бы в отставку попроситься. Пьесы об этом пишем, но чаще это касается практиков, людей дела, отставших от поезда.
Ну а идеологи? Отставшие? С них что, спрашивать нельзя, неловко? В конце концов вовремя меняют лексику и фразеологию, повторяют старательно новые лозунги. Ну а что одним глазом с надеждой косят назад и первые рванули бы в случае чего — так мы их таких сами сделали, хотели иметь таких.
Говорим, сколь старое мышление опасно, если иметь в виду вопросы войны и мира. Но оно и бесчеловечно. Как это проявляется там, хорошо знаем.
Но ведь и в нашем стане, если старое, оно — антигуманно. А порой от него и страшновато.
Наверное, никогда не забуду, как года три назад один местный «идеолог», укоряя нас, литераторов, за «апокалипсические настроения», за «пацифизм» и «абстрактный гуманизм» («Не о ядерной смерти, о жизни надо писать!»), вдруг обосновал собственный свой «оптимизм», объяснил, чем он питается, на чем основан: «Если от нашего народа останется десять человек, важно, чтобы они остались советскими людьми. Вот в чем задача момента!.. В этом вижу смысл своей деятельности! И вашей!»
Так что сравнение «стародумцев» с неандертальцами не такое уж отвлеченное.
Журнал «Дружба народов» в 1984 году напечатал неожиданную для него статью. Очевидно, авторитет человека военного и ученого — автор генерал-майор и одновременно доктор философских наук — подкупил и редакцию.
Читаем:
«Для современной эпохи характерна примечательная особенность: с помощью локальных войн империализм не решил ни одной крупной исторической задачи в борьбе с революционными силами. Все явственнее заявляет о себе тенденция к снижению эффективности захватнических несправедливых войн империализма в борьбе с революционными силами с точки зрения политических целей. Несправедливые войны не могут разрешить исторических противоречий империализма».
Все вроде бы убедительно. И действительно, никакой «неоглобализм» Рейгана ситуацию не изменит, не отменит. Это необратимо. Но читаем дальше. «С другой стороны, если эффективность использования военной силы в руках агрессивных кругов уменьшается, то справедливые войны со стороны революционных сил эпохи остаются важным, а порой и самым существенным средством борьбы против империализма»[3].
Да, это тот случай, когда человеку кажется, что с классовым подходом все проще пареной репы. Как в войну говорилось: что русскому здорово, то немцу смерть!
А надо бы додумать свою мысль до конца, куда это может привести в нынешней мировой ситуации. Ну а если самая справедливая из справедливых да закончится общей свалкой, ядерной?
У нас в партизанах случались печальные ошибки, просчеты, гибли иногда хорошие подрывники из-за такой мелочи: бикфордов шнур, медленно горящий, очень похож был на такой же, но по которому огонь добегал моментально. Рассчитывают точно время, а огонь добежал быстрее — шнур-то не тот. И — взрыв. Прямо в руках, под ногами!
Не сразу, но наиболее прозорливые политики вернулись к реальности ядерного века, очень точно описанной в манифесте крупнейших ученых физиков, получившем название Манифеста Рассела — Эйнштейна. Уже там было сказано: победы в ядерной войне быть не может!
Но там и еще сказано: для того чтобы избавиться от угрозы ядерного всеистребления, надо отказаться от всяких войн. Логика проста: начнется «обыкновенная», неядерная, и ничто уже после какого-то момента не остановит перерастание ее в ядерную (даже когда ядерное оружие уничтожено), ибо каждая сторона будет подозревать, что другая восстанавливает свой ядерный потенциал. А тем более, когда весь мир сидит на ядерном погребе!
Отказаться от любых войн? А справедливые?.. Но ведь никто не знает, какой в руках шнур, куда ведет и на какое время рассчитан.
И вообще можно задать такой детский вопрос: если есть войны «дозволенные», то каким оружием «разрешено» в них пользоваться? Ядерным, ясное дело, нельзя. Химическим? Вроде тоже недопустимо. Обычным? Ну так оно все стремительнее сближается (по убойной силе) с ядерным. Значит, самосовершенствование «обычного оружия» отменяет (а завтра полностью отменит) допустимость любых войн.
Все более обнаруживается ловушка, в которую себя (и человечество) загоняют те, кто мыслят, живут в политике вчерашним днем.
С одной стороны, Запад вроде бы боится и, уж во всяком случае громко, самого себя пугает: у Советского Союза чрезмерные вооружения! И тут же открыто стремится втянуть нас в еще большую гонку вооружений. Видя в этом средство измотать экономически.
То же самое, когда дело касается третьего мира. Если же удастся изолировать социализм от третьего мира, а третий мир от социализма — создавать и углублять кризисные ситуации, затягивать их, чтобы снова-таки изматывать социализм экономически.
Не потому ли изо всех сил препятствуют политическому урегулированию в Афганистане.
Обнаружив, поняв, какими бесконечными сегодня бывают именно «малые», «локальные» конфликты-войны, уже, пожалуй, хотели бы видеть втянутыми в них страны противоположной системы. Опаснейшее безрассудство, но разве его мало в современном мире?
Так что нет поводов здесь для схоластического оптимизма: у них, мол, не получается, а на нашей стороне — прогрессивно-историческая тенденция. Современная историческая тенденция, и она действительно наша, — в полном отказе от любых военных решений.
Никто не может гарантировать, что бикфордов шнур от войны локальной, даже если она справедливая из справедливейших, не ведет в ядерный погреб. Миру, планете одинаково плохо будет, с какого бы конца ни загорелось.
Высшее проявление логики нового мышления в этом направлении — наше предложение очистить планету от войн полностью. В январском Заявлении 1986 года сказано: от ядерного оружия и войн. Напрямую связаны эти вещи.
Американистам особенно знакомо, как это трудно — беседовать с «партнерами по выживанию», с западными оппонентами, о чем бы то ни было, когда над всем маячит их вопрос: но все-таки вы рассчитываете нас «закопать»! Не военными, так иными средствами, путями, но все-таки хотите унифицировать социальные системы, свести к одной!
На этом, именно на этом строит западная пропаганда весь фундамент конфронтации: военно-экономический, психологический и т. п. Спекуляция на страхе, на патриотизме, на чем угодно — и, как венец всего этого: «Лучше быть мертвым, чем красным!» Или, как я видел на плакатике школьницы в ФРГ: «Лучше „звездные войны“, чем колония Москвы!»
Но оставим в стороне пропагандистские страсти и задумаемся о сути. Пытаясь не поддаваться гипнозу стереотипов.
Считается самоочевидным, что богатство и разнообразие биологических форм, генофонда — условие устойчивости жизни на планете, гарант развития фауны, флоры, их будущего.
Сегодня очень актуально звучит мысль В. И. Ленина о том, что разнообразие есть ручательство жизненности.
То же самое с нациями, культурами, языками. Мы, слава богу, уже отказались от упрощенческих представлений, что многообразие наций, культур, языков «мешает» единству человечества, прогрессу. И тут стало очевидным: из богатства и разнообразия, из расцвета культур, языков только и может вырасти истинное необедненное будущее все более единого человечества.
Совершенно ясно, что у природы, у общества должен быть выбор вариантов, нельзя оставить им один-единственный «кончик». И оборваться может, да и кто знает заранее, какой нужен, как это отзовется через сто, через сто тысяч лет.
На сколько шагов вперед могут видеть люди, окруженные стенами своего времени, — достаточно ли далеко, чтобы решать за тысячи поколений последующих?
Не в этом ли ряду и вопрос о многообразии социальных форм развития? Верно сказано: лучше быть разными в жизни, чем одинаковыми в смерти.
Угроза Рейгана отправить социализм «на пепелище истории» сразу же вызвала реплику Карла Сагана, американского астрофизика: а кто сумеет отличить пепел социализма от пепла капиталистического?
И кому — разве что инопланетянам — придется этим заниматься.
Время такой нетерпимости если не прошло, то проходит. И подобных упражнений риторических. Как с их стороны, так и с нашей. Хотя философы-общественники, некоторые, вряд ли с этим согласятся. А надо бы оставить в покое завтрашний день. Будущее само позаботится о своих формах, а наша первая забота — чтобы оно просто было, наступило, это самое будущее. Не имеет никто права рисковать жизнью будущих миллионов миллиардов людей излишней заботой о том, чтобы они жизнь эту получили обязательно в такой-то упаковке. Да разберутся сами, когда придут в этот мир! Дать, позволить им прийти — это самое важное.
На встрече с писателями, участвовавшими в Иссык-кульском форуме, М. С. Горбачев высказал такую мысль:
«Возьмите весь мир — мы все разные. Разве это недостаток? Это — реальность. Значит, надо научиться жить в этом многообразии, уважать выбор каждого народа. Как говорят, солнце не закроется, народ не заблудится»[4].
Как обстоят дела с «новым мышлением», «новым чувствованием» в столь специфической области, как литература?
Расчленим вопрос на несколько подвопросов.
Проблемы гуманизма: как тут с новым мышлением?
Нравственность ядерного века.
Специфически художественные проблемы.
Толстой однажды записал такую мысль: люди на протяжении всей истории работали, торговали, воевали, но главное, что в это время происходило и происходит, — они выясняли и уясняли, что такое добро, а что зло.
А вот что скажет наш современник — Сергей Павлович Залыгин: «…раньше мы решали два уравнения: что такое хорошо и что такое плохо? И им все время, вся мировая литература и эстетика занимались этим вопросом. Но теперь появилось третье уравнение: что такое ничего? Вот мы перед какой реальностью встали»[5].
Вот такая поправка к Толстому — самого нашего времени: что такое ничего?! Эта поправка не может не оказывать, должна бы оказывать огромное воздействие на всю литературу.
А на самом деле? На самом деле — не совсем так. Живем как жили, пишем в основном как писали, а это значит, если иметь в виду нравственную сторону, намного хуже, чем писали в доядерный век. Потому что то, что было тогда «как раз», «в меру», «достаточно», сегодня уже означает, что уходим от всей сложности мира и его главных проблем. Мы сочинительствуем, мы философствуем на мелких местах, а ядерное время: «Мне бы ваши заботы!»
И тем не менее кое-что происходит: если не в сознании, то в подсознании литературы.
А потому и гуманизм, и нравственность, и художественность — все это постепенно меняется. И в литературе, и для литературы.
Гуманизм все больше теряет всякие разные эпитеты ограничивавшие его, потому что объектом его забот стало ни мало ни много — все человечество. Сегодня соперничающие системы являются одновременно партнерами по выживанию, по спасению жизни. Врозь-то и за счет других никому не спастись.
И уж совершенно ясно, все ясно с тем, о чем еще несколько лет назад приходилось спорить, — с так называемым «арифметическим гуманизмом». Это когда подсчитывали заботливо, сколько «голов не жалко» — ради счастья других: если этих «других» больше, а тем паче — намного больше, значит, все в порядке — «активный гуманизм»! Какая там еще слезинка ребенка, одного-единственного!..
Отменена такая арифметика самим временем: слишком близко маячит за любой цифрой то самое залыгинское «ничего». Убить человека и убить человечество — казалось, несопоставимое опасно сблизилось в век ядерного оружия.
Это самое «ничего», грозящее из близкого будущего, проникает неизбежно во все нравственные постулаты, категории, изменяя их. Порой очень заметно.
Мы, род наш, на новом витке, оказались снова на том самом месте (или над тем самым местом), с которого первочеловек начинался, начинал. Когда нравственное (а лучше назовем «преднравственное») регулирование напрямую связано было с вопросом: жить или не жить «прямоходящим».
Если ученые правы и человек действительно появился (в Восточной Африке) благодаря мутациям, вызванным повышенной радиоактивностью, — взамен клыков, когтей, быстрых ног получил невиданный мозг, прямохождение, «человеческие» руки — начало человеческой истории, над которой мы снова, как НЛО, зависли, видится так.
Первочеловек не знал еще, какими преимуществами мутационный случай, природа его одарили — перед всеми другими видами существ. Слишком слабым он был, кроманьонец, рядом с теми, у кого когти и клыки.
Но и сама природа не вполне «представляла», кого породила — голубку или ястреба, зайца или тигра о двух ногах? А лучше бы ей «знать», и именно в самом начале: от этого зависело, какой мощности Инстинкт Самосохранения Вида должен быть вмонтирован. Природа в этом случае оказалась на удивление непредусмотрительной, действовала, прикинула на глазок: когтей нет, зубы не опасные, да и мускулы не ахти какие — зачем ему мощный инстинкт, запрещающий убивать других прямоходящих? Ну, даст подзатыльник, ну, окрысится — а что больше? Птичке первозайцу и вот этому траво-трупоядному прямоходящему существу такой инстинкт — излишняя роскошь! Другое дело тигр, ядовитая змея: не надели их твердым запретом на убийство себе подобных — изведут свой вид!
Так или не так «рассуждала» Природа и вообще рассуждала ли — это другой вопрос. Но результат получился именно такой: существо, вооруженное (потенциально), как никакое другое на Земле, средствами, способностью, причинять урон себе подобным, не несет в себе достаточно мощного Запрета — Инстинкта, защищающего его вид от самого себя.
Когда это человек осознал? А думается, раньше, чем мог понять, что уже осознает. Не этим ли объясняется необъяснимое, казалось бы? Многие ученые (например, наш Б. Ф. Поршнев в книге «О начале человеческой истории») отмечают вот какой труднообъяснимый факт: как только Homo sapiens появился, он тут же устремился вдаль. Этакие неуемные колумбы! В невероятно короткие для того времени сроки разбрелись по всем континентам.
А может, вовсе не «колумбов комплекс», а ощущение, осознание, предосознание, что ни в тебе, ни в других, тебе подобных, нет запрета убить такого же прямоходящего из другого рода-племени, породило этот психоз разбегания по всей планете? Тигру надо столько-то километров для того, чтобы не чувствовал дискомфорта, волку столько-то достаточно. Первочеловеку мало оказалось Африки, мало того, что потом назвали Европой, Азией, добрался до Америки: два племени на одном континенте и уже — дискомфорт!
Но Земля все-таки круглая, в Космос еще не вырвались. Надо было учиться жить рядом с себе подобными. И необходимо было что-то заменяющее тот самый Инстинкт, которым природа обделила.
Вот тут Разум — отличительная особенность кроманьонца, стал Инстинкту заменой: начал вырабатывать законы, правила-запреты, как жить рядом с тебе подобным, запреты, которые позже станут моралью, нравственностью и которые позднейшие религии присвоят как собственные изобретения.
И вот сегодня род человеческий вернулся на новом витке к положению, когда от разрешения или запрета на убийство себе подобных зависят напрямую шансы на выживание самого биологического вида.
Все эти «не убий», «не делай другому, чего не хотел бы себе и своему племени», в доядерные времена все-таки не являвшиеся сигналом смертельной опасности, предупреждающими «Иначе погибнете все!», — теперь они обретают статус почти абсолютов. Можно сказать: а и убиваем, и ничего! И бомб столько наделали, а ничего не случилось!
Ну что ж, живем в долг у случая. Как напомнил наш министр иностранных дел всему сообществу людей — с трибуны ООН. Но этот кредитор-случай пострашнее шекспировского Шейлона: если опротестует вексель, то не на кусок мяса, а на голову всего рода нашего.
Вот почему «новый гуманизм», «новая нравственность» — это не поспешные слова вослед «новому мышлению». Это практическая необходимость меняться адекватно небывалой ситуации, в которую люди сами себя поставили, загнали, — во всем меняться.
Можно, конечно, и не меняться. И даже другим мешать, запрещать. Позицию «ортодокса» и «запретителя» можно вообразить даже в невообразимой ситуации. Говорят (а что, вполне можно допустить, что так и было), морякам с баржи, протаранившей «Адмирала Нахимова», сразу не позволено было участвовать в спасательных работах: а как же, они ведь еще не прошли таможенный досмотр!.. (Не самим ли капитаном, который там, где следовало, бдительности не проявил, а совсем наоборот.)
Что-то подобное происходит и в нашей литературе, в прессе, обсуждающей проблемы, которые наша литература все-таки пытается ставить, решать.
Литература — если иметь в виду лучшие новые произведения — безоглядно бросилась в поток бушующей современной жизни: «Пожар» Распутина, «Печальный детектив» Астафьева, «Плаха» Айтматова… А на берегах этого небезопасного потока стоят некоторые другие писатели, критики (вдруг здесь объявится и какой-нибудь философ, как в старые добрые времена, философ-атеист), судят, судачат: по правилам или против правил такие произведения созданы и не чрезмерно ли в них все, не за много ли?..
Особенно любопытно и поучительно события развиваются вослед и вокруг «Плахи» Айтматова. «Круглый стол» в «Литературной газете», телевизионные выступления критиков — какая-то растерянность. С другой стороны, говорим мы, в романе Айтматова много погрешностей против вкуса, языка, чувство меры то и дело не на высоте. А с другой — небывалая и для этого писателя мощь. Из чего она проистекает, чем питается, как объяснить природу, источник этой мощи, если в романе и это как-то не так, и то не то, а кое-что и просто плохо?
Убедительных обвинений никто не предложил. Не уверен, что и мое будет намного убедительнее.
В дружеском споре с Василем Быковым, которого я совращал на «антиядерные выступления в художественной прозе», вырвалось слово — «сверхлитература». Против жизни вон чего наготовлено — сверхугроза от сверхоружия! Как тут не подумать, не заговорить об адекватном слове и действии в литературе — о сверхлитературе? Пусть, пусть взорвется проклятая бомба в нас самих, в сознании литературы, если недостает нам (а нам действительно недостает) необходимой адекватной реакции на все происходящее, грозящее. Вспыхнет сознание по-новому — будем писать по-иному.
Все это провоцирует спор среди литераторов, критиков, вызывает несогласие многих. Которое можно и понять и объяснить.
Во-первых, обидно для классики. И самонадеянно, если не больше. Что, у классиков не было чего-то такого, а мы сейчас, такие гении, произведем?
Еще обиднее для нас самих. Что же получается, писали все последнее время, пишем, а оказывается — не то, не так?
Возражения, недоумения, обиды вполне законные. Но все равно — куда более обидная и грозная истина в том, что живем мы сегодня в долг у случая. Все существует, пока существует потому лишь, что не случилось. Существует в мире, в реальности, где уже и такая оглушительная глобальная беда, как Чернобыль, выглядит лишь намеком на ту, которая может в любой момент обрушиться на всех.
В этой реальности жить и писать с олимпийской, спокойной уверенностью, что твое творение выполнит свою роль в этом мире — не сегодня, так через десять, через сто лет, — никто уже не может. (Можем, ухитряемся, но какие же мы тогда писатели, какая литература и зачем она?)
Когда говорят: произведение не могло не появиться — имеют в виду высшую в нем необходимость. (Хотя не появись даже «Онегин», даже «Война и мир», мы и не догадались бы, что обделены, что беднее на эти произведения.)
Никогда необходимость произведения, нужда в истинной литературе, в искусстве слова не диктовались столь крутыми и обязывающими обстоятельствами. Можно на это сказать, что и прежние времена бывали крутенькими. Но всегда могли быть мотивы, чтобы отклониться, устраниться — объяснимые, оправданные, даже благородные. Потому что могло быть нечто более высокое, значительное. Более общечеловеческое. Тут же ничего выше и важнее быть не может, не бывает: альтернатива жизни (а уже на нее замахнулась бомба) — ничего. То самое ничего, которое и добро и зло отменит в этом мире.
У Толстого как-то вырвалась жалоба, не ставят пьесу, лежит, а время уходит. Фет пошутил: что боитесь, что поумнеют? То есть люди и без вашей пьесы срочно поумнеют, и она не понадобится?
Так, ну а без твоего сегодняшнего произведения — что, боишься, что мир погибнет? Если ему погибнуть, то и твоя пылинка под колесом неизбежного ничего не переменит. Скорее всего, так оно и есть, и можно бы смириться. Если бы не приходилось смириться с ничем! Но как только такое происходит, смиряешься, «ничем» становится и твое творение. (Которое вчера еще, такое же, было бы литературой. И даже, возможно, не плохой, даже отличной.)
Можно сказать, и говорят: ага, значит, снова «тема» является пропускным билетом в литературу истинную? Было, знакомо, да только большой литературы из этого не получалось! И вон сколько уже появилось конъюнктурных поделок «на ядерную тему». Все верно: и поделки множатся, обидно не адекватные теме, и вообще никогда ничего хорошего из акцента на теме не рождалось.
Но, во-первых, не о литературе, как таковой, теперь уже главная забота. Даже когда о ней речь. Во-вторых, в этом направлении что-то все-таки светит, хотя бы в перспективе, а если не держаться общего направления на это главное, возможна лишь видимость литературы. В которой все вроде есть, все как прежде, «как у больших», но тут же обнаружится, что это одна лишь видимость, оболочка, которую покидает или уже покинул тот самый гегелевский «дух истории».
Как же выходить из положения? Вокалисты, певцы, выступающие перед огромными аудиториями, на площадях и стадионах, выходят из положения с помощью современной техники. Правда, микрофоны распирают стены и малых помещений, стирая грань между выдающимся голосом — чудом природы, и заурядностью. Но это уже издержки, которые в любом деле неизбежно следуют за технической оснасткой.
Как найти, где искать литературе свой «микрофон» — для обращения к современной аудитории. Хорошо бы, к массовой. Но реальность такова, что без усилителя, прессинга, бывает, что не прорваться уже и к отдельному человеку, к его сознанию, душе.
Впрочем, не зря говорят: острая необходимость, потребность обязательно подскажет средства, пути.
Усилитель, «микрофон» в литературе изобретен. Не сегодня, давно. Только литература пользуется им не всегда в одинаковой мере. Но в крутые моменты истории хватается за него, держит близко, использует вовсю. Да, это — публицистическое, прямое, громкое слово, бросаемое в разгоряченное или, наоборот, спящее — но которое надо срочно разбудить — сознание.
Снова наступило время «громкого голоса». Вот и дискуссия у нас прошла в «Литературной газете» — о публицистике и публицистичности, в художественной литературе. Прошла и ушла. Все-таки такое ощущение, что — в песок. Полемизировали, но как-то не очень слыша друг друга. И гипнотизировало само слово «публицистика», «публицистичность»: всегда, мол, это было, к ней обращались при необходимости. А художественность — о, это что-то совсем иное, не столь громко, зато и глубже, и основательнее, и даже действеннее!
Не остановились на мысли: а может, и это художественность, но только какая-то иная, незнакомая, как и все, что истинно новое? А не первые ли шаги к новой художественности — задуматься бы в этом направлении!
Спор шел в основном вокруг «Пожара», «Печального детектива». Появилась «Плаха» Айтматова, засуетились нынче и вокруг нее, но все с теми же мерками. А если задуматься: вдруг да устарели измерительные приборы, инструментарий — для такой вот литературы? Реактивы критические не те? Потому главного не улавливаем, оценить не в состоянии. Достоинства (не до конца еще развившиеся) кажутся недостатками, слабостями, публицистической прямолинейностью, хвалим же только за то, что знакомо, вкладывается в прежние параметры.
Пирамида из циклопических глыб — та же «Плаха», — а мы ходим-судим, достаточно ли отшлифована. Удивиться же, поразиться, поразмыслить, как мастер их вырубил, от чего отколол, от каких гор, как сдвинул, с места и на чем их тревожное равновесие — нет на это у нас ни времени, ни желания.
Но не в этом (желание, умение), видимо, дело. А в том, несет ли сама критика в себе потрясенность, взрыв правды о современном мире, которые определяют пафос, новизну той же «Плахи».
Интересно иногда наблюдать за течением собственной мысли. В последнее время возникло техническое понятие «ядерная накачка», и тут же захотелось его приспособить к «сверхлитературе»: мощная вспышка нового сознания дает и новую литературу! И как-то забылось, а теперь вспомнилось: образ-то возник раньше. На Минской республиканской конференции по «военной» литературе (начало 1983 года) уже звучало, обсуждалось: должна ли литература нести в себе всю правду о ядерной угрозе? («Пусть эта проклятая бомба взорвется в головах писателей, в сознании литературы!»)
В космосе «ядерная накачка» служила бы войне, а в литературе пусть послужит жестокой, отрезвляющей правде — против войны. В самом же образе есть убедительность физического действия, как-то проясняющего еще не вполне ясное — мысль о литературе, какой ей быть.
Но возьмем пока примеры из литературы «обычной». Хотя тоже не традиционной.
Девочка, в литературе еще вчера ничего не значившая, со своими книгами становится вдруг в один ряд с тем лучшим, что наработано за сорок лет. Светлана Алексиевич: «У войны — не женское лицо», «Последние свидетели». И у нее не в переносном значении, а уже в прямом — как в вокале — техника в руках. Только не микрофон, а магнитофон. Следом за теми, кто постарше, пошла слушать, записывать жизнь, и подтвердилась не новая истина: жизнь-то гениальна! Надо лишь услышать и остановить эту гениальность. А затем снова пустить время, но уже по законам документального жанра, создавая новый контекст — голосам, судьбам, пронзительной правде психологических состояний.
Не смущаясь тем, что и сам делал подобную работу (совместно с Граниным, Брылем, Колесником), статью о работах С. Алексиевич назвал: «Как быть гениальным» (в книге: «Выбери — жизнь»). Потому, конечно, что гениальны не авторы, да и человек, говорящий в микрофон, не должен обязательно быть гениальным (хотя случаются рассказчики, чаще рассказчицы — с невероятно талантливой памятью).
Гениальна — жизнь. Особенно в минуты, когда над ней угроза небытия. А значит, в век ядерной угрозы, притом самому роду человеческому угрозы, гениальность ее должна обозначиться, обнаружиться тем сильнее.
Но как подступиться к ней? Кому и когда откроется, открывается? Продолжая известный образ: горы руды — грамм радия, вспомним, что разработка руд ведется или глубинным бурением, шахтным способом, или открытым (промышленным).
Так вот, принципиальная новизна писательской документалистики, о которой зашла речь, выражается в переходе от «глубинного бурения» к «открытому способу». Благо и «экскаваторный ковш» появился — магнитофон.
Глобальные сдвиги, перемещения верхних, и не только верхних, пластов человеческих сообществ (и в самом человеке, его психике) столь грубы, столь резкие, всеобнажающие, вскрывающие нижние, прежде спрятанные от глаз, тайные породы, что действительно можно переходить к «открытому», почти промышленному способу добычи того, что прежде открывалось, в руки давалось только гениям. Бери ковш — магнитофон (или по-другому) и греби прямо из-под ног. Любопытно, что разновидность жанра этого на Западе так и обозначают: «Копай под ногами!», «Рой, где стоишь!»
Помню, как вначале поражался (потом стал относиться к этому как к некой данности, норме), когда простая, часто неграмотная женщина такую правду о человеке, его самых глубинах поведает или когда в дневниках, в письме нечто такое вычитаешь — просто Достоевский! Будто неведомый нам Достоевский, его неизвестные произведения цитируются, пересказываются! Толстой!..
Называть хочется самых-самых.
Умирает от истощения блокадница, окруженная детьми, они сбились испуганной обреченной стайкой. Только закроет глаза — они в крик. Мать снова возвращается на их плач к жизни. И так мучительно, невыносимо долго. Пока девочка постарше не приказала: отвернитесь! Вы не даете маме умереть!..
Цену этой жалости, меру этой правды где искать? Действительно у самых-самых. Только классикой и мерить.
В белорусской деревне Борки, где фашисты убили, сожгли более двух тысяч жителей, в новом, послевоенном доме, стоящем на месте сгоревшего, слушали мы, записывали женщину, все это пережившую, помнящую: глядя в окно так, будто они все еще там, снова идут к ее порогу (как тогда, в июньский день 1942 года), она рассказывала на крике: и прибежала к ней в дом соседка, а мальчик восьмилетний с нею был, так мать ему: «Сынок мой, сынок, зачем же ты ботинки эти надел, резиновые! Твои же ножки долго гореть будут, в резине!»
Давно думаю: разве же возможна и не необходима такая же «магнитофонная» книга о судьбах деревни на грани двадцатых — тридцатых годов? Сколько бы она заново высветила и объяснила — и в дне сегодняшнем. И не только деревни о себе самой рассказ надо выслушать. Много о чем и надо бы и можно — таким вот способом. Жанр есть, работает.
«Печальный детектив» — не документальная проза. Но он рядышком где-то, совсем близко. Даже по приемам письма, когда используется монтаж правдивейших кусков, фактов жизни. («А вот вам еще! Как с гуся? Ну так, может, это проймет?!»)
Сознательная установка: добраться до читателя, до самой души, совести, да так, чтобы не увернулся, не отмахнулся: «Это дело милиции, а у меня своих забот!..»
Что и говорить, печальный парадокс наш в том, что реальную действительность, ее правду умеем, научились не замечать — будто не здесь мы, не часть этой жизни. Приходится писателю возвращать и в день сегодняшний, в современность читательское сознание совершенно так же, как документалистика пытается возвращать его в блокадное время, в хатынское, в военное.
Именно этим занята часть наших публицистов, говорящих о ядерной угрозе: очевидное, но все равно никак не проникающее в глубь сознания, выталкиваемое, как мячик, из воды, все-таки принять в себя! Карякинское «Не опоздать!» — пример такой отчаянной попытки перебороть инертность современного сознания.
И «Плаха» Айтматова раскалена этим чувством: сказать такое, сказать так, чтобы читателю «не отвертеться»!
Помню, как в Ленинграде вместе с Федором Абрамовым смотрел его «Деревянные кони» — во время гастролей Театра на Таганке. Автора сразу же после спектакля уволокли на сцену, за кулисы.
Ночью созвонились. Как ругался, как хрипел своим простуженным голосом Федор: «Да ты смотрел в зал?» — «Я на сцену смотрел». — «На сцену?! Надо было в зал смотреть!..»
Ему казалось или в самом деле разглядел, что его народ крестьянский, все вынесший на своем горбу, для многих «петербуржцев» — далекая экзотика. Слишком отстраненно смотрят, а потому даже их сочувствие «деревне» было обидно, оскорбительно для Абрамова.
Вот и Астафьев этого не хочет позволить своему читателю — отстраняться. Берет за ворот и тащит в ту жизнь, которая есть правда, реальность для стольких людей. Мало, на тебе еще!
«Плаха» Айтматова — в том же ряду. Хотя это скорее роман «идеологический» — если иметь в виду жанр, разрабатывавшийся Достоевским. Тут «идея» — равноценный герой, погибающий или побеждающий. Когда распинают Авдия, равным образом распинают и идею.
Мне кажется совсем не случайной перекличка образа Авдия Каллистратова с Алешей Карамазовым. Более того, в романе она провоцирующе подчеркнута. (Автор даже сохранил инициалы: А. К.)
Грандиозный замысел «Атеизма» (в него и «Братья Карамазовы» должны были войти как одна из частей) включал, содержал, как известно, путь Алеши Карамазова вначале «в мир», затем бунт против церкви, богоискательство, а все вместе должно было привести его, возвести именно на «плаху».
Литературная ниша, не до конца заполненная гением русской литературы, звала, кликала, притягивала сознание литературы, как невидимая «черная звезда» — откликнулся Айтматов. Сегодня говорят, удивляются — даже с укором в сторону русских современных писателей: почему сделали не они, а представитель другой национальной традиции, культуры? А может, так и должно быть, как раз закономерно в столь тонком деле: нужна смелость наивности, смелость первооткрытия для себя и своей культуры (а тем самым снова — для всех). И даже, может быть, нужна была традиция (как раз киргизская и именно айтматовская) мощной мифологизации, не умершая эпическая традиция, наивная и мудрая, чтобы подхватить и продолжить то, что «напрямую» сделать просто невозможно.
Но самое главное, все это совпало с властным требованием самого времени: зовите, сзывайте всех, потому что спасать — всё! И будущее, и настоящее, и прошлое! Да, и прошлое, не рассчитывайте лишь на самих себя — великих зовите на подмогу. Великих мыслителей, художников, подвижников, великие мысли, идеи, открытия гениев — и на них тоже замахнулась бомба. Думать, что «новое мышление» — это нечто такое, что вырастает, вырастет на голом месте, где все заново, значит, повторять самонадеянные ошибки двадцатых годов, когда все старое собирались игнорировать, а «новую культуру» строить из энтузиазма. Мы помним, как отнесся к этому В. И. Ленин: новую культуру строить, возводить можно лишь на основе всего, что накоплено человечеством за его историю! Или, как сказано в книге Д. С. Лихачева «Прошлое — будущему»: «Подлинно новая культурная ценность возникает в старой культурной среде… Нового самого по себе, как самодовлеющего явления, не существует».
Сегодня это тем более верно. «Не делай другому, чего не хотел бы самому себе» и «Если враг не сдается, его уничтожают» — что тут созвучнее новому мышлению, а что старому? Конечно же устарело то, что ближе к нам по времени, и заново, новой правдой засветилось, зазвучало то, что древнее всех религий: «Не делай другому…»
И, кстати, об отношении к религии, а точнее — связанному с этим явлением философско-нравственному наследию. Вопрос этот уже поставлен в связи с романом Айтматова.
Я не стал бы ссылаться на авторитет философа-атеиста Крывелева, напечатавшего статью в «Комсомольской правде» (все это, к сожалению, на уровне журнала «Безбожник» двадцатых годов), если уж на сегодняшний взгляд, то предпочту авторитет Фиделя Кастро, о книге которого по этому вопросу пишет в № 5 за 1986 год журнал «Куба». Вот где диалектически, строго исторически, с учетом и времени нашего, и целей социального и нравственного обновления мира, ставится вопрос об отношении к тысячелетним заблуждениям и истинам человечества.
Слышатся рассуждения, что вся мощь произведений Айтматова — целиком из его умения «писать зверье», из «чувства природы». Эти, мол, сцены все и держат.
Думается, что не только они. Они всего не объясняют. Их самих приходится объяснять, силу этих сцен. Характерно, что именно волки, завораживающе ярко высвеченная Айтматовым пара, семья волков — они выражают в романе наибольший драматизм бытия. Может быть, потому что они первые. Их, как и сайгаков, саму природу, человек в своем неразумии и недальновидности приговорил, обрек на исчезновение и гонит, гонит к небытию. Поспешая и сам к тому же краю — в погоне за дурманом, химерами, ложными целями, лживыми «идеями».
Мысль горькая, резкая, как удар плетью, отрезвляющая. Еще один роман-предупреждение, хотя и не антиутопия (по жанру), а это особенно ценно и должно подействовать. Читателя не извлекают из привычной ему обстановки, не переселяют в условный мир, чтобы там «будить». Нет, тут же, на месте: оглянись на то, чего почему-то не замечаешь! Куда же смотришь, чем живешь, если такое творишь, а что — ведать не желаешь!
Все та же, что и у Распутина, и у Астафьева, задача, заставить, наконец, разглядеть очевидное, чего почему-то видеть человек не склонен.
Да что читатель — сами писатели: как трудно идут, как нелегко выходят ко «всей правде».
Помнится, как на Минской конференции 1983 года по всем этим проблемам (мысли о них еще лишь вызревали) произошел спор: «пугать» ли себя и других и вообще можно ли создавать какую бы то ни было литературу, ногой ощупывая край пропасти? Не отступить ли чуточку, а уже затем «творить»?
Сегодня об этом уже не спорим. Хотя на практике лишь немногие пока способны идти со стороны пропасти. Но они-то и есть заявка на литературу с действительно новым чувствованием, мышлением. (Или, как выражается Юрий Карякин: с новым хронотопом.)
Литература, которая постепенно делается нормой, та, что не отстранилась, а пошла безоглядно навстречу всей угрозе, более того — в которой «бомба» уже взорвалась, — вот что такое «Плаха». При всех неровностях, изъянах и прочее и прочее, что критика и «литературная общественность» тем старательнее фиксируют, чем больше раздражены собственной неготовностью воспринять и объяснить новую литературу.
Что ж, как говорят белорусы, я тоже суну свои «три грошика».
Мне, например, пока что видится художественный сбой на том месте, где Айтматов решается добавить собственного меда в «соты» Булгакова (сцена Христа с Пилатом). С Достоевским определенно получилось, здесь же не настолько. «Ниши»-то нет, «соты» и без того заполнены доверху, добавить что-либо, даже с талантом Айтматова, даже с высоты нового времени — трудненько.
Грозная правда новой литературы обязывает к высшей гражданственности. Хотя бы по принципу: снявши голову, по волосам не плачут!
Мне и всем мною высказанным мыслям-рассуждениям о романе «Плаха» предстояло серьезное испытание, когда, заканчивая свою статью, я прочел в «Известиях» (2–3 декабря 1986 года) статью Владимира Лакшина «По правде говоря!» — первый более или менее обстоятельный критический анализ нового произведения Айтматова. Я читал и соглашался почти со всеми претензиями критика к роману. Более того, осознавал, что явные недостатки произведения и языковые штампы, вдруг ранящие наш вкус как заусенцы, натяжки в жизненной и социальной биографии Авдия, рискованная автономность каждой из частей романа и т. п. — все это и прежде мною ощущалось и замечалось, но вдруг прочел В. Лакшина — высветилось крупно. Настолько, что вроде бы уже и нет большого и неординарного произведения, а нерасхожая гражданская мысль и смелость его — той же, например, третьей «излишне автономной» части! — будто бы и не существует всерьез…
Прочел статью, почти согласился… и она отступила. А роман снова завладел сознанием, захлестнул душу высочайшей волной, магия его непонятной мощи вновь потеснила мысль критическую…
Да, действительно все так нескладно в романе, не подогнано и так же отшлифовано. Грубый кусок железа. Но только намагниченного. Он будто бы живое что-то, сопротивляется вашей воле и мускулам, рвется, вырывается из рук (неужто не помните это чудо из чудес детских своих открытий?)…
Не эта ли «намагниченность» каждой части и частички романа, не она ли создает ощущение таинственной мощи и, как ни удивительно, целостности произведения Айтматова (при всех нарушениях привычных норм архитектуры романа?).
А «намагнитить» свое произведение и каждую его частичку, тем более с такой силой, можно лишь энергией своей собственной мысли и боли.
Чингиз Айтматов — и это следует отметить — раньше многих других заболел неотступной мучительной мыслью о «немыслимом»: так что же ждет людей и планету и как, как об этом писать, кричать, чтобы услышали, чтобы дошло?! Как выразить невыразимое? Чтобы хоть как-то могла литература влиять на ход событий.
Вспомните его статьи, выступления, диалоги — это было не «на потребу дня», а всерьез, из глубины сердца и совести. Доказательство — роман «Плаха».
Выразить невыразимое! Неужто так просто это сделать: взял классические формы и выразил? А если это — как взрыв? Как горы образуются: донным напряжением, сдвигом, а то и вулканическим выбросом. Как разбросает, так и ляжет. Строго направленным сделать такой «взрыв», очевидно, можно. И даже следует — искусство как-никак. Но только не знаем никогда, что потеряем. Выиграем в гармонии, но вдруг потеряем в силе? Наверное, и Достоевский «мог быть более гармоничным» (этого не одному Ивану Бунину хотелось в свое время), но только как бы выразил этот писатель тогда весь трагизм дисгармонии бытия человеческого?..
К таким произведениям, как «Плаха», «Печальный детектив», «Пожар», необходимо еще и привыкнуть. К новым вулканическим горам, наверное, тоже привыкал чей-то глаз нелегко и, скорее всего, с чувством дискомфорта и даже ужаса. Откуда такое, что это?!
А потом уж невозможно и вообразить, что этого не было, представить пейзаж без той или другой горы.
Некоторые произведения мы принимаем с немалым трудом, смущением — что ж, это в порядке вещей. Они врываются в литературу, они будут врываться-взрываться у нас на глазах снова и снова.
Привыкнем.
Ну, а что первые произведения из этого ряда появляются на свет с недостатками, даже с кричащими недостатками, что же, новорожденному даже просто рекомендуется, необходимо покричать!
Во времена всех римских тиранов, Тибериев да Неронов, парадоксально существовал миг высшей свободы для людей, полностью зависящих от их жестоких капризов, дикой паранойи. Миг этот, однако, соседствовал впритык со смертью. Готовясь по приказу тирана вскрыть себе вены, патриций мог сесть за столик и написать — все, о чем вчера и помыслить не решался. Всю правду прямо в лицо. Последний миг поднимал любого лгущего и лебезящего перед тираном до человеческого наконец образа.
Жить каждым мигом как последним — это давно очень много значило в делах литературных. Писать, как если бы это было твое последнее слово! Да и жить, вести себя перед внешней силой так, как если бы тебе надо через мир «предстать»…
Из этого — и Достоевский. Притом, помимо «больной совести» и необычайного дара человечности, был еще и такой момент: биографический. В разных томах последнего нового академического издания напечатаны странноватые столбцы дат: приступы болезни писателя. Мы знаем, как они тяжело проходили, каждый мог стать последними минутами жизни.
Это не само по себе лишь, но в сочетании (как и все в художнике) со всем остальным и давало тот сгусток психологической энергии (пусть и болезненной в чем-то), позволявшей Достоевскому постоянно заглядывать за край… Грозящий опасный рубеж небытия, который для Достоевского — всегда рядом, обострил в нем чувство катастрофы вообще. Которая может прийти, наступить, если человек, люди по-прежнему будут истину искать вне человечности. Топор, который запустила необъяснимая фантазия этого «высшего реалиста» вокруг Земли — вот такое пророчество за сто лет до планируемой милитаристами опаснейшей затеи! — он разглядел раньше под полой у Раскольникова. В душе, в самом дне-донышке человеческом.
Упрекали — пессимист, даже — мизантроп! Сегодня немеем от удивления: да как он мог предвидеть?..
Сегодня можно было бы составить иной список болезненных приступов, поражающих целые страны, бросающих в холодный пот все человечество разом: список-перечень безумных планов ядерной бомбардировки чужих городов — все новых и новых «дропшотов», кризисов, сходных с Карибским… Литература, о которой ведется речь, не может не держать список этот перед глазами постоянно.
В литературе всегда были лжецы. И даже больше. Но с чем сравнить патриция, который и последнее послание своему убийце — перед тем как с бритвой в руке погрузиться в теплую ванну — сдобрил бы ложью, лестью, восхвалениями?
В США в институте имени Кеннона, изучающем «русистку» (так они именуют в высшей степени пристрастное изучение Советского Союза), я взялся толковать о том, как телемосты со временем родят новый вид искусства. (О чем, кстати, была специальная конференция в московском Институте искусствознания.)
Может быть, наивно, но я размечтался о том, как сам масштаб нового вида искусства резко поднимает уровень правдивости народов, самокритичности обществ, людей друг перед другом: представляете аудиторию в два, в четыре миллиарда сограждан Земли! Разве осмелишься — в глаза всем толковать-талдычить привычное: не правы вы все, один я прав?.. А каким надо быть планетарным Хлестаковым, чтобы смотреть в глаза всему человечеству, стоять перед глазами и — лгать!
А мне возразили: чем больше аудитория, тем легче врут ей. Одного человека обманывать труднее, а многих — еще как научились, история тому свидетель!
Смутил меня этот довод. Но ненадолго. Я вспоминал то новое, что рождается в литературе современной — именно из разговора (мысленного) со всем человечеством. В произведениях этих — таких, как айтматовское, — новая мера всего. Да, и гражданственности тоже.
Помню распутинские слова в Иркутском университете, где мы выступали несколько лет назад: на вопрос, что будет, если все старания его и его товарищей разобьются о министерские, бюрократические надолбы и реки все-таки повернут, писатель ответил очень тихо, побледнев даже — да, это не были слова на ветер. Смысл их: останется плаха, «лобное место»!..
«Искусство… Это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез…» — эти строки Бориса Пастернака — поэтическое выражение природы истинного художника. Но никогда столь всерьез профессия художника не требовала от него: сгори, но загаси пламя!..
Понятие «сверхлитература» — откуда из 1983 года у нас в Минске прошла бурная конференция на тему о роли литературы в условиях ядерной угрозы. Эхо споров длилось долго (даже сейчас нет-нет да и отзовется). Может или не может и как должна литература рассказывать о немыслимом? О всеобщей Хиросиме. На возражение, что реалистическая не может о том, чего не было, и родилось полемическое: «Не может литература? Ну так давайте сверхлитературу! Но не писать, не говорить об этом — это то же самое, что было бы не писать о смертельной угрозе осенью-зимой 1941-го».
Помню, в одном из продолжающихся споров сказано было даже так: уж как ни важно о «культе», но и это теперь на втором плане.
Но очень скоро появилось другое, видимо, более точное ощущение. Да, все «на втором, на третьем плане» — в сравнении с главной угрозой человечеству. Но и все взаимосвязано. В ответ на мое упрекающее письмо: мол, где обещанная повесть о «ноевом ковчеге», о первых ядерных испытаниях, куда он, будучи солдатом, сгонял «чистых и нечистых», разный там скот, все живое? — горячий, честнейший Виктор Конецкий огрел меня по-моряцки: нашел о чем, хлеб отнимаешь у Юрия Жукова! А ты бы написал о том, что не поставлен до сих пор обещанный нами памятник жертвам сталинских репрессий. А мне бы о том написать, как возим за тысячи верст по североморскому пути гниль, в трюм с картошкой без противогаза не спустишься…
Вот такая пошла-поехала перебранка, по-дружески жесткая: считаешь, что о войне и мире писать — конъюнктура? А ты попробуй, но только всерьез, додумывая все и все договаривая до конца? Посмотрим, что за это получишь? Как минимум — «пацифиста», «разоруженца»!
Но вышли и на более серьезные слова и мысли. Хотя бы вот такие. Если мы хотим каких-то перемен и в делах внутренних, тем более нужно донести до как можно большего числа наших людей правду о глобальной угрозе всему и всем. Для таких перемен нужна соответствующая эмоциональная обстановка. Чтобы преодолеть апатию, равнодушие, неверие ни во что. Когда-то сдвиг наметился в условиях эмоциональной бури XX и XXII съездов. Но сила ее оказалась недостаточной. Так, может быть, осознание, что овладевшая обществом пассивность, неподвижность грозит погибелью — может, это разбудит…
Это — такая связь наших внутренних проблем и перспектив всеобщего выживания — сегодня еще очевиднее. Но совсем не мешает на этом делать больший упор. Тогда мы не будем успех или неуспех нашей перестройки мерить лишь комфортностью или дискомфортностью нашей жизни, экономической, духовной, литературной.
Нет, воистину: жить или не жить — вот что такое перестройка!
А уж если о «сверхлитературе» сегодня, то совершенно очевидно, что на это «направление» работают не только «Пожар», «Печальный детектив», «Плаха», о чем мы уже спорили-писали, но и «Белые одежды», и «Зубр», «Мужики и бабы», и «Дети Арбата», и «Ночевала тучка золотая» — все то, что рождает и крепит чувство непримиримости к рецидивам прошлого. Прошлого, в наше время смертельно опасного не только для нас самих, не только для нашего общества.
На встрече с творческой интеллигенцией М. С. Горбачев подчеркнул, что мы, с одной стороны, никогда, никогда не забудем и не простим те преступления против партии и народа, которые совершил Сталин. А с другой — что недопустимо неуважительно говорить, писать о поколениях, в тяжелейших условиях заложивших основы нашего сегодняшнего могущества, победивших фашизм.
Да, в тяжелейших условиях. И условия были тем тяжелее, что они создавались не только самой обстановкой, временем, не только извне навалились на нас, но приходилось преодолевать — что было еще труднее — враждебную народу, ленинской партии силу сталинского всевластья, недоброго, капризно-жестокого недоверия к каждому человеку, к целым народам, рождавшего самоистребительные массовые психозы в стране. Вениамин Каверин сказал об этом так: «Трагедия человека, отторгнувшего от себя все естественные чувства любви, дружбы, свободы»… Сталин добивался своей цели, «развязав неслыханный террор, действуя Большим Страхом, как рычагом повиновения» («Московские новости», 2 авг. 1987).
Да, в этих условиях все делалось, давалось трудно и бессчетными, далеко не всегда оправданными жертвами — и до войны, и в войну, и после нее. Тем большего уважения заслуживают люди, поколения, все-таки выстоявшие и душу сохранившие. Которые никогда не смирялись с искажением идеи, реальности, правды — за это снова и снова обрушивался на них слепой гнев так и не поверившего в свою окончательную победу над народом организатора Большого Страха.
Сколько я сам помню людей, которые в годы войны, партизанщины, борясь с фашистами, самоотверженно шли навстречу не только собственной, но детей своих погибели, хотя знали, точно знали, что «он» не простил их и не простит — после войны, после победы снова придется быть без вины виноватыми. Как и до войны.
Неизвестно, за какие провинности всю жизнь платили, расплачивались. Только потому, что «он» объявил очередную формулу об «обострении классовой борьбы», распорядился, чтобы врагов было больше, тем больше — чем большие победы наши.
Как было с белорусским критиком Гришей Березкиным: спасся от расстрела, прошел войну (через Сталинград до Берлина), а после Победы его не без лукавства спросили: «Ну что, будем досиживать?»
И досиживал. До самой реабилитации.
И так было, бывало с миллионами людей наших, наших советских людей: сколько же сил народных, физических и духовных, истрачено и на эту общую тяжесть!
Наш последующий позор и беду — вселенское пьянство — нужно оценивать и понимать, памятуя о той, прошлой, тяжести. Скинув, вдруг ощутили такую опустошенность от перенапряжения… Всё, всё из той ненормальности. Пора же начать жить нормально, без истязания самих себя фанатизмом не проходит это даром, отзывается и через десятилетия.
Во время московского форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» выступил американец и сказал, что Запад слишком отождествляет по сию пору социализм со Сталиным. Можно удивляться, но это факт, он-то и придает силу, опасную силу пропагандистской формуле: «Лучше быть мертвым, чем красным».
А с нашей стороны столь же трафаретные зачастую убеждения, что если где-то, в каком-то высказывании или формуле «уточнить» наше отношение к Сталину, разъяснить в постановлении — проблема будет снята. Опять-таки — в нашем лишь представлении. А чтобы снять ее действительно, чтобы прошлое не срабатывало против социализма и против наших мирных предложений, нужно открыто и честно связывать наши идеи, нашу новую политику и идеологию с правдой, всей правдой. В том числе и всей правдой о Сталине и его преступлениях.
Это важно и для наших внутренних дел, напрямую связано с перестройкой в той части, которая касается нашего собственного дома. Такие произведения, как «Реквием» Ахматовой, «Котлован» Платонова, «Собачье сердце» Булгакова, «Белые одежды» Дудинцева, «Зубр» Гранина, «Мужики и бабы» Можаева, «Дети Арбата» Рыбакова и т. д. — никому так не нужны сегодня, как молодежи. Если мы хотим иметь молодежь, активно защищающую перестройку, мы должны учесть опыт 60-х годов, опыт XX и XXII съездов. Там, тогда появилась стойкая когорта людей — их сегодня называют шестидесятниками, — которые, очистившись в огне ошеломительной правды, устояли (большинство) перед напором регрессивных сил общества, сохранили тот огонь, пронесли и вынесли через литературу, искусство на трибуны партийных пленумов, XXVII съезда партии.
Через этот очистительный огонь правды пусть пройдет и нынешняя молодежь. Тогда никакие соблазны, никакая ложь корыстного словоблудия не свернет ее с верного пути. Ей жить в обществе, где больше демократии, а значит, больше социализма. И где не повторится то, что повториться не должно — залог этому вся правда.
Новое мышление не есть что-то, что возникнет из простого понимания целесообразности. Мол, надо, а потому «перейдем на новое» — вроде бы купим новый календарь или переведем часы на столько-то вперед.
А здесь в начале всего и в основе — чувство. Чувство личной исторической ответственности за все на планете. Повторяю это выражение.
Прежде как бывало? Люди сделают, сотворят, натворят, а потом поймут, что не то, не туда, не так. «Мы сделали работу за дьявола!» — слова Роберта Оппенгеймера, отца ядерного оружия.
Новое мышление обязывает просчитывать много ходов вперед. И сворачивать в сторону или назад поворачивать задолго до того, как взгляд упрется в край пропасти. А это одной логикой не достигается, нужна интуиция великой любви к человеку, а сегодня скажем — и к человечеству.
Это всегда было предметом и заботой литературы. Новизна задач в одном лишь: не опоздать!
I
А. Стреляный Приход и расход
1. «Социализм мысли» против «социализма чувства»
Наиболее распространенный взгляд на причины ухудшения наших дел в 70–80-е годы — взгляд экономический. Это были годы, когда, как писала «Правда» осенью 1986 года, «затормозились рост производительности труда и общие темпы развития производства. Все ощутимее чувствовались ведомственность, перестраховка, рапортомания, очковтирательство. Некоторая часть кадров утратила вкус к своевременному проведению диктуемых жизнью реформ и нововведений. Стали проявляться бюрократизм и консерватизм, боязнь смелых решений».
Экономический взгляд на истоки этих явлений выражен в Политическом докладе Центрального Комитета КПСС XXVII съезду КПСС: «Главное в том, что мы своевременно не дали политической оценки изменению экономической ситуации, не осознали всей остроты и неотложности перевода экономики на интенсивные методы развития, активное использование в народном хозяйстве достижений научно-технического прогресса». В докладе выдвинуто требование радикальной реформы, «самой серьезной перестройки социалистического хозяйственного механизма», поставлена и обоснована задача исторической важности: как можно быстрее «перейти к экономическим методам руководства на всех уровнях народного хозяйства».
Есть и другая точка зрения на уроки 70–80-х годов. В предсъездовский период она тоже обсуждалась в печати, хотя и не так подробно. Согласно этой точке зрения слабыми были отнюдь не экономические, а политические и административные рычаги, не хватало прямого приказного действия. Эти годы, писал, например, один довольно известный экономист, показали, что «мнение, будто стоит побольше заплатить, подороже оценить — и тогда многие проблемы экономического роста будут сами собой решены, по меньшей мере наивно».
Предлагая свою особую оценку минувшего десятилетия, свой неодобрительный взгляд на поиск экономических методов управления, на попытки применять что-то более действенное и удобное, чем приказ, распоряжение, инструкция, он доказывал: «Манипулирование цифровыми, стоимостными валовыми показателями не обеспечивает народному хозяйству той продукции, ради которой и существует предприятие».
Чем объяснить это недоверчивое отношение к экономическим методам, которое вряд ли легко исчезнет только оттого, что их недвусмысленно приветствовал XXVII съезд КПСС? Может быть, в семидесятые годы и впрямь наблюдалось преувеличение роли рубля и принижение — приказа и призыва? Нет. «Побольше заплатить, подороже оценить» так грубо никто не рассуждал и не действовал. Сам язык специалистов, призывающих экономические методы на смену административным, был и остается принципиально другой, в нем слову «заплатить» противостоит слово «заработать»: получить за работу часть коллективного валового дохода. «Подороже оценить» — тоже не из этого языка, в нем совсем другие слова, а именно: проверять, обязательно проверять цены рынком, потребителем, что-то, естественно, будет тогда дорожать, что-то дешеветь, а какие-то цены будут оставаться неизменными к удовольствию ценовиков — тут, значит, не промахнулись, угадали, уловили конъюнктуру, как, например, тогда, когда по решению принявшего Продовольственную программу майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС повышали (не убоявшись обвинений в наивности!) закупочные цены на основные продукты. Хватало в семидесятые годы и самых крутых оргвыводов. За годы девятой пятилетки в РСФСР было снято свыше половины колхозных председателей, в десятой — еще больше, известны области, где из каждых десяти руководителей хозяйств сменили восемь, но это мало что дало. В Калининской области, где особенно активно применяли такие внеэкономические методы, производство продуктов в десятой и одиннадцатой пятилетках не только не увеличилось, а даже сократилось.
Когда слушаешь людей, считающих наивным экономический взгляд на трудности семидесятых — начала восьмидесятых годов, иной раз складывается впечатление, что в основе их позиции лежит одно любопытное недоразумение. Оно связано с ростом денежных доходов населения в семидесятые годы. Увеличение количества дензнаков на руках и сберкнижках, многочисленные повышения ставок, окладов, расценок некоторые, похоже, приняли за «разгул» экономических методов и, не видя больших результатов, разочаровались в них. Ведь это же факт, что в те самые годы, когда была сведена почти на нет натуральная оплата в колхозах, когда падала покупательная сила рубля, философы и социологи дружно произносили «новое слово» в своей науке: слово против материальной заинтересованности. Они не посрамляли ее, не обвиняли в низменности, нет, искусство джигитовки было куда выше, чем прежде: они говорили, что материальное стимулирование на их глазах показывает свою недейственность, малую действенность, недостаточную действенность. Вот устои, особенно семейные, вот традиции, особенно трудовые и национальные, вот настроения, особенно политические, вот чувства, особенно гражданские, вот микроклимат в коллективе — другое, дескать, дело.
В 1973 году в большой монографии под названием «Труд» доктор философских наук И. Чангли объявила, что потребность в труде уже осознана всем народом, «за исключением немногих тунеядцев», хотя первой потребностью труд, по ее словам, еще не стал. Эта точка зрения, в которой не было, кажется, ничего, кроме привычного набора громких фраз, как раз и отодвигала на задний план материальную заинтересованность, экономические рычаги. Потребность, какой бы она ни была по счету — второй или третьей, есть именно потребность, а не нужда. Планировать удовлетворение потребности человека в труде — совсем не то, что поощрять его выполнять работу, которая может быть и тяжелой и не очень приятной, но необходимой обществу. Вполне понятно, что, объясняя отрицательные явления в нашей жизни, такие, как, например, прогулы и бесхозяйственность, прежде всего тем, что сознание людей отстало от убежавшего в своем развитии бытия, И. Чангли и ее единомышленники требовали ставить в центр всей деятельности «личность — как обобщенную совокупность социальных и биосоциальных свойств, то есть личность в узком смысле этого понятия». Какая там материальная заинтересованность — надо усилить воспитательную работу!..
Это, наверное, был самый большой грех наших философов за многие десятилетия, — грех не просто пустословия, не перепевания и подпевания, а грех незнания жизни. Причем в этот грех совсем уж противоестественно впадали даже такие люди, которые жизнь должны были бы знать, кажется, лучше всех. «Путь к изобилию представлялся бесспорным: материальная заинтересованность крестьянина. Мы, руководители, стали размахивать рублем и говорить механизатору или доярке: больше сделаешь, больше получишь» — с такой самокритикой выступал, например, в журнале «Наш современник» (1981, № 1) директор совхоза «Андреевский» Владимирской области В. Старостин. С искренним надрывом он брал на себя вину за то, что нынешние совхозные рабочие, в отличие от «прежних колхозных мужиков», требуют достойной оплаты своего труда, не желая сознавать, «что хлеб, земля — это свято и к ним нужно подходить только с чистой душой, без корысти».
Разочарование в материальных стимулах, вернее, в том, что принимали за них, было большое, но им одним всего не объяснить. Не объяснить, пожалуй, главного: саму природу мышления, всегда готового так легко разочаровываться в столь серьезных вещах, настолько приспособленного к восприятию предрассудков — суждений и заключений, которым не предшествует спокойная критическая работа разума, существующих до рассудка, пред рассудком, вне опыта и вопреки опыту. В данном случае предрассудков экономических, лучше сказать — противоэкономических.
В советское время слово «предрассудки» в экономическом разговоре впервые употребил В. И. Ленин. Это было 29 октября 1921 года на VII Московской губернской партконференции. Речь шла о том, как хозяйствовать в мирное время, на каких началах должны строиться отношения города и деревни, заводов и фабрик между собой и с государством. «В настоящее время небольшое число предприятий уже переведено на коммерческий расчет, — говорил Ленин, выступая там, и объяснял, что это значит. — Оплата рабочего труда производится в них по ценам вольного рынка, в расчетах перешли на золото… Мы не должны чуждаться коммерческого расчета, — настаивал он на своей мысли, дороже которой для него тогда не было. — Только на этой почве коммерческого расчета можно строить хозяйство. Мешают этому предрассудки и воспоминания того, что было вчера».
«Вчера» же было не что иное, как «военный коммунизм» — такие порядки, среди которых не было места купцовским способам ведения хозяйства, время, когда поставлять городу продукты деревня должна была бесплатно, по продразверстке, а государство, в свою очередь, раздавало эти продукты в городе тоже не под работу, а пайками, по спискам или по членским билетам потребительских коммун или союзов, о которых через шестьдесят лет напишет в романе «После бури» Сергей Залыгин, — в том числе союзов «полу- и голодных писателей и особенно художников, которые возникали, как грибы, в каждом городишке, каждый Союз со своим собственным манифестом, с заковыристой какой-то творческой программой и обязательно на обеспечении пролетарского государства, причем опять-таки по той же привилегированной категории „А“ с фунтовым хлебным пайком…»
И была такая вера в этот путь к коммунизму, в то, что постепенным увеличением пайка и числа приписанных к категории «А» можно достичь изобилия, что Восьмой съезд партии уже без всяких ссылок на войну постановил этот путь увековечить: «Неуклонно проводить замену торговли планомерным в общегосударственном масштабе распределением продуктов». Эта уверенность, что социализм, а потом и коммунизм нельзя, невозможно, не положено строить с опорой на торговую, коммерческую предприимчивость заводов, трестов, кооперативов, а надо, возможно и положено строить только посредством разверсток всего и вся, от хлеба до пуговиц среди населения и от гаечных ключей до нефти среди заводов, — эта уверенность и была главным предрассудком, который вскоре подвергся ленинской критике.
«Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение… Это, к сожалению, факт. Я говорю: к сожалению, потому что не весьма длинный опыт привел нас к убеждению в ошибочности этого построения», — объяснял Ленин, напряженно размышляя о том, что делать, чтобы как можно скорее не осталось ни одного ошибающегося, чтобы вчерашние кавалеристы сполна овладели купцовскими способами, чтобы они поняли, почему «на экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 года потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение, гораздо более существенное и опасное».
О «военно-коммунистических» взглядах и настроениях, бытовавших до двадцать первого года, говорить надо со всем уважением, какого достойна всякая великая мечта, а вот после двадцать первого — наоборот, со всем пренебрежением, какого заслуживает всякая твердолобость. В девятнадцатом году, когда решали вести дело к отмене денег, еще нельзя было знать, что из этого, по позднейшим словам Ленина, ничего не выйдет. Ясности на сей счет не было и в теории, ей еще неоткуда было взяться. Профессор В. Новожилов отмечал: «Поскольку К. Маркс и Ф. Энгельс не разрабатывали вопросов организации социалистической экономики, они не предвидели и огромной трудности этой задачи». Они, в частности, предполагали, что «при социализме закон стоимости утратит свою силу». Так думал и Ленин. Принцип демократического централизма мыслился им «вначале как право участия масс в законодательстве и администрации. Хозяйством предполагалось управлять административными методами». Только к двадцать первому году, когда накопился опыт, показавший, что без торговли не обойтись, вера в «пайковый» путь стала предрассудком. Эту перемену оценок интересно наблюдать у Ленина. Буднично-спокойная: «ошибочное построение» быстро сменяется политически резкой, уничтожающей: «коммунистическое чванство». От увещеваний и призывов: «Не дадим себя во власть „социализму чувства“ или старорусскому, полубарскому, полумужицкому, патриархальному настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к торговле», мысль его соответственно обращается к другим, более действенным средствам: «Я думаю, что тресты и предприятия на хозяйственном расчете основаны именно для того, чтобы они сами отвечали, и притом всецело отвечали, за безубыточность своих предприятий. Если это оказывается ими не достигнуто, то, по-моему, они должны быть привлекаемы к суду и караться в составе всех членов правления длительными лишениями свободы (может быть, с применением по истечении известного срока условного освобождения), конфискацией всего имущества и т. д.».
Большой — самый большой! — вред Ленин видит теперь в деятельности людей, которые «направо и налево махают приказами и декретами», уверенные, «будто „великая, победоносная, мировая“ революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному», не заметившие, как великое достоинство революции: «энтузиазм, натиск, героизм» стало превращаться в недостаток, когда на первый план выдвинулись хозяйственные задачи.
«Купцовские» идеи Ленина не всеми и не всегда понимались одинаково. В начале тридцатых годов, например, была целая дискуссия о дальнейшей судьбе нэпа, в ходе которой многие авторы выражали мнение, что время этих идей прошло, что от торговли пора возвращаться к продуктообмену, начиная тем самым последний этап новой экономической политики: если при Ленине она означала переход от «штурма» к «осаде», то теперь, мол, пора прекращать «осаду» и опять предпринимать «штурм» — «штурм» задача социалистического строительства. Что и было сделано…
Вернулись к этой теме только через двадцать лет.
Непосредственным поводом оказалось положение в сельском хозяйстве. К этому времени (начало пятидесятых годов) сельское хозяйство было отстающей отраслью, и однако же в чистый доход государства из него брали больше, чем возвращали ему. В нарушение основных начал воспроизводства труд в колхозах оплачивался из остатков, если в остатках что-нибудь оказывалось. В первую очередь выполнялись обязательства перед государством и формировался фонд накопления. Цены на зерно, мясо, молоко не всегда покрывали даже расходы колхозов на доставку этих продуктов к железной дороге. Это и было то, что потом назвали игнорированием товарного характера сельского хозяйства. Успешное производство немыслимо без материальной заинтересованности предприятия в хорошей выручке, а работника — в заработке. Такая заинтересованность не может возникать без полноценной купли-продажи, без товарно-денежных отношений. Эти отношения между сельским хозяйством и государством были просто упразднены. Годы хозяйствования на «продразверсточных» началах нанесли стране большой ущерб. К пятьдесят третьему году по сравнению с сороковым вдвое выросли поставки удобрений, почти в полтора раза — энерговооруженность и основные фонды, а производство продуктов не только не выросло, а даже уменьшилось. Казалось бы, промышленность, получая от сельского хозяйства почти бесплатное сырье, должна была только выигрывать, но нет, она тоже проигрывала, потому что много сырья на таких условиях получать было невозможно. От нарушения принципов взаимовыгодной торговли и материальной заинтересованности страдало все народное хозяйство, хотя в глаза больше всего бросались трудности сельского хозяйства.
Такое положение не могло продолжаться долго, исправлять его взялись уже в 1953 году, всего через семь лет после войны. По решениям сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС в несколько раз были повышены закупочные цены на основные продукты, списаны огромные долги колхозов и колхозников, снижены налоги, повышена (во многих местах — введена) оплата труда. Подчеркивалось, что тем самым восстанавливаются ленинские принципы материальной заинтересованности и хозяйственного расчета, много говорилось о порочности непосредственного, административного управления колхозами и о преимуществах экономических методов.
Твердо нового курса придерживались три года — в 1954–1956 годах. Благодаря новым закупочным ценам в колхозах в эти годы заметно шла вверх оплата труда, и средний темп роста валовой продукции был 9,2 процента. Это составляло 4 копейки на рубль капиталовложений — вчетверо больше, чем в 1951–1953 годах, но уже в пятьдесят седьмом рост оплаты труда остановили — и сельское хозяйство отозвалось на это мгновенно, словно сработало некое реле. Окупаемость капитальных вложений и темп роста валовой продукции упали вдвое. Падение темпов продолжалось, и обстановка в сельском хозяйстве, да и вокруг сельского хозяйства, все больше напоминала времена десятилетней давности, включая, между прочим, тот же приподнятый уверенно-деловой тон разговоров о нем. Только раньше среди новшеств, которые должны были немедленно принести изобилие, у всех на устах были торфоперегнойные горшочки и устройство лесных полос с квадратно-гнездовыми посадками дуба, теперь — пропашная система земледелия. Крупнейшими событиями внутренней жизни становились зональные совещания специалистов и передовых производственников (в Новосибирске, Целинограде, Воронеже), где обсуждались достоинства и недостатки разных культур и сортов, способов и сроков сева, пород скота. В эти подробности незамедлительно входили везде и всюду, во всех организациях и учреждениях, подсчету кормовых единиц обучались нежинские домохозяйки на курсах кройки и шитья и чукотские охотники, о бобах, о квадратно-гнездовом севе тут же создавались чуть ли не оперы, не говоря о плакатах и мультфильмах.
Соответственно усиливались административные методы, особенно с шестидесятого года. В приподнятой атмосфере внедрения нового и передового колхозам и совхозам опять диктовали, что и как делать, и опять урезали их заявки на технику, удобрения, стройматериалы. После успеха первых трех лет показалось, что овцу уже можно стричь. В итоге в селе, в сельском хозяйстве пятидесятые годы заканчивались, а шестидесятые начинались так неудачно, что откатываться дальше, казалось, было уже некуда, и ждать приходилось только улучшения, только движения вперед. Именно тогда я услышал от одного районного плановика из тех незаметных сельских счетоводов, которые думают побольше главных бухгалтеров, это жизнерадостное толкование слов «хуже некуда». Раз, мол, некуда хуже, значит, вот-вот должен открыться путь в обратную сторону, к лучшему.
Раскрыв утром 28 марта 1965 года газету и увидев набранные крупными буквами слова «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР», не один читатель «Правды» испытал чувство внезапного возбуждения. Когда произносятся такие слова, как «неотложные меры», обычно ждут чего-то резко приказного, ведь «неотложные» — почти то же самое, что «чрезвычайные», «исключительные». На этот раз все было наоборот. Вызванные обстоятельствами поистине чрезвычайными, меры эти были спокойными. Такие случаи и дают основания говорить о политике как об искусстве. Не случайно, наверное, никому не придет в голову заговорить как об искусстве о политике грубого давления, прямого принуждения, административных ограничений. В грубости иногда может быть печальная необходимость, но красоты, искусства, высшей правильности быть не может.
Были списаны большие долги колхозов и совхозов, резко повышены закупочные цены на основные продукты, расширены права хозяйств в планировании, государственный план-заказ обещано было сделать неизменным на пять лет. Сельских руководителей особенно воодушевляли стабильность и умеренность (ее тоже обещали) планов — теперь можно было вести хозяйство на более или менее долгосрочной основе. Кажется, только сейчас они, взглянув на свои вчерашние обстоятельства с внезапной недоверчивой оторопью, по-настоящему осознали, как это было трудно: заводить скот, засевать поля, не зная точно, а иной раз даже приблизительно, сколько какой продукции от тебя потребуют, сколько кормов в конце концов оставят, сколько денег разрешат на оплату труда, сколько — на строительство, закупку машин.
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!..» 1965 год, когда вслед за мартовским Пленумом состоялся и сентябрьский, на котором было решено осуществить крупную хозяйственную реформу в промышленности, настолько крупную, что стоял даже вопрос о постепенной замене фондированного снабжения нормальной оптовой торговлей средствами производства, — многим этот год казался как раз одной из таких минут, решалось очень многое. В последующие два-три года (прекрасные, творческие были годы!) появилась целая литература, в которой самым тщательным образом анализировалось недавнее, а вместе с ним и далекое прошлое, вдруг ставшее волнующе близким.
Опять пробудился интерес к нэпу, к тому, чтó подводило Ленина к этой политике, как действовал при нем коммерческий расчет. Именно теперь многие начинали осознавать, что частное предпринимательство и концессии — это только одна, временная, даже второстепенная сторона нэпа, а другая, главная — коммерческие начала в деятельности государственных предприятий, при которых «казна за долги трестов не отвечает». Суть заложенных тогда Лениным основ управления социалистическим хозяйством профессор В. Новожилов, например, видел в «согласовании личных и коллективных интересов производителей с общественными». Главным содержанием нэпа он считал «систему управления социалистической экономикой на началах демократического централизма» — систему, сочетающую «планирование с товарно-денежными отношениями, план — с хозрасчетом». Такие оценки новой экономической политики не были привычными. У читателей они не могли не вызывать серьезных вопросов насчет исторической судьбы нэпа, и академик от них не уходил. «В 30-х годах система управления нашим народным хозяйством перестроилась, — писал он. — Усилилось централизованное руководство. Централизация тогда была объективно обусловлена необходимостью быстрой индустриализации при ограниченности ресурсов (чем более ограничены ресурсы по сравнению с потребностью в них, тем важнее централизация их распределения). Но, как это обычно бывает, проводившейся централизации сопутствовали лишние „издержки“. В практике планирования эти „издержки“ выражались в недостаточном учете законов экономики (то есть в волюнтаризме в планировании). В области науки издержки централизации выражались в развитии догматизма, в тенденции к ограничению функций экономической науки задачами разъяснения и пропаганды практики».
Тех, кто считал, что и в народном хозяйстве второй половины века торговые отношения должны быть таковыми не только по виду, но и по существу, называли «товарниками». Тех же, кто продолжал думать, что настоящая торговля социалистических предприятий друг с другом была бы нелепостью, поскольку у всех у них один собственник в лице государства, что все дело просто в том, чтобы этот собственник разумно ими управлял, называли «нетоварниками». Тогда эти определения использовались довольно широко, потом они стали встречаться реже — может быть, потому, что грани между двумя основными группами экономистов постепенно размывались, появились люди, придерживающиеся, так сказать, промежуточных позиций. Но суть разногласий не изменилась по сей день. Для наглядности и сейчас можно бы «товарников» окрестить «купцами», а их противников — «кавалеристами». Оба наименования тогда восходили бы прямо к Ленину: первое — к его расчетам на достоинства купцовских способов хозяйствования, второе — к его нелестным отзывам об охотниках вечно вершить все хозяйственные, политические, культурные дела административно, методом кавалерийских налетов. Правда, и «купцы» и «кавалеристы» звучат несовременно — давно нет ни купечества, ни конницы, но, во-первых, не бывает сравнений, которые бы совсем не хромали, а во-вторых, известная устарелость обоих наименований удачно подчеркивает исторические корни еще не закончившейся борьбы взглядов и подходов.
Коренной «кавалерийский» предрассудок, от которого разбегаются все остальные, по-прежнему касается судьбы объективных экономических законов при социализме. Пока говорят коротко, без объяснений: «объективные экономические законы», сознание «кавалериста» покорно, по школьной привычке, заглатывает эти слова и, лениво пожевав, худо-бедно переваривает. Но как только ему начинают расшифровывать их, говорить, например, что объективные экономические законы — это такие свойства и явления хозяйственной жизни, которые не зависят от людей, сколь бы сознательными, подкованными и важными мы ни были, что закон, к примеру, стоимости проявляется в цене, но не в той, которую пишут на бирке товара, а в той, по которой он ходит, если ходит, или мог бы пойти, если бы не мешала слишком большая цифра на бирке[6] что исчислить стоимость на базе издержек производства, как это пытаются делать наши ценообразователи, невозможно в принципе и Маркс эту невозможность доказал теоретически, а они ежедневно, с девяти утра до шести вечера, доказывают практически, — он настораживается. Почти инстинктивно уверенный в своей власти над живой и неживой природой, над всеми ее законами, бравый наш «всадник» в то же время дрожит от страхов — он боится скатиться к капитализму, каковой мерещится ему в словах: торговля, прибыль, товар, товарно-денежные отношения, в самоочевидной для «купца» мысли, что стоимость нельзя исчислить, но можно узнать на рынке, от продавца и покупателя, поставщика и получателя товара после того, как они уговорятся о цене, сторгуются.
Единственно возможным, допустимым, изначально непорочным планом «нетоварник» по-прежнему считает жесткую, скрепленную устрашающими печатями директиву, в которой все расписано: выпускать то-то, столько-то, тогда-то, отправлять туда-то, по такой-то цене, работникам платить так-то, держать их столько-то, все нужное для выпуска указанной продукции получать там-то, тогда-то, по таким-то ценам. Этих «то-то», «так-то», «столько-то» в планах, ежегодно получаемых предприятиями, — многие тысячи, ими заполняются толстейшие тома. Один из таких томов был продемонстрирован на известном совещании по проблемам научно-технического прогресса, состоявшемся в ЦК КПСС летом 1985 года, и подвергся там резкой критике. Что касается сельского хозяйства, то оно получало, как подсчитал профессор Г. Беспахотный для «Правды», «более семисот показателей по производству, заготовкам и реализации продукции, около четырехсот, связанных с использованием капитальных вложений, более ста — по труду, зарплате, финансам».
Едва ли не активнее всех участвуя в обсуждении и, так сказать, объяснении решений шестьдесят пятого года, носители этих представлений, как обычно, не могли убедительно объяснить, чтó происходит в хозяйственной жизни, откуда берется бесхозяйственность, дефициты и затоваривания; у них все сводилось к одному: неумелые плановики, безответственные руководители («только безответственностью можно объяснить»…), несознательные исполнители — и соответственно «кавалеристы» ничего не предлагали, никаких новых мер, кроме кадровых перемен да усиления воспитательной работы. Ну, и еще они одергивали «купцов» и стращали ими честной народ: бяки, мол, тянут нас не туда. «Товарники», «купцы» — те, напротив, убедительно, в полном соответствии с «товарным» духом Марта и Сентября, объясняли недостатки, при этом не мудря, не отрываясь от земли, приводя примеры, которые мог продолжить каждый, — насчет порядков, мешающих работать хорошо, сводящих на нет результаты даже хорошей работы.
В те годы была еще жива, писала свои статьи и преподавала в Академии общественных наук при ЦК КПСС профессор М. Ф. Макарова. Она еще в 1958 году заявила, что нечего и думать, будто увеличением производства и расширением ассортимента можно покончить с таким явлением, как дефицит одних — нужных — товаров и избыток других — ненужных. Наоборот, втолковывала она своим читателям и слушателям, с ростом производства и ассортимента будет меняться только состав дефицита, само же по себе явление никуда не денется и даже будет обостряться день ото дня. И так будет до тех пор, пока мы будем верить учебникам политэкономии, что при социализме нет противоречия между конкретным и абстрактным трудом, что у нас всякий труд необходим по той простой причине, что он запланирован, а раз запланирован, значит, должен быть вознагражден: склад забит неходовыми сарафанами, машина разваливается, едва сойдя с конвейера, а труд, затраченный на изготовление этого тряпья и этой груды железа, все равно должен быть оплачен казной, никого нельзя оставить за это без куска хлеба; социализм, выходит, на то и социализм, чтобы деньги за свой труд мы получали не после того, как он признан потребителем, а до, задолго до, главное, что он признан (предусмотрен) плановиком.
В академии тогда учились некоторые из тех, кто сейчас управляет целыми отраслями. Кто-кто, а они помнят, как их смущали беспощадные предсказания этой ученой-большевички, какими странными казались ее речи: с одной стороны, научность (труд абстрактный, труд конкретный…), академическая солидность, а с другой — такая простота, такая жизненность, с которой делай что хочешь, только не пытайся от нее отговориться. Действительно ведь платим до того, потребитель действительно ведь ноль без палочки, И есть ли противоречие между каким-то там абстрактным и каким-то конкретным трудом, нет ли противоречия — ждать высокого качества и нужного количества в таких условиях не приходится.
Ученики Макаровой часто вспоминают свою учительницу не только потому, что прошедшие годы показали ее правоту, а и потому, что до сих пор можно раскрыть свежую газету и прочитать, как иной доктор экономики требует, чтобы Госплан выделял средства так-то и так-то, а еще — «под устранение дефицита», как выразился один из них, все еще не подозревающий (хоть кол на голове теши!), что вместо одного устраненного дефицита тут же появятся пять новых, не знающий, что механику этого грамотные экономисты исследовали много лет назад, сразу после «военного коммунизма». Именно тогда было показано, как анархия товарного хозяйства сменяется анархией нетоварного, только в первом случае она принимает форму всеобщего избытка, а во втором — всеобщего недостатка. Эту последнюю Л. Крицман, автор книги «Героический период великой русской революции» (1921), назвал «анархией снабжения», которая только усиливается, если производство дефицитных товаров объявляют ударным и обеспечивают его ресурсами в первую очередь, ведь на голодном пайке оказываются остальные производства, и дефицитом становятся другие вещи, которых еще вчера, вполне возможно, всем хватало.
«Искусственные разрывы в границах того или другого производства, отрыв дела снабжения от производственных органов, многочисленность опекающих инстанций — все это в последнем счете придавало производственным программам характер безответственных проектов, составленных, быть может, и с добрыми намерениями, но с хозяйственной точки зрения висящих в воздухе» — это писал Глеб Максимилианович Кржижановский. И он же дал на редкость точное и доступное объяснение того, что такое административное управление хозяйством. Присмотревшись к тогдашним планам, можно было видеть, писал он, что «при составлении таких планов безусловно предполагается, что государственная власть является чудодейственной силой», то есть, что благие пожелания плановиков, превращаемые в приказы низам, способны творить все из ничего.
Становилось ясно, что планирование, не считающееся с потребителем, одинаково во все времена. Какой бы малой и слабой или, напротив, громадной и сильной ни была армия плановиков, они не заменят собою потребителя, и сколько бы они ни бились, в конце концов окажется: то, что никому не нужно, запланировано и выпускается или не запланировано, а выпускается, а то, что всем нужно, не запланировано и не выпускается или запланировано, да не выпускается. Это только Карл Родбертус (1805–1875), как и положено добропорядочному пруссаку, был уверен, что «социалистическое» начальство сможет без труда заменить собою проклятый рынок, расписав, что почем должно продаваться и покупаться в подведомственном ему государстве. Очень хорошо, хохотал по сему поводу Фридрих Энгельс, но «какие у нас гарантии, что каждый продукт будет производиться в необходимом количестве, а не в большем, что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе, задыхаясь под грудами свекловичного сахара и утопая в картофельной водке, или что мы не будем испытывать недостатка в брюках, чтобы прикрыть свою наготу, среди миллионов пуговиц для брюк».
Водителей и пассажиров машин, пересекающих границу Курской области по шоссе Москва — Симферополь, уже много лет предупреждают надписью на громадном щите, что вывоз картофеля за пределы курской земли запрещен. Не всякая область обзавелась таким большим, на века построенным щитом, во многих местах стройматериалы расходуют значительно экономнее, но это не значит, что курские служащие, курские «кавалеристы» хуже сахалинских; дело не в том, какие они, а в том, что именно им определено хозяйничать в сфере производства и распределения. Поэтому-то свободное движение продукции по стране и затруднено массой ограничений. Смысл этих ограничений — чтобы торговые отношения не развивались, не лишали бы служащего, распределяющего человека его куска хлеба.
Доктор экономических наук В. Медведев доказывал, что Ленин, требуя коммерческого расчета, заботился не только о товарообороте между городом и деревней, как принято было думать, но имел в виду и «внутренние потребности государственной промышленности». А главнейшая из этих внутренних потребностей — обеспечение материальной заинтересованности трудящихся. В книге Медведева «Закон стоимости и материальные стимулы социалистического производства» (1966) специально исследовалось взаимодействие закона стоимости и материальной заинтересованности. Автор показывал, что самые действенные и правильные материальные стимулы — это те, которые учитывают «приговоры», потребности и особенности внутреннего социалистического рынка. Распределение по труду, считал он, обязательно должно сочетаться с распределением «по стоимости», ведь закон стоимости, если не нарушать его требований, «создает заинтересованность в снижении индивидуальных затрат, в том числе и удельных затрат на заработную плату в сравнении с общественно необходимыми, а тем самым и в росте чистого дохода».
Попытки «отменить» или «обойти» объективные экономические законы вредно сказываются не только на производстве — портятся и нравы, падает дисциплина; экономисты, уяснившие эту связь, были намного глубже в своих оценках текущей действительности, чем люди, которые как раз в те годы входили во вкус болтовни об ослаблении семейных и прочих устоев, подстрочно, втайне, а когда удавалось, то и вслух мечтали о зеленой каше для взрослых, как о самом верном способе решения всех проблем.
«Товарники» писали, что применение плановых показателей, не основанных на показаниях рынка, уверенность руководителей экономики, что они сами с усами и могут безошибочно угадывать и предписывать общественно необходимые затраты для изготовления всего и вся, рождают общественное явление: утаивание ресурсов, искажение, подделку информации, произвол в хозяйственных делах. Поражала прямота слов: общественное явление. Не потеря совести отдельными хозяйственниками, не притупление чувства ответственности, обострить которое ничего не стоит — одних поменять, других попугать, а явление, причины которого не в природе человека, не в атомном веке, не в отрыве от земли и забвении дедовских заветов, а в совершенно определенных порядках, в административных методах управления хозяйством. Впечатляла зоркость, с которой тот же профессор Новожилов определял худшее из последствий этих порядков: не диспропорции в народном хозяйстве — «они, как правило, предупреждаются плановым руководством», а «расхождения между локальной и общей выгодой», «несогласованность личных и локальных интересов с общественными, хозрасчета с планом», — то есть бесхозяйственность, ведомственность, местничество, очковтирательство, если речь идет о предприятиях, отраслях и местностях, пассивность, рвачество, бракодельство, иждивенчество, если — об отдельных работниках. «Эффективность согласования личных материальных интересов с общественными огромна. Отпадают дорогостоящие меры принуждения, а стимулы противодействия плану заменяются стимулами содействия плану», — писал он, показывая, что для оздоровления нравов, «улучшения» людей требуются не призывы, не уговоры (любить труд, природу, семейный очаг, старину, правду-матку), а совершенно конкретные политико-экономические меры. Примеры были свежие: мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК КПСС с намеченной ими и частью уже осуществлявшейся программой реформ.
Социализм мысли за эти два-три прекрасных и тревожных года развился в живое дерево с крепким стройным стволом, свободными ветвями и могуче зеленой листвой, и тот, кто мужал под ним, навсегда сохранит в себе спокойный и бодрый дух, проницательность трезвого — и потому светлого! — взгляда на вещи.
Многие экономисты быстро договорились о главном — что успешным может быть производство только товарное, то есть такое, которое рассчитано на потребителя; великолепно усвоили и объясняли публике, для чего нужен коммерческий расчет: чтобы он никому не позволял заметно превышать общественно необходимые затраты труда. Дружно обсуждали конкретные вопросы хозяйствования в новых условиях, размышляли о том, что должно последовать за первыми неотложными мерами, какие из этих мер следует пересмотреть, уточнить, развить. А. Кассиров доказывал «целесообразность и возможность такой хозрасчетной системы», при которой «колхозы и совхозы будут получать лишь задания по сумме чистого дохода (прибыли), отчисляемой государству». В деталях разрабатывались сугубо практические подходы к этому великому делу. В. Венжер, например, говорил о постепенном увеличении той доли продукции колхозов, которую они будут продавать государству добровольно, что «подготовит условия в перспективе к переходу от обязательной продажи к добровольному сбыту колхозами всей товарной продукции». Тон этого ученого, чья книга «Колхозный строй на современном этапе» тогда как раз появилась на прилавках и сразу стала широко известной, был спокойно-внушительный: «Развитие внутреннего социалистического рынка, понимаемого в смысле прямых торговых связей между промышленными и сельскохозяйственными, государственными и кооперативными предприятиями, является самой насущной народнохозяйственной проблемой. Ее решать все равно придется, так лучше решать быстрее, не откладывая в долгий ящик».
Венжер сетовал, что «находящиеся под воздействием прежних (нетоварных. — А. С.) представлений практические работники пока еще плохо поддаются этому убеждению», и был, к сожалению, прав, но были среди них и такие люди с мест, из сельской глубинки, чьи выступления блистали зрелостью политэкономического мышления и выношенностью конкретных предложений. Терентий Мальцев, приветствуя в «Правде» решения мартовского Пленума, писал: «Твердый план продажи — это, на наш взгляд, переходная ступень к чисто экономическим, без остатка директивных мер, способам хозяйствования».
Волнующим событием в нашей умственной жизни тех лет было появление (1967) главной книги профессора В. В. Новожилова, получившего за свои работы Ленинскую премию.
Книга была строго научная, адресовалась экономистам, и в то же время основные ее положения были доступны всякому человеку, имеющему нелиповый вузовский диплом и живо интересующемуся общественными проблемами. Под скромным деловым названием — «Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании» — скрывалось фундаментальное исследование по политической экономии социализма. Там, где автору по ходу изложения не требовались формулы, таблицы, специальные выкладки, текст представлял собою публицистику высокой пробы: редкая чистота, точность и сжатость, большое внутреннее напряжение. Для проблем и явлений, которым мы посвящали газетные подвалы и целые тетради мелкого шрифта в толстых журналах, академику порой хватало нескольких строк, но какие это были строки!
«Трудно представить себе более грубую ошибку в экономических расчетах, чем смешение прихода с расходом, результата с затратами. А между тем элементы этой ошибки содержатся в наиболее распространенных способах измерения результатов живого труда… Ошибка, введенная в плановый показатель, приобретает силу закона для всех исполнителей плана, воздействует на миллионы людей, побуждая их считать расход приходом, а понижение качества продукции — полезным результатом».
Измерение затрат и результатов, доказывал он, — это узловая проблема экономической науки и практики, все остальные или выходят из нее, или сходятся в ней. По тому, какими методами измеряются затраты и результаты, можно судить, как идут дела в экономике, насколько грамотно ею управляют, в каком духе она воспитывает людей, какие порядки, привычки, обычаи, неписаные правила вносит в их повседневную жизнь.
«Применение неправильных методов измерения затрат и результатов ориентирует хозяйственную деятельность на излишние затраты, на погоню за мнимыми результатами, порождает противоречия между хозрасчетом и планом, между интересами предприятия и интересами народного хозяйства, затрудняет распределение по труду, препятствует демократизации управления народным хозяйством и развитию творческой инициативы масс трудящихся».
Говорить же об измерении затрат и результатов — значит говорить прежде всего о ценах, о том, как они устанавливаются и на что нацеливаются, как сделать, чтобы цены не создавали ни дефицита, ни затоваривания, чтобы они спокойно и уверенно поддерживали равновесие между спросом и предложением; причем в торговле предприятий между собою это еще важнее, чем в розничной: при полноценном хозрасчете «цены равенства спроса и предложения обеспечивают такое распределение средств производства между предприятиями, при котором эти средства наиболее эффективно используются и достигается общий минимум затрат на производство конечной продукции народного хозяйства».
Административные методы управления преобладают над экономическими тогда, когда цены, отклоняясь от общественно необходимых затрат, побуждают предприятия делать совсем не то, чего требует план-директива. Тогда-то директиву и приходится подкреплять «достаточно энергичными санкциями», хотя, «как показывает многовековой хозяйственный опыт, административные санкции — менее эффективный стимул к производству, чем экономический или моральный интерес». Насущную, исторической важности задачу Новожилов видел в «демократизации плановой экономики». К объяснению того, что это такое и как это надо делать — как это будет неизбежно делаться! — и сводилась, собственно, его научная деятельность, в этом и был его научный и гражданский подвиг. Демократизировать плановую экономику — значит добиться того, чтобы «план-директива» превратился для каждого трудового коллектива в «план — экономический императив» — то есть в «такую директиву, наилучшее выполнение которой совпадает с личными интересами всех исполнителей».
Путь к «плану-императиву» один — развитие демократического централизма. Выбора здесь нет, вернее выбор заведомо определен самой сутью дела, тем, что речь идет о первейших жизненных интересах и потребностях миллионов: работа, оплата, снабжение. До этого есть дело каждому. Следовательно, каждый должен иметь право голоса, но никому нельзя позволять перекричать в свою пользу всех. Этому требованию соответствует «двустороннее развитие демократического централизма: как в сторону демократизации, так и в сторону централизации управления экономикой», такое положение, «когда все экономические вопросы — вплоть до мелких — решаются кооперацией центра и места».
Это было важнейшее положение профессора Новожилова и как ученого-экономиста, и как политического мыслителя. Это был его главный урок, его завещание «товарникам». Не бросаться в крайность противоположную «кавалерийской» — от мрачного всеохватывающего централизма к глупо-восторженному безбрежному демократизму. Только сочетание двух начал, только оно!.. Да, конечно, соглашались мы, первые его читатели, но… неужели все-таки «вплоть до самых мелких»?! Значит, даже вопрос о том, сколько сторожей иметь в каком-нибудь леспромхозе на Камчатке, должен в идеале (!!) решаться по договоренности с Москвой? Да, учил Новожилов, — не по прямому указанию Москвы, как до сих пор, а по договоренности с нею — раз, а во-вторых, все дело в том, чтó это за договоренность, каково ее экономическое содержание и политическая форма. Новожилов вводит понятие, до которого «кавалеристы» не доросли до сих пор, — понятие косвенной централизации.
«Непосредственная (или прямая) централизация состоит в конкретном решении в плановом центре вопросов того или иного класса». Это приказ, распоряжение, инструкция. Косвенная же централизация «состоит в установлении таких нормативов для расчета затрат и результатов, при помощи которых места, руководствуясь принципом „максимум результатов — минимум затрат“, сами могли бы найти варианты, наиболее соответствующие народнохозяйственному плану». То есть: участие Москвы в решении вопроса о лесхозных сторожах на Камчатке может и должно заключаться в том, что она установит такие экономические нормативы, что лесхозу будет невыгодно иметь сторожей (и любых прочих работников) больше, чем совершенно необходимо. «Косвенная централизация, — подчеркивал профессор, — необходима как в социалистической, так и в коммунистической экономике. Она имеет то замечательное свойство, что подчиняет плану все без исключения местные решения, вплоть до решений самых мелких вопросов, ибо все хозяйственные вопросы решаются на основе сопоставления затрат и результатов». Только так — сочетанием «регулирующих функций товарно-денежных отношений с плановым регулированием», согласованием хозрасчета с планом можно будет «превратить в перспективе органы планирования и учета в органы общественного самоуправления».
Задавшись целью расставить все точки над «и», ни о чем не умолчать, специалисты, естественно, обратились и к вопросу: была ли нужда так долго обделять сельское хозяйство в пользу промышленности? Была ли нужда не допускать так долго товарных отношений, взаимовыгодной торговли и в самой промышленности? Что тут из чего выходило, что к чему вело: переоценка приказных методов — к свертыванию товарных отношений или свертывание товарных отношений — к переоценке приказных методов? М. Колганов в журнале «Вопросы экономики» доказывал, что коммерческим расчетом пренебрегали вынужденно: чтобы ограничить личное потребление и обеспечить «мобилизацию через бюджет все возрастающих объемов накопления, направленного преимущественно на развитие тяжелой промышленности». Правда, уже и в этой старой, многим казавшейся бесспорной точке зрения было кое-что новое. Признавалось главное: что неэквивалентный обмен и приказное управление экономикой «затрудняют материальное стимулирование производства тех или иных продуктов и повышение производительности труда». У читателя, который хорошо помнил, что производительность труда, по Ленину, есть главный пункт соревнования между капитализмом и социализмом, должен был возникнуть вопрос: каким образом то, что препятствует победе социализма в главном пункте, может быть необходимым, да еще «длительное время»?
М. Колганов выступал от имени тех, кто считал, что все, что было действительным, то и было разумным, что административное руководство народным хозяйством соответствовало известному уровню производительных сил. Это успокаивало, укладываясь в азбучное: производственные отношения, мол, всегда отстают, это естественно, ничего особенного не происходило, все было правильно и до мартовского Пленума, и после, и то правильно, что производственные отношения отставали, мешая росту сельского хозяйства, и то правильно, что их решили подогнать, чтобы больше не мешали росту сельского хозяйства. Член-корреспондент ВАСХНИЛ И. Моисеев хорошо показал, отвечая М. Колганову, что это «гегельянское» отношение к домартовским временам, в котором, по виду, так много патриотизма, есть, по существу, принижение политического значения принятых партией мер — принятых будто бы без борьбы, в обыкновенном рабочем порядке, чуть ли не в соответствии с неким давно составленным планом мероприятий. Нет, писал он, «длительное применение прежней системы хозяйственных отношений связано с неправильными представлениями о теории и практике социалистической экономики. С некоторым забвением разработанных Лениным принципов социалистического хозяйствования». Дело в том, что «его учение о принципах организации социалистической экономики на основе использования товарно-денежных отношений ошибочно относили только к переходному от капитализма к социализму периоду. Отсюда недооценка товарно-денежных отношений, стремление опорочить их».
Очень интересное тут слово «опорочить». Именно опорочить — поставить на них клеймо капитализма, вызвать представление о них как о чем-то низменном, пахнущем торгашеством, стяжательством, властью чистогана над людьми. В этом проявлялось комчванство, к которому за годы без Ленина прибавилось еще и ханжество: у нас все на идейном, а не на коммерческом (фи!) расчете! В этих выступлениях чувствовалось то ли желание «поправить» новую линию, пока она еще не совсем укоренилась, то ли укоризненное смущение перед тем, как объяснял ее сам ЦК. Эти объяснения казались некоторым чересчур, что ли, откровенными — точно так, как и в пятьдесят третьем. И в самом деле. В пятьдесят третьем не говорилось, что решениями сентябрьского Пленума (резко поднять закупочные цены, уменьшить налоговое бремя, под которым хирело сельское хозяйство, и ослабить административную опеку над ним) производственные отношения подтягиваются к производительным силам, что учитывается изменившаяся обстановка, что кончилась необходимость почти бесплатно получать от колхозов и совхозов продукты, нет, такой уступки «кавалеристам-гегельянцам» сделано не было. Говорилось прямо и сурово: исправляются ошибки, пресекается отступление от ленинских принципов материальной заинтересованности и делается это не потому, что у казны, пока она бесплатно получала сельскохозяйственное сырье, накопились средства, а для того, чтобы они, наконец, появились, стали накапливаться, чтобы, другими словами, закон стоимости перестал действовать как разрушительная сила и начал — как созидательная. То же самое в марте шестьдесят пятого: пресекается, говорилось, отступление от курса пятьдесят третьего.
Сама прямота, с какой каждый раз объяснялись принимаемые меры, свидетельствовала, что они результат серьезной борьбы. Слово «борьба», мелькающее в газетах, не такое уж неуместное, если понимать его «по жизни»: действительно ведь идет борьба, везде и всюду, в теории и на практике. Если произошло отступление от курса пятьдесят третьего (а потом, как увидим, и от курса шестьдесят пятого) — значит, были люди, были силы, которые или добивались отступления и кое в чем преуспели, или не хотели (не могли…) достаточно настойчиво и умело проводить новую линию в жизнь, отстаивать ее и — главное! — развивать. О том, что совершается крутой поворот во внутренней политике и что надо ждать не только успехов, но и напряженной борьбы — ведь старые линии не стираются, не затухают сразу, они еще долго живут во многих порядках, обычаях, привычках, — об этой инерции, о том, что она представляет собой реальную силу, серьезную угрозу, тогда говорилось отчетливо.
В истории этой борьбы любопытная страничка связана с именем экономиста (теперь члена-корреспондента Академии наук СССР) Н. Петракова. В 1973 году он выступил со статьей, которая называлась «Мифы „рыночного социализма“ и экономическая реальность», в журнале «Проблемы мира и социализма». Важность и определенная пряность этого события была в том, что экономисты-нетоварники к тому времени уже прочно закрепили за ним репутацию одного из самых рьяных поборников стихийности в отечественном хозяйстве. И вот этот будто бы «рыночный социалист» — именно он, а не кто-либо из его обличителей, считавших себя специалистами по борьбе с идеями «рыночного социализма» и уже претендовавших за это на пожизненную ренту, предпринял прямой критический анализ этих самых идей. Читающей публике было показано, что наши противники «товарников», по существу, исповедуют те же ошибки и выдумки, что и западные либералы из числа кабинетных улучшателей социализма. И тех и других вводит в заблуждение «сходство форм хозрасчета с практикой экономических расчетов капиталистических предприятий», как писал еще профессор Новожилов. И те и другие не понимают разницы между рыночными категориями там и носящими те же названия стоимостными показателями у нас: прибыль, рентабельность, рентные платежи, кредиты, плата за фонды. Ведь «уже один тот факт, — писал Петраков, — что рабочая сила не является при социализме товаром, коренным образом меняет существо экономических отношений». Все дело в том, «кто определяет цели социально-экономического развития, во имя чего осуществляется технический прогресс». Не понимать таких вещей — удел вульгарных экономистов всех времен, независимо от того, левые они или правые, красные, белые или полосатые. Он приводил замечание Маркса, что «вульгарный экономист не может представить себе форм, развившихся в недрах капиталистического способа производства, отделенными и освобожденными от их антагонистического капиталистического характера».
Западные либералы восхваляют «рыночный выбор» и рекомендуют его нам. Наши «нетоварники», естественно, ругают «рыночный выбор» и отвергают его. При этом и те и другие смыкаются в одном забавном отношении. Они забывают сущий пустяк: «рыночного выбора» в современном мире уже нигде нет и, стало быть, все разговоры о нем, как хвалебные, так и ругательные, — пустая болтовня. Утверждать, как это нередко делают вульгарные экономисты, что наши «товарники» выступают за «рыночный выбор», в лучшем случае невежественно. Кто-кто, а они, «товарники», знают, что и на рынке капиталов, и на рынке потребительских товаров господствуют монополии, убившие прежнюю свободную конкуренцию. Концентрируя в своих руках капиталы, они, писал Петраков, «в известной мере решают проблему ресурсов для осуществления крупных программ научно-технического развития, требующих больших единовременных вложений, длительного периода разработок и практического внедрения». Планомерность пробивает себе дорогу даже в таких условиях, когда вся система народного хозяйства в целом остается анархичной. Каким же идиотом надо представлять себе и публике «товарника», чтобы говорить, что он против плана в условиях общественной собственности!
В уверенности, будто настоящий социализм — это не «план и рынок», а только «план», буржуазные ученые смыкаются с представителями крайне левых, троцкистских группировок. Н. Петраков приводил рассуждение троцкиста Э. Манделл, что «в развитых социалистических странах, по крайней мере в некоторых отраслях, товарные отношения могут быть ликвидированы», ибо «продукты труда в социалистическом обществе носят непосредственно общественный характер и не имеют стоимости». Читать это, впрочем, было не только весело, ведь можно было раскрыть книгу… ну, скажем, нашего доктора экономических наук М. Соколова «Цены и ценообразование на сельскохозяйственные продукты», выпущенную Московским государственнным университетом, и обнаружить в ней то же самое, черным по белому: назначение цены при социализме — быть неким бухгалтерским подспорьем, она всего-навсего «выполняет функцию учета и распределения». И сколько их тогда было — таких книг, учебников, статей, таких лекций и рассуждений по ходу принятия многих хозяйственных решений! «Идея об ограничении закона стоимости планом является все еще господствующим мнением советских экономистов, — писал и Новожилов. — Предполагается, что закон стоимости в каких-то отношениях ограничивается планом…» И вразумлял: «Одно из двух. Если закон стоимости действует в социалистической экономике, то его нельзя ограничить. Если же он не действует, то его не нужно ограничивать. План так же не может ограничить закон стоимости, как он не может ограничить закон тяготения или равенство квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов». И вновь и вновь в числе последствий попыток ограничения закона стоимости называл «отставание сельского хозяйства, нерациональное использование средств производства, ошибки в размещении производства, строительство нерентабельных предприятий».
Эти последствия давали себя знать и после шестьдесят пятого.
Административные рычаги были еще очень сильны и, что особенно тревожило «товарников», в любой момент могли усилиться. Соблазнов ухватиться не за тот рычаг — не за новый, а за старый, привычный, хозяйственная жизнь предоставляла немало. В марте 1965-го, решая довести до хозяйств стабильные и сниженные пятилетние планы, рассчитывали, что эти планы будут сильно перевыполнены, ведь за сверхплановое зерно была установлена полуторная цена. И что же? Какой оказалась картина заготовок в условиях, когда райкомы-исполкомы не оказывали на колхозы-совхозы особого давления, не требовали: к такому-то числу, если не часу, отправить на элеватор столько-то? В этих стихийных заготовках был полный беспорядок. Одно хозяйство продавало половину урожая, другое, соседнее — четверть, третье — пятую часть. На Северном Кавказе, к примеру, процент участия колебался от тридцати процентов до семидесяти! Эта картина таила в себе большую опасность. Некоторые решили, что экономические рычаги показали свою несостоятельность, что деньги, даже хорошие, не способны действовать на наши хозяйства так убедительно, как привычная голая команда: «Давай-давай!» В соответствии с этим выводом вскоре опять вернулись к продразверсточной практике заданий, начав менять их чуть ли не каждую неделю и тем самым все дальше отступая от линии мартовского (1965 г.) Пленума. Раз деньги — и большие! — не побуждают хозяйство продавать много зерна, значит, это не деньги… не те деньги — вот другой, единственно правильный вывод, который, кажется, сам собой вытекал из вопроса: «А что на них можно купить?» — но, как это часто бывает с выводами, за которыми не надо далеко ходить, путь к нему для многих растянулся на десятилетия.
В одной из своих статей шестидесятых годов экономист и публицист Геннадий Лисичкин подробно описывал любопытную и характерную драму, которую он обнаружил, присмотревшись к хозяйственной жизни Северного Кавказа. В одном углу (равном иному европейскому государству), там, где много солнца, чернозема и сравнительный достаток влаги, колхозам было очень выгодно выращивать пшеницу и невыгодно, даже при новых, повышенных ценах на мясо и молоко, заниматься овцеводством и молочным скотоводством. В другом углу, там, где много природных пастбищ, где бедные почвы и такие крутины, на которых не каждый комбайнер решается убирать хлеб, наоборот: выгодно было заниматься животноводством и невыгодно — пшеницей, хлеб получался слишком дорогой. Так вот, в том углу, где выгодна пшеница, колхозам повелевалось раздувать скотоводство и сдерживать зерновое хозяйство, отдавая кормовым культурам «пшеничную» землю, а в том углу, где выгодно скотоводство, — заставляли раздувать зерновое хозяйство, в ущерб овцам и коровам распахивать пастбища.
Это была ничья не глупость, не малограмотность, не безответственность, хотя не всякий читатель мог с этим согласиться, представив, как в одном углу сотни колхозов и совхозов из года в год просят: разрешите больше сеять пшеницы и меньше держать овец, а в другом углу тоже сотни колхозов и совхозов просят: разрешите больше держать овец и меньше сеять пшеницы, и слышат в ответ: первые — что Родине нужна от них, пусть она им и невыгодна, баранина, вторые — что Родине нужна от них, пусть она им и невыгодна, пшеница, а выгодная баранина — то само собой. Это была ничья не глупость, а кое-что похуже — это был принцип планирования «от достигнутого уровня» в действии — самое сильное выражение взгляда на сельское хозяйство как на что-то мертвое, не зависящее от природы и не связанное с нею, «это способ составления плана, когда к достигнутому в прошедшем году показателю механически плюсуется некий средний процент прироста и сумма эта утверждается как задание на следующий год». Такое планирование побуждает руководителей прибедняться перед плановыми органами, скрывать резервы (наша разновидность коммерческой тайны), но это еще не все. «От достигнутого уровня» означает, что если по каким-либо причинам, иногда случайным, где-то вместо пшеницы один раз посеют кактусы, то эти кактусы будут сеять вечно: за тем, чтобы структура хозяйства, набор культур и видов скота, пропорции производства оставались неизменными, неподвижными, следит сам механизм планирования, сбои в нем, к счастью, бывают, но пощады от него не жди.
Даже в Грузии, как известно, мандарины растут не во всех районах. В одном из таких районов местные власти как-то отобрали у перекупщиков 20 тонн мандаринов, доставленных откуда-то из-под Гагры, и продали государству. Так, в сводке о выполнении этим районом годового плана социально-экономического развития появилась строка: «Мандарины. План (в тоннах) — 0, продано государству — 20, процент выполнения — 100». На следующий год району был спущен план — 23 тонны. Если это и легенда, то очень близка к жизни — до сих пор близка. За последние двадцать лет не проходило дня, чтобы в центральных газетах и журналах, по радио и телевидению, на всевозможных совещаниях, на заседаниях постоянных комиссий и на сессиях Верховного Совета СССР не приводились похожие примеры, не доказывалось, что планирование «от достигнутого уровня» наносит крупный ущерб всем отраслям народного хозяйства.
В 1967 году в печати разразилась короткая, но исключительно резкая дискуссия о путях развития сельского хозяйства. Ее начал Л. Ефремов, бывший в ту пору одним из руководителей Ставропольского края. До широкой публики докатился (со страниц «Сельской жизни», где выступил он со своими соавторами, и «Нового мира», где ему отвечал Г. Лисичкин) мощный гул борьбы, которая уже давно шла и в земных недрах, и в небесных сферах между двумя школами, если употребить это невнятное слово. Школа, которую представлял Лисичкин, предлагала искать все входы и выходы в области производственных отношений, в том, что сейчас называют хозяйственным механизмом. Это был путь экономический. Школа, которую представлял Ефремов, выступала против этих взглядов, как против ереси. В производственных отношениях она не видела никаких изъянов, хозяйственный механизм ее вполне устраивал, все действительное она считала разумным и все разумное — действительным: надо, мол, не мудрить, а лучше работать. На мартовском (1965 г.) Пленуме было заявлено о намерении «способствовать всемерному развитию товарных отношений» и «покровительствовать свободным закупкам». Отсюда сами собой напрашивались такие меры, как укрепление рубля, контрактация, оптовая торговля, ценообразование на основе общественно необходимых затрат — все, без чего немыслимо не только всемерное развитие товарных отношений, но и мало-мальски заметное. Обсуждение этих мер Л. Ефремов назвал «фетишизацией товарно-денежных отношений». Тут тоже было ясно направление его критики: свободные заготовки.
В этом пункте, как напишет через шестнадцать лет «Правда», и произошло отступление от политики марта. О свободных заготовках опять оставалось мечтать. Как и прежде, молдавский виноград колхозы-совхозы должны были продавать только в Молдавии, где его и так полно, никаких самодеятельных отправок на Урал или Север, то же с овощами, фруктами. И все это, все эти стеснения торговли, в результате которых до половины урожая тех же овощей и фруктов шло скоту или пропадало, объяснялись тем, что государству виднее, что и как распределять в соответствии с коренными, высшими или какими-то особыми интересами всего общества. Получалось, что действовать против курса мартовского Пленума значило проявлять сознательность, заботиться о государстве. Против цен на продукцию сельского хозяйства, повышенных по решению мартовского Пленума, бороться было сложнее, но и тут «кавалеристы» в конце концов преуспели. Повышение закупочных цен было постепенно сведено на нет повышением отпускных цен — на технику, удобрения, стройматериалы, топливо.
«Товарники» были за преобразования плюс капитальные вложения. Ефремов был за капитальные вложения без каких-либо преобразований, он настойчиво требовал для сельского хозяйства только того, что можно пощупать руками, — машин в первую очередь. Политэкономическому подходу противостоял административно-технический. Ефремов не выдвигал никаких идей, не предлагал никаких улучшений, перемен, он просто протягивал к государству руку: дай то, дай это, и все будет в порядке. Дано было много, очень много. В одиннадцатой пятилетке капитальные вложения в сельское хозяйство достигли фантастической суммы — 170 миллиардов рублей, а отдача от каждой сотни рублей, истраченных на технику, удобрения, стройматериалы, продолжала снижаться. Спор «купцов» и «кавалеристов» оказался далеко не исчерпанным.
Особенно часто фигура «всадника» в семидесятые годы возникала перед нами на холмах Молдовы, именно его размашистый почерк угадывался в неуклонном, казалось, безотчетном стремлении побыстрее свернуть начавшуюся было там межколхозную кооперацию в рамки обычных административных отношений, именно его натура и философия проявлялись в этой роковой, прямо-таки видовой неспособности принимать во внимание, что живая жизнь есть живая жизнь, опираться прежде всего на интересы и природные особенности, будь то интересы и природные особенности человека, хозяйства или местности. Нельзя было не приветствовать переход «от правления колхоза к правлению колхозов», к выборным советам колхозов, которые собирались разрабатывать общую политику хозяйствования и в которых, по идее, решающее слово принадлежало не служащим аппарата или кому-нибудь другому, а председателям колхозов. Но между тем, что должно было быть «по идее» и на первых порах даже бывало, и тем, что происходило потом, была разница, становившаяся все более существенной. Деньги в фонд общего пользования, например, почти сразу начали изымать из колхозов по прямым распоряжениям республиканского совета колхозов. Если деньгами колхоза распоряжается не сам колхоз, толку ждать нечего. Это означает, что совета колхозов, в котором все решают председатели, уже нет, под его вывеской — обыкновеннейшее управленческое учреждение, все там решают один-два человека, а это значит, как известно, что ничего не решают и они, всем заправляют безвестные, незаметные, почти бесплотные служащие, технический аппарат, чьи коренные жизненные интересы никак не связаны с полем и фермой. Подлинный совет колхозов никогда, ни при каких обстоятельствах, ни под каким видом не посягнет ни на одну колхозную копейку, потому что подлинные члены совета, живые, из теплой плоти, председатели колхозов, знают: общий фонд только тогда не будет колхозу безразличен, когда он сам, совершенно добровольно, сто раз прикинув так и эдак, решит участвовать в нем своей копейкой; а общий фонд, который безразличен колхозам, — это выброшенные деньги, на них ничего путного не создашь.
Чтобы не сгонять тысячу беспородных коров во дворец, обошедшийся в пять миллионов, совсем не обязательно быть семи пядей во лбу. Надо другое, все то же: чтобы хозяйственные дела решались не районным активом, у которого нет ни рубля своих денег и который поэтому не может ни проиграть, если забудет, что мясо наращивается не на бетонных конструкциях ферм, а на костях свиней, ни выиграть, если будет об этом помнить, а имеющим деньги колхозом: чтобы специализация с концентрацией и с чем там еще была исключительно его, колхоза, коммерческим, купцовским делом; тогда колхоз, знающий, что может разориться, сто раз подумал бы, прежде чем испрашивать миллионный кредит, а банк (не районный актив, а Государственный банк Союза ССР!) — прежде чем давать. Низкая квалификация людей, ворочавших чужими — колхозными — миллионами в Молдавии, — не это была причина неудачи; причина была та, что они, более или менее ответственные служащие более или менее важных учреждений, ворочали именно чужими деньгами: нарушали, как это обычно называется, хозрасчетные принципы деятельности колхозов, не считались с их хозяйственной самостоятельностью.
И об этом со всей определенностью, на строгом языке политического документа, было сказано в постановлении Центрального Комитета КПСС (1976 г.) о развитии специализации на базе межхозяйственной кооперации. Оно требовало «не допускать спешки, перепрыгивания через этапы и перегибов», особо предупреждало «о недопустимости гигантомании, строительства экономически необоснованных сверхкрупных предприятий по производству мяса, молока и других продуктов» (и здесь-то он и был — приговор политико-экономическому авантюризму), настаивало на «сохранении хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов, других предприятий и организаций, входящих в межведомственные и агропромышленные объединения». Только такие — самостоятельные, а значит, и заинтересованные участники складчины способны играть «роль дрожжей в квашне» индустриализации сельского хозяйства, без них самые большие капитальные вложения мало что дадут, даже если в административном управлении хозяйством воцарится полная техническая грамотность: деньги будут вкладывать не в стены, а в корма, удобрения направлять в первую очередь туда, где земля лучше всего на них откликается и пр. Вопрос о грамотности административного управления хозяйственной жизнью вообще имеет столько же смысла, сколько вопрос о грамотном передвижении на руках: как бы грамотно мы ни научились ходить на руках, все же на ногах будет лучше, удобнее, быстрее.
Разбирая подобные, сравнительно недавние коллизии плана и хозрасчета, снова и снова спрашиваешь себя, почему экономические способы до сих пор не проникли в хозяйственную жизнь так глубоко, как можно было ожидать в середине шестидесятых годов, почему и через двадцать лет в новой редакции Программы КПСС подчеркивается необходимость, актуальность задачи: «полнее использовать товарно-денежные отношения в соответствии с присущим им при социализме новым содержанием»?
В связи с этим нельзя не вспомнить одно из положений профессора Новожилова насчет хозрасчета. В ходе демократизации плановой экономики, предупреждал он, нельзя будет обойтись без «организации хозрасчета органов управления» — без таких порядков, при которых эти органы несли бы «реальную ответственность за свои решения». (Еще в 1964 году об этом писал в журнале «Коммунист» и академик Несмеянов.) А наиболее полной реальная, то есть материальная ответственность может быть только в том случае, если результаты управленческой деятельности, как и всякой другой, будут измеряться, ведь измерение «результатов работы отдельного звена — основа хозрасчета». Другими словами, ответственные служащие министерств и любых иных управленческих учреждений должны зарабатывать себе на жизнь точно так, как зарабатывают токарь у станка или доярка на ферме: «Вклад высших звеньев состоит в том приращении эффекта работы низших звеньев, которое обусловлено плановыми и регулирующими решениями высших звеньев. Это приращение нелегко отделить от прироста прибыли, являющегося заслугой низших звеньев. Тем не менее эта задача разрешима. Настало время приступить к ее решению».
Новожилов напоминал, какое внимание созданию заинтересованности и ответственности работников управления уделял Ленин. «Политбюро требует безусловно перевода на премию возможно большего числа ответственных лиц за быстроту и увеличение размеров производства и торговли как внутренней, так и внешней», — писал Ленин в проекте директив Политбюро ЦК РКП(б) о новой экономической политике. Новая экономическая политика не была бы новой, не была бы нэпом, если бы она оставила «военно-коммунистическую» систему твердых окладов. Хозрасчет и твердые оклады — вещи несовместимые, вновь и вновь подчеркивал профессор. «Хозяйственный расчет предприятия может быть полным лишь тогда, когда высшие звенья производства (главные управления, министерства) несут ответственность за убытки в эффективности его (предприятия) работы. Лишь при охвате хозрасчетом всех звеньев производства по вертикали подчинения можно добиться объективного измерения результатов деятельности каждого звена».
Вот этого охвата многим и не хотелось, в этом охвате для многих и была опасность. А опасностей люди обычно стараются избегать… Служащий, который получает или пусть даже исправно отрабатывает твердый оклад, и служащий, который зарабатывает себе на жизнь, — это как бы две разные породы людей. Первая всегда готова и всегда способна порождать такие явления, как бюрократизм, субъективизм (почему, кстати, не говорить: волокиту, самоуправство, отсебятину?..), вторая — нет, из нее бюрократы, волюнтаристы, субъективисты не выходят. Профессор Новожилов был прав, когда говорил о неспособности многих своих современников видеть разницу между прибылью капиталиста и прибылью социалистического предприятия, из-за чего они и боятся «купцовских» порядков; стоило бы только добавлять, что бюрократу, да и всякому служащему, которому твердость его оклада дороже всего на свете, не видеть этой разницы, упорствовать в «левацком» отрицании закона стоимости просто-напросто выгодно.
Но дело, наверное, не только в этом — не только в том, что у бюрократа в сохранении административных порядков есть свой прямой жизненный интерес, — скажет всякий, кто знает, как распространены в наших пределах нетоварные понятия и как сильны и стойки противотоварные настроения. Сто лет назад А. Н. Энгельгардт описывал, как вели себя дорогобужские крестьяне, когда их торопили с уплатой податей. «Царю нужны деньги!» — говорили им. «У царя денег много, — невозмутимо отвечали мужики. — А не хватит, велит напечатать, сколь ему надо». Отношение нынешнего населения к деньгам — что такое деньги, для чего они существуют, как с ними обращаться — тоже очень показательно. Сейчас, как известно, на повестке дня очень важная задача: добиться, чтобы рост зарплаты перестал опережать рост производительности труда, — до сих пор не раз бывало, что нет-нет да и велим допечатать, благо царя нет, своя рука владыка. А мало ли еще людей, уверенных, что цена всего и вся не только зависит, но и должна зависеть от начальства? Считается, что с деньгами можно делать все. Например, не только платить их человеку за работу, но и указывать ему, на что он должен их тратить, а на что не должен, продавать ему не то, что он хочет купить, а то, что решат власти, администрация или общественность.
«Да, я понимаю, не может пока наше общество одеть всех людей модно и красиво, — пишет в газету „Комсомольская правда“ двадцатилетняя Татьяна Агапова, токарь из Ростова. — Но всех и не обязательно. Надо тем предоставлять все блага, кто этого больше всего заслуживает, а именно рабочие этого заслуживают больше, чем остальные. Почему бы, например, не построить один-два магазина на территории завода только для рабочих этого завода и снабжать их в первую очередь?» Мышление в духе «военного коммунизма» выражено в этом письме с удивительной чистотой и непосредственностью. Раз человека одевают и обувают не портные и сапожники на его деньги, по его заказу, вкусу, прихоти, а общество, то есть власти, начальство, значит, нет ничего странного в той идее, что всех — не обязательно, что клиентов можно отбирать, сортировать, выстраивать в очередь, кого-то одеть-обуть лучше и прямо сейчас, кого-то — хуже и когда-нибудь потом. Раз «все блага» будут расходиться на таких условиях, значит, слово «торговля» станет неуместным, и Татьяна Агапова не случайно употребляет другие, более точно выражающие суть дела слова: «предоставлять», «снабжать». Рабочие, безусловно, заслуживают «всех благ», сказал бы «товарник» токарю Агаповой, беда только в том, что подрыв авторитета денег продажей лучших вещей не каждому, у кого есть на что их купить, а по выбору, — это уступка тому самому продуктообмену, с которым «ничего не вышло», «военному коммунизму», который был всем хорош, за исключением того, что мешал росту производства, плодил иждивенцев и лодырей.
Подрывать авторитет денег — значит, подрывать оплату по труду, ведь если один за свои деньги может купить то-то и то-то, а другой за такие же деньги не может, значит, это не такие же деньги, значит, оплачивается не только труд, а еще что-то. В руках любого и каждого рубль должен иметь одинаковую покупательную силу, а иначе это не рубль, не всеобщий эквивалент. Он и только он, а не положение, заслуги или знакомство, должен давать доступ к прилавку, и дело тут не просто в справедливости. Рубль, не являющийся всеобщим эквивалентом, снижает материальную заинтересованность людей в труде. Большие силы и таланты некоторых, очень желающих много иметь, уходили бы не на то, чтобы больше работать и, следовательно, зарабатывать, а на то, чтобы лучше устроиться, попасть туда, где лучше со снабжением, и так постепенно в обществе падало бы уважение к труду, и наступил бы момент, когда человека стали бы ценить не по тому, как он трудится, а по тому, где ему дозволено тратить его деньги, в какой список он сумел попасть. Любой законченный, строго выдержанный проект посписочного, «помимоденежного» распределения, что бы ни думал о нем сам его автор, будет проектом всеобщей безалаберности и безответственности, карьеризма, склок и лицемерия, проектом общества, где каждый стремился бы сделать меньше, а получить больше, и в итоге остановился бы рост производства, захирела бы наука и техника, начала бы вырождаться культура. Так, со всем уважением к самым лучшим намерениям Татьяны Агаповой сказал бы ей грамотный экономист, но такового в газете не нашлось, и рабочему человеку ответили по всем правилам словесной джигитовки: «Претензий к торговле у всех нас много, но должны ли мы их ставить в основу нашего отношения к работе?» Разумеется, не должны, мы ведь святым духом питаемся, кто это там говорит, что за рубль, на который нечего купить, хорошей работы ждать не приходится, что все эти дефициты подрывают материальную заинтересованность — действительную, никем не выдуманную, существующую «от природы» основу социалистического и коммунистического строительства!..
Среди «кавалеристов» были люди, которые неподдельно переживали, думая, что «от рынка» может пострадать государство. Это была их боль, их правда. Чувствуя себя уполномоченным печься о народе, блюсти его высшие, коренные интересы, поддерживать устои государства, они в то же время мыслили очень конкретно, без малейшего отрыва от сей минуты с ее земной неотложной потребностью, нехваткой того-другого, пятого-десятого — словно некий добросовестный, вечно чем-то озабоченный, ждущий подвохов и неувязок снабженец. Вдруг чего-то недополучишь для государства! А ну как окажется, что закон стоимости и основанные на нем премудрости будут, а в закромах по осени — хоть шаром покати?! Колхозы-совхозы отбились от рук, зажили своим умом, своим рыночным интересом — и вот нечем кормить города… Судьба заготовок — главная кручина нашего «всадника», все еще находящегося под впечатлением 1928 года с его кризисом хлебозаготовок[7]. Провала заготовок он боится так, что становится от этого смел до дерзости: слова «свободные закупки», на всю страну осуждая их смысл, Ефремов ставит в кавычки через год после того, как в материалах мартовского (1965 г.) Пленума они были употреблены без кавычек и в самом положительном смысле: «свободным закупкам сельскохозяйственной продукции государство будет покровительствовать». Он спасает страну от разброда. Этим и объясняется его особая, саботажная, энергия. Не допускать перемен, ломки, движения — оставлять все по-прежнему, ничего не делать, не рисковать. У этой политики добросовестного, но очень недалекого служащего, уверенного, что без него мы и ложку ко рту не поднесем, ведь это он с утра до вечера только то и делает, что решает, кому дать то, кому это, только он знает, что значит, когда того не хватает здесь, этого — там и надо где-то что-то выкраивать, там урезать, здесь добавлять, — это политика деятельной бездеятельности, топтания на месте, латания тришкина кафтана имеет свое название, хоть оно ему и неизвестно: политика иммобильности…
Бессознательно, а нередко и сознательно он ставит по одну сторону воображаемого барьера себя, а по другую, противоположную, — колхозы-совхозы. Он — это хозяин, а колхозы-совхозы — это что-то вроде работников, за которыми нужен глаз да глаз. Если даже сейчас, когда все им расписано, они не выполняют то одно, то другое — приходится и уполномоченных посылать, и выговоры объявлять, то что же будет, если предоставить их самим себе? Так рассуждая, он считает зловредной демагогией противоположный, новожиловский, ход мысли: если не помогают ни выговоры, ни уполномоченные, надо перестать выговаривать и посылать уполномоченных, надо попробовать совсем другое. Считая себя и только себя зрелым, «нетоварник» в то же время рассуждает по-детски: раз колхоз не дает ни пуха, ни пера, значит, он плохой. Взрослое, подлинно зрелое рассуждение: раз колхоз не дает ни пуха, ни пера, значит, он не заинтересован их давать, — «кавалеристу» не приходит в голову, а когда ему пытаются это вдолбить, он считает себя оскорбленным в лучших своих чувствах. Овец им, видите ли, захотелось разводить! Овец вы и без меня разводили бы, коль это вам выгодно, а со мной вы будете делать то, что вам невыгодно!..
Статья 41 Основ гражданского законодательства предоставляет покупателю право по собственному выбору потребовать, чтобы негодный товар ему сразу же или заменили, или бесплатно отремонтировали, или вернули его стоимость. Обнаружив, что появившаяся в 1973 году инструкция насчет пяти ремонтов противоречит закону, «Правда» обратила на это внимание Прокуратуры СССР. Прокуратура рукой первого заместителя Генерального прокурора Н. Баженова отписалась: для вмешательства, мол, нет оснований. Речь шла о деле очень большой политической и хозяйственной важности. Политической — поскольку нарушение закона затрагивало жизненные интересы миллионов, хозяйственной — поскольку до тех пор, пока потребителю, как пишет 19 июня 1985 года «Правда», «не будет обеспечено безусловное право на обмен дефектных товаров, надеяться на повышение их качества трудно». В том, что Н. Баженов не сумел или не захотел этого понять, нет ничего интересного; среди должностных лиц на твердых окладах всегда находится какое-то число людей, которые или не доросли до своих обязанностей, или просто не любят работать. Интересно другое. Оказывается, противоречащее закону правило было принято Министерством торговли и комитетом стандартов не как-нибудь, а «по согласованию с рядом министерств, выпускающих телерадиоаппаратуру и сложную бытовую технику». На каковом основании Н. Баженов и решил не вмешиваться. Он не только не увидел ничего странного в том, что меры против бракоделов услужливо согласовываются с самими бракоделами, а наоборот, как раз это его и успокоило. Он проявил особую сознательность, солидарность «государственного» человека с казной, философию единого кармана, общего интереса, понимаемого по-чиновничьи грубо и низко — вульгарно, как это обычно называется. Все, что государственное, что согласовано и утверждено, все, что делается по плану, циркуляру, директиве, надлежит так или иначе защищать — особенно перед частными лицами, перед населением, которому никогда не угодишь…
Интересно, однако, что при всем том, что «кавалеристы» чувствуют себя поставленными радеть о благе государства, их как-то не волнуют потери, расточительство ресурсов — все, чем грешит приказное планирование и управление. При нашей, мол, бесхозяйственности потери неизбежны. Потери неизбежны, но это не страшно. Главное не то, сколько потеряно по ходу производства, в поле, например, или по пути с поля, а то, сколько прибрано, заготовлено для государства. О потерянном рассуждают как о чужом, свое только то, что прибрано. Это особый вид государственной озабоченности: любой ценой удовлетворить потребность сей минуты, а завтра хоть трава не расти. В Ефремове, как можно было судить по его борьбе против Марта, этот тип «заготовительного» человека был представлен со всей возможной полнотой. Его философия — философия разовой неотложной потребности, чрезвычайного положения, продразверстки. Довлеет дневи злоба его… Во времена разверсток о производстве не думают, некогда, главное — взять готовое, произведенное. Когда Ленин это заметил, когда стало бросаться в глаза, что разверстка, подрывая материальную заинтересованность людей, тормозит производство, он от нее отказался. Но тот «социализм чувства», о котором писал Ленин, оказался более живуч и властен, чем думалось нам. «Социализм мысли» натолкнулся к тому же на известный «дух народа» — на очень распространенное, нередко почти безотчетное убеждение, что надо не заинтересовывать, а погонять: зачем искать торговый подход к заводу-бракоделу, когда можно применить административный, то есть: директору — велеть ликвидировать брак, а рабочих — призвать? «Люди должны делать все, что нужно, а если дурно будут делать, то на это есть розги», — говаривал легкий на помине граф Аракчеев. Ему тоже непонятным, мудреным казалось, «что будто людей нельзя содержать так, чтобы они делали свое дело. Отчего же солдаты все делают, что им прикажут, ибо знают, что их накажут, если не сделают, что приказано?»
«Кавалерист» знает только, так сказать, отрицательную заинтересованность; его пониманию доступна только принудительная, основанная на страхе перед наказанием или осуждением связь интересов работника и предприятия, предприятия и общества. Он не подозревает, что только положительная материальная заинтересованность способна на чудеса, что она действеннее самой крайней отрицательной.
Перед войной на электростанциях страны случалось много аварий. «Чаще всего они происходили из-за ошибок персонала, — пишет „Правда“ (1 июля 1985 г.). — Время было суровое. Иные работники из-за своей технической малограмотности во всякой аварии склонны были видеть вредительство. Такая оценка сбивала с толку, мешала выявить истинную причину». И вот в инспекцию по расследованию причин аварий пришел молодой инженер Д. Г. Жимерин. По его настоянию был сделан поворот на сто восемьдесят градусов: не карать (меньше карать…) за плохую работу, а поощрять (больше поощрять!) за хорошую. «Так, за экономию топлива при соблюдении диспетчерского графика полагалась ощутимая премия. Кроме того, за год безаварийной работы устанавливалась надбавка — 10 процентов, которая в конце второго безупречного года вырастала до 15 процентов. А если провинился — начинай с нуля». И что же? То, чего люди не могли добиться даже под угрозой обвинения во вредительстве, они сделали в условиях «четкой и ясной» системы положительной — материальной! — заинтересованности, которая заставляла их «не только заботливо ухаживать за машинами, но и активно учиться. За один год число аварий по вине персонала сократилось в пять (!) раз», а молодого инженера Жимерина вскоре назначили наркомом электростанций.
Из того, что «кавалеристы» не верят в положительную заинтересованность, вытекает их приверженность ко всякого рода отработочным порядкам. Уязвленный тем, что многие станичники в Предгорье на Кубани с большой охотой выращивают коконы шелкопряда, за которые государство хорошо платит, а взять в руки тяпку и отправиться в поле на свеклу, где заработки намного хуже, их не допросишься, один молодой «кавалерист» из очерка Гария Немченко «На фоне неба» («Новый мир», 1985, № 3) говорит: «Надо так: хочешь заняться шелкопрядом — отработай столько-то дней в поле, принеси справку». Узнают коней ретивых… Это типичный, просто-таки плакатный «кавалерист», который не в состоянии понять, что чего-то путного можно добиться не принуждением, притеснением, ограничением, а поощрением и разрешением. Умный его собеседник отвечает ему словами американской пословицы: «Бык жиреет от взгляда хозяина». На поле, где люди будут не работать, а отрабатывать для справок, хорошо будут родить только бурьяны — вот в чем все дело.
О том, какой же трудной материей оказываются для многих самые азы, основы коммерческого расчета, можно судить по разговорам о показателях. Год за годом немало ответственных и ученых людей изобретают, конструируют эти показатели, то есть рассуждают, в чем должно отчитываться предприятие перед центральной властью, по каким результатам его деятельности лучше всего судить, хорошо или плохо оно работает. Для «товарника» этот вопрос давно ясен. Показателей, то есть признаков успешной или неудачной деятельности завода ли, совхоза, колхоза, сберкассы или стадиона, нельзя изобрести, выдумать, сконструировать. Их надо увидеть в жизни, обнаружить, открыть — и сделать это можно через законы товарного производства, через знание этих законов и умение использовать их на пользу делу. Эти показатели, эти признаки те же самые, по которым судят и о материальном благополучии отдельного человека. Сколько он зарабатывает? — вот что нам важно знать, чтобы решить, как его дела. Говоря о ком-либо, мы не обсуждаем, сколько болванок он вытачивает, если это токарь, за смену или за месяц, — мы говорим о его заработках, о доходах. Раз деньги — всеобщий эквивалент, раз товарно-денежный обмен — высшая форма обмена, то и реальным показателем деятельности завода может быть только тот, который вытекает из этой денежной природы. Валовой доход, прибыль. «Казна за долги трестов не отвечает», — когда провозглашался этот принцип, то из него сами собою вытекали именно эти показатели, эти признаки. За что Ленин предлагал судить руководство предприятий всем скопом? За то, что мало выпускают каких-то шестерен или машин? За то, что шестерни или машины плохие? Нет, за убытки. Раз убытки — значит, и с шестернями что-то неладно, а что именно — это уже детали, это казну, то есть центральную власть, государство, не интересует, казне подавай не шестерни или машины, а налог.
И вот этот простой вопрос умудрились запутать! Подозревают доход и прибыль, толкуют, что они не все показывают, не то показывают, не на то нацеливают предприятие, не то производить, ради чего оно существует. При этом как-то упускают из виду один пустяк. Когда Ленин говорил, что казна за долги трестов не отвечает, из этого с необходимостью вытекало, что тресты имеют столько прав и простора для своей деятельности, чтобы ответственность за ее результаты была действительно их ответственностью, а не тех, кто ими командует. Назначать цену на изделие, предписывать объемы производства, указывать поставщиков и потребителей, то есть решать за предприятие все его жизненно важные дела и в то же время не отвечать за убытки, — это была бы нелепость, издевательство. Отвечает тот, кто решает. Если завод не решает вопросов, от которых прямо зависит, будет прибыль или убыток, то он не имеет никакого права на прибыль и не может нести никакой ответственности за убыток. Ленинское положение «казна за долги трестов не отвечает» — это и требование, это и гарантия достаточной хозяйственной самостоятельности трестов, это требование и гарантия уважения законов товарного производства. Упустив это из виду, разочаровавшись в стоимостных показателях — стоимостных только по форме, неизбежно пришли к тому, с чего человечество начинало, к натуральным показателям. Доденежный показатель, дикарский, первобытный — это когда о достатке судили по тому, у кого какое стадо, табун или отара.
«Товарник» призывает не мешать предприятиям стремиться к их естественным целям, не мешать им бороться за то, за что не может не бороться всякий участник товарного производства, — за доход и прибыль. Раз продаешь и покупаешь, раз хозяйство ведешь не натуральное, а товарное, значит, тебе нужны деньги, доход, прибыль. А единство, гармонию интересов лучше всего обеспечивать тщательно взвешенной регулировкой цен, ссудного процента, налога, при этом ведя строгий учет потерям от такого вмешательства в естественный ход вещей, проверяя правильность каждого вмешательства рынком. Те, кто изобретает показатели, кто требует натуральных, не понимают природу денег. Для них деньги вроде бы и не бумажки, а в то же время и бумажки. Не понимают, что деньги обслуживают реальный обмен реальными ценностями, и все, что нужно, чтобы обмен был реальным и чтобы ценности были реальными, — это не мешать деньгам быть деньгами.
Так что, может быть, отчасти действительно правы те, кто замечает, пусть с улыбкой, что это — народники наших дней. Народник преувеличивал роль героев, «кавалерист» — роль начальства. (Впрочем, прикидывая, что делать после того, как герои свергнут старый строй, народники тоже полагались исключительно на прямое действие, на команду, на новое начальство и, однако же, искренне обижались, когда Плеханов им говорил, что у них получится «обновленный царский деспотизм на коммунистической подкладке».) У «кавалериста» наших дней находим тот же, что и у народника сто лет назад, бессознательный субъективизм и волюнтаризм — мы такие, мы все можем, в истории нет никакой целесообразности, только желаемое, все тот же расчет на прямое действие, ту же уверенность, что кучка самых сознательных, решительных людей, единодушно пожелав, способна как угодно изменять окружающую действительность, нужное — внедрять, лишнее — искоренять, за каковым единодушным пожеланием только и остановка. Эта склонность считаться не с жизнью, а со своими мнениями о ней, мечтательность, недовольство наличным человеческим материалом, который подпорчен, запятнан корыстолюбием и не готов добровольно идти в рай, решимость загонять его туда палкой и выжигать родимые пятна каленым железом — этот букет действительно заставляет вспоминать не кого иного, как социалистов-утопистов: тех же народников — у нас, тех же сенсимонистов — на Западе, тех же спартанцев, как заметил однажды Геннадий Лисичкин, — в Древней Греции.
Чиновник с циркуляром, наученный, что делать, передовыми людьми общества, то есть адвокатами, приват-доцентами и публицистами, — вот герой поздних народников, именно он должен был вести российскую толпу по их усмотрению; запрещать рост городов с их банками и крупными заводами и приказывать кустарным мастерским, где им быть, чего сколько выпускать, кому и почем продавать; он должен был иметь глаз и за мужиком — как бы тот не стал сеять вместо пшеницы кактусы или, наоборот, вместо кактусов пшеницу, да притом не по науке, а по-своему, и, разумеется, его чиновничьему сугубому попечению должно было подлежать просвещение, вся культура, все духовное, во что и как народу веровать, чему его учить, что давать ему читать, слушать и смотреть, какие обычаи и правила соблюдать (только старые, только проверенные, никаких, к примеру, разводов). Чиновник с циркуляром оказался и героем наших «кавалеристов», теперь, правда, наученный, что делать, ими, а не адвокатами и приват-доцентами.
Нет правды в поношениях — но, истово следуя даже этому правилу, можно, оказывается, перестараться. Если «кавалеристы» всегда знали, чтó сказать о «купцах» («апологеты стихийности…»), и никогда не осторожничали в выборе поносных слов, то самое крепкое, что они слышали в ответ, было «безграмотность». Постоянно сталкиваясь с деятельностью «кавалеристов», дружно, вместе со всеми от нее страдая то в очереди за пучком редиски, то в беготне за кольцом туалетной бумаги, «товарники» не спешили обнажать все пружины этой деятельности, показывать всю ее историческую родословную и теоретическую подноготную, поднимать учения и течения, с которыми она связана. Несколько принципиальных замечаний на сей счет находим опять же в шестидесятых годах. Показывая, как получилось, что рынок был надолго исключен из числа регуляторов народного хозяйства, наши лучшие экономисты тогда прямо связывали это с оживлением идей «левого коммунизма», против которого так настойчиво боролся в свое время Ленин. Именно тогда профессором Новожиловым, например, были процитированы — едва ли не впервые со времен нэпа — слова Ленина о бюрократических утопиях.
Эти поразительные слова Ленин начал обрушивать, как ледяной дождь, на горячие головы лучших вождей и сынов революции тогда, когда ему стало окончательно ясно, что строить социализм в расчете на чистый энтузиазм — значит, никогда его не построить, что опираться надо в первую очередь на материальный интерес, на торговый — предприятий и на личный потребительский — граждан, на естественное желание всякого человека и коллектива получать за свой труд достойное вознаграждение. А составляя хозяйственные планы, рассчитывать на худшее, на трудности и неудачи; расчет на лучшее — это и есть бюрократическая утопия.
Последний раз слово «утопия» употреблено Лениным незадолго до смерти, в статье «О кооперации», когда он увидел (это было как озарение, хотя отнюдь не на пустом месте — на дворе был нэп), что коллективная хозяйственная самодеятельность населения при Советской власти возможна, что без нее никуда, что рост кооперации тождествен росту социализма, что теперь, при общественной собственности на основные средства производства, может быть осуществлено многое из того, что было пошлым в мечтаниях великих теоретиков кооперации, устроителей фаланстеров… Кое-что в мечтаниях социалистов-утопистов перестало быть пошлым, то есть пустым, — и это очень хорошо. А что же осталось пошлым и пребудет пошлым вовеки? Чего следует остерегаться?
Пошлым в мечтаниях социалистов-утопистов остался бюрократизм, вера в силу стола, постановления, распоряжения, инструкции, в то, что декретами из «Центрального банка», где заседают непогрешимые, можно устроить рай на земле, как полагал Сен-Симон[8]. Это он предложил своим современникам и оставил потомкам проект общества, устроенного как один большой завод; это он первый мысленно согнал на этот завод все население страны для «объединенного воздействия на природу» по «общему плану», целью которого являлось, конечно же, предоставление каждому человеку «возможно более удобств и благосостояний». Он не сомневался, что всеми бригадами, участками и цехами этого завода будут управлять лучшие, а в дирекцию («Центральный банк») войдут самые лучшие люди; что же касается директора, то это будет совершенство, гений и святой в одном лице. Руководить они будут по науке, значит, во благо всех и каждого, а раз во благо, значит, правильно, а раз правильно, значит, незачем будет их проверять, критиковать, давать им наказы и советы, отзывать либо перемещать по воле низов: впрочем, у них будет не так уж много власти, ведь их распоряжения будут носить технический характер (как плавить сталь, сеять просо), так что управлять будут фактически не они, а «приобретенное к данному моменту знание»; все будет держаться на исключительной, высшей сознательности населения — однако воспитывать, вбивать в людей эту сознательность надо будет неустанно, придется даже выдумать новую религию и создать новую церковь, ведь «чем больше общество прогрессирует, тем больше оно нуждается в совершенствовании культа»; этому культу — культу не чего-нибудь, а труда — поэты должны будут доставлять воспитательный материал высшей пробы, главнейшим из искусств будет красноречие; само собой разумеется, что новая церковь будет объявлена непогрешимой, ее пастыри будут направлять поведение и «толкать мысли людей» так, с таким расчетом, чтобы они охотно, много и хорошо трудились, ведь других — обычных, привычных — стимулов к труду не будет; материальная заинтересованность — это от нечистого, где она, там никакого равенства имуществ, там вместо благородной взаимовыручки — холодный обмен на основе чистогана, там предпринимательство, торговля, одним словом, излюбленным у наших шестидесятников, — лихоимство.
Эта святая утопическая ненависть к лихоимству, к барышникам, коммерсантам («всякий осел может в один месяц изловчиться и обратиться в искусного торгаша», — писал Фурье) потом и обернулась тем отношением к законам товарного хозяйства, к торговле, которое Ленин должен был назвать коммунистическим чванством, полубарским, полукрестьянским «социализмом чувства», — назвать, кого-то смущая, кого-то восхищая таким решительным сближением низов с верхами, рабов с господами, какое бывает только в жизни.
Отсюда же, из этого красивого, но беспомощного «социализма чувства», выходило и то детское преувеличение возможностей прямого, приказного, революционного действия, которое Ленин считал едва ли не единственной подстерегающей революционеров опасностью — единственной, но смертельной, даже хуже, чем смертельной, потому что речь шла о болезни, от которой они могут погибнуть «в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала из дела». Наверное, не случайно именно об этой болезни вспомнил в одном из первых своих выступлений Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев: «Многим еще кажется, что если меньше советоваться, а лишь командовать, то будет проще и короче путь к намеченной цели». «Проще и короче» — это то, о чем иначе говорят: «Не будем разводить демократию». Не разводить демократию можно, но тогда нечего рассчитывать и на достаточный рост производства, на тот же технический прогресс.
И туда же, в глубину того же «социализма чувства», нельзя не бросить хотя бы мимолетного взгляда, когда думаешь, почему по сю пору так просто и коротко относятся к законам товарного хозяйства «самые высокие областные и республиканские инстанции», которые, как пишет в «Правде» (9 июля 1985 г.) начальник Саратовского управления торговли К. Ионов, изо дня в день заставляют его принимать на продажу «то, что негоже», — например, шубы из искусственного меха весной, или какой силой столько десятилетий держится положение, когда «предприятие не распоряжается своей прибылью, а использует ее по строго установленным направлениям», как пишет в той же «Правде» (11 июля 1985 г.) генеральный директор объединения «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Герой Социалистического Труда Н. Чикирев, объясняя, почему «нет стимула хозяйствовать вдумчиво, рачительно». В этой простоте и короткости можно, между прочим, разглядеть манеры людей, которые умственно и духовно так и не доросли до понимания, чтó такое «обобществление на деле», остановились на самом наивном понятии «единого кармана». Из их-то сладких мечтаний и стали незаметно выходить кислые инструкции наподобие той, в соответствии с которой купленный нами порченный телевизор заменяют только после того, как он пять раз побывает в ремонте.
Бюрократическая утопия — это такой проект лучшего устройства общества, осуществить который надеются бюрократическими способами. Мысли о бюрократизме не случайно самые важные из последних мыслей Ленина, для выражения их им найдены особенно точные и доходчивые слова. Что такое бюрократические способы? Это приказы, циркуляры, инструкции, указания, которые спускаются сверху вниз, от вышестоящих к нижестоящим, из конторы в контору. Это ставка не на интерес, а на послушание. Бюрократические утопии неосуществимы, но попытки осуществления возможны, они редко бывают комичны и безобидны, чаще — мучительны и расточительны.
Раз поставлена утопическая — нереальная, недостижимая, в кабинете высиженная — цель, неизбежным будет формализм, показуха при ее выполнении, все будто оглуплено, доведено до абсурда, верить в эту цель будут только непроходимые дураки, все же остальные будут ее втайне презирать, к ней присосутся рвачи, болтуны, карьеристы, будут под шумок устраивать свои дела и притеснять все умное, талантливое, честное, — наконец, утопическая задача обязательно будет объявлена досрочно выполненной.
Молодой учитель Линь Чжэнь из рассказа китайского писателя Ван Мэна «Новичок в орготделе» (этот рассказ обошелся автору в двадцать лет «трудового перевоспитания» в деревне), попав на работу в один из пекинских райкомов китайской компартии, страдает, вплотную столкнувшись с кадровыми партработниками, вчерашними героями и организаторами вооруженной борьбы с японцами и гоминьданом. Он не может понять, почему на мирной работе по строительству новой жизни они оказались циниками, лжецами, демагогами, самодурами, почему «святыми» и «наполненными сокровенным смыслом» словами они оперируют так легко, словно «перебрасывают косточки на счетах», почему они так вяло, формально, недемократично ведут «домашнее хозяйство» партии, несмотря на то, что умеют великолепно объяснить, что это такое. Линь Чжэнь ответа на свой вопрос не находит, но читателю материал для ответа автор дает. Все дело в том, чем вынуждены заниматься вчерашние красные командиры и герои-подпольщики, в осуществлении какой задачи, спущенной сверху, они участвуют. Задача такая: механическим, кампанейским умножением числа членов партии, простым утолщением партийной прослойки на заводах немедленно поднять производство. Спрашивается: может ли человек, если он не дурак, бороться за выполнение этой задачи от души? Что остается тому, кто понимает, что для немедленного увеличения выпуска мешков на мешочной фабрике в пригороде Пекина требуется увеличение не числа партбилетов, а кое-чего более существенного: например, производственных мощностей, материальной заинтересованности рабочих или поставок сырья? Вот дошлый начальник группы партийного строительства Хань Чан-синь в «Отчете о росте партийных рядов на мешочной фабрике», где в первом квартале пятьдесят шестого года принято два человека, и шпарит: «Товарищи Чжу и Фань, вдохновленные присвоением им высокого звания коммуниста, проявили хозяйское отношение к делу и выполнили напряженный план первого квартала соответственно на 107 и 104 процента. Широкие слои актива, сплотившись вокруг партбюро, вдохновленные примером тт. Чжу и Фаня и движимые стремлением быть принятыми в ряды партии, проявили трудовую активность и инициативу, успешно выполнили и перевыполнили производственные задания…»
Утопическая цель всегда пошла, то есть пуста, она порождает бюрократические способы, которые сразу же начинают служить не ей, поскольку такая служба совершенно бессмысленна, а самим себе. Утопический социализм с его пустыми целями — это «великие скачки», «красные книжечки» и заплывы великого кормчего, это преувеличение успехов и замалчивание провалов, это зажим критики и поощрение угодливого славословия, это ежедневное переписывание истории. Бороться с парадностью, пустословием, формализмом, к чему сейчас так настойчиво призывает партия, — значит, прежде всего бороться за то, чтобы у нас везде и во всем были дельные, жизненные цели, выполнимые программы и посильные задания. На то «сладенькое коммунистическое вранье», от которого бывало «тошнехонько» Ленину, люди часто шли как раз потому, что брались — шумели, что берутся… — за невозможные или преждевременные дела.
Утопии старые, классические отражали тогдашние понятия о лучшей жизни — понятия очень высокие, самые высокие, они связаны с именами крупных и честных мыслителей, одухотворенных любовью к людям и надеждами на неизбежное и бесповоротное торжество добра. Утопии наших «кавалеристов», твердящих зады, повторяющих давно пройденное социалистической мыслью, не подозревающих, что все на этих задах уже не так, как было, что-то выброшено, что-то переделано, переставлено, достроено, отражают слабые, может быть, самые слабые понятия о лучшей жизни, к тому же такие, которые не раз проверялись на практике, неизменно их посрамлявшей. «Когда-то здесь (на привокзальном базарчике одного китайского города. — А. С.) много было всякой съедобной мелочи, местных деликатесов, — пишет тот же Ван Мэн в рассказе „Весенние голоса“. — Ну там арахис, грецкие орехи, семечки подсолнечника, сушеная хурма, хмельные финики, сладкие бобовые лепешки, батат, папоротник в кунжуте. Все было. А потом фокусник двумя перстами левой руки махнул красной тряпицей — и все пропало, а за деликатесами стали исчезать спички, электрические батарейки, мыло…»
Современные социалисты-утописты — это хмурые изобретатели вечных двигателей в общественной жизни. Они деятельны и упрямы, хотя главную причину известной распространенности утопических настроений надо, наверное, искать не в чьей-то бестолковой мечтательности, а в жизни, хозяйственной и общественной, в бытии миллионов, которое отнюдь не забежало вперед их сознания, — в известных экономических трудностях и неудачах семидесятых годов, анализ которых начат весной 1985 года и продолжен на XXVII съезде КПСС. В ответ на эти трудности и неудачи и оживились утопические мечтания, рассуждательство в восторженно-бюрократическом духе — например, о том, что «у нас» никто и ни за что не должен получать от общества больше, чем имеет «человек из народа», и как, внедрением каких параграфов в какие циркуляры этого добиться. В ропот, закономерно поднявшийся против воров, мздоимцев и хапуг, опять вклинились голоса совсем из другой оперы, голоса людей, заставляющих публику недоумевать, с чего бы это вдруг — в то самое время, когда уравниловка уже, кажется, всеми признана крупнейшим злом и помехой на нашем пути, — с чего бы это вдруг кому-то понадобилось вводить в моду не снимающиеся без посторонней помощи жилеты сенсимонистов и черную чечевичную похлебку, которая, по закону Ликурга, была обязательной основной пищей всех граждан Спарты, — те должны были хлебать ее непременно на глазах друг у друга, за общими столами, так что даже царю, просившему себе позволения в виде высшей награды за одержанную им военную победу один раз пообедать наедине с супругой, было отказано в этой роскоши.
Когда я однажды написал про одну современную утопийку, что она, возможно, сочинялась под сильнейшим детским впечатлением от «Города Солнца» и других подобных книг, один читатель, экономист по специальности, прислал мне резкое возражение. Если бы наши «кавалеристы», писал он, читали «такую литературу», они бы невольно воспитались в сознании бесплодности всякого утопического — спартанского ли, сенсимонского, народнического или троцкистского («ударность в труде и равенство в потреблении») — социализма, в их памяти тогда огненными знаками были бы запечатлены многочисленные попытки устройства общих столов, всегда и везде приводящие к одному и тому же: к упадку производительных сил, науки и культуры, хроническим дефицитам при чудовищном расточительстве, к ожесточению нравов и отуплению людей (тут он приводил слова Шиллера: «Ограничен был разум спартанца и бесчувственно было его сердце»), к юродствам, нередко кровавым, всевозможных «великих кормчих», и не стали бы предлагать нам на исходе двадцатого века сбиться в стада потребительских ассоциаций, чтобы заглядывать друг другу в тарелки.
Вместе с тем происходят все более заметные сдвиги в сторону «купцовского» образа мыслей. Уже можно прочитать, что многолетние и по самой своей природе бесплодные попытки «усовершенствования объемных, валовых показателей» только доказали, как пишет в «Правде» экономист В. Тарасенко из Усть-Каменогорска, что «оценка эффективности производства проще всего возможна через прибавочный продукт». «Простота» здесь, пожалуй, не то слово, но про прибавочный продукт — по делу, эти слова в разговорах о показателях не встречались с шестидесятых годов. С того же времени не слышно было и слов «товарно-денежные отношения», прозвучавших сначала на известном совещании в ЦК КПСС по проблемам научно-технического прогресса летом 1985 года, а потом и в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду. Был дан прямой ответ на попытки «кавалеристов» настроить общество против стоимостных показателей, опорочить принцип экономической выгоды. Внедрять новое, по-хозяйски расходовать ресурсы, уважать потребителя предприятию должно быть выгодно — эта мысль проходила красной нитью и через доклад, и через большинство выступлений делегатов. В докладе отвечено на предубеждения и опасения «кавалеристов», на тот их гневно-риторический вопрос, которым они до сих пор неизменно встречали любые меры по расширению хозяйственной самостоятельности предприятий и местностей: что, мол, останется от планового руководства, особенно от централизации? Централизация, как видно из доклада, будет не ослаблена, а, наоборот, усилена, но не в мелочах, а в главном — в реализации основных целей экономической стратегии партии, определении темпов и пропорций развития народного хозяйства, его сбалансированности. При сем намного шире будут применяться методы косвенной централизации — в частности, управление посредством нормативов. Это будет делаться вопреки известной «кавалерийской» позиции, «когда в любом изменении хозяйственного механизма усматривают чуть ли не отступление от принципов социализма».
Все чаще производственники, хозяйственные руководители говорят языком лучших ученых шестидесятых годов. Азбуку товарно-денежных отношений: «через цены должен быть реализован основной принцип хозрасчета — самоокупаемость и получение прибыли, необходимой для расширенного воспроизводства и социального прогресса», — формулирует в «Правде» (11 июля 1985 г.) уже упоминавшийся здесь генеральный директор объединения «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Н. Чикирев. Он при этом недвусмысленно требует, чтобы «автором» цен был рынок; чтобы они устанавливались «в процессе взаимоотношений между поставщиком и потребителем», которые придерживались бы основного рыночного принципа взаимной выгоды.
Поле битвы — умы людей. «Кавалерист» с «купцом» могут сражаться в сознании одного и того же человека, одного и того же ведомства, и усиление накала этой борьбы — тоже примета последнего времени. Комсомольский работник из Липецка рассказывает (в «Комсомольской правде» 20 июля 1984 г.) о том, как в ателье «Трикотаж», идя навстречу юным покупателям, наладили выпуск расписных маек «Леви Штраус», «Суперстар» и пр. «Об идейности рисунков» говорить не приходилось и… «прикрыли мы эту лавочку», сообщает молодой человек. Лет тридцать назад можно было, насмехаясь над ним, добавить, что сообщает он об этом подвиге, пришпоривая коня, как и положено «кавалеристу» в его возрасте, чтобы скакать к следующей лавочке. Но в том-то и дело, в том и примета нынешнего времени, что сейчас наоборот — не пришпоривает он коня, а натягивает поводья и задумывается. О чем же? В голову ему приходит потрясающая мысль: «Но рынок-то не прикроешь!» Это — огромный шаг в его развитии, это уже слова почти образованного человека; если учесть, что он молодой и деятельный (прикрыть государственную «лавочку» — не шутка, напор, видимо, требовался еще тот!), то этот его сдвиг в сторону «купцов» важнее, чем сдвиг иного теоретика.
Этот человек скоро не только сможет или будет вынужден, но и захочет усвоить уроки длительной борьбы «социализма мысли» и «социализма чувства», полем которой были как умы людей, так и хозяйственная жизнь. Привыкший думать, что в самом понятии «рынок» есть что-то крамольное, не наше, он однажды взглянет на дело проще, прямее и обнаружит, что рынок — это граждане покупатели, население, все мы, советские люди, со своими вкусами, потребностями и возможностями, с предприятиями, где мы стоим у станков, и конторами, где сидим за столами, и бояться рынка, его приговоров и подсказок, подозревать его в нечистых намерениях — это значит проклинать, бояться, подозревать самих себя, нас с вами, советских людей, граждан покупателей. Он поймет, что дать слово рынку — значит укрепить власть потребителя, расширить его права, чтобы он больше участвовал в управлении общественным хозяйством и как собственник кошелька, известной суммы денег, тратить которые он волен по своему усмотрению, поощряя своим вниманием изготовителя одних вещей и наказывая своим пренебрежением изготовителя других, и как работник предприятия, которое тоже входит в число потребителей и наделено теми же правами, что и отдельный покупатель. Проверка рынком — это проверка человеком.
Этот уже начинающий задумываться и потому переходящий с галопа на шаг «кавалерист» поймет, наконец, что социалистические «лавочки» — это именно социалистические «лавочки», собственность народная, и обращаться с нею без должного уважения, «по-кавалерийски» ею командовать не только неправомерно, но и вредно, чревато упадком производства, бесхозяйственностью и порчей нравов, что товарно-денежные, коммерческие отношения — это язык, на котором капиталистические предприятия говорят по-своему, по-капиталистически, а социалистические могут и должны говорить по-своему, по-социалистически, в интересах всех и каждого.
2. «Ремесло проверяется торжищем…»
«Чтобы наш разговор мог состояться, позвольте мне первым делом в немногих словах пересказать Вашу статью и спросить, правильно ли я ее понял, — так начинается один из откликов на помещенную в шестом номере „Знамени“ за 1986 год мою статью „Приход и расход“. — Итак, „социализмом чувства“ Ленин называл старорусское полубарское, полумужицкое, патриархальное настроение, коему свойственно безотчетное пренебрежение к торговле — к коммерции, к товарно-денежным отношениям. Этим „социализмом чувства“ оказались проникнуты многие руководящие и рядовые революционеры. Вы называете их „кавалеристами“, вспоминая негативное отношение Ленина к методам кавалерийского наскока при решении задач мирной жизни. „Военный коммунизм“ они, в отличие от Ленина, не считали ни вынужденным, ни ошибочным, а самым естественным делом. Новую экономическую политику (нэп) Ленину пришлось буквально пробивать через них, но до конца они ее так и не поняли и не приняли и при первом же случае отказались от нее.
„Социализмом мысли“ (это выражение я, кстати, встречаю впервые) Вы называете те идеи, которые лежали в основании нэпа: товарно-денежные, коммерческие отношения в народном хозяйстве под осторожным контролем государства, смелое допущение всеохватывающей кооперации и частной трудовой деятельности, поощрение не только хозяйственной, но и общественно-политической самодеятельности населения.
„Социализм мысли“, как Вы его излагаете, — это, короче, полноценное товарное хозяйство в условиях общественной собственности и демократии. Идеологов, приверженцев и мучеников этого социализма Вы называете „купцами“, обосновывая свой термин ленинским выражением „купцовские способы“.
Все это мне, в общих чертах, было известно. С Вашей помощью я уяснил только одну, но для меня очень важную идею, которой мне как раз и не хватало в моей логической цепи. Вы начертили родословное древо „кавалериста“, добравшись до его родителей. Эти родители суть: утопический социализм и казарменный коммунизм. То есть: народничество и, добавил бы я, поскольку Вы, доверяя моей сообразительности, этого не говорите, — „бесы“. Связывать тех, кто привержен административным методам управления хозяйством и обществом, больше не с чем и не с кем. Так я понимаю то, что Вы хотели сказать в своей статье».
И понимает он (школьный историк Л. Т. из Ростова), надо отдать ему должное, правильно, хотя под конец все смазывает довольно странным то ли комплиментом, то ли предостережением:
«Тогда у меня к Вам только один вопрос: кто Вам позволил писать то, чего нет в учебниках по советской истории и политэкономии социализма, составленных в духе соответствующих директивных политико-идеологических документов? (Как известно, так у нас составляются все учебники, включая иногда и учебники по естественным наукам, — вспомните биологию и генетику времен незабвенного Трофима Денисовича Лысенко.)».
Как бы то ни было, это, пожалуй, самый легкий из вопросов, поставленных в письмах читателей, откликнувшихся на «Приход и расход».
Этими вопросами, кстати, специально интересуется Л. Коновалов, харьковский студент-юрист, имеющий опыт хозяйственной работы в студенческих строительных отрядах и собирающийся переходить на экономический факультет.
«Вы рассказываете о борьбе идей — об идейной борьбе, а мы привыкли получать от печати разжеванные объяснения всех вопросов и чтобы были конкретные предложения по каждому пункту жизни. Поэтому Вас засыплют конкретными вопросами о планировании, ценообразовании и прочем, не заметив, что принципиальные ответы на них имеются в статье. Эти ответы надо выводить более-менее самостоятельно, а к этому мы не приучены. В своей практике дискуссий в общежитии я сталкиваюсь с таким явлением постоянно. Сколько бы ни рассказывал лектор о ценообразовании при товарно-денежных отношениях, которое исключало бы теперешние крупнейшие дотации, в конце кто-нибудь обязательно спросит: „А сколько, по-вашему, должна стоить буханка обдирного хлеба?“
Сколько бы Вы ни объясняли про разницу между зарплатой, которую сейчас, если разобраться, неизвестно кто и как устанавливает, и заработком, который являлся бы причитающейся человеку частью валового дохода трудового коллектива, — в конце кто-нибудь обязательно скажет: „Так тогда же скотник в богатом колхозе будет получать в пять раз больше, чем рабочий на конвейере, — и кто тогда захочет собирать машины?“ У нас каждый рассуждает, как глава государства, вернее, как диктатор, который должен всем все приказывать, все за всех предусматривать и решать. Попробуйте объяснить, что вопрос о доходах скотника и сборщика должен решаться не кем-то со стороны, а ими самими, что они, скотник и сборщик, нуждаясь в труде друг друга, всегда договорятся друг с другом ко взаимной выгоде, и единственное, что тут требуется, — соответствующий хозяйственный и общественный механизм!»
Заканчивает студент свое письмо по-юношески уныло:
«Вас не поймут в главном. Вы говорите, что надо пересесть с телеги на самолет и как это сделать. С Вами будут соглашаться, потом скажут: позвольте, но ведь самолет не пойдет по шоссе, телеграфные столбы посбивает. Мы всей душой за самолет, но представить себе, что он будет летать, а не тарахтеть по мостовой, нам трудно. Мы думаем не о том, как сопрягать самолет с воздухом, а о том, как — с мостовой. Так я оцениваю все принятые до сих пор меры по „совершенствованию хозяйственного механизма“. Вопросы, которые Вы получите на свою статью, покажут Вам одну из основных причин этого. А причина кроется в исключительно низком уровне экономического мышления в стране».
Автор прилагал перечень вопросов, которые, по его мнению, последуют от людей, не умеющих даже мысленно сопрягать летательные аппараты с воздухом: «Почему растут цены? Почему увеличиваются штаты? Почему плохо внедряется новая техника? Почему существует уравниловка в зарплате? Почему не сокращаются дефициты? Если человек, прочитавший Вашу статью, задаст Вам хотя бы один из этих вопросов, значит, он ничего в ней не понял и не готов к перестройке».
Вопросы, которые предвидел Л. Коновалов, вскоре действительно были заданы, причем в одном письме и почти теми же словами. Писал В. Четкарев, газетный работник из Ленинграда:
«Вот Вам ряд вопросов, на которые Вы не знаете ответа. 1. Что такое соревнование? 2. Что значит — хорошо работать? 3. С чем связана чехарда в зарплате между работниками одной профессии и квалификации? 4. Почему возник застой во внедрении? 5. Почему тарифная система перестала регулировать уровень жизни? 6. Почему у нас падает качество? 7. Почему растет взяточничество? 8. Почему у предприятий возникают срывы обязательств по поставкам? 9. Почему разбухают штаты — рабочих и управленцев? 10. Почему хозрасчет — это „уступка капитализму“? 11. Почему растут цены?»
В письме был еще один, непронумерованный вопрос: «Скажите, Вам не становится тревожно оттого, что экономика у нас вообще наука гуманитарная?» — вопрос, ответить на который можно было бы кратко (экономика — наука гуманитарная не только у нас, а везде и всюду, и тревожиться по сему поводу — то же самое, что и по поводу того, что математика — наука точная…), если бы автор не считал одинаково бездоказательными доводы как «купцов», так и «кавалеристов» и не был бы трогательно искренен в своем раздражении: «Лично мне делается страшно в этой кутерьме произвольных положений, которые, как и у чтимого Вами проф. Новожилова, не идут дальше „публицистики высокой пробы“».
Этот автор (явно, впрочем, не читавший труды Новожилова, которые полны математики, — профессор и Ленинской премии был удостоен за экономико-математические разработки) удачно выражает настроения и представления, которые характерны сегодня для многих молодых инженеров и научных работников технических специальностей. Это у них своеобразный шик — мазать одним миром всех, кто говорит о хозяйственных проблемах на языке экономики, а значит, не столько вычисляет, сколько думает, — и думает в первую очередь об отношениях людей. Экономика потому и гуманитарная, то есть человековедческая наука, что занимается общественными отношениями. Для нее, к примеру, стоимость вещи, выраженная в цене, — это не цифра на бирке, а момент отношений, товарно-денежных отношений людей. Харьковский студент потому так и расстраивается, когда в общежитии его спрашивают, сколько должна стоить буханка обдирного, что тут дело не в чьем-то мнении и указании, а в том, как сложатся деловые — товарно-денежные — отношения между производителями и потребителями хлеба, а как они сложатся, заранее никто не может знать; сначала нужно посмотреть, как они сложатся, а потом уже решать, вмешиваться ли в них, как вмешиваться и для чего вмешиваться.
«Товарникам» потому так и претит слишком жесткий и произвольный контроль над ценами, что это контроль над отношениями, над людьми, что бюрократия, безраздельно и безответственно властвуя над ценами, тем самым властвует над людьми, сковывает жизнь. И потому же — и не по чему другому! — отстаивают такой контроль «нетоварники». Потому он так и ожесточен, спор «кавалеристов» и «купцов», что это не просто спор, а борьба, и борьба взглядов не просто на планирование и ценообразование, а на человека, на общество, на социализм, на смысл жизни, — самая настоящая идеологическая борьба, то и дело то здесь, то там переходящая в политическую.
Некоторым же «технарям», особенно молодым, кажется, что вести этот спор на экономическом языке — занятие устарелое и бессмысленное, что его можно в два счета решить методами точных наук. Их подход исключительно кибернетический, из всех теорий они признают только теорию управления и регулирования, с точки зрения которой машина, человек и государство подчиняются общим законам. Как пишет занимающийся лазерами молодой инженер В. Н. из Подмосковья, «у всех трех есть: а) датчики (у человека это органы чувств, у государства — его граждане), б) рабочие органы (у человека — руки, ноги, язык, у государства — предприятия и организации), в) управляющее устройство (у человека — мозг, у государства — аппарат). Необходимое условие правильной работы машины, здоровья человека и государства — правильное функционирование всех трех составляющих. Сбой любой из них ведет к нарушению работы целого. Допустим, Вы работаете или отдыхаете на морозе. Ваши органы чувств вовремя сигнализируют о переохлаждении какого-либо пальца, мозг тут же принимает решение усиленно им подвигать, мышцы немедленно выполняют это решение, и палец разогревается. Если хоть один из участков этой операции выполнит свою задачу неправильно или с опозданием — палец будет отморожен. Совершенно то же самое происходит в государстве…»
Один из читателей статьи «Приход и расход» обратил внимание на попытки некоторых авторов изображать «товарников» и «нетоварников» не только как две равноправные, но и равноценные школы, а их отношения — как товарищеский обмен разными мнениями, как спор, доставляющий обеим сторонам одинаковое удовольствие. Это не были споры друзей. Равноценными эти школы сами себя не считали, и каждая была права. «Нетоварники» прозрачно намекали, что «товарники» — это агенты буржуазии, ничего не доказывали, а только ругались: вы, мол, неправильно веруете в социализм, и угрожали: смотрите, плохо вам будет. Этот метод сыграл огромную, еще никем не описанную роль в свертывании хозяйственной реформы шестидесятых годов. Они не подозревали, что дело обстоит еще хуже: «товарник» на веру не принимает ничего, он только исследует. В свою очередь «товарники» показывали, что «кавалеристы», при всех их профессорских и академических званиях, — это не люди науки, что их взгляды основаны не на разуме, не на опыте, не на изучении действительности, а на вере в «административный социализм», как в библию или коран. Вспомнивший о «примеренцах» читатель считает, что пора добавить: «Эти взгляды основаны не только на вере (часто там нет никакой веры), а на самом банальном матинтересе». Действительно, соображения «кавалеристов» такие грубые, а предложения подчас такие страшные (один из них пишет прямо, что борьба за «социалистическое экономическое сознание» должна вестись «со всеми последствиями и издержками, присущими всякой борьбе». Лес рубят — щепки летят…), что одно это нам показывает: дело не в тех или иных особенностях или изъянах мышления, образования, жизненного опыта.
Так упорствовать в отрицании самых азов хозяйствования, так настойчиво призывать к «издержкам, присущим всякой борьбе», можно только в том случае, когда на карту поставлены интересы. В данном случае — интересы бюрократии. Инженер М. Кузовков из Москвы выделяет то место в статье, где говорится, что при фондированном снабжении или, как писал академик Немчинов, «карточном рационировании» средств производства «анархия товарного хозяйства сменяется анархией нетоварного, только в первом случае она принимает форму всеобщего избытка, а во втором — всеобщего недостатка». Недостаток же выгоден тем, кто имеет доступ… Так что «за самыми высокими и благородными словами в защиту административного социализма стоит самое обыкновенное желание материального обогащения. Это всегда так. Когда хотят обмануть государство, говорят о высоких принципах».
Это упускают из виду «технари». Они не замечают, что взаимодействуют, сталкиваются не датчики, рабочие органы и что там еще, не просто мнения (В. Четкарев приводит ряд синонимов этого слова: «суждение, соображение, позиция, взгляд…» и, обращая внимание на то, что все они присутствуют в статье «Приход и расход», замечает: «В общем, царство теней и неопределенностей…»), а именно интересы. «Технарь» не видит этого, и у него, естественно, не возникает желания принять ту или другую сторону, связать себя с бюрократией или с демократией, с тем или другим интересом, он вызывающе ставит на одну доску Новожилова и его противников.
Между тем перед нами не только разные мнения и доказательства, а разное качество доказательств.
В середине двадцатых годов был принят ряд недостаточно взвешенных экономических решений, особенно в ценообразовании. В результате возникло такое явление, как дефицит. Всего стало не хватать. За всем (точнее, за всем действительно нужным и стоящим) выстроились очереди и не рассосались по сей день. Первым и тогда едва ли не единственным человеком, который сразу же, еще в 1926 году, объяснил, отчего это произошло и чтó надо делать, чтобы страна не губила миллиарды человеко-часов в очередях, чтобы люди не теряли человеческий облик в борьбе за дефицит, не видели в нем смысл своей жизни, был молодой ученый-экономист В. Новожилов — впоследствии тот самый профессор, в чьих научных положениях его земляк до сих пор не обнаружил ничего, кроме «публицистики». В его статье «Недостаток товаров», признанной сегодня классической, изложены идеи, которые спустя годы были положены в основу экономических реформ в Венгрии, Болгарии, Китае. С ценами и деньгами, показывал автор, надо обращаться по их законам, а первейший из этих законов — закон стоимости. Несмотря на то что годом раньше (1925) на собрании в Институте красной профессуры было решено его отменить, этот закон существует — и ни в зуб ногой, а одним из условий, при котором этот неподвластный людям закон действует созидательно, является цена равновесия — равновесия между спросом и предложением.
Отвечая на любое, относящееся к недостаткам в экономике «почему?», «нетоварники» десятилетие за десятилетием говорят одно и то же: потому, во-первых, что существуют пережитки проклятого прошлого в сознании населения, и потому, во-вторых, что руководящие кадры перестали чувствовать высокую ответственность за порученное дело, мало думают об интересах государства, а это с ними происходит потому, что другие, более высокие кадры, ослабили требовательность к ним. В одной своей статье, перечислив все основные беды современного народного хозяйства, доктор экономических наук П. Игнатовский объяснял их так: «Хотя ведущую роль в нашей экономике занимают отношения, основанные на совместном планомерном присвоении, распоряжении, потреблении, привычки старого еще давят на сознание части производителей. Это мешает. Отсюда трудности — живучесть старых взглядов на труд, стремление обойти общественный интерес, урвать побольше, уклониться от контроля и ответственности перед обществом».
Равноценны ли эти объяснения объяснениям Новожилова, который писал не о пережитках старого, а о пороках нового — о несогласованности хозрасчета с планом, о смешении результата с затратами, о планировании, которое «воздействует на миллионы людей, побуждая их считать расход приходом, а понижение качества продукции — полезным результатом»?
П. Игнатовский предлагает: «…прежде всего нужны люди, которые стремились бы оправдать доверие партии и народа, действительно были бы политиками социалистического хозяйствования… Нужны не столько новые принципы управления производством, сколько люди, способные их осуществлять в новых условиях, с большей энергией, незыблемой последовательностью, прогрессивными знаниями и опытом…»
Равноценны ли эти предложения предложениям Новожилова, положениям о «демократизации плановой экономики», о введении таких порядков, при которых наилучшее выполнение плана совпадало бы с личными интересами всех исполнителей?
Среди особенно болезненных «привычек старого» на первом месте, конечно, взяточничество и воровство всякого рода. «Плохо боремся!» — говорит обычно «кавалерист», объясняя живучесть этих привычек. Редко и поверхностно проверяем должностных лиц, не присматриваемся, кто как живет, не спрашиваем, откуда что у них берется, мало и мягко судим провинившихся, попустительствуем большим и малым «несунам», слабо ведем профилактическую, то есть воспитательную работу. «Кавалериста» не смущает, что эти разговоры ведутся из года в год, из десятилетия в десятилетие, что время от времени от слов переходят к делу — и тогда многие лишаются должностей, рабочих мест, свободы, а то и голов, а потом все возвращается на круги своя, словно (почему, впрочем, «словно»?) срабатывает некий закон, согласно которому пресечение, принуждение, наказание по самой своей природе не могут действовать с постоянной силой достаточно длительное время: одни устают нагонять страх, другие к нему привыкают, и, глядишь, — то здесь, то там расходятся скрепы, появляются щелки, еще чуть-чуть — и разверзлось, и поволокли через прораны что кому сподручнее, пошли вершить «блатные» дела, очковтирательство, местничество, ведомственность, и вот уже опять кто-то, забывший, что все уже было, было, требует «завинчивать гайки», убеждая сам себя, как тот же П. Игнатовский: «Меры политические, административные, даже самые жесткие, действуют в виде единичного акта, но не в этом их основное назначение. Важно, что они формируют политическую атмосферу, при которой наступают изменения в сознании, становится невозможным пренебрежение общественным делом, общественными интересами…»
Некоторые читатели упрекают «Приход и расход» за напористое разжевывание азов товарно-денежного мышления и преимуществ продналога перед продразверсткой. «Всем сегодня ясно, что „социализм чувства“ себя изжил и будущее за „социализмом мысли“. Доказывать это — значит ломиться в открытую дверь. Приводить примеры с чечевичной похлебкой из глубокой древности, чтобы высмеять сегодняшних приверженцев казарменного коммунизма, — значит не уважать читателя, подозревая его в примитивности понятий, чувств и желаний», — пишет один. Сам этот упрек по-своему свидетельствует, как уже далеко мы продвинулись в сторону товарного образа мыслей. К сожалению, эти авторы меряют всех на свой аршин. То, что ясно им, другие еще и не начинали проходить. Преувеличивать подкованность и понятливость публики вреднее, чем приуменьшать; лучше уж пусть кто-то зевнет, слушая знакомое, чем замолчать как раз тогда, когда многие только приготовились слушать.
«Если человек работает, как сейчас, получая больше, чем позволяет итог его труда, то есть приворовывает, то экономическими мерами с ним не справиться. Его только лагеря или высылка в Сибирь могли бы сделать полезным нашему строю и обществу. То есть: административные факторы!!!»
Можно ли считать законченной проповедь идей продналога, когда смотришь на эти три восклицательных знака и замечаешь отсутствие подписи в конце, создающее впечатление явственного и все еще слаженного многоголосия?
«Если не истреблять столько полезных ископаемых в трудных климатических условиях, а лучше использовать вторсырье, то благосостояние повысится без ничего: без всякой экономики от лукавого и без компьютеров, от которых так и жди шпионажа да случаев, как в Чернобыле».
Тоже — без подписи. Там — нет понимания того, что охота пуще неволи, здесь — что бережное расходование полезных ископаемых иначе называется интенсивным развитием хозяйства, а поставить страну на этот путь приказом невозможно, нужно нечто сложное и тонкое, именно от лукавого — порядки, при которых процветал бы труженик, будь то рабочий или коллектив, и прозябал лодырь.
Л. И. Котов хочет восполнить «недостаток историчности рассмотрения вопросов экономики» в статье «Приход и расход». Из истории введения нэпа, пишет он, «умный человек возьмет только сам метод исправления допущенной ошибки. Если та или иная политика показала на практике свою непригодность в данное время и в данном месте, надо ее исправлять введением в новых условиях проверенного старого, а затем подправлять это старое известными приемами. Нэп ведь был нов по отношению к „военному коммунизму“, но мало отличался от того, что было в других странах, где фермер, крестьянин свободно продавал свои продукты, выплачивая налоги государству. Только в России эти отношения ужесточались отсталостью сельского хозяйства, промышленности, транспорта, общей разрухой. Поэтому товарные отношения корректировались обстоятельствами, прямо скажем, не товарного порядка. В России всегда был распространен не принцип свободного производства и торговли, а принцип широкого протекционизма, отягощенного рабским трудом крепостного рабочего и крестьянина… В наше время протекционизм тоже действует как в промышленности, так и в сельском хозяйстве и в торговле: государство вмешивается, регулируя цены, капитальные вложения, устанавливая планы производства и каналы сбыта. Но так как до сих пор существует индивидуальное натуральное хозяйство, учет всех затрат и доходов крайне затруднен, а существующие помимо государственной торговли „базарные“ товарные отношения сводят этот учет к нулю. Поэтому наш Приход и Расход по всему народному хозяйству до сих пор не может быть поставлен под контроль строго математического учета, что способствует массовым нетрудовым доходам за счет продажи продуктов труда на свободном рынке без учета и налогообложения. Эти базарные отношения — отдушина для тунеядства и расхищения на производстве».
Таких писем немало. Начинаешь читать — все вроде интересно, по делу, но где-нибудь в середине или в конце вдруг натыкаешься на что-то такое, из чего видно: перед тобою опять реформатор из теоретиков, имеющий о действительной жизни самое смутное представление, но готовый немедленно взяться за ее исправление. «Мы предлагаем, — пишет т. Котов, — чистое товарное хозяйство без протекционизма и „базарного“ хозяйства. Все отрасли народного хозяйства сверх своих затрат должны получать фиксированную прибыль, а частный производитель и колхозник — сбывать свои излишки только через контролируемую государственную и кооперативную торговлю без получения сверхприбыли».
Далось им это несчастное ЛПХ, это личное подсобное хозяйство. Уже и на товарно-денежные отношения (притом «чистые»!) согласны, а оно все еще мешает, все еще!.. Не совсем только понятно, в чем тут должен состоять возврат к «старому, проверенному». К рубежу, что ли, сороковых — пятидесятых годов, когда непосильным налогом облагалась каждая яблоня на подворье колхозника и по стране шла массовая вырубка садов? Так тогда не было главного — «чистого» товарного хозяйства. У т. Котова все новое: отношения пусть будут товарно-денежными, а базары все же прикрыть, чтобы не дразнили запахами восьмирублевого моченого чеснока, не надрывали справедливое сердце старого «кавалериста»…
Интересны письма людей, которые мучаются оттого, что предлагаемое «товарниками» будущее не обещает быть безоблачным. Это, так сказать, метафизики. Им подавай такое новое, которое не было бы чревато никакими изъянами, не обещало никаких сложностей, проблем, ничего непредсказуемого. (Именно жупелом непредсказуемости побивают новаторов и бюрократы — всегда и везде.) Признавая существование двух сторон медали, упорно ищут непротиворечивое третье, что-то, в чем были бы одни плюсы. Некто из этих искателей пишет:
«Я понимаю ваш „социализм мысли“, очень хорошо понимаю. Он поднимет производство, улучшит качество, устранит дефициты — будет у нас, короче, все, а все, в представлении обывателя, — это изобилие хорошего товара и услуг. Но человек — наш человек, лично я и близкие мне по духу мои друзья — мы хотим большего, совсем другого, если честно. Дружбы, братства людей, бескорыстных, принципиальных отношений между администрацией и работником, между гражданами и властью, обществом и государством. Прибавит ли этого „социализм мысли“, то есть ясные, открытые торговые отношения? Из самих слов „торговые отношения“ видно, что не прибавит. А вот неравенства — прибавит. Богатые, всякие „удачники“ будут более открыто себя показывать, потому что их богатство будет законно приобретенным в ходе торговых отношений. В стране установится потогонная система жизни, потогонное настроение, всякий будет из кожи лезть, чтобы больше заработать, будет завидовать „удачникам“ и мучительно мечтать о своем взлете, будет хватать вторую и третью работу, будет загонять себя и свою семью разрешенной теперь индивидуальной трудовой деятельностью. Богатый будет сиживать в ресторанах, отражаясь в зеркальных стенах. Это мы знаем, это все уже было, даже и при Советской власти».
Человек не хочет ни продолжения «продразверстки», ни перехода к «продналогу», ему трудно смириться с тем, что выбирать приходится не между плохим и отличным, а между плохим и хорошим, даже в чем-то средним, что заметное неравенство в доходах (на сей раз трудовых) — цена, которую страна должна будет заплатить за ускорение своего развития, а иначе нечего будет делить. Да не так уж он прав и в том, что «продналог» не обещает существенной очистки нравов. Новожилов и другие «товарники» давно показали, как от административных методов управления возникают известные нам общественные язвы. Не будет невыполнимых заданий — не будет и очковтирательства, формализма, апатии. Не будет очередей, в которых сейчас толкаются и заводы, и граждане, — больше станет учтивости, доброжелательства, достоинства.
Эту группу откликов венчает письмо из Брянки Ворошиловградской области. Адрес указан полный, подпись — неразборчива, то ли Яровой, то ли Яловой. Из его письма вытекает вопрос огромной важности. Это вопрос об исторической роли «кавалеристов»: за что они заслуживают, если заслуживают, доброго слова. Это вопрос о том, как оценивать результаты последних пятидесяти пяти лет «труда и борьбы» и на чей счет их отнести.
Результаты т. Яровой оценивает очень высоко, тут с ним спора быть не может, хотя он и обвиняет автора статьи «Приход и расход» в принижении усилий по строительству новой жизни: «Представлять все эти усилия, зачастую героические, как сплошной оглушительный провал — это слишком большая ложь, это непорядочность, это не знающее чести приспособленчество».
Как он объясняет эти результаты?
«Успехи, достигнутые в экономике в предвоенные годы и сыгравшие свою историческую роль в Великой Отечественной войне, объясняются тем, что, как точно и проницательно подметил И. Стаднюк, „народ пребывал в состоянии духовного и гражданского обновления“. Небывалый подъем энтузиазма, непоколебимая вера людей в избранный путь, беспредельное доверие к своим руководителям — вот та питательная почва, которая родила экономическое чудо или же „Русское чудо“… Стахановское движение родилось не от страха перед обвинением во вредительстве, так же как и амбразуры закрывали своими телами не по приказу „кавалеристов“».
Период тридцатых — шестидесятых годов т. Яровой называет «эпохой „социализма чувства“», подчеркивая, что своим величием она обязана «кавалеристам», сумевшим воодушевить и организовать народ. Нынешние дни, по его периодизации, знаменуют собой начало «эпохи „социализма мысли“», а примерно пятнадцать лет между «социализмом чувства“ и «социализмом мысли» — промежуточная эпоха, которую автор письма предлагает называть «Золотым веком приспособленцев, шкурников, перерожденцев» или же «Эпохой короедов социализма». А если воспользоваться поэтическим осмыслением этой эпохи поэтом Р. Рождественским («Правда», 1986, 12 мая), то можно поставить вопрос и более остро: «Эпоха безнаказанно стрелявших в Ленина».
В том, как читатель из Брянки описывает эту эпоху, много точного знания, боли, страсти.
«То, что сказано было на XXVII съезде, должно было прозвучать на XXV. В век стремительного развития жизни потерять столько времени — история нам этого не простит, как правильно сказал на съезде т. Манякин С. И. Наверстать это время будет ох как трудно. За это время при всех приобретениях так много потеряно. И самая большая потеря — духовное и гражданское оскудение. В сознании кадров произошел какой-то нездоровый сдвиг, первоначальные побудительные истоки которого труднообъяснимы. Равнодушие и апатия к разгулу разнузданной бесхозяйственности, потеря ответственности и вера во вседозволенность, прямое перерождение. Все большее торжество ни с чем не считающегося шкурного, узкогруппового интереса, идущего во имя этого на такие штучки, за которые в свое время ставили к стенке.»
Как видим, даже у такого незаурядного человека, как автор этого письма, вызывает тяжелое недоумение тот самый «нездоровый сдвиг», который был давным-давно и предсказан, и объяснен «купцами» в науке и политике.
«Вырастить целую армию безынициативных, зараженных иждивенчеством и бюрократизмом, бездумных расточителей, действующих без оглядки на век грядущий, — такое невеселое наследство досталось Новому Руководству. Пустивший глубокие корни бюрократизм, пораженный коррупцией, стяжательством, казнокрадством, поляризовал вокруг себя, как магнит, все подлое, низменное, ущербное. Все порядочное, граждански обеспокоенное, непримиримое к такому развитию событий было в глухой изоляции, в окружении недоброжелательства и враждебности.»
В связи с этим он рассказывает об одной поразившей его картине художника, чье имя ему не запомнилось.
«На картине изображена приемная, где в ожидании вызова сидят два человека, Гражданин и Бюрократ. Посмотрите на это бездумное, сытое свинячье рыло — в нем воплощение целой эпохи, воплощение всех наших бед. Почему этот холеный чиновник так спокоен и самоуверен? Конечно же потому, что он во всеоружии бумажек, но, может быть, и потому, что за дверью его ожидает доброжелательный единомышленник. Олицетворять эту утробу с представителем „социализма чувства“ — это кощунство, глумление над светлой памятью всех утопистов-идеалистов, так как эта заплывшая жиром морда не способна ни на какие чувства, кроме одного — звереть, когда замахиваются на ее свинячье благополучие…
А что же выражает лицо Гражданина? К сожалению, мы его не видим, но хорошо понимаем, как ему трудно, сколько забот и тревог отложилось на этом лице. Мы видим только тронутую сединой голову и фигуру, выражающую отчаяние, мятущуюся неуверенность в благополучном исходе этого приема. Прямо скажем, в невеселом положении был Гражданин многие годы. Был ли это „гражданин мысли“ или „гражданин чувства“, в одинаковой мере несладко ему жилось, если он настоящий Гражданин».
С «социализмом мысли» у т. Ярового отношения сложные, мучительные и, кажется, еще не окончательные.
С одной стороны, он признает, что «социализм чувства» себя исчерпал и будущее за «социализмом мысли». Доказывать это — значит ломиться в открытую дверь… Что лучше, «чувства» или «мысли» — здесь нет проблемы. Проблема в другом: чтобы «социализм мысли» не испоганили «наши бюрократы и наши дураки» (это он цитирует стихи Р. Рождественского. — А. С.), равно как и рвачи, приспособленцы, демагоги… «Гражданин купец» — вот желательное словосочетание. Тогда можно надеяться, что эта формула станет формулой успеха. Да плюс к этому творчество масс — совсем будет хорошо.
С другой стороны, «товарники» с их «социализмом мысли» вызывают у него ревность, недоверие и тревогу. Ему не нравится, что они нагнетают неприязнь к «кавалеристам», отрицают способность «социализма чувства» на что-нибудь путное, «тужатся доказать его нетворческую природу ссылками на теоретические построения социалистов-утопистов», на целые этапы нашей жизни смотрят, как на «беспросветные сумерки во власти мрачных несостоятельных „всадников“, не может согласиться, что „социализм чувства“ развивался совсем без мысли», считает, что крах «кавалеризма» вообще нельзя расценивать как поражение «продразверсточных» методов хозяйственного строительства, дело, мол, совсем в другом: «Пока „кавалерист“ был гражданином, он имел кредит доверия в народе, и все шло как следует. А когда гражданина вытеснило безответственное свинячье рыло, мы получили застой, расточительство, дефицит». В сущности, даже и не в «рыле» дело, а в том, что «такой нематериальный фактор ускорения, как Духовное и Гражданское обновление, на сегодня себя исчерпал. Вернее, он исчерпал себя давно».
Автор не скрывает своей тревоги и сарказма: «Как оно обернется с „купцом“, — еще неведомо… Искать ответ на вызов времени мы обязаны все. Одних, даже стройных, теоретических построений явно маловато, во всяком случае, для нашего общественного устройства. „Короеды“ неплохо поработали и многое обесценили из того, что нужно было беречь как зеницу ока. Таким образом, чтобы окончательно развенчать и разоружить „социализм чувства“, т. Стреляному вкупе с Жимериным, как представителям „социализма мысли“, остается решить пустяшную задачу: воодушевить всю нацию, убедить ее принять умом и сердцем „купцовское“ слово, добровольно и с радостью окунуться в купель Духовного и Гражданского обновления на „купцовский“ манер, и когда это случится, все мы воскликнем: да здравствует Жимерин и его апологет т. Стреляный!..»
Сложные, мучительные отношения!.. О сложности и мучительности их, может быть, лучше всего говорит то, как действует на т. Ярового упомянутое в статье «Приход и расход» имя Жимерина. Для него этот Жимерин — не что иное, как «социализм мысли» в стане «социализма чувства», «купец» среди «кавалеристов» в их лучшие времена. Неприязнь к нему (шагал не в ногу!) оказывается трудно сдержать даже сегодня, когда приходится признавать, что будущее за ним, что только он способен распутать клубок нынешних противоречий, вывести нас из того не только тяжелого, опасного, но и унизительного положения, при котором наше богатство оборачивается бедностью, сила — слабостью. Даже и при этом «кавалерийскому» сознанию Жимерин чужд и неприятен едва ли не так же, как «свинячье рыло»!..
Инженер М. Кузовков, чье письмо здесь уже приводилось, заметил точно: «Большинство наших „кавалерийских“ защитников „социализма чувства“ отличаются прежде всего слабостью мысли, если не сказать слабостью ума. Отсюда и перекосы в экономике, постоянные дефициты, замедление развития».
Душа кристальная, а мысль такая нетвердая, что в продолжение каких-то двух страниц не может удержать неизменным сам предмет спора: вдруг оказывается, что «социализм чувства» — это уже не патриархальное полубарское, полумужицкое безотчетное пренебрежение к торговле, которое имел в виду Ленин, а нечто совсем другое — романтическая преданность общему интересу, революционное молодечество… Душа кровоточит, а неопытность мысли такая, что с весомого, грубого, зримого дела — с приключений закона стоимости, однажды отмененного дружным поднятием «кавалерийских» сабель и до сих пор не восстановленного, речь почти сразу соскальзывает на то, что «всадники» были очень хорошими людьми, имели кредит доверия. Хорошими-то были, кредит имели, а дефицит-то, на котором как раз и стали расти «свинячьи рыла», изобрели они! И планы производства, которым как бы даже положено не подкрепляться планами снабжения и, следовательно, постоянно рождать черный рынок средств производства и предметов потребления, должностей и наград, — тоже их находка, «кавалерийская», не «свинячья». И что нам с того, что эти очень хорошие люди, пользуясь кредитом доверия, горели на работе по доставанию недоставаемого, по выполнению невыполнимого, по пресечению непресекаемого — как та машина «скорой помощи» у Твардовского, которая «сама рубит, сама режет, сама помощь подает»!..
Впрочем, в этой слабости антижимеринской мысли есть и некий, может быть, неосознанный расчет. Ведь ею допускается только одна постановка вопроса: все, достигнутое в «эпоху обновления», было достигнуто благодаря «социализму чувства». Признать наши достижения — значит воздать должное этому «социализму», больше ведь нечему, рассуждает т. Яровой. Не потому ли ему так важно договориться с нами насчет достижений, не потому ли он так надрывно предупреждает нас: иначе будет «слишком большая ложь… непорядочность… не знающее чести приспособленчество»? Не потому ли «кавалеристы» вообще всегда такие бдительные, такие непримиримые к каждому, кто, по их мнению, недостаточно сильно бьет в литавры? Им мало того, что они сами себе рокочут славу. В глубине души они не обманываются, в грохоте оваций они хорошо различают затаенно-презрительное молчание тех рядов, где сидит наиболее основательная, «по-купцовски» настроенная часть публики. Оттуда они больше всего ждут признания, из этих рядов, — и напрасно. Поднимается некто внушительный и в наступившей тишине спокойно говорит: «Все успехи мы видим и признаем, но знаем: достигнуты они не благодаря „социализму чувства“, а вопреки ему. В постоянной, трудной, временами трагично неудачной борьбе с ним. Начал эту борьбу Ленин, продолжал Дзержинский — самый крупный после него представитель „социализма мысли“ в нашей стране, за Дзержинским шли Жимерины с Новожиловыми, за ними идут их ученики и единомышленники».
Вот так. Не «благодаря», а — «вопреки».
В сущности, «кавалеристу» сейчас уже не так много и надо. Чтобы было сказано: перед «социализмом чувства» стояли великие задачи, он их успешно выполнил и может с достоинством уходить в историю. Не получится… Не получается, не может быть это сказано, не соответствует это действительности, не может соответствовать! Об отдельном человеке, если он не злодействовал, а заблуждался, сказать, что он не зря прожил, можно. О поколении — тоже. Но об идеях, о началах, если они порочны, о той же «продразверстке», губившей «продналог», так сказать нельзя, не позволяют ни логика, ни факты. Не могут быть удачными решения без научной подоплеки, то есть произвольные, без учета законов жизни, — всякое такое решение будет насилием над природой вещей и над человеком.
Изобретенное «кавалеристами» планирование «от достигнутого уровня» есть наиболее противоестественное и вредоносное из всех мыслимых и немыслимых механических дел, которым когда-либо предавался, предается и будет предаваться общественный человек. Оно принципиально не допускает перемен в характере и структуре производства и тем самым обрекает на застой хозяйственную жизнь. Оно делает невозможной глубокую зональную специализацию в сельском хозяйстве, поэтому там, где лучше всего пасти (и веками пасли) скот, десятилетие за десятилетием сеют пшеницу, и наоборот. Оно делает невозможными своевременные структурные сдвиги в промышленности, поэтому с величайшим трудом появляются новые отрасли и производства, с душераздирающим скрипом идет научно-техническая эволюция, не говоря уж о революции. Оно, это названное «кавалеристами» истинно социалистическим планирование, делает ненужными творческих и деятельных людей в сфере управления, проектирования и конструирования, поэтому на ключевых постах там всегда так много пустоцветов и сорняков. Все, что совершалось и совершается путного в народном хозяйстве, могло и может совершаться только в порядке большого или малого, скрытого или явного, более или менее запоздалого отступления от буквы и духа этого планирования. Изобретение «кавалеристами» затратное ценообразование делает допустимыми, оправданными и неизбежными любые затраты сырья, топлива и труда на изготовление всего и вся, поэтому у нас самые тяжелые в мире тракторы и комбайны, самая тяжелая в мире металлическая стружка, самые пустые удобрения, самые черные и высокие дымы, самые широкие и глубокие карьеры, самые плохие дороги и склады…
Это планирование с этим ценообразованием нанесли народному хозяйству и народной душе неизмеримо больше ущерба, чем все «свинячьи рыла», вместе взятые, за всю тысячелетнюю российскую историю; в них, в этом «кавалерийском» планировании и этом «кавалерийском» ценообразовании, не было, нет и быть не может ничего положительного, и чем лучше осуществляющий это планирование и это ценообразование «кавалерист», чем тверже убежден он в своей вере, чем он идейнее, тем хуже для общего дела, тем больше бед способен натворить такой кристальный гражданин. Это ведь не деляга и не шалопай, который может на что-то закрыть глаза, свернуть какую-нибудь ревизию, то тут, то там, то так, то эдак уступить напору жизни. Кто упразднил ту же промысловую кооперацию? Кто отрубил этот последний «хвостик нэпа»? Может быть, «свинячьи рыла»?
«Кавалерист» имел известный кредит доверия не тогда, когда он был гражданином, а до тех пор, пока не выявилась бесплодность его идей и разрушительность его политики, его продразверстки, выявилось же это все очень быстро, меньше чем за три года, — к концу двадцатого уже все было ясно. С того времени «кавалерист» уже ничего не мог получить ни в кредит, ни в уплату за услуги, а должен был брать самовольно, самозахватом, сделался самозванцем — зловещая судьба, которую предсказывал ему Ленин. Уже готовый уйти, этот самозванец заклинает «говорить не об антагонизме, а о преемственности», как будто нэп не был новой экономической политикой, не отрицал «военного коммунизма», а продолжал его в других условиях, как будто не было «коренной перемены всей точки зрения нашей на социализм» (Ленин).
И планирование «от достигнутого», и затратное ценообразование, и фондированное снабжение, и продразверсточные заготовки — это все вышло из одного заветного «кавалерийского» представления о порядке. Лучший порядок, по этому представлению, тот, который приближается к армейскому. В самой плохой казарме, говаривал некий старшина на студенческих военных сборах, порядка больше, чем в самом лучшем университетском общежитии. «Кавалерийский» порядок — это когда все решается в центре и по лестнице спускается вниз: централизация. Граждански настроенный «кавалерист», когда ему разжуют, покажут, ткнут носом, вполне способен понять, что планирование «от достигнутого» и продразверстка — это застой, а затратное ценообразование и фондированное снабжение — это бесхозяйственность и прямое расточительство. Но как только ему объяснят, что всему виной централизация, что казарменный порядок и продналог, казарменный порядок и оптовую торговлю, казарменный порядок и планирование на потребителя совместить невозможно, он выберет централизацию, и должно произойти что-то из ряда вон, чтобы его сердце беспринципно дрогнуло и позвало к отступлению.
К 1941 году централизация управления народным хозяйством превзошла самые смелые мечты «кавалеристов». В июне начинается война. Всякая большая война всегда и везде сразу же многократно усиливает централизацию. Военное положение означает, что все или почти все основные стороны хозяйственной, гражданской и даже частной жизни ставятся под контроль властей; правительство берет в свои руки многое из того, что до сих пор решали местные органы управления или решалось само собой. У нас произошло наоборот. Война потребовала не усиления — дальше усиливать было некуда, а ослабления централизации. С первых дней войны пришлось не сужать, а расширять права предприятий и местностей, доверять им не меньше, чем до войны, а больше.
Упоминавшиеся в письме т. Ярового стихи Р. Рождественского: «И сегодня целятся в Ленина враги. Но помимо импортных — опаснее всего — наши бюрократы и наши дураки» — приводит еще один читатель, М. Д. из Москвы, бухгалтер-снабженец в области культуры. Он пишет: «Стих, по моему мнению, плохой, просто на редкость плохой — шаблонный, поверхностный, ни одного политически и социально точного слова. Что значит „импортные“ враги? Судя по смыслу слова, это поселившиеся у нас иностранцы. Сколько их живет в нашей стране? Так ли им позволено целиться куда не надо, как пугает нас поэт? Но что такое свой дурак, мне известно по собственному опыту». «Подлее и жесточе этого мерзавца не сыскать, — тоже ссылаясь на свой опыт, писал и т. Яровой. — Объяснить все его штучки наскоком „кавалеристов“, как делает т. Стреляный в статье „Приход и расход“, — это слишком упрощенный подход к проблеме, как и вера во всемогущество „купца“. Что-то тут еще было, что-то тут еще есть, чего автор не договаривает, осторожничает, или сам не знает».
Как видно, из всех «купцовских» мыслей, встречающихся в статье «Приход и расход», хуже всего понятой оказалась самая, как думалось автору, доступная. Это мысль о разлагающей роли утопических целей и планов, о том, что «свинячье рыло» появляется и начинает особенно быстро расти тогда, когда обществу навязываются невыполнимые «шапкозакидательские» задачи. Может быть, где-то здесь и есть то «что-то», в замалчивании которого упрекает т. Яровой «товарников»? Утопические задачи. Бюрократические утопии, на выполнение которых приказными методами мобилизуются массы. Интересно, что и т. Яровой, и другие читатели сходного умонастроения, употребляя такие слова, как «бюрократизм», «бюрократия», «бюрократ», оставляют без применения противоположные слова: «демократизм», «демократия», «демократ». Для этих людей почему-то не само собой разумеется, не как дважды два, что бюрократизм может существовать только за счет демократизма, что там, где бюрократия, там нет демократии, и что славить демократию намного важнее, полезнее, чем позорить бюрократию[9]. Во многом это, наверное, все оттого же: от «утопической» склонности слишком много значения придавать лицам (был бы человек хороший, не свинья и не чинуша, а «товарник» он или «нетоварник» — не суть важно…), видеть их там, где дело не в лицах, а в началах, порядках, институтах и учреждениях. Если учреждение, допустим, карательное, оно не будет миловать, сколько бы милосердных служащих в нем ни сидело. Если учреждение создано для того, чтобы из Москвы в деревню по цепи больших и малых городов ежегодно спускать тысячу двести показателей, связывающих колхоз-совхоз по рукам и ногам, то какими бы умными и добросовестными ни были все работники этого учреждения, от министра до вахтера, ничего, кроме вреда, оно сельскому хозяйству не принесет.
…Эта статья была уже готова, когда один из читателей сделал автору неожиданный подарок: прислал последнюю книгу Ю. Семенова. В сопроводительном письме он (Н. Лосев из Луганска) сообщал, что понять современных «купцов» ему помог не кто иной, как Юлиан Семенов, автор многочисленных детективов, написавший повесть о Петре Первом («Версия-II»). Оказывается, в этом произведении повествуется о том, как Петр, по совету своих прогрессивных друзей, пытался ускорить товарное развитие России, дать больше воли третьему сословию — промышленникам и торговцам, завести такие порядки, чтобы чиновник имел свою долю в казенном доходе от ремесла и торговли, приумноженном его стараниями. «Тогда, — говорит президент берг-коллегии Виллим Брюс, — Россия станет первой державой мира, государь». О том же — и художник Иван Никитин: «Не под силу одному, даже сотне мудрецов страну перевернуть, коли остальные — без интереса, лишь окрика ждут от власти, а своего смысла страшатся». В связи с этим автор письма вспоминает то место в статье «Приход и расход», где приводится ленинский проект директив Политбюро ЦК ВКП(б) по новой экономической политике: «…Политбюро требует безусловно перевода на премию возможно большего числа ответственных лиц за быстроту и увеличение размеров производства и торговли, как внутренней, так и внешней».
Версия Юлиана Семенова состоит в том, что «нэп», задуманный «командой» Петра для превращения России в первую державу мира, напугал проницательных хозяев Запада, «англичанка» быстро стакнулась с внутренними врагами Преобразователя, и тот был умерщвлен. К письму прилагалась подборка выписок из повести, представляющей собою, по мнению Н. Лосева, «в целом правильную, находчивую и своевременную пропаганду „купцовских“ методов управления страной». Это были монологи Татищева:
«— Ежели вы, государь, не дадите свободу действий нашим людям в торговле и ремеслах, будут ждать нас превеликие беды… Три препозиции охранят государство от хворобы: ваш наказ коллегиям не мешать людям дела, поелику они по своим законам живут; ремесло проверяется торжищем, а не указом, пусть даже царским; надобно начать повсюду пути прокладывать, а не между одними лишь столицами, в угоду торговле и ремеслу, сиречь обмену между трудом людей, и, наконец, позволь, государь, наладить на Руси кредит, чтоб каждый смекалистый и умелый человек мог поставить мануфактуру… Сейчас, государь, покудова нет такого закона, вельможи в одном лишь усердны: угадать твою волю, желание, порыв, мечту. Это для них главное: в этом преуспеют, значит, в должности повысятся; от этого им ноне главная прибыль, а не от общего дела. Но ведь нельзя же всем волю одного угадать! Пусть бы они не волю твою угадывали, а давали отчет, сколь денег заработали от честного покровительства делу…»
Брюса: «Только у нас деньгу за должность платят, а не за работу. У нас важно день пересидеть, ничего самому не решать, отнести все бумаги на стол начальнику, что рангом поболе, а тот — в свой черед — то же самое проделает. Рабье иго в людях, государь; ждут указу; самости своей бегут; ведь проверка им — не результат дела, а твое слово!»
Был выделен разговор Петра с консерватором Голицыным. Тот пугает царя бунтом приверженцев старины, на что Петр объясняет ему закон шлюзов: «Когда к делу зовут, бунтов не бывает, князь. Бунт только супротив застою подымается».
Н. Лосев писал: «Как видите, из разных видов оружия Вы с Юлианом Семеновым бьете в одну точку. Значит, вопрос назрел, задача стала неотложной. Приперло». Затем следовала приписка:
«Все, что Вы сейчас прочитали, было написано мною в июне 1986 года, сразу после выхода журнала с Вашей статьей. Написано, но не отправлено. Прошедшее с той поры время привело к тому, что сейчас я сомневаюсь, действительно ли приперло. Так что будьте готовы вновь и вновь долбать теорию, психологию и практику продразверстки, только прошу Вас: не впадайте в отчаяние, не опускайте рук — перестройка все равно начнется — ну, может, не при нашей жизни, так что же? Это не повод для того, чтобы уходить в себя, в свою личную жизнь. Вы пишите, Вы пишите — Вам зачтется».
Через месяц с лишним (2 декабря 1986 г.) была сделана еще одна, последняя, приписка: «Да если и не зачтется, что за беда? Все равно пишите!»
Г. Зеленко, Т. Чеховская Маршрут для путешествия, которое длится вечно
1
— Надежность — вот что бросает вызов воображению биолога, когда он задумывается над феноменом жизни… Не понимаете?
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов — единый в трех лицах шеф генетиков ЛГУ: заведующий кафедрой, декан биофака и завотделом из шести лабораторий, он же Инге или С. Г. — наш постоянный гид в генетических дебрях — терпелив, хоть терпение и дается ему с трудом. Но терпению его приучила профессия педагога, и в этом подчеркнутом смирении, кроме того, проскальзывает видовой признак коллектива, которым Инге руководит, — чуть заметная нервная саркастичность. В данном случае ее выдает лишь блеск глаз и тон, которым высказана вышеприведенная чуть выспренняя фраза. Она для нас — неучей, генетики так не говорят.
Сегодня декану выпала необыкновенная удача: три часа, которые можно освободить от дел. Поздно. Служебные звонки уже прекратились, на остальные Инге не реагирует. Впереди еще есть время — вечером он уезжает по министерскому вызову в Москву и на вокзал отправится, не заезжая к себе домой, в Петергоф. Документы и бритва в портфеле, а больше ничего и не нужно, он едет в столицу на сутки. Можно поговорить и «о жизни». В данном случае это звучит буквально: о Жизни.
— Надежность — это мера жизнеспособности живых систем. И обладает она редким свойством — двуединостью, что ли. Стабильностью и пластичностью одновременно…
— То есть это способность живой системы оставаться самой собой, претерпевая в то же время некие изменения? И подобно этому, хотя и в ином виде — способность изменяться, становясь уже не прежней, но новой системой, и все-таки сохраняясь в некоем вновь приобретенном качестве?
Иначе говоря, все время бежать, чтобы оставаться на месте?
— Точнее, скакать во весь опор — чтобы удержаться в седле!..
— Сергей Георгиевич, хочется точнее представить логику движения идей в генетике. Вот некогда была простая схема «ген-фермент». Потом ее усложнили, возник ряд посредников. Позже и новое представление о внутриклеточном пространстве жизни оказалось примитивным. Понадобились вырезающие ферменты, ремонтные ферменты… Различные полимеразы, рестриктазы, лигазы.
— Выгрызазы и залеплязы, — шуточные термины, предложенные Тимофеевым-Ресовским…
— Обозначилась новая ступенька сложности. Но то, о чем вы, Сергей Георгиевич, толкуете, не просто — еще одна ступенька, ведущая к новому усложнению. Нам кажется, — это переход в иное интеллектуальное пространство, в другой мир идей.
— То, о чем я толкую, переносит нас как раз в этот мир: реальный мир живых существ.
— Ну хорошо, скажем по-другому… У нас есть ощущение, что нынешнее интеллектуальное пространство биологии недостаточно сложно…
— Чтобы поставить простой эксперимент и найти конечную точку вывода?
— Чтобы взять какое-то простое явление, реально существующее в живой природе…
— Предсказать его механизм и получить в эксперименте? Так? Да? Действительно, вот уже два десятилетия мы мучаемся над тем, как поставить нехитрый опыт… А ведь общий ответ на вопрос, как жизнь обеспечивает надежность своего существования, есть…
Способность больших органических молекул копить в матрицах бесчисленных своих элементов огромное количество сведений, копировать их и далее воплощать в неповторимых вариантах сделало возможным существование живых организмов и их разнообразие. Но в том, как это происходит, еще бездна неизвестного. И не только неизвестного, а и труднопринимаемого традиционным мышлением…
«Для выдвижения гипотезы ученому необходимо иметь смелость и ответственность. Первая нужна, чтобы выдержать критику, вторая — чтобы устоять перед истиной.
В лаборатории Моргана в шутку было принято делить ученых на три категории.
Первая — исследователь, которому достаточно взглянуть на три мухи-дрозофилы, чтобы построить новую гипотезу. Представителю второй категории нужно просмотреть сто мух — иначе говоря, получить сто повторений опыта, чтобы построить гипотезу. Ученому же третьего типа требовалась тысяча мух, чтобы построить гипотезу и самому убедиться в том, что она верна. Таким образом, количественная характеристика данных, необходимых для построения гипотезы, измерялась в масштабе — 3–100–1000 повторностей. Для проверки гипотезы существует статистика, а для классификации ученых — отношение к этой статистике.
К первому типу ученых, по существующей легенде, относили Мёллера, ко второму — Бриджеса и Стертеванта, а к третьему — самого Моргана…
Самое заманчивое занятие в научном творчестве — размышление над гипотезами. Гипотеза — это маршрут для путешествия в область неведомого.
Изюминка интереса к исследованию заключается в том, чтобы поставить вопрос и найти своеобразный метод решения, то есть получить ответ на поставленный вопрос. Очень частые ошибки в моей творческой жизни проистекали из-за того, что, имея гипотезу, я не находил адекватных методов ее проверки и доказательства».
Размышления эти — как и слова, вынесенные в заголовок, — принадлежат Михаилу Ефимовичу Лобашеву. Ученому, чья судьба в истории отечественной генетики была особенной. Так случилось, что он оказался в числе тех немногих из старшего поколения наших генетиков, кому предстояло на грани пятидесятых — шестидесятых годов вывести эту науку на современные рубежи, дать ей едва ли не за месяцы пробежать тот путь, что за полтора десятилетия перед тем она прошла в остальном мире, дать ей вспомнить и заново освоить то, что было сделано в первые славные десятилетия советской школой генетиков, и устроить так, чтобы она без задержек зашагала дальше.
Ленинградцу по своей научной родине — Лобашеву предназначено было, кроме того, продолжать и развивать проблемы, традиционно излюбленные ленинградскими генетиками, а среди них — заветную и для самого Лобашева в течение всей его научной деятельности, и для его предшественников тему — изменчивость живых организмов.
А поскольку кафедра генетики ЛГУ, вырастившая Лобашева — ученого, была одним из самых первых возрождающихся научных генетических учреждений и самым первым таким заведением учебным, то приступившему к работе в 1957 году ее новому заведующему предстояло заниматься не только научными проблемами, но и тем, как бы срочно обучить генетике пришедшее в университет поколение студентов и переучить тех, кто хотел переучиваться после курса «творческого дарвинизма».
И может быть, именно потому, что Михаилу Ефимовичу не случилось остаться лишь чистым ученым (к чему, говорят, он был склонен в молодости, и за что его студентом даже упрекали в академизме), последней — неоконченной — книгой его стал труд, до тех пор никем с такой последовательностью не предпринимавшийся. Книга (пока не изданная) называется «Жизнь в биологии», но это не автобиография ученого, хотя отдельные скупые воспоминания в ней есть. Это и не история науки за годы, когда Лобашев работал в ней, хотя и такие главы есть в книге. Это попытка анализа научного творчества как такового, всех сторон научной работы, попытка, в которой и исследователем и исследуемым выступил сам автор.
Науковедение в наше время развивается успешно, и размышления Лобашева в этой области могут показаться сейчас уже не совершенно оригинальными, ведь книга его писалась на рубеже шестидесятых — семидесятых годов, но у нее есть еще одна подкупающая черта: пафос человека, влюбленного в свое дело, «опьяненного» им, как писал он сам. И труд этот оказывается не просто науковедением, сколько «ведением» страсти к познанию, нравственным завещанием, научным анализом одержимости высокой целью. Это попытка охранить выращенных им настоящих и будущих соратников в его любимом деле от ошибок его поколения.
…До знакомства с рукописью Лобашева нам были гораздо менее понятны замкнутые и суховатые, деловитые и ироничные, скупые на откровения — даже на чисто научные — и в основном сравнительно молодые люди, населяющие сейчас кафедру генетики ЛГУ, где на дверях ее нынешнего заведующего до сих пор висит табличка «М. Е. Лобашев». Как увидим, в этом коллективе такое проявление признательности — не просто дань учителю.
Благодаря любезности родственников Михаила Ефимовича и его учеников, разрешивших использовать текст неопубликованной книги, перед нами открылась возможность ввести в повествование как бы новое измерение. Не только вчера — и сегодня. Не просто ошибки, заблуждения — и успехи. Но еще и взгляд изнутри — взгляд исследователя, долгие годы находившегося в центре событий отечественной генетики.
2
Стоит особо поразмышлять о стабильности и изменчивости — эти силы заслуживают того, чтобы приглядеться к ним повнимательнее.
Стабильность делает наследственность наследственностью. Без нее ни один организм не обладал бы свойством порождать себе подобных — то есть из поколения в поколение устойчиво передавать свои качества. Без нее жизнь, живая материя никогда бы не вышли из биохимической колыбели, где, распадаясь, случайным образом возникают вновь сложные органические молекулы. Только тогда, когда на туманной заре жизни появились структуры, способные «запомнить» некие правила, обеспечивающие их собственное существование и устойчиво передавать запомненное своим потомкам, — только тогда преджизнь и смогла стать собственно жизнью. Наследственность обладает гигантской силой стабильности. Подавляющее большинство нынешних видов животных и растений возникло тысячи и миллионы лет назад. Науке известны виды, существующие десятки и более миллионов лет. Возможно, что многие генные комплексы, хранящиеся в хромосомах человека, — точные копии структур, возникших еще на ранних стадиях эволюции. И уж во всяком случае, основной свод генетических «правил», составляющих наследственность каждого организма, сложился у его далеких предков.
Итак, стабильность, устойчивость, можно даже сказать — консервативность. И — гибкость, пластичность, способность быстро применяться к меняющимся условиям внешней среды. И еще вносить изменения в наследственные программы. Из двух семян-близнецов вырастают разительно непохожие растения, если поставить их в различные условия. Виды животных показывают замечательную способность выживать даже тогда, когда на них обрушиваются такие невзгоды, которых уж никак нельзя было ожидать. Виды, возникшие в одном месте, при одних условиях, мигрируют потом на огромные расстояния, занимают порой необъятные пространства ойкумены. Словом, огромны, необозримы, неисчерпаемы резервы пластичности, присущие, казалось бы, донельзя жесткой, консервативной наследственности.
Стабильность наследственности и ее гибкость, изменчивость — это качества-близнецы. Они делают одно дело — поддерживают жизнедеятельность организмов в некоем уравновешенном состоянии: достаточно устойчивом. Как близнецы эти качества только и могут сохраняться. Существуй стабильность одна, она пресекла бы действие сил, требующих перемен, заперла бы движение эволюции, остановила бы усложнение органической материи на самых ранних этапах ее развития. Напротив, действуй в одиночестве гибкость, способность к переменам, она каждый день заново меняла бы то, что только вчера было перекроено. Как белка в колесе крутилась бы жизнь в кругу вечно начинаемых и никогда не оканчиваемых переделок в хаосе «экспериментальных образцов».
Только действуя вместе, хотя и в разных направлениях, стабильность и гибкость позволили жизни возникнуть, вслед за чем она двинулась по пути эволюции — развития и усложнения.
Свойства-близнецы, а вот судьба их познания разная. Никто никогда не сомневался в том, что живое сохраняет постоянство форм и качеств, наследуя их от предков. Медленно, но уверенно и совершенно последовательно наука лишь все глубже проникала в суть этого процесса, все лучше узнавала, как это происходит.
А вот с гибкостью все иначе — почти все драматические события в богатой ими истории биологии связаны с попытками понять, как же меняется живое, какие — внутренние или внешние — силы на это влияют.
В недавно изданных «Записных книжках» поэта Осипа Мандельштама можно отыскать, среди прочего, размышления о Дарвине. «С детства я приучил себя видеть в Дарвине посредственный ум. Его теория казалась мне подозрительно краткой: естественный отбор. Я спрашивал: стоит ли утруждать природу ради столь краткого и невразумительного вывода. Но, познакомившись с сочинениями знаменитого натуралиста, я резко изменил эту незрелую оценку». Точка зрения эта по-своему характерна, в особенности для небиолога: дарвиновская простота поражает до сих пор и невольно вызывает поначалу недоверие. Но с каждым десятилетием развития биологии становится все яснее, что лаконизм дарвиновских выводов сам по себе необычайное достижение. Он потому и привлекает, что является результатом грандиозной по своим усилиям и масштабам обобщающей мысли. Принципиальные выводы Дарвина выдержали все проверки. Несмотря ни на что. Так была велика их обобщающая мощь.
И все-таки это только принципиальное начало, указатель пути, намечающий «маршрут для путешествия, которое длится вечно»…
3
Лобашев видел изменчивость как результат деятельности реальных систем внутри клетки. Он продолжал в этом понимании и в своем особом интересе к изменчивости линию своих учителей. Недаром, с 1912 года занявшись совершенно новой для себя областью — генетикой, Юрий Александрович Филипченко, основатель ленинградской кафедры, начинает свой путь в изучении феномена наследственности именно с изменчивости (уже в 1915 году появляется его труд о ней).
Главная книга Филипченко «Изменчивость и методы ее изучения», как видим из названия, тоже на эту тему. «Эта книга уникальна, — писал генетик П. Ф. Рокицкий в 1978 году в предисловии к ее пятому (!) изданию, — так как во всей мировой литературе нет работы, в которой была бы поставлена задача охватить весь круг проблем изменчивости». Стало быть, тема изменчивости пестуется на ленинградской кафедре генетики от самых истоков этой науки в нашей стране — от девятьсот двенадцатого года, проходя лидером в интересах исследователей через великую и славную генетическую эпоху двадцатых — тридцатых годов. (Труд Ю. А. Филипченко переиздавался в те годы четыре раза.) Именно тогда она подхватывается выросшим к тому времени в незаурядного ученого Лобашевым, который пронес ее через войну и лихолетье, блокаду, засилье лысенковщины, пронес как свою профессиональную научную позицию, чтобы передать — постараться передать! — своим последователям и продолжателям: ведь, едва вернувшись с фронта, Михаил Ефимович садится за труд «Физиологическая гипотеза мутационного процесса», который издает в 1947 году и в котором впервые формулирует идею о том, что наследственные системы должны реагировать на любое воздействие именно как системы.
Под таким углом зрения генетические механизмы представали как нераздельная часть целостного и, главное, живого существа — клетки, находящегося в непрерывном процессе множественных изменений. В процессе — вот что было важно для Лобашева. И такое событие в жизни клетки, как мутация в ее наследственной системе, — тоже виделось ученому в процессе.
Это действительно процесс, потому что он может быть многостадийным, может быть остановлен на любой из стадий, на каждой стадии он может быть подвержен разным влияниям, а отсюда — принимать разное направление или давать разное качество. Но все это стало ясно в науке лишь теперь — в наши дни — и подтверждено опытным путем. Лобашев же своей гипотезой предугадывал такое именно лицо генетического механизма. И взгляд этот, хоть был присущ конечно же не одному Лобашеву, едва ли не до последних лет оставался неординарным. Ибо долгие годы в генетике главенствовали окрашенные физическим миропониманием более простые представления. Примером их может служить хотя бы теория мишени, из одного названия которой очевидно явствует статичное, небиологическое толкование той же мутации. Объяснялось это прежде всего, конечно, плохим знанием интимной кухни наследственной системы. Нужна была незаурядная интуиция и хорошее владение другими разделами биологии, чтобы в едва угадываемых в то время генетических событиях увидеть черты, присущие и иным проявлениям живого — длительность, многочисленность обратных связей, многоступенчатость, иерархичность и т. п.
Эти во многом интуитивные и гипотетические представления об изменчивости следующему поколению генетиков, лобашевским питомцам в том числе, предстояло наделить реальным содержанием. Но сколь же многому их надо было перед тем научить!
Из воспоминаний С. Г. Инге-Вечтомова:
«Мы-то генетику учили „с голоса“. Это относится прежде всего к Кайданову — он постарше. А я учил „с голоса“ Кайданова, сидя в лаборатории, будучи студентом второго курса (то есть еще до общего курса генетики М. Е. Лобашева). Этот путь был тогда единственным, ведь учебников еще не существовало. И начинали мы более чем с нуля, — с отрицательной величины. Всем известен, верно, эпизод, произошедший в конце жизни Дарвина, под названием „кошмар Дженкина“…»
(…Великий мыслитель, естественно, ничего еще не знал о материальных носителях наследственности, о все определяющей альтернативе «либо-либо», на которой основана работа наследственных систем. Он не представлял, что одни задатки могут передаваться по наследству независимо от других. И потому, когда талантливый инженер и математик Дженкин представил расчеты, из которых вытекало, что любой новый признак, разбавляясь в старых, постепенно сойдет на нет, основоположник эволюционной концепции растерялся перед «кошмаром», который был ему обрисован. Скрепя сердце Дарвин признал возможность проявления в иных, пусть в очень редких случаях, «определенной» изменчивости, то есть наследования потомками свойств, приобретенных родительскими особями в течение жизни.)
«…Так вот этот эпизод множество раз толковался ламаркистами в пользу своей теории, согласно которой такое наследование — единственная движущая сила эволюции. О нем не стоило бы вспоминать, если бы он не оказался для меня — тогдашнего студента второго курса — случайным мерилом разности в уровнях научного багажа, — необходимом для равноправного участия в науке и имевшемся „в наличии“ тогда у будущих ученых-генетиков.
Мы почти одновременно пришли на кафедру. Лобашев — заведовать ею, а я — на первый курс университета. На первом же экзамене Лобашев спросил меня, в чем, по мнению юного коллеги, заключается „кошмар Дженкина“, вероятно ожидая, что я проявлю столь же полное неведение основных принципов наследования, что и сам Дженкин. У Михаила Ефимовича было правило ставить „воспитательные“ отметки на экзамене по общей генетике. Качество ответа могло при этом быть и высоким, но это ничего не значило. Воспитательный „импульс“ Лобашева, его подозрительность по отношению ко всем возможным рецидивам в сознании студентов, еще не забывших уроки „научного дарвинизма“, был совершенно естествен. Ведь то, что в семидесятые годы девятнадцатого столетия было лишь кошмаром непонимания, почти век спустя, в эпоху бурного расцвета генетики, проявилось как кошмар совсем иного рода, кошмар заполонившего науку невежества.
Через несколько лет я напомнил Михаилу Ефимовичу об этом эпизоде, и он слово в слово повторил мне мой идиотский ответ…»
Судьба искусней всякого драматурга умеет сплетать людские судьбы и строить из этого переплетения невиданные сюжеты. Не смущаясь драматургическими трудностями, она сводит воедино высокое и низкое, показывает трагическое в обличье фарса, сплетает приключения людей и приключения идей.
Как описать приход Лобашева на ленинградскую кафедру в 1957 году — после восьмилетней разлуки с нею? Какими были его надежды и тревоги? Каким грезился завтрашний день его родной кафедры, где половина людей была чужих — не просто незнакомых, не испытанных в деле сотрудников, а именно чужих: чуждых по своей научной и жизненной философии людей?
1949–1957 годы. Восемь лет — много или мало?
Восемь лет, потерянных, когда исследователь находится в расцвете сил, в расцвете способностей. Но почему — потерянных? Не где-нибудь — во всемирно известном Институте физиологии имени Павлова они были проведены. Оторванность от родной кафедры? Да. Отсутствие Генетики с большой буквы? Да. Но здесь была милая сердцу физиология. Были всю жизнь привлекавшие его проблемы нервной деятельности. Да, была, в конце концов, — чего лукавить? — и генетика, пусть и не совсем с большой буквы. Именно здесь начала вызревать идея о существовании особой формы наследственности — сигнальной, реализация которой опирается на деятельность нервной системы.
Так вот, через восемь лет он вернулся на родную кафедру. Что думал он, чего хотел? Об этом мы можем судить и по делам его. И по тем посаженным им побегам, какие проросли в наш сегодняшний день.
Главное: он с оптимизмом смотрел в будущее своей науки. И хотел приблизить это будущее, подготавливал кадры сейчас, в настоящем. Он помнил, как его наставники двадцатых — тридцатых годов — Ю. А. Филипченко, А. П. Владимирский, Д. Н. Насонов — вели молодежь в науку. И был готов продолжить дело своих учителей. Он томился тем, что под давлением отнюдь не творческого напора «творческих дарвинистов» — как именовали себя «лысенковцы» — был вынужден написать и опубликовать монографию, принципиальных положений которой не разделял. Всю жизнь после этого он испытывал жгучий стыд за то, что взял на душу грех лжи и беспринципности в науке. И считал, что его долг перед его учителями — привить своим ученикам тот же высокий и бескорыстный и ответственный взгляд на место человека в науке, какой был внушен ему самому.
Ни одним, пожалуй, талантом бог не обидел Лобашева. В том числе организаторским. Лобашев видел науку не как администратор — не сквозь перечень лабораторий и сетку штатного расписания. Он видел ее как сложную, разветвленную систему, где успехи достигаются одновременными усилиями множества самых разных исследовательских коллективов. И понимал, чтó ему надо, если он всерьез хочет добиться осуществления поставленной цели. Надо: найти способных молодых ребят и гнать их в рост, не жалея, не щадя, требуя по самой возможно высокой мерке, но зато и помогая им без оглядки. Надо: из этой поросли вырастить исследовательские коллективы, которые потом смогут уже разрастаться почкованием и побегами. Надо: рывком преодолеть восьмилетнее отставание — рывком переброситься на самый передний край науки. Разом переброситься туда, где только наука и делается — где только ей и можно научить. А для этого: найти такой объект исследования, работы на котором вберут в себя все самое современное — и задачи, и цели, и методы, которые придется использовать, одновременно ими же овладевая, и исследовательский взгляд на вещи.
Было еще многое, что тоже требовалось позарез: и дипломатическое лавирование, и административные хитрости, и прямое силовое давление при добыче оборудования, помещений, реактивов. И умение управлять хитростями человеческой психологии…
Среди многих «надо», которыми изобиловала его программа, было одно, пожалуй, все-таки главное. Помимо многих — реально прожитых или лишь намеченных в потенции — человеческих ролей, судьба уготовила Лобашеву еще одну. От него зависело: осуществится или нет преемственность поколений от довоенного коллектива исследователей к тому поколению, вырастить которое предстояло Лобашеву. Вот это и было то, что он сознавал как важнейшее «надо».
Размышления ученого в его «итоговой» книге позволяют отметить, что проблемы становления исследовательского коллектива волновали его всерьез.
«Кажется, Наполеону принадлежит мысль — „Я предпочитаю быть в стаде баранов, возглавляемых львом, нежели в стаде львов под предводительством барана“.
Организация научных и творческих коллективов — одна из самых сложных задач в жизни общества. И это естественно. Чем выше культура членов коллектива, тем ярче выражаются индивидуальные требования личности и тем сложнее их удовлетворить».
4
Не побоимся огорчить читателя повторением главного в итоговой дарвиновской позиции. Дадим слово наиболее страстному в наши дни проповеднику классической традиции в толковании дарвиновского учения, доктору биологических наук Борису Михайловичу Медникову: «Согласно Дарвину, основным движущим фактором эволюции является естественный отбор. Сила наследственности, из поколения в поколение воспроизводящая формы предков, велика, но не безгранична. Организмы изменчивы, причем для эволюции наиболее важна ненаправленная, неопределенная изменчивость. Она неприспособительна, однако условия внешней среды производят жесточайшую браковку в потомстве, оставляя наиболее приспособленных. Отсюда ясно, почему организмы построены целесообразно — все прочие уничтожены в борьбе за существование. Отбор создает приспособленность, но не непосредственно, а через уничтожение неприспособленных, подобно тому, как скульптор создает статую, отбивая от глыбы мрамора лишние куски. Мысль, как видно, гениально проста, но именно поэтому ее трудно было сформулировать…»
Заметим, что ранги составных членов триады, как они толкуются знатоками дарвинизма, далеко не одинаковы. Наследственность и изменчивость — свойства самой живой матери, живого организма. Отбор — выше них. Отбор — то, что лежит вне организма. Это результат игры, которую ведет с ним внешняя среда.
В системе дарвиновской триады отбор расположен уровнем выше наследственности и изменчивости.
Он — судья. Он вершит суд над наследственностью и изменчивостью. Он — активная сила. Отбор наиболее приспособленных.
И вот тут возникает сомнение, которое в чем-то сродни мандельштамовскому. Не слишком ли все-таки просты стали основы эволюционной теории? Не проще ли, чем при ее рождении, когда постулаты скрывали под собой еще во многом неизвестное, а потому многозначное?
Бросается в глаза, что активная сила в них только отбор.
А в чем выражается активность живой материи? Какова же роль наследственности и изменчивости? Простой глины? Камня?
— В клетке все регулируется и все регулируют гены — и себя самих и все остальное. Даже изменчивость. И хочется заметить, что несколько наивны распространенные даже среди генетиков представления о мутационном процессе как о случайных событиях. Скорее стоило бы задать вопрос: а нет ли в клетке специального механизма, который «симулирует» эту случайность? То есть не происходит ли на самом деле так, что, управляя процессом возникновения и проявления мутаций, генетические системы тем самым регулируют уровень изменчивости в соответствии с потребностями своей клетки. А мы, не умея разобраться в делах клетки, оцениваем это все как случайность…
Совсем иная точка зрения, не правда ли? Позиция, учитывающая ту сложную и динамическую взаимосвязь между стабильностью и изменчивостью. Жизни о которой уже толковалось ранее. Она же стоит и за работами, что подкрепляют эту точку зрения.
…Четыреста поколений рода человеческого уводят в седую, глухую древность, в незапамятные времена, которые даже и сказочными не назовешь, потому что эпохи, известные нам по сказкам, гораздо моложе, гораздо ближе к нашим дням.
Четыреста поколений — сто веков, десять тысяч лет. Это срок, который охватывает собой всю историю человеческого общества от ранних побегов цивилизации в первых, еще примитивных поселениях городского типа до космических трасс современности. Все в него вместилось: блеск античного мира, великие переселения народов, рост нынешних мегаполисов, Гильгамеш, Гомер, Данте и научная фантастика. Вся история от эпохи неолита…
Четыреста поколений плодовой мушки — дрозофилы укладываются примерно в семнадцать лет. У мушиного народца свой счет времени, свой бег генетической истории.
С лета 1966 года доктор биологических наук Леонид Зиновьевич Кайданов ведет эксперимент с близкородственными линиями дрозофилы. Более четырехсот ее поколений сменили друг друга за это время в двух скромных комнатках-боксах, принадлежащих отделу генетики и селекции Биологического института в Петергофе.
Кстати, при чем здесь петергофский институт, если речь до сих пор шла о ленинградской кафедре генетики? Но дело в том, что биофак ЛГУ имеет при себе целый исследовательский институт, одновременно служащий местом практики студентов. Институт организован тогда же, когда была создана и кафедра генетики, стараниями в числе прочих и первого ее завкафедрой Ю. А. Филипченко. В девятнадцатом году это было невероятной роскошью для науки — получить дворец, принадлежавший полумифическому герцогу Лейхтенбергскому. И сейчас еще — окружающий институт роскошный, хоть и заброшенный парк, колоннада дворца на высокой террасе над морем впечатляет. Но только не исследователей, здесь работающих. Закутки генетических лабораторий в домиках бывшей дворни, в сравнении хотя бы со специально выстроенными для науки дворцами биогородка Пущино, сильно проигрывают.
Так вот, десятки тысяч мух прошли через дотошные руки Леонида Зиновьевича и его сотрудников. Тысячи особей переданы цитологам и молекулярным биологам для исследований генетических структур.
Берясь за свои эксперименты, Кайданов поставил перед собой задачу, прямо противоположную той, которую ставит перед отбором природа. Исследователь отбирал наиболее неприспособленных, чтобы смотреть, что же из этого получится, как сложится генетическая судьба подопытных мушек.
Отбор все более плохого: хуже, еще хуже, еще… До какой степени деградации может дойти жизнь под давлением жесткого процесса отрицательного отбора, если неумолимо осуществлять его десятки и сотни поколений подряд? Сможет ли она сохранить свою целостность или ей придется, подчиняясь воле обстоятельств, перешагнуть границу жизни и смерти?
Стеллажи от пола до потолка. В боксах, где живут кайдановские дрозофилы, непрерывно поддерживается нормальная для них температура — около двадцати пяти градусов. Мерно журчат люминесцентные лампы. Шестнадцать часов — день. С двенадцати ночи до восьми утра — ночь.
Стеллажи уставлены деревянными лотками, на которых теснятся стаканчики, где обитают дрозофилы. Каждый стаканчик — семья. Примерно каждые две недели происходит смена поколений (скорость, из-за которой дрозофила и вошла в историю науки почетным объектом) — и исследователи совершают новый шаг: снова и снова испытывают действие отбора на состояние дрозофилы и на их генетические системы. Скрупулезная работа. Обычная работа генетика. И все-таки в тихом вежливом с чуть замедленной реакцией докторе наук Кайданова она нашла достаточно выносливого своего исполнителя. Он прошел свой «отбор» на эту выносливость. Десятилетия Леониду Зиновьевичу пришлось ждать ответов на заданный в эксперименте вопрос природы.
Самцов первой партии дрозофил, взятых в работу летом 1966 года, Кайданов и его сотрудники разделили на две группы: те, которые проявляли половую активность выше некоего заданного уровня, были исключены из эксперимента. Для дальнейшей работы были оставлены лишь самые вялые, самые инертные. Их скрестили с их собственными сестрами, чтобы образующиеся у потомков наборы наследственных задатков не были бы «испорчены», разбавлены притоком чужих генов со стороны. Так пошло и дальше — отбор тех, кто более вял, и близкородственное скрещивание полных братьев и сестер, выполняющее роль своеобразного генетического усилителя.
Исходная партия мушек и все нисходящие к ней поколения потомков образуют одну линию, которую исследователи назвали линией НА — низкой активности. Как же сложилась ее история?
«Оцепенелые болванчики» — так назвал своих подопечных однажды Леонид Зиновьевич. Не только по признаку, по которому их отбирали, а и по всем своим приспособительно важным особенностям — жизнеспособности, двигательной активности и многому другому, чем они резко отличаются от нормальных мушек.
Самых серьезных результатов исследователь добился на протяжении первых сорока поколений линии НА. Именно за этот период, меньше чем за два года, у подопытных мушек резко — вчетверо снизился общий показатель жизнеспособности и производительной активности. Дальше дело замедлилось. Популяция почуяла приближение к смертельно опасному рубежу, и тут дальнейшее падение показателя жизнеспособности заметно снизилось. Чтобы преодолеть сопротивление генетических систем и еще раз в четыре раза понизить его, экспериментаторам понадобились долгие годы — время жизни трехсот шестидесяти поколений, то есть примерно пятнадцать лет. И тут уровень жизнеспособности пока стабилизировался. Устойчивость жизни до сих пор берет верх над усилиями генетиков. Но это еще не все.
Следя за состоянием своего мушиного народца, Кайданов и его сотрудники как-то с изумлением подметили, что в линии НА начинает меняться соотношение полов: самцов становилось все больше и больше.
В нормальных условиях на одну самку приходится один самец, если же быть совсем уж точным — самок в популяции даже чуть-чуть больше. А в этой линии кривая численности самцов поползла вверх. Полтора, два и, наконец, три к одному — так складывался счет в их пользу. Гигантский, невероятный перевес. Но объяснимый.
Линия НА ухитрилась так изменить генетические процессы в себе самой, что место одного нормального самца заняли три с пониженной, подавленной жизнеспособностью. Не умением, не активностью — так числом!..
Но в описываемых экспериментах случились события и еще более выразительные.
Исследователи, возглавляемые Кайдановым, выступают для своих подопытных мух действительно в роли всемогущего демона, каковым назвал Айзек Азимов естественный отбор — демоном Дарвина. В их власти перерезать нить жизни линии НА или же, наоборот, влить в нее новые силы. Например, вывести часть очередного поколения из-под жесткого пресса направленного отбора, дать возможность почувствовать прелесть жизни, пусть даже и в лабораторной пробирке, получить, наконец-то, хоть какую-то генетическую свободу.
Из восьмидесятого поколения линии НА были взяты такие же мушки, как и остальные, но их судьба была повернута в другую сторону. Теперь для продолжения рода стали отбирать самых активных.
И что же?
С огромной скоростью — меньше, чем за год, эти мушки вернулись к нормальному состоянию. Так было положено начало линии ВА — высокой активности.
Позже Кайданов еще не раз проделывал ту же операцию. Все круче и круче сгибали линию НА к пределу жизни, он еще дважды выбирал из нее кучку заморышей — каждый раз все более и более вялых, и добивался стремительного ее возвращения к нормальному бытию.
Все вредные мутации у них при том исчезали. Но на этом дело не останавливалось. Линии высокой активности — как и низкой! — отличаются заметным учащением возникновения мутаций в их наследственных системах. Движение вверх по лестнице отбора, как и движение вниз почти в одинаковой степени отмечено активностью мутационного процесса — вот вывод, сделанный Кайдановым.
Казалось бы, с первого взгляда — отбор всемогущ в своей власти над живым организмом. И все же — вспышка мутаций в ответ на отбор, в особенности на неблагоприятный, наглядно показывает, что и наследственные системы не пассивны в реакции на причуды судьбы. «Плата за жизнь» в виде тяжкого груза вредных мутаций у линии НА — это своего рода мутационный поиск, который осуществляют генетические системы в условиях отрицательного отбора. Но такой же поиск ведут наследственные комплексы возрождающихся дрозофил, — процесс их расцвета также отмечен мутационной активностью. Ведь чем больше мутаций, тем больше материала для отбора, чем больше изменений представлено на суд демона Дарвина, тем больше шансов, что среди них будут и такие, которые помогут выжить. И, как мы видели, она выживала, ее деградация задерживалась. А уж когда возрождалась, то тут генетические системы как бы подгоняли ее, увеличивая число изменений, давали более широкие возможности для расцвета.
Центральным пунктом физиологической гипотезы мутационного процесса у Лобашева было признание глубокой, и притом обоюдонаправленной, связи между процессами приспособления, отбора и возникновения мутаций. По мысли Лобашева, связь эта выглядит так: чем меньше организм приспособлен к тем или иным факторам среды, тем эффективнее они вызывают мутационную активность.
Иначе говоря, генетические системы как бы остро чувствуют несоответствие своей клетки или своего организма условиям среды и начинают вырабатывать изменения внутри себя, чтобы отбор выбрал из них те, какие потребны. Леонид Зиновьевич, как и многие другие на кафедре, — ученик Лобашева. Давняя гипотеза учителя становится теорией.
…Профессор Маргарита Михайловна Тихомирова — из того поколения генетиков ЛГУ, которое Лобашев «переучил» заново. Вспоминая слова шефа о том, что среди ученых есть такие, что прокладывают новые пути исследований, а также что, как говаривал Лобашев, «плетут кружева в науке, оторачивая ими чужие идеи», Маргарита Михайловна себя скромно относит к «плетущим кружева». Она доделывает недоделанное учителем. Правда, Лобашев, по воспоминаниям, признавался, что, постоянно переполненный новыми идеями, без помощников, которые бы доводили эти идеи (понимая их с полуслова) до убедительного подтверждения, он не «выжил» бы как исследователь. Он спешил, он подгонял время, прежде утерянное, он подгонял всех вокруг.
Маргарита Михайловна продолжает на другом уровне и с другими задачами давние, оказавшиеся очень показательными, лобашевские эксперименты по влиянию на мутационный процесс температуры окружающей среды.
Очарованность — слово не нашего времени, и трудно ожидать его в контексте рассказа о представителе сообщества людей, чья профессия предполагает обязательную беспристрастность в суждениях и рациональность исследователей, почти все время которых тратится на изнурительный и рутинный труд — генетические эксперименты любого направления — из самых трудоемких в науке вообще. И все-таки, когда Маргарита Михайловна рассказывает о своих мухах, сквозь светскую любезность ученого и педагога с солидным стажем разнообразных видов общения, проскальзывает увлеченность юной аспирантки Михаила Ефимовича, которая когда-то впервые увидела мир сквозь призму, дающую возможность что-то понять в его устройстве.
Кайданову удалось показать, что уровень мутаций у дрозофил зависит от того, кого из них выбирают для продолжения рода. А Маргарита Михайловна изучает ту же самую частоту мутаций в зависимости от приспособленности и приспособляемости мух. Направление — иное, общая цель — одна. Выбирается ситуация, в которой наследственные механизмы активно отвечают на внешние или внутренние встряски, и наблюдается — каким образом это происходит.
Значит, все-таки не ком глины, не глыба мрамора, не пассивный мертвый камень. Значит, все-таки обладают наследственные системы некими свойствами, которые придают им способность отвечать на воздействия внешней среды своей собственной активностью, проявлением внутренних сил и возможностей.
…Михаил Ефимович Лобашев воспитывал своих учеников людьми дотошными и настойчивыми в доведении любой научной работы до ее логического конца. Сам он преклонялся перед учеными, любящими тщательность в своем деле:
«Мне довелось начать первую экспериментальную работу под руководством Дмитрия Николаевича Насонова — по химическому мутагенезу. Вместе с Дмитрием Николаевичем совместно читали, обсуждали, думали и ставили опыты… Наши опыты шли непрерывно, но так, что ночью их контролировать было необязательно. Однако однажды ночью я проснулся и побежал в лабораторию — дело было в Петергофе, — и только я, осмотрев аппаратуру, выхожу из лаборатории, навстречу идет Дмитрий Николаевич. Он тоже пришел проверить опыт. Всю жизнь мне хотелось потом подражать такому ревностному отношению. Ведь Дмитрий Николаевич к тому времени был уже профессором и мог бы оставить опыт на моей совести — аспиранта первого курса».
5
Еще в 1927 году великий русский биолог Николай Константинович Кольцов высказал гипотезу о матричном принципе воспроизведения генетической информации, и она блестяще подтвердилась всеми дальнейшими открытиями генетики и молекулярной биологии.
Как обнаружилось, созидание чего-либо нового по уже готовой матрице — излюбленный метод работы генетических систем. Хромосома — по хромосоме. Ген — по гену. Информационная РНК — по гену. Белковая молекула — по молекуле информационной РНК.
Строительство новых матриц обеспечивается действием в клетке специальных сил. Например, синтез нового гена по шаблону прежнего ведет целый производственный комплекс — набор из полутора-двух десятков ферментов различных специализаций. Один опознает очередной кодовый символ в нити гена-шаблона, другой ставит на место соответствующий элемент вновь синтезируемого гена, третий сшивает его с уже построенным отрезком.
Подобным же образом организовано созидание матриц и в других случаях.
Достоинства матричных процессов очевидны. Прежде всего — это точность передачи информации. И ясно, что если возникнет изменение в исходной матрице, то оно будет исправно продублировано на всех дальнейших этапах. Мутация в гене — изменение в молекуле информационной РНК — необычная структура белка. Такова цепочка зависимостей, которая постепенно обретает плоть в «молекулярных лицах».
Матричные процессы оказались фундаментом всех свойств наследственности, в том числе, конечно, стабильности и гибкости.
Исследования требовали новых моделей и новых объектов. Дрозофила — высшее существо — оказалась для новой биохимической кухни слишком сложной. Мировая генетика, не оставляя традиционных своих способов и традиционных мушек: они еще о многом расскажут науке, — для молекулярных игр начала использовать микроорганизмы, прежде всего самые простые из них — бактерии. Однородный бактериальный бульон легче разделить на составляющие его группы молекул. На бактериях расцвела молекулярная генетика и родилась генная инженерия.
Возникла лаборатория генетики микроорганизмов и в ЛГУ. Но шеф кафедры, предвидя, что и молекулярные исследования, исчерпывая простое, станут переходить к более сложному, нашел для новой лаборатории не совсем традиционный по тому времени объект. Объект этот обладал достоинствами одноклеточных микроорганизмов — с ним было легче «общаться», чем с той же дрозофилой, но по всем показателям он был высшим существом — эукариотом, то есть имел в клетке ядро, несущее семнадцать пар хромосом.
Лобашев оказался провидцем в этом случае, как и во многих других, предвосхищая закономерный вираж мировой науки и заставив учеников заниматься дрожжами. В наши дни самые интересные и значительные события происходят вокруг наследственного аппарата высших организмов и ленинградцы — участники этих событий на равных, а подчас и опережают своих коллег.
Так что дрожжи оказались объектом, подходящим во всех отношениях. Михаил Ефимович Лобашев остановился на дрожжах, когда они были еще сравнительной новинкой для исследователей. Ими очень мало кто занимался тогда — всего с десяток лабораторий в мире. («Он любил новое и бросал ту работу, которой начинали заниматься другие, — скажет М. М. Тихомирова. — Он всегда видел горячие точки развития. И в смене объекта он увидел точку роста для нас…»)
Новой микробиологической лабораторией занялся Илья Артемьевич Захаров, приглашенный с кафедры микробиологии. Ему были приданы молодые силы, по крохам собрали оборудование. («Не дожидаясь, пока выпишут из-за границы».) Захаров сам помыл полы в будущей лаборатории, и началась ее научная жизнь.
И здесь к сумме соображений Лобашева надо прибавить то — заветное: завкафедрой хотел занять новым делом новый коллектив («выделить свое и знать о нем все с самого начала», скажет потом Сергей Георгиевич).
Из воспоминаний С. Г. Инге-Вечтомова:
«Дали меня Захарову, он втравил меня в дрожжи, и я об этом не жалею. Занявшись дрожжами, год осваивал я вполне кустарную методику. Тогда ручная работа требовала достаточной виртуозности: делали из водной взвеси дрожжевой культуры, так называемый препарат висячей капли, оттягивали каплю микроиглой или через микропипетку вытаскивали из нее дрожжевую клетку. Затем рассекали оболочку дрожжевого аска — сумки, содержащей споры, и если делали это грамотно, то получали для работы нужные нам споры.
Но такая деятельность ныне — далекая история. Теперь все проще — оболочки научились обрабатывать пищеварительным соком виноградной улитки. Отличившиеся сотрудники едут на Кавказ или в Крым, собирают под виноградом улиток и шлют посылки. Несколько десятков килограммов улиток — и литр сока в распоряжении лаборатории. Другого способа освободить дрожжевую аско-спору от оболочки так, чтобы не повредить внутренности клетки, не найти — оболочка эта очень толстая и прочная.
Дрожжи, правда, не всегда прячутся за оболочками спор. Но нам важно иметь их именно в этом споровом состоянии: в таком виде у их клеток имеется только один набор хромосом. А такой набор как бы „голенький“ — он открыт для исследования, для различных манипуляций на нем. Ведь дрожжи нас интересовали, естественно, не сами по себе. Лаборатории нужна была простая и эффективно действующая модель системы „ген-фермент“. Дело в том, что между геном и конечным результатом его работы, каковым можно считать произведенный на свет фермент, лежит арена внутренней жизни клетки. Надо сказать, Лобашев со своим умением видеть генетические процессы в единстве с остальным клеточным механизмом был одним из „крестных отцов“ этого направления в нашей стране. И оно стало центром интересов кафедры, пополняясь тематически и развиваясь далее.
Моделей „ген-фермент“ сейчас множество. Но здесь мы отыскали, опять-таки, свою собственную. Не абсолютно свою, конечно, — сейчас не найти, верно, темы и модели, которой кто-нибудь еще в мире не занимался бы. И все-таки имеем полное право считать облюбованную модель своей. У дрожжей был выбран фермент — маркер, то есть такой продукт работы гена, по которому удобно было бы смотреть (по изменению его количества, качества, отсутствию, присутствию), как он реагирует на все изменения в контролирующем его гене. Выбрали гены, контролирующие синтез аденина. Мутанты по генам, контролирующим производство аденина в клетке, назывались Ад-1, Ад-2, и так далее. Эти мутанты отличаются тем, что накапливают пурпурный пигмент, который окрашивает дрожжевые клетки в красный цвет. Американцы из лаборатории, ведущей работы в близкой области, ехидничали: „Нам понятно, почему русские выбрали эти мутанты — они же красные“. Но вот красненькие мутанты мы освоили. И у нас появился ряд задач. Первая — получить по одному и тому же гену множество мутаций. И вторая — создать карты этих мутаций. И все это изучать, различать, смотреть сразу веер процессов, совершающихся над геном и системой, его обслуживающей».
«Пятеро мужиков в женской науке — биологии, мы были счастливы тогда. И я знал, что больше счастлив так не буду. Мы парили в „высшей математике“ генетических исследований.
А были мы такие хитрые, что занялись сразу всеми этапами работы гена, чтобы постараться успеть сразу в нескольких направлениях. Если где-то не удастся, то в замену остаются другие работы, — а главное, мы увидим действие гена в целом»…
Увидеть действие гена. Подумать только. Ведь еще в конце сороковых это намерение показалось бы фантастикой. Теперь это реальность. В начале шестидесятых это было задачей.
Точнее — суммой задач.
Извлечь из удачного объекта материал для сразу многих задач — именно таков был метод шефа кафедры.
«Лобашева интересовал мутационный процесс — этому он отдал жизнь, — расскажет М. М. Тихомирова. — Но в этом человеке постоянно бушевал поток идей, и он готов был схватить за рукав каждого» «подумай над этим и еще вот над этим, неужели ты не видишь, сколько здесь интересного».
Широта и многосторонность отличает научную жизнь кафедры до сих пор. Но это не разбросанность, это разносторонний охват определенных связанных между собой идей, имеющих то или иное отношение к изменчивости.
Широта взгляда, но притом организуемая направленностью на главную цель, достижению которой исследователь посвящает себя без остатка и в большом и в малом, — этому посвящено немало страниц в рукописи Лобашева.
«Самый главный фактор, увлекающий человека в творчестве, — неудовлетворенность сделанным — наиболее сильное средство, поддерживающее творческие силы. Безнадежно ждать от человека чего-нибудь нового, если он удовлетворен тем, что уже сделал, в каком бы возрасте это ни происходило. Мир явлений в природе настолько взаимосвязан, что, раскрыв одно из них, обнаруживаешь еще больше неизвестного, чем прежде. Поэтому перед творческим человеком всегда встают все новые и новые задачи. При этом растет азарт — от желания удовлетворить свою собственную неудовлетворенность. И возникает замкнутый круг — исследователь становится одержимым.
Существует довольно большая группа исследователей, которая не заинтересована вовсе в том, чтобы их работы были опубликованы или чтобы у них были бы какие-то привилегии, сам процесс исследования составляет для них высшее наслаждение.
Перед моими глазами живо рисуется образ Андрея Петровича Римского-Корсакова — зоолога беспозвоночных. Он увлекался симметрией яичников у сенокосцев и мог сидеть в лаборатории целыми днями, забывая о том, ел он или не ел.
Однажды в Старом Петергофе, в Биологическом институте с ним произошел такой эпизод.
Было солнечное утро выходного дня. Как обычно, Андрей Петрович вышел на охоту в парк — ловить сенокосцев. Ему нужны были спаривающиеся особи. Возвращаясь с неудачной охоты, он встречает прогуливающегося академика Николая Викторовича Насонова (отца Д. Н. Насонова). А надо заметить, что институтский парк, созданный в английском стиле, часто посещался прогуливающимися парочками. Н. В. Насонов, встретив задумчиво бредущего с опущенной головой Римского-Корсакова, начал восхищаться прекрасной погодой, парком и нарядными парочками. Андрей Петрович, продолжая обдумывать свою неудачу, рассеянно заметил: „Да, конечно, правда, но я сегодня не встретил ни одной любовной пары…“ Он имел в виду сенокосцев… Андрей Петрович умер в блокаду от голода.
Одержимость ускоряет бег жизни и делает ее счастливой при всех невзгодах. Даже в пасмурные дни она позволяет видеть солнце. Человеку, не умеющему увлекаться, относящемуся хладнокровно к своим занятиям, очевидно, очень скучно жить. С одержимостью ничто формальное и ложное не уживается. Поэтому одной из главных характеристик творческой жизни, мне кажется, должна быть пожизненная привязанность к предмету увлечения. Только при одержимости идеей главной роли естественного отбора в происхождении видов Чарлз Дарвин мог набирать и обрабатывать факты, подтверждающие или противоречащие теории естественного отбора в течение двадцати лет, прежде чем ее опубликовать… Творчество — это дух протеста, несогласия с существующим, общепринятым, это движение не по следам в любом виде человеческого труда».
6
Обо всяком стоящем исследователе интересно знать разное.
Что он делает, так сказать, руками. Какие идеи вкладывает, как душу, в свои эксперименты. («Что лезет из-под волос», — скажет нам С. Г.)
С какими общенаучными перспективами связывает творимое им дело. Какие хранит тайные помыслы, надежды, дерзкие поползновения.
Ну и прочее.
Инге на работу руками (то есть в лаборатории) отводится такое время: после обеда в субботу, воскресенье и отпуск. Заниматься наукой и административной работой в ней — хлопотное дело. (Лобашев, кстати, считал, что администраторами в науке надо делать людей, которые больше всего эту работу ненавидят — тоже косвенная характеристика для Инге. Ему сейчас часто снится сон, что вдруг оказывается: Лобашев жив и пришел на кафедру и он с восторгом возвращает все его «хозяйство» обратно.) Поэтому наука отгрызает время для себя у «прочего»: «Знаете, где самые хорошие мысли приходили? Когда на озере пеленки стирал!»
…К тем представлениям, которые определяют теперь его собственную работу, Инге-Вечтомов пришел не сразу. В то же время можно сказать, что и они были для него, как и для всей той группы, с которой он начинал, заложены, словно в матрице, в той первоначальной программе деятельности, что создал для своих «мальчиков» Лобашев.
Но для реализации программы с любой матрицы нужна подходящая ситуация. Для молодых ленинградцев она была близка к идеальной. (Вспомним: «Мы были счастливы тогда».) И созревание (сплайсинг, как сказали бы генетики) шло стремительно. Еще большей стремительности ему подбавило обстоятельство трагическое. Михаил Ефимович умер в 1971 году. Кафедра осталась без руководителя, школа без главы.
Сергею Георгиевичу пришлось срочно готовиться к защите докторской. Некоторые выводы претендента на докторскую степень при том звучали неканонически. Так, пункт тринадцатый гласил: «На основании анализа собственных и литературных данных сформулировал принцип поливариантности матричных процессов, который рассмотрен применительно к трансляции».
Теперь уже, обкатанный во многих статьях, он стал одним из краеугольных камней поныне разрабатываемой Инге-Вечтомовым суммы представлений. («Этого хватит на всю жизнь», — скажет нам Сергей Георгиевич.) А объяснение его кратко. Инге-Вечтомов, впрочем, вообще краток. Оно таково.
Как выясняется, в матричных процессах на всех этапах — ген ли копируется по гену, или молекула информационной РНК по гену, или белковая цепочка по матрице информационной РНК — обнаруживается неточность копирования И не просто обнаруживается, а начинает выглядеть как необходимое для этих систем качество.
Тема неоднозначности присутствует в работах Инге-Вечтомова давно — на протяжении почти двадцати лет: тайно или открыто, прямо или косвенно, названная так, или названная поливариантностью, или вообще никак не поименованная. Но присутствует. И в статьях и в устных докладах. Повернутая по-разному, неоднозначность оказывается весьма многоликим свойством…
Известны случаи, когда авангардистские театральные коллективы предлагали своим зрителям экспериментальные постановки — пьесы-загадки, в которых не объявлялись заранее ни списки действующих лиц, ни перечень исполнителей. Зрителям представлялась возможность самим по ходу действия угадывать, кто есть кто. В подобном положении оказались и генетики на первом этапе развития своей науки. Однако с течением времени они все глубже и точнее стали разбираться в сюжетных ходах пьесы наследственности, обретя возможность гораздо предметнее и яснее, чем прежде, обрисовывать принципиальную схему действия генетических механизмов. Однако устрашающе сложными становятся представления о самих этих механизмах.
Небезынтересно сравнить тут генетику с такой вполне на нее похожей наукой, как физика. «Хоть это и звучит парадоксально, но мы можем сказать: современная физика проще, чем старая физика, и поэтому она кажется более трудной и запутанной», — писали Эйнштейн и Инфельд. Действительно, с более фундаментальных позиций объяснение явлений природы оказывается проще, но только, добавим от себя, сами эти позиции, само пространство размышлений новой науки становится много сложнее прежнего. То, что полвека назад произошло в физике, ныне совершается в биологии — она постепенно переходит в новое качество, в то новое интеллектуальное пространство (о котором нам и толковал Инге).
«По-видимому, человеческому уму очень трудно понять, что упорядоченное многообразие может появиться из беспорядка само по себе, хотя обратный процесс — возникновение беспорядка из порядка — кажется ему вполне естественным», — заметил однажды известный голландский эмбриолог Равен.
С детства мы восхищаемся замечательной целесообразностью поведения живых организмов, их жизнедеятельности, находящейся в полном согласии с их устройством. Идея гармонии природы прочно сидит в голове у каждого, кто хотя бы когда-нибудь задумывался над таинствами бытия.
Видимая же гармония живого опирается, должна опираться, не может не опираться, это ясный и безусловный эвристический вывод! — на такую же гармонию внутреннюю: на разных уровнях — тканевую, клеточную, внутриклеточную. Она основывается на точной и целесообразной подгонке всех реакций, обеспечивающих течение всех жизненных процессов. Все в них слажено и согласовано, отработано миллионами лет эволюции. Иначе и быть не может! Иначе такой невероятно сложный механизм, как живая клетка, был бы разодран в лохмотья, в клочья, разнесен на тысячи осколков мощными центробежными силами внутриклеточных молекулярных процессов.
И в конечном счете, основой всего выступает гармония молекул — гармония их взаимодействия.
Матричный синтез действует с необычайной эффективностью. Для него берется только то, что нужно, и то, что взято, используется в дело. Отличает его и высокая точность воспроизведения информации. В наших хромосомах сохраняются блоки, возникшие, вероятно, сотни миллионов лет назад. Словом, гармония достигает здесь наивысшего уровня, казалось бы. И возникающие изменения в самих генах — в исходных матрицах — ее не могут нарушить. Все остальные тут же подстраиваются по-новому.
Но вот оказывается, высокая эта точность до некоторой степени величина лишь среднестатистическая, сумма трудноуловимых неточностей. На всех этапах, во всех матричных процессах обнаруживается разнобой, неточность считывания, неоднозначность воспроизведения наследственной информации.
В ту пору, когда Равен писал свою книгу, генетики уже «взяли след» некоторых необычных интимных событий в жизни клетки. Но освоить эту новую картину полностью — задача непростая, она не решена до сих пор.
Но что же это все-таки такое — неоднозначность в реальном обличье?
Среди экспериментов, которые наглядно демонстрируют ее действия, есть один, простой, но очень убедительный.
У самых элементарных вирусов и фагов иной раз генов бывает очень немного, всего по нескольку штук. Так вот, в нехитрой генетической системе некоего фага один из генов содержит программу белка, из которого строится оболочка, чехольчик фага. Тут надо пояснить, что любой ген у любого организма на концах имеет что-то вроде стоп-сигналов; определенная коротенькая последовательность кодовых единиц-оснований обозначает, что ген кончился и в этом месте надо кончать снимать копию с этого гена, далее пойдет другая запись. Так вот, у нашего фага копирование время от времени идет неоднозначно: стоп-сигнал прочитывается копирующей системой как значащий участок гена. И — вот где зарыта собака! — «ненормальные» молекулы белка, встраиваясь в чехольчик фага, сообщают ему инфекционность. И все потому, что в его системах примерно в двух случаях из ста срабатывает неоднозначность: то ли так прочтется ген, то ли эдак.
Уже из одного этого примера видно, что неоднозначность может оказаться механизмом такого важного свойства живых организмов, как изменчивость. Притом довольно замечательным механизмом — тоже гибким и изменчивым.
Это отчетливо показали, например, красивые опыты известных молекулярных генетиков С. И. Алиханяна и Э. С. Пирузян. Был у них в работе такой фермент — с характером: он менял свое действие в зависимости от того, какая аминокислота, какой строительный блок оказывался на определенном участке его молекулы. Так выходило, что рибосома — «сборочный цех» — пропускала на это место или одну аминокислоту, или другую. И вот с одной из них фермент был мутатором, а со второй — антимутатором. Либо понижал уровень изменчивости в клетке, либо повышал!
«Невидимый колледж» исследователей эффекта неоднозначности стал складываться в начале шестидесятых годов. Первый взнос в него сделал Луиджи Горини. А за минувшие четверть века исследователи обнаружили уже множество различных случаев возникновения эффекта неоднозначности.
Теперь ясно, что его действием отмечен практически любой момент в жизни клетки. Однако самым благодатным полем для его изучения стали те системы, которые занимаются синтезом белковых цепей.
7
«Чем ты хочешь заниматься в аспирантуре?» — спросил Инге Илья Артемьевич Захаров. «Супрессией, потому что ничего в ней не понимаю». Цепочка исследований под таким названием и ведется на кафедре с шестьдесят второго года до сих пор и служит главной экспериментальной «подпиткой» любимой идеи Инге-Вечтомова.
Супрессия — что-то вроде «сотрудничества» генов. Вот такое их сотрудничество при реализации наследственной программы и было взято как главная модель искомой неоднозначности.
Три главных действующих лица строят белковую молекулу. Рибосома, ведущая непосредственно саму сборку. Информационная молекула — программа для синтеза, своеобразный «чертеж» будущего белка. И молекулы-адапторы, которые поставляют на сборочный конвейер строительные блоки-аминокислоты и по чертежу находят им надлежащее место в будущей молекуле белка.
Привычным уже стало сравнение рибосомы с фабрикой белка, со стапелем, со сборочным цехом. И если продолжать это сравнение, то надо сказать, что до относительно недавних пор цех такой представлялся совершенно автоматизированным и в любом случае выдающим строго кондиционную продукцию. При подобной организации работы, если обнаружится ошибка в рабочих чертежах, по которым продукция собирается, цех столь же автоматически сборку прекратит.
Однако многочисленные опыты в различных лабораториях продемонстрировали несколько иную технологию работы нашего воображаемого цеха. Оказалось, что иногда он вырабатывает продукцию и по дефектным чертежам.
Для того чтобы такая возможность осуществилась, фабрика белка должна быть способна действовать не по одной программе, а по нескольким — слегка отличающимся друг от друга. А для этого нужны и необычные адапторы, которые могут читать искаженную запись в чертеже белковой молекулы. Нужны, далее, и такие стапеля-рибосомы, которые стали бы взаимодействовать с измененными, нестандартными адапторами.
Возникновение нестандартного работоспособного комплекса, как легко представить, в большой степени дело случая, результат случайных, статистических процессов. А может ли клетка реально обеспечить такое широкое разнообразие рибосом и молекул-адапторов, какое необходимо, чтобы случай, разгулявшись, дал не один лишь брак, но и нечто полезное?
Оказывается, да! Например, у дрожжей число генов, кодирующих строение молекул-адапторов, достигает трехсот! Это в несколько раз — раз в пять — больше, чем нужно для работы по стандартной программе. Среди излишних же генов, как уже точно выяснено, немало таких, которые и обеспечивают синтез белка по нестандартной технологии.
Так и открывается широкое поле для действия комбинаторики, управляемой случаем. А в результате от действия возникают необычные молекулы белка.
Как и с других кафедр биофака, несколько раз в неделю ездят научные сотрудники кафедры генетики в Петергоф, в свои лаборатории.
Так что дорога Петергоф — Ленинград — молчаливый свидетель, видимо, многих генетических прозрений: в пути ведь всегда хорошо думается. С другой стороны, эта трасса, слишком исторически колоритная, должна одновременно отвлекать от углубленности в предмет. Даже те, кто ездит регулярно, вряд ли настолько привыкают к Истории и Искусству, проносящимся за окном, что перестают вовсе замечать начинающийся за окраинными гигантами-домами города характерный околобывшестоличный ландшафт. Стрельна. Петергоф, несущий на себе отпечаток личности Петра I. А вот совсем новая история: гранитный памятник (сколько их под Ленинградом!) обозначает, что путник въезжает в границы бессмертного Ораниенбаумского пятачка. Здесь в Отечественную войну держалась горстка наших войск, окруженная фашистами. Вскоре надо съезжать с шоссе, дорога к институту в гору, вокруг все круче бастионы овражных склонов, и вот вы наконец на «высоте» перед характерным загородным петербургским дворцом, вокруг старина и некоторое запустение (антураж вполне для средневековых алхимических бдений) — редкостный случай почти полного несоответствия формы и содержания…
Опыты, выявляющие несоответствия в работе матричных систем, — сейчас одна из центральных тем кафедры. Ведь идея еще только прорисовывается, еще только проглядывается в «исключениях» и неожидаемых результатах, и потому вокруг нее постоянные споры. Только недавно закончилась дискуссия о том, что же все-таки происходит в рибосоме, когда она допускает «вранье». Обсуждались два варианта предположений, которые Инге обозначал как вариант резиновой рибосомы и вариант рибосомы деревянной: «Мы спорили с дорогими коллегами, действительно ли в рибосоме что-то портится и она становится столь неосмотрительной, что допускает не очень точные действия, или клетка такая умная, что заранее имеет в запасе некондиционные детали, которые, пока рибосома в норме, остаются вне сферы действий, но как только в ней портится некий белок, задача которого — „тащить и не пущать“, допускаются к работе. Короче говоря, одна гипотеза была: когда нужно, худо-бедно приладим, а другая: клетка, она умная, и там заранее все было, все предвидено».
Спор этот сам по себе был немаловажен, так как в одном случае происходят в клетке более серьезные вещи (возвращаясь к нашему сравнению, цех получает «гибкую» программу), в другом — ничего такого не происходит, зато используются подручные средства, чтобы «ликвидировать простой».
Во многих дискуссиях, подобных этой, постоянный оппонент Сергея Георгиевича — его заместитель Дмитрий Анатольевич Горденин. («Он у нас строгий мыслитель и методист. Педант в самом хорошем смысле слова. И если мне нужна серьезная критика результатов и моего отношения к ним, я зову Горденина.»)
А тем временем работы следуют своей чередой, одна за другой: сначала устанавливается твердо — эффект есть, он не выдуман.
Соратники ленинградцев — В. Н. Смирнов и А. П. Сургучев, исследователи из Всесоюзного кардиологического центра в Москве, изучают эффект неоднозначности «в пробирке» — в системах синтеза, извлеченных из клетки и потому поддающихся точному воздействию. И вот совместной работой этих двух групп в рибосомах у дрожжей были найдены и описаны специальные белки, как правило обеспечивающие точность белкового синтеза, но в «испорченном» виде повышающие его неоднозначность.
Потом узнается, случаен ли этот эффект или нужен, он усиливается или уменьшается в зависимости от условий — значит, нужен. «Когда мы видим, что наши мутантные заморыши вдруг растут на совершенно непригодной для этого среде, а в их генах при этом увеличивается неоднозначность, мы считаем себя победителями. Ведь это говорит о том, что неоднозначность регулируется, а значит, это клетке нужно!»
Далее настает самый интересный этап — зачем нужно. В самом деле, зачем природе непостоянство? Не всякая мутация в программе белка исправима, если поломка заденет, например, активный центр фермента — то белок, пусть и достроенный рибосомой, окажется никуда не годным и пойдет в переработку. Но клетка, в некоторых критических ситуациях (чтобы выжить), готова на любое количество брака, если среди него окажется такая продукция, которая поможет ей это сделать.
А вот представим себе гипотетическую ситуацию, которую Н. Н. Хромов-Борисов назвал «эстафетой ошибок». Положим, что нестандартной получилась молекула одного из ферментов, ведущих синтез новых генов — новых нитей ДНК. Пусть тогда исходная матрица, родительская ДНК, будет в полном порядке — у дочерних клеток генетическая запись может быть искажена как раз в процессе синтеза благодаря участию в нем необычного фермента. Неоднозначность распространится на новый уровень и уже у дочерних клеток вновь даст о себе знать!
И тут — «на бумаге и из-под волос», как говорит Инге, — возникла такая мысль. Ведь все матричные процессы, другими словами, вся работа гена ведется на одних и тех же кодирующих парах AT-ГЦ (вспомним школьный курс и четыре основания, лежащие в основании генетического кода), значит, все эти процессы сходны — как те, что ведут к сохранению и передаче наследственности, так и те, что ведут к ее реализации, а значит, и ферменты, обслуживающие эти процессы, должны тоже быть сходны. Но тогда, может быть, есть такие белки-ферменты, которые работают во всех трех процессах сразу? И тогда, если подействовать на такой белок, он сработает необычным образом во всех этих процессах, заставит работать по-другому и наследственный, воспроизводящий, механизм и тот, что выдает текущую продукцию. А если еще ген, служащий кодом этому ключевому белку, может работать неоднозначно и сам, то…
Так — сначала предположительно — была нащупана уже иная тема: истоки связи наследственной и ненаследственной изменчивости.
Такая вот вытанцовывается механика.
Во всем этом интересна и другая механика — механизм творческой работы современного научного коллектива. У ленинградцев еще при Лобашеве возникла постоянная традиция — петергофские научные среды-семинары, на которых обсуждали все ведущиеся на кафедре работы. Вспоминают, что, когда семинар вел Михаил Ефимович, сотрудники и студенты чувствовали себя соучастниками умело срежиссированного процесса коллективного творчества. Претворение любой идеи в жизнь, в научную реальность невозможно без обсуждения, споров, критического рассмотрения ее. Лобашев считал, что для выяснения истины совершенно необходим критически настроенный оппонент. Если споров не бывает, то «такой коллектив, вероятно, нельзя назвать творческим. Скорее всего, его можно назвать колонией мирно живущих индивидуумов», писал ученый.
Среды сохранились до сих пор. И на классной доске в комнате, где они проходят (дверь направо, перед клетушкой Инге), даже вывешена назидательная надпись, удачно найденная в «Литературной газете», — утверждение симптоматичное для любого биолога: «Человека формирует не только среда», смешно перелицовано газетой, концовка фразы гласит: «…но и другие дни недели». Надо ли говорить, что здесь — на кафедре генетики, в Биологическом институте, фраза обрела совершенно неожиданный, буквальный, будто специально придуманный для этой комнаты, смысл…
«Не только среда, но и другие дни недели». Наука, как говорится, требует жертв. Правила хорошего научного тона требуют, чтобы первым в жертву исследователь приносил самого себя — свои собственные результаты делал первым объектом критического рассмотрения. Ирония, смягчающая всеобщую критичность, — яркая черта в повседневном общении ленинградских генетиков.
Памятка для первой — всесоюзной школы-семинара по генетике и селекции.
1. В научной дискуссии, в поисках истины ни один из оппонентов не выигрывает, выигрывает только истина.
2. Глупых вопросов в научных дискуссиях не бывает, и их можно задавать независимо от ранга, положения и возраста. Умные ответы желательны…
4. «Громкость голоса» (положение оратора и его авторитет), многословие и личные выпады не принимаются за аргументы.
5. Веди дискуссию «на уровне моря» (на уровне современной науки), желательно с превышением…
8. Уважай оппонента, слушай его, рассчитывай свои силы и сдавайся вовремя.
9. Не проигрывай выигрышных партий.
10. Генетики принимают любые фантастические идеи, если к ним прилагается продолжение (экспериментальная проверка)…
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский говорил: «Необходимо устранить звериную серьезность в обсуждении всех проблем, которые стоят перед нашей „наукой“. Вот для этого и написана данная памятка».
8
Понятие неоднозначность — дитя, конечно, молекулярного века. Как видел читатель, подлинное представление о ней, о процессах, ее порождающих, можно составить лишь на уровне молекул. Однако первые ростки этой идеи пробились еще в двадцатые годы, в пору бурного и плодотворного расцвета генетики.
А через несколько лет, например, наблюдения над особенностями индивидуального развития дрозофил-мутантов побудили Б. Л. Астаурова высказать поистине пророческие предположения: проявлению любого признака, писал он, «свойственна известная степень чисто случайной флуктуации, неустранимая даже при идеальном постоянстве генотипа и среды». И далее: «Подобная изменчивость присутствует всегда, отражая неустойчивость фенотипической реализации генотипа». Наблюдательность, зоркость исследовательского взгляда Астаурова поражает. За скупыми экспериментальными фактами он сумел разглядеть нечто выходящее за рамки представлений, признанных современной ему наукой.
Так что можно все-таки провести некую линию, пусть не прямую, пусть прерывающуюся, но все же линию преемственности от предположений и неясных ощущений прозорливых исследователей двадцатых — тридцатых годов к современности.
И в числе прочих — к скромным усилиям ленинградского завкафедрой и его коллег.
Индивидуальный «вклад» Инге во всю эту широкую и неоднозначную тему неоднозначности, попытка оценить ее роль в механизмах наследственности, как и опыты над генами, руководящими рибосомой, были бы невозможны и без первых, давних серий работ с дрожжами. Ведь «пятеро мужиков», можно сказать, попутно «нашли» проблему неоднозначности, когда искали удобный и относительно простой метод картирования конкретных мутаций в каждом отдельном гене, метод воссоздания таким способом структуры отдельного гена.
Из воспоминаний С. Г. Инге-Вечтомова:
«Сойдла принес нам идею этого решения едва ли не в виде готовой концепции. Он сам до всего дошел. Он сам все читает и сам надо всем думает. Как Сойдла размотал это дело — знает только Сойдла. Ну конечно, последовали потом годы совместной работы по доведению нащупанного способа до возможности его практически использовать.
Красивая это была работа! И сколько уверенности она придала, сколькому научила. А к тому же уже именно тогда не в литературе, в опыте, были обнаружены первые проявления неоднозначности в действии гена…
Правда, было не всегда так просто. Только стали разматывать мы одну задачу… опыты были поручены одному из коллег, но никто не верил, что из них что-нибудь получится, слишком невыразительным казался эффект; словом, коллега ушел с кафедры. „Ах изменщик проклятый…“ — я очень переживал, хотя теперь понимаю — людям нужно начинать работать самостоятельно… Потом нашлось время, и я синенькими ручками принялся за работу сам. Довел до конца, довел… правда, это уже не имело смысла, опыт сделали другие. Но все равно это одно из таких дел, что вспомнить приятно»…
…И теперь, как горняки, ведущие встречные штольни с противоположных склонов горы к какой-то одной точке в ее недрах, так и тут встречаются в одной точке исследования, идущие сверху — от организма, от его свойств и наследственных задатков, и работы, поднимающиеся по лестнице организации вверх, от отдельных молекул и молекулярных комплексов.
От изменчивости организма — вниз: к ее молекулярным корням. И от статистики молекулярных процессов к их проявлению в виде реальных свойств клетки или организма.
Методами генетического анализа Кайданов пытается проникнуть в тайну тех особенностей конструкции генома дрозофилы, какие и сообщают ему способность к стабильности и пластичности.
Оказалось: и в поддержании у мух линии низкой активности слабого огонька жизни, и в их стремительном преображении, в стремительном взлете к расцвету особую роль играют одни и те же — «сверхжизненные» мутации. Они выступают мощной силой, придающей генетическому комплексу дрозофилы устойчивость и надежность.
Но вот что крайне важно для исследователей: по крайней мере, в некоторых из этих мутаций им удалось распознать уже известные нам по работам Инге гены, продуцирующие неоднозначность.
Вот тут и встречаются генетические штольни, пробиваемые с разных уровней.
От общего уровня изменчивости — к подвижным генетическим элементам — а дальше: к уровню молекулярной неоднозначности!
«Творчества без ошибок не может быть. Особенно новаторского творчества, которое, с точки зрения обывателя, кажется всегда „ошибкой“. Но настоящая ошибка — это настаивание на ней.
Мне кажется, что есть одна гарантия не краснеть во взрослом состоянии за свою печатную продукцию в молодости. Это быть в них всегда предельно честным. Только в этом случае ты не напишешь себе приговора на всю жизнь.
Честные ошибки тебе простят, да и самому в них признаваться не совестно. За все остальные ошибки ты предстанешь перед судом товарищей».
Слово человеческое многозначно. Лобашев в приведенных строках размышляет об ошибках, без которых невозможно творчество. Словно развивая эту мысль, Инге в нижеследующем диалоге утверждает творческую роль «ошибок» в считывании наследственного кода — неоднозначности.
— Я как на исповеди, право. Да, есть мечта… Так получается — над каким-то узлом в клетке думаешь-думаешь, читаешь, что-то делаешь, и выясняется, что на каждом этапе можно многое еще увидеть. Вот крутим мы все и крутим, раскручиваем эту нашу неоднозначность, к одному процессу в клетке ее примерим, к другому — работает, не работает? А если работает — что от этого меняется? Если не работает — почему? Что тут против? Какие факты? Какие запреты?
А потом вдруг приходит в голову совсем ясная мысль — да ведь это мы такие дураки были, а природа умная…
Напряженный ритм жизни нашего гида виноват в том или его несклонность к словесным «спекуляциям», но мы получали от Сергея Георгиевича комментарии, необходимые нам, в основном, в стиле телеграмм (просится на язык штамп «с фронта исследований», — но это уж слишком).
— Не ошибки, ошибки сами по себе ничего не стоят, никуда не ведут. Закономерность, вырастающая из случайностей. За нею обеспечивающие ее биологические механизмы, которые к тому же генетически регулируются. Неоднозначность управляема — это серия ошибок, приведенная внутренними механизмами клетки в известную систему. Закономерность нерегулярности. Можно сравнить ее с принципом неопределенности в микромире…
Пока мы «пережевываем» эти слова, хозяин кабинета уже куда-то убежал. И остается лишь прислушиваться к далекому гомону студентов во дворе, к Ленинграду за окном, ждущему наводнения. Ветер бьет в окна, на кафедре холодно. При взгляде на дребезжащие стекла вспоминается у Лобашева: «Между зданием кафедры и химическим институтом немцы сбросили бомбу, и поэтому все окна были выбиты и заделаны фанерой и жестью. В лабораториях как-то особенно было холодно и неуютно. Нам, вернувшимся с фронта, пришлось восстанавливать кафедру, ставить печи, заделывать окна». Впрочем, в Ленинграде часто вспоминается минувшая война.
…Итак — на одном уровне статистичность всех генетических процессов, на другом — строгий детерминизм. Вот что следует из логики рассуждений исследователя и логики работы — его и его коллег. Порядок из беспорядка — сам по себе!
Вот, может быть (кроме всего прочего), почему в прежние времена биологи оказывались в непростом положении. Все дальше и дальше проникая в глубь живой материи, они воочию видели все глубже уходящие истоки причинности. Пока не дошли до уровня молекул. И не столкнулись здесь лицом к лицу с миром молекулярных взаимодействий. И не увидели тут гармонию в совершенно ином обличье — в обличье случайности, неопределенности, постоянной изменчивости.
Остается найти силы, распоряжающиеся в этом мире молекул, которые, действуя в русле своих, неведомых прежде, закономерностей, «сами по себе» творили бы из беспорядка порядок.
И силы эти вроде бы найдены.
«Кто не работает — того едят!» — эта идея, еще не получившая поначалу остроумную формулировку, как нельзя более впору пришлась тем генетикам, чьи интересы оказались связаны с изучением действия продуктов гена на внутренней сцене жизни клетки.
«Кто будет платить за это?» — сразу же напрашивается вопрос, когда знакомишься с исследованиями по неоднозначности. Кто будет платить за созданные, но неиспользованные цепочки дефектного белка? За искаженные и потому в нормальных условиях не работающие молекулы транспортной РНК? За весь прочий молекулярный балласт в клетке, обязанный своим появлением действию неоднозначности? Клетка, конечно, — кто же еще? Но как она будет расплачиваться, откуда возьмет средства, за счет чего сэкономит?
В исследованиях биохимиков с первой половины семидесятых годов постепенно стала вырисовываться поразительная, не влезающая ни в какие рамки прежних представлений картина.
Картина внутриклеточного «самоедства». «Самоедства» на молекулярном уровне.
Представим себе результаты действия, неоднозначности.
Тьма молекул в клетке — нормальны. Тьма — их близких собратьев, отличающихся друг от друга чуть-чуть. И в эту толпу замешиваются белки дефектные, сильно искаженные. Вот тут и срабатывает некий принцип: кто у дела — сохраняется. Остальные — в разборку, чтобы дать материал для синтеза новых молекул. А между тем это уже действует отбор. Он исходит из того, что клетке нужно сейчас, вот сию минуту. Лишнего он не оставит. Но потребности клетки минуту назад были одни — а теперь совсем иные. И у дела, у молекулярного станка теперь — иные ферменты. А в бездельниках — прежние работяги. И ферменты-чистильщики съедают именно тех, что сейчас прохлаждаются. Вот тут отбор и накладывает свою лапу на неоднозначность, направляет ее в нужную для клетки сторону.
Молекулярное самоедство весьма эффективно помогло Инге-Вечтомову обрисовать последствия деятельности неоднозначности на арене внутриклеточной жизни. Но само по себе оно оказалось лишь частью более широкого и капитального явления в жизни клетки.
«Кто не работает — того едят!» А там уже все равно: не работаешь потому, что дела не нашлось в этот момент или потому, что дефектен.
До недавних пор казалось несомненным, что живая клетка жестко, до жестокости экономно должна расходовать свои ресурсы — энергию, вещество, мощности синтезирующих систем. И это убеждение остается справедливым, если речь идет о клетках бактерий. В мире безъядерных организмов действительно господствует режим экономии. Но для других случаев идея строгой экономики «не прошла». Выяснилось, что «экономика» у клеток высших организмов совершенно иная.
Поток информации, исходящий из ядра клетки, намного шире ее реальных сиюминутных потребностей. Он способен обеспечить производство множества самых различных продуктов. Все они нарабатываются в клетке, но в дело идет лишь часть из них. Тут и вступают в дело специальные ферменты-хищники, ферменты-чистильщики. Неработающий фермент — беззащитен перед ним. И оказывается «съеденным», то есть расщепленным на составные блоки, которые тут же снова и идут в дело.
Имея возможность вести такой «расточительный» образ жизни, клетка все время держит себя наготове: не изменятся ли воздействия внешней среды. Оперативно, по первому сигналу, она начнет оставлять в работе понадобившиеся белки.
И все же прежний вопрос: не это — расточительность? Нет, это — плата за жизнь. А еще точнее — это и есть сама жизнь во всем многообразии своей гибкости, пластичности, надежности. Усидеть в седле! — вот главное. А цену жизни каждый заплатит, какую надо: у бактерий — свою цену, у высших свою.
10
…Этот эксперимент особенно дорог Инге. Может быть, потому, что он многообещающий, как мы сейчас это увидим. Может быть, потому, что когда он уже был сделан и результаты получены, потом возникло в них удручающее сомнение и на время исследователям пришлось расстаться с надеждами на «хорошую» работу. А может быть, и потому, что работа эта — попытка вторгнуться в самую пока еще больную, самую спорную и темную проблему изменчивости: проблему соотношения наследственных и ненаследственных изменений в организме.
— То, чего мы почти не представляем себе, — это механизмы ненаследственной изменчивости. И сами механизмы явления, и, тем более, роль его в эволюции, если говорить осторожнее, — в приспособлении живого в среде… — говорил Инге. — В этой проблеме есть две стороны. Одна та, как данный генотип, данный набор генов, реагирует на изменение среды, не меняя себя самого: как говорят генетики — в пределах нормы реакции организма, определяющей широту ненаследственной изменчивости. И есть другая сторона дела — как эта рутинная работа генотипа, реализующего норму реакции, связана с переменами в нем самом, обеспечением другой его функции — наследственной изменчивости. Вот тут и начинаются всякие тонкости и сложности. И, отбрасывая в сторону все разговоры о неоламаркизме и т. п., надо отметить, что уже при более подробном знакомстве с нестабильностью генома мы видим, как некоторые, казалось бы, ненаследственные реакции организма на внешний агент оказываются связанными с изменениями генов.
Но чтобы все рассуждения не оставались «на бумаге», следовало искать факты. Некоторые из них, убедившие Инге в том, что родившаяся мысль — не фантастика, принесла нашему герою литература. Например, работа зарубежных исследователей Холлидея и Резника показала ясный пример того, как ненаследственная изменчивость связана с явными нарушениями на уровне гена.
В своем эксперименте ленинградцы стремились найти такую модель, которая позволила бы изучать явление более строго количественно. Они ее нашли. И показали, как такое временное обратимое изменение гена вызывает необратимые последствия для организма и даже для генотипа…
Но ведь обратимое генное изменение, с другой стороны, один из источников неоднозначности!
Нужно здесь сказать, что о явлении, которое Инге положил в основу своего опыта, опять-таки говорил в свое время еще М. Е. Лобашев. «Всякой мутации предшествует предмутационное состояние, — утверждал он. — Такое состояние еще не мутация. Оно станет мутацией в последующем. Но есть огромный в микроизмерениях период, пока в гене что-то есть, но он еще не изменен до мутационного состояния так, чтобы это могло передаваться из поколения в поколение». Так что опыт подтвердил, в частности, существование феномена, давно предсказанного.
О содержании и ходе эксперимента, если уклониться от подробностей, сказать можно немногое. Известно, что у дрожжей два пола. Они могут превращаться друг в друга за счет изменений одного регулярного гена. Как оказалось, дрожжевые «индивиды» одинакового пола иногда преодолевают обычную несовместимость и сливаются в тот момент, когда заведующий у них этим процессом регуляторный ген находится в предмутационном состоянии — в нем уже произошли какие-то перемены, но еще не закрепились в полноценную мутацию, Рубикон не перейден, и еще возможно отступление.
Но и в таком временном состоянии ген срабатывает нестандартно. Надо добиться, однако, этого его состояния по заказу (в данном случае традиционным ультрафиолетом).
В опыте, как об этом уже скупо обмолвился Инге, кроме результата, интересна не столько техническая сторона дела, не столько точность работы — в век генной инженерии этим трудно поразить кого-нибудь, — сколько его продуманность, изобретальность его автора в выборе нужных для гарантированного успеха условий. Исследователи сознательно вели поиск объекта для эксперимента именно среди регуляторных генов, то есть таких, что с началом своей работы запускают целую цепочку внутриклеточных процессов, так что даже малейшее изменение в их работе даст лавину последствий, результат которых должен быть необратимым и легко обнаружимым и измеряемым.
Неоднозначность, претворяющая ненаследственные изменения в наследственные, — такому результату можно радоваться.
(Недавно поиски связи наследственной и ненаследственной изменчивости пополнились у ленинградцев еще одним — простым и ярким экспериментом совсем иного рода, который принадлежит Римме Ивановне Цапыгиной. Подопытными у нее служат мышата, их поселяют на подстилку, сохраняющую запах взрослых самцов. И они, вырастая, плодят нежизнеспособное потомство!)
…Начиная с самого отца биологии Аристотеля и до сей поры тема эта волнует биологов и служит оселком противоречий для эволюционистов. И нет среди них такого, который был бы равнодушен к ней, как нет, наверное, и читателя, о ней не осведомленного. Столь редкостная для научной идеи популярность пресловутой дилеммы наследования или ненаследования приобретенных признаков — предмет размышлений для социального психолога или историка науки, но в самой эволюции биологических идей все-таки только частное производное из той или иной картины деятельности различных сил на арене жизни.
И именно так оно и смотрится в распрях менделистов и дарвинистов первых двух десятилетий нашего века. И если бы эту дилемму не возвело на щит невежество лысенковцев в ту пору, когда ее пора бы уже похоронить, она осталась бы отдельным эпизодом на определенном этапе развития биологии.
И что это так и никак иначе, может подтвердить убедительный опыт, поставленный стечением жизненных обстоятельств опять-таки над нашими ленинградцами, точнее, над их предшественниками — у Инге «наследственное» отсутствие боязни перед пресловутой темой. Ибо так случилось, что Юрий Александрович Филипченко — один из главных идеологов советской генетики, человек, до конца убежденный в перспективности именно этого пути в науке, завещал ленинградскую кафедру в 1930 году в некотором роде своему противнику по научным взглядам А. П. Владимирскому, и именно под руководством А. П. Владимирского, ученого редкой объективности, вырос один из лидеров следующего поколения генетиков Михаил Ефимович Лобашев, да и не он один. Лобашев не стал ламаркистом, он стал генетиком и продолжал развивать идеи Филипченко. Но на всю жизнь у него остался непредвзятый интерес к этой проблеме — связи, казалось бы, вещей несвязанных — к проблеме, которую в то время генетика еще никак не объясняла. И вот этот интерес перековался в дело уже в третьем кафедральном поколении. История эта — прекрасная иллюстрация и того, как даже взаимоисключающие взгляды могут питать друг друга, если к ним подходить непредвзято, и того, что все становится на свои места, если недостаток знания понимается именно как недостаток знания.
11
Усидеть в седле! — вот главное для жизни. Помните? Не погибнуть. Не исчезнуть.
Есть в биологии проклятые вопросы; один из самых таких проклятых — как объяснить неукротимую, неодолимую, бьющую через край активность жизни.
Перед наукой всегда — так или иначе — стоит удивительный, поражающий воображение феномен приспособительной активности жизни. Пусть даже обычно и неосознаваемый в текучке лабораторных буден, в бдениях курилок, сквозь чинный уклад академических собраний, над наукой все равно — всегда и везде — тяготеет требовательность категорического императива: феномен жизни должен быть объяснен.
На ум здесь вновь приходит оценка свойств стабильности и изменчивости. Свойства-близнецы — так они были названы прежде. Идущие рука об руку…
Нет! Начинающие открываться нам тайны механизмов изменчивости показывают совершенно иное. Возникающая ныне картина скорее напоминает гонки за лидером, когда, стремительно накручивая круг за кругом, велосипедист сжимается в комок и несется вперед в том узком пространстве рассеченного, отброшенного в стороны воздуха, какое остается позади мотоциклиста.
Вот так же — подобно мотоциклисту — в миллионолетней гонке эволюции лидирует изменчивость. А стабильность — выступает ведомым. Ведь только то, что сперва предложено изменчивостью и признано отбором, — только то и обладает шансами закрепиться в наследственности и попасть под охрану стабильности.
И сквозь таинственное мерцание молекулярных процессов все яснее обрисовываются черты главного действующего лица в пьесе, разыгрывающейся на подмостках приспособительной активности жизни, — неоднозначности матричных процессов. Той самой неоднозначности, которая генерируется самими генетическими системами, служит естественным результатом их деятельности. А потом, в свою очередь, на следующем этапе развития событий становится источником активно вырабатываемой изменчивости.
В новом образе генетических систем естественность возникновения и закономерность действия неоднозначности — видная особенность.
Она лишний раз свидетельствует, что изменчивость — не состояние, как думало большинство биологов лет тридцать — сорок назад и как считают поныне те, кто по выражению Майра, «все еще продолжает битву прошлого поколения».
Не состояние — процесс. Процесс непрерывный и нескончаемый. Бесконечная гонка на треке жизни, в которой главный и единственный приз — сама жизнь.
Придется здесь вернуться к парадоксу, о котором у нас уже шла речь: совершенство жизни, совершенство ее тварей растет из несовершенства — как же иначе поименовать неоднозначность?
Широкий допуск, колебания, поливариантность — как ни назови, все равно любые слова — лишь синонимы несовершенства. И вот оно-то и становится главной пружиной, движущей жизнь вперед по путям эволюции.
Несовершенство, порождая материал для игры «демона» Дарвина, дает старт движению. А затем накладывается на движение, сообщая ему все новые и новые импульсы стремления вперед — к существованию, к совершенству. То есть к тому, чтобы усидеть в седле!
Гармония — из хаоса. Совершенство из несовершенства.
«Нечаянные радости духа», как говаривал еще Гегель.
Веками лучшие умы человечества дискутировали о том, какие особенности составляют сущность жизни, на каких своеобычных основаниях они зиждятся. И самые проницательные из естествоиспытателей относили выяснение жгуче волнующих вопросов в грядущее — в ту пору, когда доступными для исследования и обдумывания станут интимные процессы жизни. И вот теперь мы видим, что эта прозорливая осторожность была вполне оправданной: нужно точное знание, чтобы и умом и воображением постигнуть неординарность жизни, нетривиальность ее склада.
Матричные процессы — как просто! Да, но зато — как эффективно! И как единообразны механизмы, их обеспечивающие. Вот и еще один из парадоксов жизни: на выставке индивидуумов, на параде видов жизнь максимально разнообразна. И правильно, потому что, действуя именно через виды, она открывает для себя возможность завоевать всю планету, просочиться в каждую экологическую нишу, обрести подлинную «всюдность». Но у людей, заинтересованно размышляющих над странностями и обыденностями живой материи, возникает впечатление, что и за фасадом этого парадного разнообразия скрывается, уходит в клеточную и молекулярную даль все та же непохожесть, индивидуальность решений. Словом, опять-таки возникает ощущение — как это было и в случае с гармонией — что источником и фундаментом видимого разнообразия служит разнообразие скрытое. И опять-таки, как и тогда, это впечатление — ошибочно. Природа, по-видимому, крайне экономна и в образе жизни своих генетических систем стремится возможно шире и с максимальным эффектом использовать однажды найденные и многократно опробованные, обкатанные, отработанные решения.
«В научном творчестве есть своя технология, которая чрезвычайно сложна и разнообразна, но я полагаю, что эта технология во многом зависит от той точки зрения, с которой подходит исследователь к представлению о природе. Одна точка зрения такова, что природа устроена чрезвычайно сложно, она гипнотизирует ученого, вызывая известную пассивность. Другая — противоположная — точка зрения состоит в том, что строение природы гораздо проще, однообразнее, чем мы о ней думаем, и лишь наше недостаточное знание ею создает впечатление о ее разнообразии. Быть может, дальнейшее накопление знаний приведет к утверждению этой точки зрения, но об этом говорить пока преждевременно», — писал Лобашев. Не так уж и преждевременно — можно сказать лишь десять лет спустя.
Впрочем, здесь следовало сделать оговорку — и для того, чтобы рельефнее осмыслить современные движения мысли в молекулярной генетике, и на случай возможных возражений со стороны тех, «кто все еще продолжает битву прошлого поколения».
Оговорка, и в самом деле, необходимая. Сказанное чуть раньше не стоит воспринимать в том духе, что на молекулярно-генетическом уровне все облечено в одинаковую униформу и выстроено в одинаковые каре. Нет, смысл сказанного в другом. В генах, в той области, где дело касается содержания наследственных задатков, жизнь охотно допускает любое разнообразие, лишь бы оно шло на пользу, хотя не преминет, как нам известно, использовать при случае и готовые решения. Так, глобины, служащие молекулярным транспортом кислорода из легких во все ткани организма, почти одинаковы у самых различных видов живых существ: человека, свиньи, кита.
Но это — то, что касается содержания наследственности. А в том, что касается механизмов, которые определяют формирование этого наследственного содержания и его использования клеткой, — вот тут именно природа и стремится использовать типовые, но зато надежные, испытанные решения.
А чтобы из типового набора типовых решений получить требуемую для разнообразия жизни неординарность, природа прибегает к различным способам действия.
12
«…Мне не пришлось непосредственно работать под руководством крупных исследователей. Когда я избрал кафедру на первом курсе, то профессор Юрий Александрович Филипченко скончался. А заведование принял на себя профессор А. П. Владимирский, который сам получил очень хорошую зоологическую школу у профессоров Шимкевича и Шевякова, но генетической школы у него не было. Однако ученики Ю. А. Филипченко и А. П. Владимирский соблюдали традиции своих школ. Поэтому я на себе испытал влияние нескольких научных школ и сильно ощущал отсутствие одной научной школы. Правда, я благодарен своим учителям за то, что от них я воспринял разные стили и направления исследований, различные методы работы, так сказать „всего попробовал“. И это наложило отпечаток на мою деятельность. В своем творчестве я наблюдаю разбросанность, незаконченность в исследованиях тех проблем, которые меня интересовали. Я думаю, что каждому молодому научному работнику совершенно необходима научная творческая школа. Без школы и научного воспитания очень трудно последовательно и логически изучать избранную проблему. Тем более трудно быть не привязанному к какому-то творческому коллективу», — писал Михаил Ефимович в своей книге.
Коллектив кафедры генетики ЛГУ организовывался, по крайней мере, дважды за ее историю, совсем недолгую, в сущности, историю. И два замечательных биолога сыграли при этом чрезвычайную роль — Юрий Александрович Филипченко и Михаил Ефимович Лобашев. Основатель первой в стране кафедры генетики, автор первых учебников по генетике, редактор первого генетического журнала и тот, под чьим руководством кафедра сложилась в современный научный коллектив, автор учебника генетики, созданного им, когда страна больше всего нуждалась в переосмыслении достижений мировой науки, основатель издания «Исследования по генетике» и редактор его до последних дней жизни.
Это люди очень разные. Разные по своей судьбе, по воспитанию и образованию, по-разному пришедшие в науку, в университет. Но оба они возглавляли ленинградскую университетскую генетику в наиболее сложные и ответственные периоды ее истории.
Их роднит беззаветная преданность науке, умение находить выход из самых сложных ситуаций, и широта таланта в редком сочетании с предприимчивостью. Их отличали некий общий стиль — работы и отношения к ней. И стиль научного мышления. И тяга к неожиданностям.
Об удивительной широте интересов Ю. А. Филипченко говорит хотя бы тот факт, что в ряду других своих многочисленных дел он вывел новый сорт пшеницы. Возможно, это был самый первый сорт, и уж во всяком случае — один из первых, полученных со знанием основ наследственности: «по науке». Назвал Юрий Александрович свой сорт «Петергофкой».
Замечательный советский генетик умер рано, в сорок восемь лет, простудившись во время весеннего сева на опытном поле в Петергофе. (Гроб его провожал на кладбище весь биологический Ленинград, и перед процессией торжественно плыл венок из колосьев коллекционных пшениц, собранных со всего света.)
Петергоф никак не сопоставляется в сознании с пшеницей. Какая пшеница под Ленинградом! Но и сам Юрий Александрович — мыслитель, теоретик, зоолог — наконец (!), плохо представляется в роли селекционера пшениц. Столь же неожиданным человеком в разнообразии своих увлечений был и Лобашев.
Несходство же в биографиях лишь подчеркивает эти параллели. Они пришли к одним и тем же целям — сын агронома, то есть биолог почти наследственный, последовательно прошедший все ступени обучения, необходимые для будущего исследователя, и беспризорник, превратившийся в научного работника за десять лет.
Впрочем, судьба Лобашева столь уникальна, что его жизненные перипетии послужили Вениамину Каверину при создании образа Сани Григорьева в романе «Два капитана». Об этом свидетельствуют близкие к Лобашеву люди. Но они свидетельствуют и другое, для нашего рассказа весьма более значительное: Лобашев на всю свою жизнь сохранил благодарность русской университетской интеллигенции, в среде которой вырос как исследователь и как человек и которой стремился подражать.
Мальчик, родившийся в семье волжского грузчика, до семи лет оставался немым. В двенадцать лет, в разгар гражданской войны, потерял родителей. Попал в детский дом. Бежал. Бродяжничал. Путешествовал под вагонами. Три года мыканья. Нашел наконец стоящих людей — прижился в Ташкенте, в Трудовой школе-коммуне имени Либкнехта. В двадцать один год, получив обширное по тем временам образование в объеме девяти классов, владея попутно квалификацией столяра третьей руки, приезжает в Ленинград. Год — рабочий судостроительного, ныне Адмиралтейского завода. В двадцать два года — студент-биолог. Через три года — исследователь. Не просто по административному статусу: по сути дела. Еще молодой, но уже примеченный великими мира тогдашней генетики — Г. Меллером и К. Бриджесом, которых в свое время отличил и благословил в науку ставший уже в те годы почти легендарным Томас Гент Морган, глава школы, создавшей хромосомную теорию наследственности. Уже начаты эксперименты по изменению наследственности у дрозофилы, морской свинки генетиков. Из экспериментов этих вырастет через ряд лет кандидатская диссертация, оппонировать на которой захотят такие светила, как Г. Меллер, Г. Карпеченко, Э. Бауэр.
Судьба Лобашева — замечательный пример того, что человека формирует и среда. Конечно, не только она — согласно лозунгу, который, как мы помним, висит в петергофской лаборатории, — но и она тоже. А средой, в которой проходило формирование личности будущего генетического лидера, оказались среди прочих «компонентов» эти самые стены на петергофской окраине, вкупе со стенами на Университетской набережной.
Есть несколько толкований понятия — научная школа. Говорят о школе Павлова, школе Насонова, школе Ландау. Чаще всего школа — это группа единомышленников, продолжающая и завершающая дело своего основоположника. Но говорят и о школах другого рода: школа Тимофеева-Ресовского, например, чьи ученики вовсе не обязательно занимались милой сердцу учителя радиологией или популяционной генетикой и принадлежали к совершенно различным биологическим профессиям. В таком случае, речь уже идет скорее о характере мышления вообще и об общем стиле подхода к науке, чем о каких-нибудь конкретных взглядах на конкретный предмет. Ленинградская школа генетики — понятие еще более широкое. А потому вряд ли можно что-либо из него извлечь, сопоставляя или противопоставляя эту группу каким бы то ни было другим группировкам в науке. Гораздо плодотворнее тут окажутся исторические экскурсы. Но и они сами по себе мало скажут. Юрий Александрович Филипченко имел много учеников, хотя прямое дело его на кафедре продолжали главным образом не они. Так уж сложилось. Михаил Ефимович Лобашев, напротив, насадив поросль молодых в своих лабораториях и спешно вырастив эту поросль, позаботился о смене. Бессменным, как мы видели, оказался общий круг интересов ленинградцев. И все же более всего остального индивидуальность этой генетической школы охраняют ветшающие университетские стены, в которых родилась и продолжала развиваться русская наука в целом.
Три поколения ленинградских генетиков дышали одним и тем же воздухом — сырым воздухом Ленинграда, пыльным воздухом коридоров Двенадцати коллегий, свежим воздухом Аптекарского огорода и специфическим воздухом Зоологического музея и, наконец, воздухом знаменитой 133-й аудитории биофака, где, как вспоминают старожилы факультета, происходили все сколько-нибудь заметные биологические перипетии. Эта аудитория помнит Мечникова, Насонова, Заварзина, Филипченко, Шмальгаузена и Берга, Карпеченко, молодого Раппопорта и Лобашева. В ней, правда, не читали лекции Кольцов и Вавилов. Но ведь дело — снова стоит повторить — не в противопоставлении и не в сопоставлении. Тот сгусток интеллектуальной энергии, которой постоянно насыщены стены Ленинградского университета, та среда, в которой растится всякое новое поколение его ученых, и придает здешним питомцам определенный облик, словно наделяет фирменной маркой — выращены в стенах ЛГУ. И в этот облик, как составные элементы, входит и культура мышления, и культура сдержанного выражения мыслей, и незаемность гипотез, и бережное отношение к традициям, даже чисто внешним, и ироничность, и закрытость, и нелюбовь к рекламе и многое, многое другое.
II
А. Городницкий Сколько миль до Атлантиды?
(Из дневника экспедиции)
Никто не знает флага той страны.
Александр Кушнер1. Шаг в глубину
Поздним июльским вечером, борясь с сильным «прижимным» ветром, разогнавшим крутую волну, наше судно покинуло Цемесскую бухту и взяло курс на Варну. Главное, как говорит наш старший механик, отпихнуть ногой берег. И он прав: прежние земные заботы позади, начинается новая жизнь.
Если спускаться из моей каюты по главному трапу, ведущему во внутренние помещения судна, то сразу увидишь на переборке три яркие акварели с изображениями старинных судов. Корабли эти, разные с виду, носят одно и то же имя «Витязь». Так издавна по традиции называли в России научно-исследовательские суда. Вот трехмачтовый корвет, как бы возникший из рассказов Станюковича. Построенный в семидесятые годы прошлого века, он был когда-то новинкой техники. Именно на нем Миклухо-Маклай достиг островов Океании.
Неподалеку второй «Витязь», тоже парусно-паровой, но уже более совершенный, спущенный на воду в 1886 году. Он стоит на рейде в каком-то порту одного из юго-восточных морей, — рядом китайская джонка с ярко-красными косыми парусами. Это судно тоже прожило долгую и славную жизнь. Знаменитый русский флотоводец и ученый-океанолог адмирал Макаров совершил на нем кругосветное путешествие. Открытий на втором «Витязе» сделано немало. Недаром это имя выгравировано на доске Музея океанологии в Монако в списке самых знаменитых в истории научных судов.
А вот и третий «Витязь» — уже из наших дней. Тяжелые штормовые волны обрушиваются на его палубу, над гребнем пенной волны с криком несется альбатрос. Небо в тучах. Зарываясь носом в кипящую темную воду, корабль упорно идет своим курсом. Более тридцати лет проплавал третий «Витязь» после второй мировой войны — 65 океанских рейсов под вымпелом Академии наук СССР. На морских картах — подводная гора имени «Витязя», разлом имени «Витязя», самая глубокая впадина в океане в Марианском желобе глубиной свыше одиннадцати тысяч метров. Этот «Витязь» бросал якорь в бухтах островов Океании и Антарктиды, у берегов Южной Америки и в таинственном «Бермудском треугольнике», он был настоящим плавучим институтом. До сих пор помню то чувство ученической робости, с которым в 1966 году во Владивостоке я впервые ступил на палубу прославленного судна. Каким современным и недоступно-роскошным (красное дерево, зеркала) показался он мне, плававшему в те годы на прокопченном угольном паровичке «Охотск»!
Но корабли, особенно построенные в двадцатом веке, быстро старятся. Их расшатывают удары волн, разъедает беспощадная коррозия. Гниет и сгорает без огня дерево. Устает металл. Корабли уходят на пенсию. Третий «Витязь» тоже встал на вечный прикол в Калининградском порту. Сначала собирались создать на его базе мемориальный музей советской океанологии и даже отбуксировать его для этого в московские Химки. Но потом как-то забыли. Прошло уже несколько лет. Заслуженное судно так и ржавеет, всеми позабытое, у пустынного причала, заваленного железным хламом. Видеть его здесь грустно и обидно. Выведенное славянской вязью имя еле просматривается на некрашеном и проржавевшем борту.
Наш «Витязь» — четвертый по счету, изображен на последней акварели. Построен он на Гданьской верфи в Польской Народной Республике в 1981 году. Со стороны его облик кажется странным: нет обтекаемых, наклоненных назад контуров рубки и мачт, как на «Академике Курчатове» или «Дмитрии Менделееве», нет поджарой и грациозной кормы. Судно похоже скорее на утюг: короткий нос, скошенная корма со «слипом», как у рыболовных траулеров, раздвоенная труба. «Современный дизайн», как мне объяснили. Зато мореходные качества у него отличные — он устойчив в любую штормовую погоду, снабжен дополнительными винтами, позволяющими перемещаться вбок (так называемый «активный руль»). Новый «Витязь» может работать даже в зимнем штормовом океане, что другим современным судам не под силу. Поэтому ему и достаются самые трудные рейсы. На борту более тридцати лабораторий, современная электронно-счетная машина, спутниковая навигация, самое совершенное оборудование, включая лебедки с гидравлическим приводом. Но главное не в этом: четвертый «Витязь» — судно нового поколения, первый в советском научном флоте корабль, оборудованный для ведения не только надводных, но и подводных исследований — орбитальная станция на орбите гидрокосмоса. Вся кормовая часть судна занята уникальным оборудованием, позволяющим человеку опуститься на морское дно. В специальном эллинге спрятан обитаемый подводный аппарат «Аргус» — маленькая подводная лодка, рассчитанная на трех человек. Здесь же размещен водолазный гипербарический комплекс с барокамерой и своеобразным подводным лифтом — водолазным колоколом.
Мы живем на планете Земля и наивно полагаем себя ее хозяевами, однако более двух третей земной поверхности покрыты водой и для нас недоступны. Можно, конечно, исследовать дно с поверхности воды, опуская туда разного рода приборы и тралы, что и делается много лет, но возможности таких исследований невелики. Представьте себе, что геолог, вместо того чтобы ходить с молотком и компасом по земле, вынужден лететь на высоте около 5 километров (примерная глубина океанского ложа), а Земля скрыта под облаками (с поверхности воды океанского дна не видно). И вот в такой обстановке нужно изучить геологическое строение огромного хребта и прежде всего отобрать образцы горных пород. Для этого используется нехитрое оборудование, которое морские геологи называют драгой. Драга — большое стальное ведро без дна. Верхние края у него зазубрены, а к нижним приделана стальная сетка, так называемая «юбка», для сбора образцов. Ведро это на мощном стальном тросе с помощью лебедки опускают на дно и волокут, пока оно не зацепится за какой-нибудь скальный выступ, а дальше — «Тянут-потянут — вытянуть не могут». Чаще всего после мучительных дерганий трос лопается — и драга остается на дне или срывается со скалы и приходит наверх пустая. Только в редких случаях этим методом — «забрось на авось» — удается выудить на поверхность случайные образцы. А определить, оторваны они от коренных пород или упали откуда-то сверху, например, с растаявшего айсберга, и вовсе нельзя. Даже если мы и поднимем вслепую несколько образцов с отдельных гор подводного хребта, разве этого достаточно, чтобы получить исчерпывающие сведения о его геологическом строении?
У биологов дело обстоит еще хуже. Вспомним, как рыбачил старик в пушкинской сказке:
В первый раз он закинул невод,— Пришел невод с травой морскою. Второй раз он закинул невод,— Пришел невод с одною тиной…А золотая рыбка ему попалась только на третий раз, и можно считать, что старику крупно повезло. Ведь морские биологи уже долгие годы именно так и работают в океане, только вот невод и на третий, и на пятнадцатый раз может принести одну тину или морскую траву, а вместо злой старухи результаты их находок будет принимать суровый ученый совет.
Что же касается археологов, то им приходится совсем плохо — с поверхности моря ничего не увидишь и ничего путного не найдешь. Разве только то, что совсем недавно упало. Дно морей и океанов непрерывно засыпается илисто-глинистыми осадками — от нескольких миллиметров до двух-трех сантиметров в год. За десятки и сотни лет они бесследно хоронят под собой не только древние амфоры или обломки боевых трирем, но и целые города. Когда не так давно поднимали английский крейсер, затонувший в Баренцевом море во время второй мировой войны с грузом золота на борту, то он оказался погребенным под осадками, которые доставили много хлопот водолазам даже на сравнительно небольшой глубине. Как же обнаружить то, что затонуло не 40, а несколько тысяч лет назад?
Для того чтобы изучить геологию дна океана, найти залежи новых полезных ископаемых, обнаружить неведомую жизнь подводных глубин, недостаточно исследовать океан с поверхности — надо самим опуститься в таинственную пучину. Достаточно сказать, что первые же погружения биологов Института океанологии им. П. П. Ширшова Академии наук СССР на обитаемом подводном аппарате «Пайсис» позволили обнаружить целый ряд новых видов обитателей океанского дна и сделать неожиданные выводы о соотношениях численности различных видов, населяющих океан.
Все это хорошо. Но как попасть на дно? Помню, несколько лет назад руководитель отдела подводных исследований нашего института профессор Ястребов, чествуя одного из ученых-подводников, заявил: «Сейчас во всем мире можно насчитать не более ста человек, которые сумели побывать на дне океана». (Случившийся рядом Фазиль Искандер мрачно добавил: «Не считая утопленников».) Действительно, дно океана, вроде бы такое близкое от нас, оказалось менее доступным, чем космос, — это не преувеличение.
Доставить человека на поверхность Луны, как считают специалисты, легче, чем на дно океана на глубину пять километров, а выйти в открытый космос реальнее, чем в открытую воду. Проще создать крупную научную лабораторию на орбите, чем на глубине в несколько тысяч метров.
Первыми такими лабораториями стали подводные обитаемые аппараты, маленькие подводные лодки с прочным корпусом, способные опускаться на глубину в сотни и даже тысячи метров. Аппараты эти с небольшой скоростью перемещаются в толще воды, зависают на любом уровне в режиме полной тишины, ложатся на грунт. Находящиеся в них люди могут вблизи наблюдать интересующие их объекты, отбирать образцы и пробы, проводить фото- и киносъемку.
Такой подводный обитаемый аппарат есть и на борту «Витязя». Создан он в Южном отделении Института океанологии в Геленджике. Назвали его «Аргусом» в честь мифического стоглазого существа. У нашего «Аргуса» тоже много глаз — это три иллюминатора в обитаемом отсеке, откуда можно вести наблюдение вверх и вниз, и выведенные на борт объективы фотокамер. Экипаж «Аргуса» состоит из трех человек: первый и второй пилот сидят наверху в креслах, перед ними верхний иллюминатор, а пилот-наблюдатель лежит внизу, удобно устроившись на тюфяке, и ведет наблюдение через нижние иллюминаторы. Собственный опыт позволяет сказать мне, что под водой вести геологические наблюдения гораздо приятнее, чем на суше. Не надо карабкаться, рискуя сорваться, по горным кручам, — тебя доставят со всеми удобствами на любую, даже самую отвесную, скалу — ведь «Аргус» может зависнуть в любой точке, приобретя нейтральную плавучесть (у пилотов это называется «в нуле»). Не нужно, примостившись где-нибудь на камне, да еще под дождем, или отмахиваясь от комаров, торопливо записывать в пикетажку результаты наблюдений. Лежишь себе здесь на тюфяке и, глядя в иллюминатор, «наговариваешь» то, что видишь, на магнитофон, а под рукой — тумблеры прожекторов и спусковой крючок фотокамеры. Кроме глаз у нашего «Аргуса» есть и механическая рука — стальной манипулятор, которым можно взять с морского дна образцы растений и фауны, или камни. В обитаемом отсеке поддерживается нормальное давление. Запас кислорода дает возможность экипажу находиться под водой до 48 часов, а подводные движители — винты — позволяют аппарату перемещаться под водой со скоростью около двух узлов (две мили в час).
В нашем рейсе подводное судно обслуживает его постоянный экипаж: командир Виталий Булыга, инженеры Леонид Воронов и Сергей Холмов — молодые, спокойные, немногословные, фанатично влюбленные в свой «Аргус» и далеко не безопасные погружения. Круглые сутки возятся они в эллинге, где стоит аппарат, отлаживая его сложные механизмы и системы жизнеобеспечения. У них, как и у саперов, нет вариантов для ошибок. Характеры у ребят разные: Виталий — человек решительный, увлекающийся, иногда резковатый, Леонид — более мягкий, улыбчивый и спокойный, Сережа Холмов — задумчивый, немногословный и скромный, пишет стихи и песни, хотя показывать их по застенчивости не любит. Нервы у ребят стальные. Я никогда не слышал, чтобы они раздражались и ссорились даже в самой критической ситуации.
Вспоминается драматический случай: несколько лет назад во время одного из погружений неподалеку от Геленджика «Аргус» «ухитрился» проползти под толстый кабель, проложенный по дну и накрепко застрять там. Аппарат так «ловко» заклинило между рубкой и сигнальным буйком, что ни работа винтами, ни даже аварийный сброс балласта для срочного всплытия не помогли. На этот случай есть у «Аргуса» аварийный буек на длинном и тонком тросе, который должен выстреливаться на поверхность. На нем лампочка-мигалка и радиомаяк. Однако по нелепой случайности еще на суше буек закрепили наглухо, «чтобы зря не выстреливался». Оставалось одно — лежать на грунте и ждать помощи сверху. Экипаж прекрасно понимал, что найти «Аргус», да еще и освободить его от кабеля, будет нелегко. На берегу все были подняты по тревоге. Надо было спешить — 48 часов — срок небольшой. А на морском дне царило полное спокойствие, никакой паники и уныния. Чтобы продержаться, нужно было экономить кислород. Известно, что минимум кислорода человек расходует во сне, поэтому спали все время, оставляя вахтенного для связи. Сережа Холмов, например, проснувшись однажды, когда положение на вторые сутки стало почти критическим, спросил: «Нас еще не нашли? Ну ладно, тогда я еще посплю».
Виталия Булыгу я только один раз видел в разъяренном состоянии: когда во время сильной качки «Аргус» ударился при подъеме о борт судна, отчего прогнулся и вышел из строя винт вертикального движителя. Наверное, если бы Виталий вывихнул собственную руку или ногу, то реагировал бы на это менее болезненно.
Кстати сказать, «Витязь» специально оборудован для спуска подводного обитаемого аппарата на воду. Для этого на корме есть специальная П-рама и уже упомянутый «слип», и труба у него раздвоена не для красоты, а чтобы вахтенный с мостика видел, что происходит на корме, и мог отдавать нужные команды. Экипаж «Аргуса» может занимать свои места прямо на борту судна в эллинге. После этого «потолок» эллинга автоматически раздвигается, и сам «Аргус» на гидравлической платформе подается вверх на кормовую палубу. Здесь его цепляют тросом и с помощью П-рамы осторожно опускают в воду. Затем водолазы обеспечения отцепляют трос, и тогда «Аргус» готов к погружению. Связь с ним поддерживается по подводному телефону. А смена экипажа на воде проводится с помощью мотобота и резиновой надувной лодки.
И все-таки подводный обитаемый аппарат человека на дне полностью заменить не может. Например, механической рукой никак не оторвешь образец породы от сплошной скалы. Мы много раз пытались это сделать, но ничего не вышло. А вот если опустить на дно водолаза, да еще с кувалдой, тогда, конечно, выйдет. Да и обзор из иллюминатора сравнительно невелик, а водолаз повернул голову — и все увидел. Вот и получается, что человек все равно должен выходить в открытую воду.
Сделать же это совсем не просто: в океанских глубинах подстерегает страшный враг — высокое давление. Уже на глубине 40–50 метров входящий в состав воздуха азот вступает в реакцию с клетками головного мозга, вызывая отравление, ведущее к параличу и гибели. Поэтому при погружениях азот надо заменять гелием. С другой стороны, если водолаза с большой глубины быстро поднимать на поверхность, начинается чрезвычайно опасное для организма закипание крови — «кессонная болезнь». Для борьбы с этим грозным врагом и служит специальный водолазный гипербарический комплекс — сердце нового «Витязя». Он состоит из двух частей — судовой гипербарической системы и водолазного колокола. Основа системы — барокамера, настоящий дом, занимающий большую часть кормового отсека. Если через толстые стекла иллюминатора заглянуть внутрь, то увидишь жилые «комнаты» для акванавтов. Здесь ставятся ответственные, полные риска и напряжения, эксперименты по имитации условий высокого давления и последующего постепенного снижения его до «выхода на поверхность». В камеру, где находятся акванавты-испытатели, подается смесь кислорода и гелия, соотношения между которыми при разных давлениях рассчитываются на специальной ЭВМ. После достижения заданной «глубины» давление медленно и последовательно снижается. Живущие в камере акванавты находятся от нас на расстоянии вытянутой руки, и все-таки они — в другом мире. Вынужденные долгие дни проводить в барокамере в условиях полной изоляции, чтобы снова вернуться «на поверхность», они ближе всего к космонавтам, совершающим многодневный орбитальный полет.
Смесь гелия с кислородом сильно меняет условия артикуляции языка и губ. Поэтому разговаривать в барокамере нельзя, — приходится объясняться записками. В Южном отделении Института океанологии в Геленджике по инициативе члена-корреспондента Академии наук А. С. Монина создан наземный гипербарический комплекс. В нем работает большой коллектив инженеров, врачей-физиологов, акванавтов. Недавно там впервые в нашей стране был успешно завершен эксперимент — создание условий давления, соответствующих погружению человека на 400 метров. Сейчас на борту «Витязя» главные его участники во главе с заведующим лабораторией подводных исследований Олегом Николаевичем Скалацким.
Что касается судового гипербарического комплекса, то в него входит также водолазный колокол. Это своего рода подводный лифт. Он герметично стыкуется с барокамерой. Опускающиеся на дно акванавты занимают в нем места прямо на борту, и внутри колокола устанавливается то же давление, что и на глубине, куда они должны спуститься. После этого колокол автоматически подается на верхнюю кормовую палубу и на специальном кабеле-тросе, с помощью все той же П-рамы, опускается в воду. Экипаж колокола состоит из трех человек. Два из них работают на грунте, а третий поддерживает связь с судном и следит за системами жизнеобеспечения. Закончив работу, акванавты возвращаются в колокол, который герметизируется и поднимается на борт, где снова стыкуется с барокамерой. После этого акванавты переходят в барокамеру для декомпрессии.
Новый «Витязь» снабжен также подводными роботами. Это буксируемая система «Звук», с помощью которой можно вести телевизионное наблюдение и фотографирование дна с близкого расстояния и даже брать образцы грунта. Прибавим к этому стандартные методы исследования океанского дна: аппаратуру для непрерывных измерений интенсивности магнитного поля, приборы для определения величины теплового потока, стальные геологические трубы и черпаки для отбора донных осадков, эхолоты для определения глубины дна и многое другое.
Новый «Витязь» молод, и молод его капитан — Николай Вадимович Апехтин, хотя морской опыт у него солидный. Мы познакомились в 1974 году, в Тихом океане, на борту «Дмитрия Менделеева», когда его капитанская карьера только начиналась. В джинсах и модной цветной рубашке он тогда показался мне совсем мальчишкой.
За двадцать четыре года плаваний в океане на разных судах — от старого парусника «Крузенштерна» до нового «Витязя» — мне довелось встречаться со многими капитанами. А что ни капитан — то характер, и от этого характера во многом зависит успех экспедиции. Я помню капитанов старого поколения, с лицами, выдубленными ветрами и солеными брызгами от долгого стояния на открытом мостике, и с голосами, осипшими от громких команд, усиленных для лучшего понимания крутыми морскими оборотами. Тех волновали главным образом безопасность судна и его внешний вид. На науку иногда смотрели как на досадную помеху «флотскому порядку». Николай Апехтин — капитан нового поколения, скромный, образованный, любит стихи, штурман по призванию, и морского волка, «обветренного как скалы», не изображает. Зато в результатах исследований заинтересован всегда не меньше, чем сами ученые. Я его видел в разной, иногда очень сложной обстановке, например, во время урагана в юго-восточной части Тихого океана, когда огромные волны ломали надстройки и угол крена достиг критического. Спокойствие и чувство юмора ему не изменили и тогда.
Руководит экспедицией профессор Вячеслав Семенович Ястребов, ныне директор Института океанологии, один из ведущих ученых в области техники подводных исследований. Это он во главе группы таких же энтузиастов на берегу Голубой бухты в Геленджике, под открытым небом, часто без нужных средств, своими руками конструировал когда-то первые подводные аппараты. Сейчас там уже построены специальные эллинги, ангары, корпус «Кролик» для гипербарического комплекса. Подводный робот «Звук», аппарат «Аргус» — это детища Ястребова. И коллектив подводников подбирал тоже он. Начинали с небольшой бухты, и вот вышли в океан.
Путь «Витязя» лежит сейчас в Тирренское море, а затем за Геркулесовы Столбы в Северную Атлантику. Цель наших исследований — подводные горы, древние вулканы, возникшие когда-то на дне морей и океанов. Широкое распространение на океанском дне вулканических гор — одна из замечательных особенностей его геологического строения. Только в Тихом океане их обнаружено уже более пяти тысяч, около двух тысяч — в Атлантическом и Индийском. Эти горы либо образуют цепи и вулканические хребты, либо причудливо рассеяны по дну.
Многие из этих вулканов были прежде островами, а затем опустились под воду. Когда и как они образовались? Какая неведомая сила заставила их погрузиться в пучину? Это — вопросы из числа главных проблем науки о строении и геологическом развитии дна морей и океанов, а значит, и всей планеты.
Современные плавучие буровые установки могут пробурить твердое дно океана всего лишь на десятки метров. А подводные вулканы — это природные буровые, дающие возможность судить о составе глубинного вещества в недрах Земли, под ее жесткой оболочкой — литосферой. Отсюда вместе с расплавленной магмой выносится большое количество рудных компонентов, формирующих на океанском дне полезные ископаемые. И это еще не все. В последние годы появились гипотезы, связывающие с подводными вулканами само возникновение жизни на нашей планете.
До недавнего времени изучать подводные горы можно было только с океанской поверхности. И хотя за последние годы морские геологи получили на вооружение самую совершенную аппаратуру, включая подводное фото- и телевидение, им необходимо самим опуститься на дно, чтобы на склонах тамошних гор, как на суше, своими глазами увидеть и своими руками ощупать породы, зарисовать их, отобрать образцы, нужные для анализа.
Для нынешней подводной техники именно вершины этих гор — наиболее доступный объект изучения. Ведь они находятся сравнительно неглубоко — всего десятки и сотни метров от поверхности воды, и вполне доступны не только для обитаемых аппаратов, но и для водолазов.
…Пройдя через взбаламученное штормами Черное море, наше судно зашло в Варну — там расположен Институт океанологии Академии наук Болгарии. Советские ученые оказали большую помощь в его организации и работе — многие болгарские специалисты учились у нас. Им в свое время был передан «Черномор» — одна из первых подводных лабораторий, на базе которой проводились опыты по долговременному пребыванию человека под водой. (Теперь «Черномор» на почетном месте в морском музее.) Отряд болгарских океанологов участвовал в первом рейсе нового «Витязя». Вместе с нами болгарские акванавты осваивали водолазный колокол и набортную гипербарическую систему и участвовали в рекордном тогда погружении на глубину 150 метров у берегов Кипра. Они будут работать с нами и в этом рейсе.
2. По следам исчезнувшего океана
Миновав Босфор и Дарданеллы, «Витязь» направился к берегам Италии в Тирренское море, к первому району наших работ. Дно этого моря усеяно многочисленными подводными горами, большинство из которых были когда-то вулканами. Их образование и развитие, как считают ученые, тесно связано с геологической историей Средиземноморья. А вот само Средиземное море, а кроме того, и Черное и Каспийское, не что иное, как остатки исчезнувшего когда-то огромного древнего океана Тетис.
Помню, как в нетопленой ленинградской «мужской» школе военной поры учительница приносила в наш серый утренний класс празднично-нарядный глобус, где на голубом фоне океанов ярко выделялись знакомые желто-зеленые контуры материков. Как мечтали мы, тогдашние полуголодные мальчишки, побывать у мыса Горн, в пампасах Южной Америки, в густо-зеленой долине Амазонки, на песке пронзительно-желтой пустыни Сахары! Какими незыблемыми и нерушимыми казались эти огромные континенты, на поверхности которых шли войны, горели города, прерывались недолгие человеческие жизни! Так именно нас и учили в школе: материки во все времена располагались на поверхности Земли точно так же, как и сейчас. Действительно, незыблемость расположения огромных континентов представлялась совершенно очевидной — ведь земные породы столь тверды, а массы материков громадны, что кажется: нет таких сил, которые могли бы сдвинуть их с места. Именно так и думали геологи в начале нашего века. Никому даже в голову не приходило усомниться в этой очевидной аксиоме, тем более что господствовавшая в то время контракционная теория объясняла образование гор остыванием Земли и сокращением ее радиуса. Но ведь в Англии, кстати, до сих пор существует общество сторонников плоской Земли, и собирающиеся на его заседаниях ученые джентльмены делают глубоко научные доклады, убедительно опровергая результаты давних плаваний Магеллана и современных полетов орбитальных космических станций.
Человеческое сознание консервативно. Трудно представить себе картину мироздания, резко отличную от усвоенной с детства. Вспомним, как встревожились физики и философы, когда незыблемая масса вдруг стала «исчезать», после появления эйнштейновской теории относительности! Примерно то же самое происходит и сегодня. Одна из наиболее «спокойных» областей науки — геология вдруг превратилась в арену поистине революционных событий, и привело к этому изучение океанского дна.
Судьба научных открытий различна. В результате математических расчетов и физического эксперимента привычная картина может измениться почти мгновенно. Однако когда речь заходит о природе, повседневно окружающей человека, и о новом, непривычном для большинства толковании фактов, казалось бы, очевидных, дело обстоит гораздо сложнее.
Пионером и основоположником новой идеи об устройстве и развитии нашей планеты был выдающийся немецкий ученый и естествоиспытатель Альфред Вегенер. Метеоролог по профессии, он прожил недолгую и героическую жизнь, безвременно оборвавшуюся во время экспедиции в Гренландию. Но и смерть его не была напрасной: он первым проник в недоступные прежде центральные районы Гренландии и положил начало их освоению. Он был одним из пионеров в области метеорологических наблюдений в верхних слоях атмосферы. Однако главной научной идеей Альфреда Вегенера, обеспечившей ему бессмертие, стала гипотеза дрейфа континентов.
Еще в 1912 году он обратил внимание на то, что очертания континентов, окружающих Атлантический океан, если их мысленно соединить, складываются как рисунки на детских кубиках. Казалось бы, просто — взгляните на глобус и убедитесь сами. Но эта простая идея «складывания материков» вызвала настоящую бурю. Сейчас говорят о том, что дрейф континентов предполагали и раньше, и даже знаменитый Фрэнсис Бэкон писал о нем еще в 1620 году. Однако только Альфред Вегенер сформулировал эту гипотезу, сразу ставшую предметом ожесточенной дискуссии.
Согласно гипотезе Вегенера, континенты по обе стороны Атлантического океана, Северная и Южная Америка с одной стороны и Африка и Европа — с другой, когда-то были единым материком, который потом раскололся, а его части разошлись, образовав Атлантический океан. Вегенер первым предположил, что все материки около 300 млн. лет назад были объединены в один гигантский суперматерик — Пангею, окруженную одним Палеотихим океаном. Потом континенты разошлись, образовав современные океаны. Несмотря на то, что эта гипотеза даже ее автору сначала показалась фантастической, он смело взялся за разработку. Для этого Вегенеру пришлось изучить области наук, далекие от его специальности — геологию, палеонтологию, палеоклиматологию. Эту упорную работу он продолжал и в длительных экспедициях в Гренландию, которые уносили много сил и времени, и несмотря на первую мировую войну, где был тяжело ранен. Наконец в 1915 году Вегенер опубликовал свой главный труд «Происхождение материков и океанов», а в 1924 году совместно с метеорологом В. Кеппеном выпустил книгу «Климаты геологического прошлого». Этими революционными трудами, выдержавшими много переизданий, он обосновал идею дрейфа континентов и дал необратимый толчок наукам о твердой Земле, намного опередив своих ученых современников. Гипотеза Вегенера бросила дерзкий вызов всей классической геологии. Камнем преткновения был вопрос: если материки движутся, то за счет каких сил? Вот этого Вегенер объяснить не смог, и теория начала рушиться. Тягчайший удар ей нанес знаменитый английский геофизик Г. Джеффрис. Он показал, что нет силы, способной двигать континенты по твердой мантии, слою, подстилающему земную кору, и назвал дрейф континентов «физически нереальным».
К началу тридцатых годов теория Вегенера, родившаяся в 1912 году, была похоронена, ненадолго пережив своего автора.
Окончательно ли? Новые драматические события, воскресившие эту идею, развернулись на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов нашего века. Толчок дало изучение магнетизма горных пород — стало известно, что большинство из них, особенно те, которые образовались при застывании магмы, обладают сильной намагниченностью. Когда порода застывает, образующиеся в ней магнитные минералы ориентируются на юг или на север. Значит, определив географические координаты изучаемой породы и направление вектора намагниченности, можно узнать, где находился магнитный полюс Земли в то время, когда порода застывала. Если поверхность Земли всегда была неподвижна, то положения древних магнитных полюсов для пород разного возраста должны полностью совпадать с современным. А если нет?
Много лет посвятил этой проблеме ленинградский геофизик профессор Алексей Никитович Храмов. Год за годом он и его немногочисленные помощники отбирали ориентированные образцы в разных областях нашей огромной страны, на Русской платформе, на Сибирской платформе. В лаборатории эти образцы распиливали и подвергали нагреванию и обработке переменными магнитными полями, чтобы выделить ту самую первичную намагниченность, по которой определяется древний магнитный полюс.
Невысокий, с тихим голосом и мягкой улыбкой, Храмов внешне мало походил на ниспровергателя основ. Однако именно его исследования показали: древние магнитные полюса (при сегодняшнем расположении континентов!) не совпадают с современными, а вот если континенты соединить так, чтобы получилась вегенеровская Пангея, то они совпадут для возраста около 300 млн. лет. Такие же результаты получили и зарубежные палеомагнитологи Мак-Элхинни, Ирвинг и Ранкорн. Поэтому именно магнитологи стали первыми последователями преданной забвению теории Вегенера.
Но подлинное возрождение теории континентального дрейфа наступило с началом изучения океанского дна, уже в середине шестидесятых годов. Именно тогда в океанских глубинах открыли Срединные хребты, обрамляющие гигантские «рифтовые» трещины. По этим трещинам из земных недр, как установлено при глубоководных исследованиях, постоянно поступают новые порции расплавленной магмы, «раздвигающие» океанское дно.
В 1979 году в Красном море геофизики Института океанологии АН СССР во главе с А. С. Мониным с борта подводного обитаемого аппарата «Пайсис» на глубинах более 1500 метров прямо наблюдали и фотографировали раскрытие трещин в океанском дне, которое сопровождалось извержениями базальтовых расплавов и соляных растворов.
Одновременно появились новые свидетельства дрейфа материков: специфическая картина магнитных аномалий над срединно-океанскими хребтами и глубоководными котловинами и результаты бурения океанского дна. Современная геофизика дала возможность объяснить, какие силы сталкивают с места гигантские материковые массивы. Согласно новым физическим моделям, разработанным, в частности, А. С. Мониным и О. Г. Сорохтиным, в глубинах нашей планеты возникают восходящие и нисходящие течения мантийного вещества, они-то и преобразуются у поверхности Земли в горизонтальное движение материков.
Так старая гипотеза превратилась в новую убедительную теорию, получившую название тектоники литосферных плит. Согласно ее основным положениям, верхняя жесткая оболочка Земли — литосфера, подстилаемая снизу частично расплавленным веществом «астеносферы», состоит из отдельных плит, которые могут перемещаться по астеносфере на большие расстояния — в десятки тысяч километров. Там, где конвективные течения в недрах нашей планеты идут наверх, плиты расходятся (как, например, в Атлантике), возникают рифтовые зоны и срединно-океанские хребты. Происходит раскрытие океана, и континенты, Африка и Европа с одной стороны, Северная и Южная Америка с другой, отодвигаются друг от друга. Там, где конвективные течения идут вниз — например, вдоль Курильских островов и побережья Камчатки, — плиты, наоборот, сближаются, сталкиваются, пододвигаются одна под другую.
Когда два материка сходятся вместе, то разделяющий их океан «закрывается», а сами континенты, сталкиваясь своими краями, образуют в пограничной зоне высокие горы, такие, как Альпы или Гималаи. С этими процессами связано образование полезных ископаемых, прежде всего, нефти и газа.
…Вернемся к океану Тетис. Несколько лет назад доктор геолого-минералогических наук Лев Павлович Зоненшайн и я составили серию карт-реконструкций расположения континентов и океанов за время существования явной жизни на поверхности нашей планеты, то есть от 570 млн. лет до наших дней. Получилось несколько «древних глобусов» с интервалами 100 млн. лет. По этим реконструкциям около 200 млн. лет назад, в юрскую эпоху, между северными континентами — Европой, Азией и южными — Африкой, Индией и Австралией располагался огромный океан Тетис, соединявший Палеотихий океан с начинавшим раскрываться Атлантическим. После раскола огромного суперконтинента Гондвана и движения южных континентов на север, Тетис стал уменьшаться в размерах и «захлопываться». На его северном краю в результате сближения Африки и Евразии возник гигантский пояс островных дуг с огнедышащими вулканами, протянувшийся от Юго-Восточной Европы до Гималаев и давший богатейшие месторождения золота, олова, вольфрама, полиметаллов. За последние 60 млн. лет, в кайнозойскую эру, океан Тесис почти полностью закрылся и Африка неотвратимо надвинулась на Европу, сминая ее южную часть. Так образовались Альпы. Этот натиск Африканской плиты продолжается и в наши дни. Частые землетрясения сотрясают шов между Африкой и Европой. Время от времени возобновляются извержения вулканов в Италии. Только узкая полоска Тетиса осталась незакрытой — это Средиземное и Черное моря. Незаживший шов, граница между Африканской и Евразиатской плитами, протягивается и к западу от Гибралтарского пролива, уже в Атлантике, до самых Азорских островов. Здесь она проходит по Азоро-Гибралтарской зоне трещин.
В 1982 году, в первом рейсе «Витязя», мы детально исследовали дно в восточной части Средиземноморья у берегов Кипра, где на поверхность выходят остатки древней океанской коры — офиолиты. Теперь предстояло изучить подводные горы в Тирренском море и в Атлантике и связь их эволюции с закрытием древнего океана.
…В яркий солнечный день «Витязь» медленно идет через Мессинский пролив. На воде сильная рябь не только из-за ветра, здесь сходятся два течения, образуя завихрения и круговороты. Слева высвечиваются желто-зеленые склоны Сицилии. Справа грозно торчит из моря огромный вулкан-остров Стромболи. Не здесь ли Одиссей проплыл когда-то между «Сициллой и Харибдой»? Ведь для маленьких, плохо управляемых весельно-парусных древнегреческих судов именно этот скалистый пролив с его сильными течениями, резкой сменой шквалистых ветров и угрозой внезапного вулканического извержения был поистине роковым. Теперь, в век дизель-электроходов, радиомаяков, штормовых предупреждений и спутниковой навигации, страхи вроде бы позади. На зеленом склоне спящего вулкана, у самого его подножия, доверчиво приютился живописный белый городок. Маленький пассажирский пароход, отчаянно дымя, спешит к берегу, пересекая пролив. Почему люди так упорно живут рядом с вулканами? Ведь покой и сон их обманчивы. Никто не может предсказать, когда снова пробудятся эти исполины.
Я вспоминаю городок Сен-Пьер, на далеком острове Мартиника, куда наше судно «Дмитрий Менделеев» зашло несколько лет назад, — цветущее райское место у подножия спящего вулкана Мон-Пеле.
В начале нашего века этот вулкан неожиданно проснулся и в течение нескольких часов сжег весь город с его обитателями — 18 000 человек погибло. Катастрофа произошла так молниеносно, что стоявшие на рейде корабли сгорели, не успев выбрать якоря.
Несколько лет назад на острове Кунашир, где расположен грозный вулкан с обманчиво ласковым именем Тятя, местные жители поведали мне весьма поучительную историю, довольно точно отображающую возможности научного предсказания вулканических извержений. У них в Южно-Курильске выступал как-то один из известнейших наших вулканологов, профессор, доктор наук, автор многих книг о вулканах. Он рассказывал о признаках, по которым можно опознать угрозу близкого извержения. Лекция прошла с большим успехом. После лекции заинтересованные слушатели спросили у профессора, когда, по данным науки, можно ожидать извержения вулкана Тятя. Вопрос, сами понимаете, не праздный: вулкан — вот он, из окна виден. Лектор успокоил собравшихся, обстоятельно разъяснив, что следующего извержения вулкана следует ожидать не ранее, чем через сто лет. Все довольные разошлись по домам, а на следующее утро неожиданно началось сильное извержение Тяти, и в первых рядах бегущих видели уважаемого профессора.
Как же предсказать столь внезапные катастрофы? Для этого необходимо изучить, как связана вулканическая деятельность с движением плит.
27 июля судно встало к пирсу в небольшом итальянском городе Чивита-Веккья — аванпорте Рима. Огромные морские паромы «Леонардо да Винчи», «Палермо» и другие, вмещающие сотни автомашин с туристами, идут отсюда на остров Сардиния и в другие места Средиземноморья. Июль — время летних отпусков, и порт буквально забит автомобилями, до отказа заполненными многодетными и шумными семьями. Длинные автомобильные очереди выстраиваются к причалам уже с утра. А вот и цыганский табор. Только вместо традиционных коней, телег и пестрых шатров на их «вооружении» вполне современные и комфортабельные фургоны «фиат».
На судно приехали итальянские участники экспедиции: доктор Карло Савелли, ученый-петрограф из Геологического института в Болонье, автор известных работ по геологии Тирренского моря и Апеннинского полуострова, и Марчелло Грелини, представитель концерна, занимающегося поисками полезных ископаемых. Вместе с ними — еще несколько специалистов. Решается вопрос — какую гору выбрать для подводных исследований. Тирренское море хоть и невелико, но по сложности своего геологического строения не уступит любому океану. Большая группа гор расположена в центральной и южной его частях, — это подводные вулканы, напоминающие океанские. Один из них несколько лет назад был открыт советскими учеными на судне «Академик Вавилов». Он так и назван на всех картах «Гора Вавилова».
Другая группа гор протягивается цепочкой в северо-западной части моря вдоль побережья Корсики и Сардинии. Сюда входит и подводная гора Верчелли, и, как это ни странно, о составе пород, слагающих гору Верчелли, ни у нас, ни у наших итальянских коллег никаких сведений нет. Что это — вулкан или гряда, отделившаяся от острова Сардиния? Вершина горы находится на небольшой глубине, доступной для подводного аппарата и для водолазов. Решено поэтому начать с нее.
После совещания гости совершают экскурсию по нашему судну, подробно, с большим интересом знакомятся с гипербарической системой и подводным обитаемым аппаратом. Еще бы! Ведь такого оборудования у них пока нет. Потом итальянцы приглашают нас на берег, где становятся хозяевами. Они ведут нас обедать в маленькую тратторию неподалеку от старинных выщербленных временем ворот порта. Традиционное сардинское меню — мидии, королевские креветки, кальмары, острый пахучий сыр. Все это так щедро посыпано перцем, что нужен огнетушитель.
В часы послеобеденной сиесты город вымирает. Только к вечеру, когда спадает жара, набережная заполняется молодежью. Юноши и девушки, одетые с весьма продуманной небрежностью (в моде стиль «фама»), медленно разъезжают на мотороллерах взад и вперед, курят, пьют и целуются, решительно ни на кого не обращая внимания. Рядом с портом — развалины римской крепости. Неподалеку от нее — средневековый форт, когда-то надежно охранявший вход в гавань. Над неопрятным каменистым городским пляжем неподвижно изогнулись редкие пинии.
Поздним вечером «Витязь» выходит из гавани. Навстречу один за другим бесшумно скользят океанские паромы. В неподвижном зеркале Тирренского моря медленно плавится огромное солнце. Берем курс на него, туда, где в конце этой пылающей багряной дорожки скрывается под водой гора Верчелли.
К вечеру следующего дня вышли в район горы по эхолоту, нашли ее вершину на глубине 30 метров и поставили на ней буй. Не теряя времени понапрасну, сразу же ночью начали детальную геомагнитную съемку и промер, однако уже под утро выяснилось, что стараемся мы зря — буй снесло. Пришлось все начинать сначала.
Пока идет съемка, геоморфологи срочно строят детальную карту рельефа дна, чтобы наметить место погружения подводного аппарата. Командир подводников инструктирует научных наблюдателей, которые будут участвовать в погружении. Тема инструктажа — техника безопасности, и он сразу предупреждает: при любой аварийной ситуации первейшая задача наблюдателя лежать тихо, не давать умных советов и не мешать пилотам работать. А главное, не хвататься ни за какие ручки и тумблеры. Затем притихшим новичкам показывают, как надо обращаться с противогазом в случае, если возникнет пожар.
Итальянцы внимательно слушают перевод наставлений, и лица их полны серьезности.
Назавтра — первый день погружений. Все как будто готово. Выбраны места спуска. «Аргус», сверкая свежей бело-алой краской, стоит на кормовой палубе. На рубке надпись «Академия наук СССР». Экипаж занят последними приготовлениями. На воду спускается мотобот с резиновой лодкой для пересадки экипажа и группой обеспечения, в которую входят наши водолазы. К «Аргусу» прикрепляют трос и осторожно опускают его за корму. Виталий Булыга прыгает из лодки на скользкую яйцеобразную обшивку аппарата и ловко «отдает» крюк с тросом. Теперь «Аргус» полностью автономен. Все три пилота один за другим скрываются в люке. Первое погружение — пробное, техническое. Второе — уже рабочее. Я стою в рубке «Витязя» рядом с вахтенным штурманом, и мне хорошо слышны переговоры по «подводному телефону»: «„Витязь“, я — „Аргус“. Проверку систем закончил. Люк задраен. Прошу разрешить погружение». Капитан отвечает: «„Аргус“, я — „Витязь“. Слышу вас хорошо. Погружение разрешаю». Яркое сверкающее на солнце белое яйцо с красным поплавком аварийного буйка начинает тускнеть, медленно уходя в воду. Вот уже только краешек рубки торчит из воды. Вот и он скрылся, как будто не было никакого аппарата. Только в динамике звучит голос Виталия: «„Витязь“, я — „Аргус“. Глубина 30 метров, продолжаю погружение».
Дальше, однако, слушать некогда, следующее погружение — мое. Захожу в каюту к начальнику экспедиции. Он вручает мне кальку-схему с намеченным маршрутом и дает последние наставления: надо погрузиться на склоне горы и двигаться снизу вверх к ее вершине, осматривая, описывая и фотографируя скальные выходы пород. Необходимо наметить место работы для водолазов и, если удастся, взять образцы пород. Не успели закончить разговор, как за иллюминатором уже застучал мотор приближающегося мотобота. Я хватаю кальку с картой и выскакиваю из-за стола. Мой собеседник недовольно морщится: «Да что ты ее схватил, как сторублевку? Не спеши, не все еще обговорили».
Дальнейший мой маршрут лежит на камбуз. Здесь мне вручают бачок с дымящимися котлетами: обед для экипажа — он состоится на дне Тирренского моря. Надо еще успеть переодеться, точнее — раздеться, так как в аппарате жарко. Наконец я прибываю в «ландспорт» — специальное помещение на борту недалеко от кормы, откуда обычно высаживают в шлюпки. Мотобот, взревев двигателем, резко стартует от борта «Витязя» и, оставляя за собой пенный след, несется по длинным и плоским волнам туда, где сверкает на зеленом фоне яркая красная точка, рубка уже всплывшего «Аргуса».
Люк открыт, пилот, высунувшись из рубки, машет нам рукой. Подходить к «Аргусу» вплотную нельзя — волна может навалить мотобот на аппарат и повредить его хрупкие системы. Поэтому за борт выгружается резиновая надувная лодка. Несколько ударов короткого деревянного весла — и мы возле «Аргуса». Смена экипажа: пилот ловко прыгает в лодку, а я, ухватившись за край рубки, пытаюсь перебраться на «Аргус». Это не просто: босые ноги скользят по мокрой покатой обшивке корпуса. Наконец, завершив пересадку, передаю в люк вещи и втискиваюсь в него сам, попадая таким образом в обитаемый отсек. Встаю ногой на кресло и, стараясь не задевать острые углы, проскальзываю в самый низ, на дно отсека, где перед нижним иллюминатором лежит тюфяк. Это мое рабочее место. Ложусь на правый бок и осматриваюсь. Прямо надо мной торчат босые ноги Булыги и Холмова. Выше, за толстым стеклом иллюминатора, в желтизне дробящихся волн ослепительно вспыхивают солнечные лучи. На уровне глаз — два нижних иллюминатора, за которыми качается ярко-бирюзовая вода с серебряными пузырьками. Правое плечо упирается в пульт с рядом тумблеров — ими включают забортные прожекторы и другие электрические приборы. Под правым локтем микрофон магнитофона, рядом на резиновом шланге спусковой крючок подводной фотокамеры. Стоит нажать на него, и включается ослепительная фотовспышка. Слева, недалеко от тюфяка — два аварийных противогаза.
Люк задраен. Холмов включает микрофон подводного телефона: «„Витязь“, я — „Аргус“. Прошу разрешить погружение». Тотчас ответ: «„Аргус“, я — „Витязь“. Погружение разрешаю». Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Капли соленой воды из-под люка падают мне на спину. Вплотную приникаю к стеклу. Мелкие пузыри воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. Помню, во время моего первого погружения в Тихом океане я спросил у командира аппарата: «Саша, почему они всплывают?» — и тот усмехнулся: «Это планктон. Не он всплывает, а мы погружаемся».
В отсеке снова звучит голос Холмова: «„Витязь“, я — „Аргус“. Глубина сорок метров. Продолжаю погружение». Снова две холодные капли обжигают разгоряченную спину.
…В 78-м году специальных судов-носителей подводных аппаратов еще не было, и «Пайсис» опускался прямо с борта «Дмитрия Менделеева». Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. А подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы! У них за плечами были многочисленные погружения и на Байкале, и у берегов Канады. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными «волками», а мы — робкими «чечако», «салагами». Тогда погружения на «Пайсисах» в океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояния. Иногда поэтому возникали отказы разных систем.
Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего слежение за неполадками в электросети (короткое замыкание может привести к пожару — так уже погиб один американский экипаж), в герметичности обитаемого отсека (водяная тревога), и в системе очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы «в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие».
Инструктируя меня, Саша Подражанский сказал: «Ну, это-то вряд ли понадобится. — И улыбнулся: — Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем, кофе выпьем».
«Во время первого погружения, — говорят пилоты, — от наблюдателя проку мало — он обалдевает». Могу подтвердить — они правы. Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружении, о его впечатлениях. «Понимаешь, — ответил он мне, — когда задраили люк и аппарат стал погружаться, и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал: „Господи, и зачем я сюда залез, чего мне в жизни не хватало?“»
Во время моего первого погружения на «Пайсисе» в Тихом океане на атолле Хермит я старался ни в коем случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией. Помнится, мы уже легли на грунт на склоне океанского вулкана на глубине 400 метров, и я только начал, забыв про все, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Поднял голову — и в лицо брызнула вода. Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел: от крышки люка в верхней части отсека медленно змеились струйки.
«Саша, вода», — окликнул я командира, как мне казалось, спокойным (но, как выяснилось, сдавленным) голосом. «Не бери в голову», — ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние — холодные. Из-за охлаждения на его стенах образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают (то ли — по забывчивости, то ли — чтобы испытать их «на прочность»).
…«Аргус» покачнулся и заскрипел. Голос пилота вернул меня в сегодняшний день: «„Витязь“, я — „Аргус“. Легли на грунт. Глубина 211 метров. Начали работать». Я щелкаю тумблером, включаю забортные прожектора. Перед иллюминатором в желтом рассеянном свете луча виден пологий склон, покрытый белым песком, на котором лежат мелкие обломки раковин и кораллов. Судя по карте и компасу, мы находимся сейчас на северном склоне горы Верчелли. Булыга включает винт вертикального движителя. Аппарат, оторвавшись от дна, зависает на расстоянии около метра от него. Пилоты переговариваются: «Перехожу в плюс» (значит, всплываем), или: «Перехожу в минус» — погружаемся, или: «Сидим в нуле». Вот сейчас мы «в нуле» — висим неподвижно в воде. Такая маневренность дает «Аргусу» возможность вплотную приближаться к интересующим нас подводным объектам и долго наблюдать их.
Ложимся по компасу на курс 140°, туда, где предположительно должна быть вершина горы, и медленно начинаем двигаться. Скорость небольшая — около полутора узлов. Прямо по маршруту, полузарывшись в песок, лежит какая-то большая рыба, похожая на морского окуня, она не обращает на нас внимания. Слева и справа в луче прожектора вспыхивают редкие кустики водорослей, удивительно похожие на перья. Этими подводными перьями буквально усеяно все дно. Песчаный склон — пологий, и трудно определить, где низ, а где верх. Кажется, все же глубина понемногу уменьшается. Аппарат входит в огромный косяк ставриды. Рыбы обтекают нас сверху, сверкая в лучах светильников серебряными боками, — будто монеты сыплются из рога изобилия в немом кино. Следом за первым косяком идет второй. Я пытаюсь его сфотографировать. От яркой вспышки косяк взмывает и растворяется в сумерках. Мы продолжаем ползти вверх по песчаному склону, покрытому водорослями, напоминающими уже не перья, а веера.
Здесь перед нами неожиданно возникает целое семейство огромных лангустов. Какие красавцы! Медленно проплываем над ними. Они шевелят длинными усами и неохотно пятятся. Впереди на песке еще один гигант длиной не меньше 70 сантиметров. Виталий делает маневр и пытается ухватить его манипулятором. При виде надвигающегося аппарата, который должен ему казаться великаном, лангуст нисколько не пугается, наоборот, — становится в боевую позицию, угрожающе задрав передние клешни. Только в последний момент, когда стальная кисть почти смыкается, он неожиданно делает стремительный рывок и ускользает от нас. Поднимаемся по склону. То тут, то там встречаются рыбы, полузарывшиеся в песок, и какие-то непонятные воронки. Такие воронки в песчаном грунте я встречал в разных местах — и в Тихом океане, и на подводных склонах острова Кипр. Что это такое? Никто не знает. Биологи кивают на геологов, геологи — на биологов. Здесь же на грунте отчетливо видны похожие на палочки белые черви вроде карандашей. Они то лежат неподвижно, то перемещаются рывком, цепляясь за песок носом, как крючком. Большая черная голотурия проплывает под нами. Огромный краб тащится вверх по склону, держа в задних поднятых клешнях зеленый лист водорослей. Попав в луч прожектора, он, не выпуская свою находку, принимает оборонительную позу, но, видя, что ему не угрожают, продолжает свой путь.
Большой скат пересекает наш курс, плавно обтекая поверхность дна. Его плавники-крылья медленно и мерно вздымаются, как у планирующего альбатроса.
На глубине 148 метров перед аппаратом возникает отвесная скала, сложенная коренными породами. Наконец-то! «Аргус» подходит к подножию и начинает медленно всплывать вдоль нее. Внизу видны глыбы, засыпанные песком и заросшие водорослями. Какие это породы? Поди разбери через стекло! Скала темно-серого цвета. Обрыв крутой — почти вертикальный, разбит глубокими трещинами, засыпанными белым песком. В стенах каверны и ниши, словно настоящие пещеры. Похоже, что скала разрушалась не под водой, а на поверхности моря. Все наши многочисленные попытки оторвать образец оказываются безуспешными — «механическая рука» скользит по скалам, заросшим органикой. Аппарат кружится на месте, тыкаясь в выступы, Виталий сдержанно бранится, но все старания напрасны — без кувалды здесь не обойтись. Мы оставляем свои попытки и всплываем выше. За первой скальной грядой обнаруживается вторая, такая же темно-серая. Ее очертания похожи на изображения скал на древних иконах. Выше второй гряды — третья, с карнизами, напоминающими террасы. Наверное, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Отсюда до самой вершины горы склон как ковром покрыт густой растительностью, губками, мягкими кораллами и водорослями, а над всем этим торчат острые скальные щетки. В глазах рябит от ярко-зеленых сочных и больших листьев ламинарий и каких-то красных водорослей, напоминающих альпийские маки.
Так, всплывая от скалы к скале, мы медленно поднимаемся к самой вершине. Пешком такой маршрут не сделать никаким альпинистам. С вершины, расположенной на глубине 56–60 метров и прорезанной глубокими ущельями с осыпями, которые держатся на «честном слове», хорошо видны крутые склоны, уходящие вниз.
«„Аргус“, я — „Витязь“, — неожиданно громко раздается в отсеке. — Время вашего погружения вышло. Сообщите готовность к всплытию». Мне показалось, что с начала спуска прошло минут сорок — оказывается, около четырех часов. С неохотой вырубаю магнитофон. На глубине 60 метров отрываемся от грунта и начинаем всплытие. В иллюминаторах светает. Хлопья планктона на этот раз движутся вниз, как будто падает снег. Еще несколько минут — и пронзительно-алый солнечный свет вспыхивает в верхнем иллюминаторе. Аппарат начинает резко раскачиваться на волнах. «„Аргус“, я — „Витязь“, — оглушительно звучит в ушах. — Вижу вас, иду к вам». Люк открыт, и я с наслаждением, словно после многочасовой финской бани, плюхаюсь в соленую морскую воду на пути к резиновой лодке.
При последующих погружениях, в которых приняли участие и итальянские ученые, были обследованы и сфотографированы со всех сторон склоны горы, составлена ее детальная геолого-геоморфологическая карта. Наши геотермики впервые измерили с «Аргуса» тепловой поток через морское дно. Обычно он измеряется с борта судна специальным прибором — погружным термоградиентометром, но измерения эти, по существу, проводятся вслепую, ведь никогда не знаешь, куда именно воткнулся (и воткнулся ли вообще) зонд прибора. Так что надежность таких измерений невелика. А из подводного аппарата все видно, и прицельно можно выбрать место для зонда, облюбовав подходящий «карман» с осадками, и запустить туда «механическую руку». Именно на горе Верчелли были сделаны первые успешные измерения теплового потока с подводного аппарата. Тепловой поток оказался низким. Еще одно доказательство невулканического происхождения горы? Ведь построенная только что магнитная карта показала, что аномалии магнитного поля над горой Верчелли невелики, а над базальтовыми вулканами они обычно большие. Теперь слово за водолазами.
Место для погружения колокола выбрали неподалеку от вершины на одной из скальных гряд. На этом месте «Аргус» установил специальный буй, на глубине 83 метра. Капитан с ювелирной точностью поставил «Витязь» на два якоря в точке погружения. Три водолаза — Анатолий Юрчик, Владимир Тутубалин и болгарин Николай Дуков, надев снаряжение, заняли свои места в колоколе, который медленно вывели за борт и погрузили в воду. На глубине 73 метра, в 10 метрах от скальных выходов, аппарат остановился. Анатолий Юрчик вышел на платформу колокола, осмотрел участок сверху и затем осторожно спустился на дно. Второй водолаз внимательно следил за шлангами, позволяющими отойти от колокола на 30–40 метров. Третий остался в колоколе для телефонной связи с судном.
Образцы обычно откалывают кувалдой и ломом, ибо — как говорят водолазы: «Против лома нет приема». Более совершенных средств пока не изобретено. Анатолий, осмотрев скалу, очистил участок от наростов ракушек и водорослей, а потом с помощью ломика и кувалды отбил большой образец, пометив на нем стрелкой направление на север. Освещение на этой небольшой глубине было хорошее, да и течение здесь невелико — не более пол-узла. Взяв два образца, водолаз благополучно вернулся в колокол. Уже на борту «Витязя», сидя в барокамере, во время декомпрессии, Анатолий сделал подробную зарисовку скалы и отметил на ней точки отбора. Так впервые человек отобрал ориентированные образцы коренных пород с морского дна.
Попав к геологам, образцы сразу же стали предметом всестороннего изучения. Часть их была передана итальянским коллегам, в Болонский институт для петрохимического анализа и определения возраста. Но уже на борту стало ясно, что скалы на вершине горы из гранита. Значит, гора Верчелли вовсе не вулкан, а часть гранитного массива. Это хорошо подтверждалось тем, что магнитная съемка над горой не обнаружила аномалии: ведь граниты — не магниты.
Уже значительно позже, после возвращения в Москву, я показал эти образцы ведущему советскому специалисту по геологии Средиземного моря — Ивану Сергеевичу Чумакову. Оказалось, что точно такие же розовые граниты выходят на острове Гигла в Тирренском море и на островах Эльба и Монтекристо, там даже сувениры из них делают и продают туристам. Это сравнительно молодые породы. Дно северной части Тирренского моря не более 7 млн. лет назад было сушей, которая только потом ушла под воду, и связано это с поздним этапом закрытия Тетиса.
А закончив работы на горе Верчелли, мы с нашими итальянскими друзьями еще два дня проработали на подводном вулкане Вавилова в центре Тирренского моря. Глубины здесь для наших подводных средств великоваты. Пришлось ограничиться отбором проб с поверхности моря и подводным фотографированием. Эта гора когда-то была вулканом, и, видимо, совсем недавно. Недаром измерения теплового потока показывают, что под ней сравнительно неглубоко залегает расплавленная лава. Да и аномалия магнитного поля над горой Вавилова большая, ведь вулканические базальты — самые магнитные из всех пород морского дна. Южная часть Тирренского моря оказалась еще не зажившим кусочком океана, на котором и возникают молодые вулканы, такие, как Вавилов.
3. Возрождение легенды
Поздним вечером «Витязь», покинув мерцающую разноцветными огнями Чивита-Веккью, взял курс на Гибралтар — на Геркулесовы Столбы, как называли его когда-то греки, — места, овеянные мифами и преданиями. Здесь в Атлантике, в зоне огромных разломов, тянущихся от Гибралтара до Азорских островов, проходит граница между двумя гигантскими литосферными плитами, Африканской и Евразиатской. К восточной части этой зоны приурочена подковообразная цепь древних подводных вулканов. Она так и называется «Хосшу», что по-русски значит «Подкова». Самые крупные из этих гор — Ампер с глубиной вершины 67 метров и Жозефин — около 150 метров. Они вполне достижимы не только для нашего «Аргуса», но и для водолазного колокола. Эти горы интересны еще и потому, что, возвышаясь неподалеку друг от друга, они расположены на разных плитах. Гора Ампер находится на Африканской литосферной плите, а ее соседка уже на Евразиатской. Детальное изучение границы между плитами может пролить свет на то, как движутся плиты в области их соприкосновения и как связано с этим образование и развитие древних вулканов. Вопрос не простой. Чтобы решить его, мало опуститься на дно и взять образцы. Необходимо исследовать глубинное строение литосферных плит вблизи их границы. Поэтому второе наше судно «Рифт» сейчас направляется туда же. На его борту установлена аппаратура для глубинных сейсмических исследований. Упругие волны, созданные пневмопушкой, распространяются в воде и в толще пород океанского дна. Отражаясь от слоев с разной плотностью, они снова приходят к поверхности и регистрируются специальными сейсмоприемниками, которые буксируются за судном в длинной пластиковой кишке, именуемой «косой». Одновременно с борта «Рифта» проводятся измерения магнитного и гравитационного полей. Все эти данные должны помочь геологам понять главное — как устроено дно океана в этом районе, смяты ли осадки, разбита ли кора трещинами, куда движется литосферная плита.
Обязанности между судами в рейсе четко распределены: «Рифт» ведет региональную геофизическую съемку для изучения глубинного строения океанской коры, а «Витязь» производит геофизическую съемку в зоне подводных гор, чтобы обеспечить работу «Аргуса» и водолазного колокола и все дальнейшие подводные геологические изыскания. Все результаты обрабатывает бортовая ЭВМ «Витязя». Она рисует геофизические графики, сейсмические разрезы и даже карты рельефа дна, и на стенке моей каюты уже красуется свежая карта горы Верчелли.
Что же касается подводной горы Ампер, то интерес к ней — не только геологический. С этой горой связано возрождение одной из древнейших тайн — легенды об Атлантиде, но прежде вернемся на десяток лет назад.
Все началось с фотографии. В 1973 году с борта научно-исследовательского судна МГУ «Академик Петровский» сотрудником Института океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР В. И. Маракуевым была сделана серия подводных снимков вершины горы Ампер. На некоторых из них под слоем светлого песка ясно просматривались вертикальные гряды, похожие на стены древнего города. Ко всеобщему удивлению, эти гряды располагались под прямым углом друг к другу, а ведь известно, что природа не любит прямых углов. Не следы ли это легендарной Атлантиды, спор о которой идет вот уже около двух тысячелетий? Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских, французских и английских газет запестрели захватывающими названиями: «Русские нашли Атлантиду», «Новое открытие древней тайны». Писатель Глеб Голубев написал темпераментный рассказ о поисках Атлантиды на горе Ампер. Отважные французские акванавты в этом рассказе, «поверив русским», опускаются на вершину горы в обитаемом подводном аппарате, но терпят бедствие, — их аппарат запутывается в электрических кабелях, проложенных здесь жадными до сенсаций телекомпаниями…
Так в очередной раз ожила древняя легенда — об Атлантиде в Атлантическом океане.
Чем дальше люди проникают в океан, тем больше убеждаются в том, что даже у самых невероятных мифов и легенд были когда-то вполне реальные основания. Оказывается, гигантские морские драконы, описанные в сказках многих народов мира, некогда существовали в действительности. Одного из таких огромных змеев несколько лет назад выловило японское рыболовное судно в Тихом океане. К сожалению, капитан, более всего озабоченный уловом рыбы, приказал выбросить «дракона» за борт, и бесценная находка пропала для науки. Неоднократно происходил на Земле «всемирный потоп». Ужасная Сцилла, губившая мореходов, не что иное, как остров Сицилия. Есть основания считать, что воспетый Пушкиным легендарный остров Буян — это Кипр. Здесь действительно правил в средние века герцог Гвидо — князь Гвидон, и отношения с «царем Салтаном» (турецким Султаном) у него были довольно сложные.
Разные легенды связаны с океаном. Одни возникли в глубокой древности и давно развеялись, другие порождены нашим веком, как захватывающий миф о зловещем «Бермудском треугольнике», который до сих пор будоражит воображение доверчивых читателей. Но долго ли он проживет?
И только одна легенда, возникнув в глубокой древности, не только дошла до наших дней, но и ничуть не утратила заманчивости.
Ее родоначальник — Платон, ученик знаменитого Сократа, живший с 427 до 347 года до нашей эры. Предание об Атлантиде Платон изложил в двух диалогах — «Тимей» и «Критий». При этом он утверждал, что сведения об Атлантиде достались ему от афинского законодателя Солона, его прапрадеда по материнской линии, почитавшегося в Древней Греции как «мудрейший из семи мудрых».
Около десяти лет Солон путешествовал по странам Средиземноморья и побывал в Египте, где был с почетом принят в древней столице Саисе. При посещении храма богини Нейт жрецы сообщили Солону, что девять тысяч лет назад в Афинах существовало могучее государство, и в это же время в Атлантическом океане за Геркулесовыми Столбами располагался большой остров. «А с него, — пишет Платон, — открывался плавателям доступ к прочим островам, а с тех островов — ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истинный понт». На острове Атлантида, как рассказали жрецы Солону, существовало некогда грозное государство, представляющее союз царей, которым принадлежала власть над многими другими островами и странами. В те времена атланты владели всей Ливией вплоть до Египта и Европой до Апеннинского полуострова.
Этот союз, собрав все свои силы, напал на праафинское и древнеегипетское государства. Началась длительная война — древняя Мировая между народами, живущими по ту и эту сторону Геркулесовых Столбов. В той войне Праафины то воевали во главе эллинов, то противостояли врагам в одиночку и наконец добились победы. Но затем, как рассказано в «Тимее», произошли страшные землетрясения и потопы. И «в один день и бедственную ночь» древний город — Праафины — «разом провалился в землю», и остров Атлантида тоже исчез, погрузившись в море. «Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и неисследуемым; плаванию препятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осевший остров».
В другом диалоге «Критий» в роли рассказчика выступает Критий Младший, которому Платон приходился внучатым племянником. Здесь подробно описывается мифологическая история создания государства Атлантиды богом морей Посейдоном и дается детальная картина главного города. Судя по описанию, это был крупнейший порт древнего мира, снабженный сложной системой каналов. В его огромной гавани размещалось более 1200 кораблей. Акрополь города, где располагался храм Посейдона и царский дворец, был окружен тремя концентрическими рвами, наполненными водой и представлявшими собой внутренние гавани. Центральный остров с царским акрополем был обведен каменными стенами. Соединявшие их мосты имели башни и ворота. Важная деталь: камень для стен был трех цветов — белого, черного и красного и добывался на месте. Как отмечает Н. Ф. Жиров в своей книге «Атлантида», подобный камень встречается на Азорских островах, — это вулканические туфы, хорошо поддающиеся обработке.
Замечательная особенность главного города Атлантиды — его геометрически правильная круговая планировка. Улицы города будто бы были расположены радиально по направлению сторон света и имели закругленные углы перекрестков, а стены и каналы образовывали концентрические окружности. Жиров объясняет такое описание любовью бывшего пифагорейца Платона к мистике чисел. Но планировка столицы Атлантиды похожа на планировку других древних городов — Мохенджо Даро в долине Инда, древнего Карфагена и столицы ацтекского государства Теночтитлана. Жиров считает, что традиция строительства городов в древности по кольцевой системе была скорее всего связана с культом солнца. А мне кажется, что причина кольцевой планировки столицы Атлантиды (если она реально существовала) была иной. Древние города, как правило, использовали в своем строительстве естественные черты природного ландшафта. План столицы очень напоминает форму древнего кратера, и не случайно строительным материалом на острове, видимо, был трехцветный вулканический туф, и, по словам Платона, там еще существовали источники с холодной и горячей водой — то есть термальные, характерные для вулканической зоны.
Интересно приведенное в «Критии» описание природы Атлантиды. Рассказывается, в частности, о таинственном дереве, которое давало «и питье, и пищу, и мазь». Многие комментаторы Платона считают, что это скорее всего — кокосовая пальма, дающая кокосовое молоко, пищу (сам орех) и масло (мазь). Значит, некоторые острова этого огромного архипелага должны были располагаться южнее 25° с. ш., там, где кокосовая пальма растет, — то есть в Атлантике.
Внешняя стена города была покрыта медью, средняя — оловом, а внутренняя — сплавом, носившим название «орихалк» и имевшим «блеск огня». В храме Посейдона, украшенном слоновой костью, золотом и серебром, была установлена золотая статуя морского бога, а вокруг него сто золотых статуй нереид на дельфинах. Вне храма располагались золотые статуи царей, их жен и потомков. В городе было немало храмов и других богов, гимнасии, сады, манежи и даже ипподром.
Это, пожалуй, самое удивительное место в описании Платона. Ведь в эпоху гибели Атлантиды, около 10 000 лет до нашей эры, большая часть человечества жила еще в мезолите. Человек был знаком всего лишь с луком и стрелами, а также прибрежным рыболовством. Лишь через несколько тысячелетий он познакомился с природными металлами и методами их холодной обработки! А в Атлантиде уже знали секрет выплавки и золота, и меди, и олова, и медного сплава. Ведь орихалк вовсе не выдумка Платона, он упоминается у Гомера и других античных авторов. По-видимому, это сплав, близкий к латуни. Какое же место занимала культура атлантов в общем развитии человеческой цивилизации?
Первым критиком Платона выступил его ученик — знаменитый философ Аристотель. Дело в том, что общественное и государственное устройство, описанное в «Тимее», уж слишком напоминает идеальное государство, проповедуемое Платоном. Аристотель считает, что описание Праафинского государства и Атлантиды, а также история их войны, попросту выдуманы Платоном, чтобы обосновать свои философские взгляды и превознести афинян, якобы победивших атлантов. Платона не раз упрекали в том, что он не точно передает чужие слова и мысли. Когда философ публично читал один из своих первых диалогов «Лисий», его учитель Сократ выражал неудовольствие явными преувеличениями в тексте. В знаменитой «Апологии Сократа», посвященной Платоном своему учителю, содержится множество отступлений от реальных фактов.
Как же быть нам? Верить Платону или не верить? Ведь до сих пор не найдено ни единого источника из послуживших основанием для легенды об Атлантиде — ни записей, которые цитирует Платон, ни следов самой Атлантиды. Это более чем странно, если Атлантида действительно веками граничила с Египтом и Элладой, — ведь даже недалеко от Перми в раскопках нашли египетских «скарабеев», служивших разменной монетой древности. С другой стороны, лишь совсем недавно, в конце XIX века, обнаружены следы огромного Хетского государства, о котором прежде ничего не было известно!
Более двух тысячелетий, то затихая, то вновь вспыхивая, продолжается спор об Атлантиде, и ей посвящено знаменательное число — более двух тысяч! — научных работ и художественных произведений. Бальмонт создал поэму «Город Золотых Ворот». У Жюля Верна «Наутилус» проходит над развалинами Атлантиды. Конан Дойл упоминает о ней в повести «Маракотова бездна». История гибели Атлантиды использована Алексеем Толстым в его «Аэлите» и фантастом Александром Беляевым, а также французским романистом Пьером Бенуа, поместившим Атлантиду в Сахаре. Драмы, оперы, кинофильмы и — ни единого прямого следа.
Прямых следов как будто нет.
Но со временем возникли некоторые интересные косвенные соображения. К их числу, прежде всего, относится загадка древнего населения Канарских островов — гуанчей.
Когда в начале 15 века испанцы впервые высадились на Канарские острова, они обнаружили там многочисленное местное население — более 20 тысяч человек. Почти столетие продолжалась яростная и непримиримая борьба аборигенов с безжалостными испанскими захватчиками. Она была неравной — гуанчи не знали ни металлического, ни огнестрельного оружия, и тем не менее для захвата маленьких Канарских островов испанцам пришлось затратить не меньше времени, чем для покорения всего огромного Южно-Американского материка. Но через 150 лет после начала завоевания островов местное население было истреблено поголовно: в живых не осталось ни одного чистокровного гуанча.
На острове Гран-Канария, где мне удалось побывать дважды, можно увидеть немногие памятники культуры этого удивительного народа. Пирамиды над древними захоронениями, сложенные из больших необработанных камней. Каменные насыпи, похожие на невысокие терриконы. Знатных покойников бальзамировали примерно так же, как в Древнем Египте, а мумии зашивали в шкуры животных. Сохранились и остатки каменных жилищ, и старинная керамика, которая напоминает раннюю керамику Крита и Кипра, и небольшие статуэтки людей и зверей, и специальные трафареты из дерева и камня для татуировки — они выставлены в музее гуанчей в Лас-Пальмасе. У аборигенов Гран-Канарии была каста жрецов и своеобразный женский монастырь. Интересно, что в Перуанском музее в Лиме нам рассказывали об очень похожем монастыре древних инков — о так называемых «девах солнца».
Как попало на Канарские острова его былое коренное население, до сих пор загадка. Дело в том, что гуанчи не были знакомы с мореплаванием, не имели лодок и плотов и даже не умели плавать. По мнению многих атлантологов, они, возможно, были потомками атлантов, а Канарские острова — последними остатками Атлантиды.
Ну а как же все-таки быть с Платоном? Мог ли он выдумать Атлантиду?.. Историк Н. Я. Эйдельман, например, считает, что психология древних греков должна была немало отличаться от психологии людей нашего времени. Их легенды более, чем нынешние, должны основываться на реальных вещах — Шлиман поверил Гомеру и нашел Трою! Чтобы оценить степень правдивости Платона, надо понять психологию его времени. Мы не вправе смотреть на его «Диалоги» как на произведения современных фантастов — например, братьев Стругацких или Брэдбери. Родовые отношения у древних греков почитались священными, и вряд ли Платон мог приписать явные небылицы такому уважаемому всеми предку, как Солон. Что же касается его хронологической точности — его счете на тысячелетия, — к этому стоит отнестись снисходительно. Геродот нередко путал хронологию событий, отдаленных от него всего на сто лет. Мы сейчас знаем историю древнего мира гораздо лучше, чем древние греки или римляне.
И все же у историков ответа на вопрос об Атлантиде нет!
Но если археология и история не дают ответа, то, может быть, геология способна его дать? Нужно выяснить для начала, существовал ли в послеледниковое время в Северной Атлантике микроконтинент или большой архипелаг, который опустился затем в океан, — в этом случае след Атлантиды обнаружится на подводных горах.
Многие считают, что Атлантида находилась не в Атлантике, а в Восточном Средиземноморье, на одном из островов неподалеку от Крита. Гипотеза о гибели Атлантиды в Эгейском море была впервые высказана А. Норовым еще в 1854 году. В 1983 году, из работ французского вулканолога Ф. Фукэ, стало известно, что на острове Санторин под слоем пепла найдены остатки древних построек. Этому посвящена целая книга Галанопулоса и Бэкона. Действительно, в Эгейском море, неподалеку от Крита, существовал в древности остров, остатки которого известны под названием Тира. Подводные исследования, проведенные здесь совсем недавно акванавтами под руководством знаменитого Жака Ива Кусто, обнаружили под водой обломки внезапно затонувших древних судов и целые залежи старинных амфор и других предметов. По данным, полученным археологами и морскими геологами, древний город на острове мог погибнуть в результате чудовищного извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры. Именно с этим извержением связывается в греческой мифологии так называемый Девкалионов потоп. Галанопулос считает, что Атлантида — это Крито-Минойская держава. В итоге извержения остров Санторин раскололся на части и погрузился в море.
Как же быть тогда со знаменитыми Геркулесовыми Столбами? Ведь у Платона ясно сказано, что Атлантида располагалась по ту сторону Геркулесовых Столбов, то есть в Атлантическом океане! Может быть, на Санторине погибла не Атлантида, а противостоящее ей Праафинское государство? А Атлантиду нужно искать все-таки в Атлантике, в районе горы Ампер?
Первая попытка проникнуть в тайны горы Ампер и загадочных подводных фотоснимков была предпринята в 1982 году в «испытательном» рейсе нового «Витязя», где мне довелось руководить геологическими работами. Тогда нам не повезло с погодой: Атлантический океан встретил затяжными мартовскими штормами. Волна в районе горы Ампер все дни была не ниже шести-семи баллов, прогноз ничего хорошего не сулил, а времени было в обрез. Нечего и думать, чтобы в такой обстановке опустить за борт «Аргус». «Опустить-то нетрудно, — мрачно шутил капитан Апехтин, — труднее обратно вынуть». Тогда было принято другое решение.
Прямо на вершину горы, на тот участок, где, судя по подводным фотографиям, располагаются таинственные стены, был опущен на стальном тросе водолазный колокол с тремя акванавтами. Задача эта была нелегкая, — штормовые волны не давали возможности встать на вершине горы на два якоря, и только высокое морское искусство капитана и экипажа одержало верх над негостеприимной стихией.
Группой акванавтов руководил Николай Ризенков, за несколько лет до этого участвовавший в первом погружении на дно Байкала в подводном обитаемом аппарате. Для балансировки колокол был снабжен двумя дополнительными грузами по 450 килограммов каждый, которые опускались одновременно с ним на двух дополнительных тросах. Операция предстояла рискованная, шторм на поверхности гулял вовсю. Когда колокол достиг вершины горы, его начало трясти и бить о выступы скал. Выбрав подходящий момент, Николай вышел на платформу и решительно прыгнул прямо на скалу. «Как с трамвая на полном ходу», — рассказывал он потом.
Перед погружением я его инструктировал: «Внимательно осмотри стены, — нет ли следов обработки какими-нибудь инструментами. Тщательно проверь трещины — может быть, заделаны чем-нибудь». Но какой уж тут внимательный осмотр в такой «антисанитарной» обстановке! При каждом качании судна наверху тяжелая махина водолазного колокола бьет о скалы. В довершение всего от сильного очередного удара оборвался свинцовый балластный груз и ударился о скалу, чудом не прихлопнув Николая. Зато от стенки рядом с акванавтом откололось несколько кусков породы. Не растерявшись, он схватил один из них и устремился обратно в колокол.
Когда, закончив рейс, «Витязь» возвратился в Новороссийск, на берегу нас ждала торжественная встреча. Судно осадили многочисленные журналисты. На пирсе был организован митинг. Сам Иван Дмитриевич Папанин приехал встречать новый «Витязь». По указанию Новороссийского горсовета в день нашего возвращения во всех кинотеатрах города шел один и тот же фильм «Вожди Атлантиды». И конечно, в центре внимания был уникальный камень, извлеченный из глубин Николаем Ризенковым. Еще бы, — кусок Атлантиды! Его многократно снимали на фото- и телекамеры. Его просили «подержать». Газета «Москоу Ньюс» даже изобразила меня с этим камнем в руках и бессмысленной улыбкой на лице, снабдив заметку своего корреспондента многообещающей надписью: «Атлантида — вероятна». Все наши скромные попытки охладить энтузиазм журналистов успеха не имели. Наиболее решительные из них, объединившись в коллектив, предложили мне обменять уникальный образец на ящик коньяка. Я с негодованием отверг предложение и с возмущением сообщил об этом начальнику рейса Ястребову, гордясь своей неподкупностью. «Ну и дурень, — недовольно сказал Вячеслав Семенович, — ты что, не мог им какой-нибудь другой камень подсунуть? Им-то ведь все равно».
Смелая вылазка Ризенкова не позволила все же судить о том, рукотворные ли стены на вершине горы Ампер, или это природа так искусно их возвела. Гораздо важнее другое: геологическое и особенно петрохимическое исследование образца, отобранного с вершины горы, показало, что базальт такого типа мог образоваться только при застывании лавы на воздухе, а не под водой, то есть на поверхности океана.
Значит, гора Ампер в начале своего существования была вулканическим островом!
В августе того же года к берегам Кубы отправилось для работы научно-исследовательское судно нашего Института «Рифт» с «Аргусом» на борту.
Для технической проверки подводного аппарата решено было по дороге сделать пробное погружение «Аргуса», где-нибудь на небольшой глубине. А гора Ампер как раз на пути. И в этом районе, не в пример первому рейсу «Витязя», — полный штиль. Задачи «Аргуса» были далеки от поиска Атлантиды. Экипажу предстояло только проверить, слаженно ли работают системы подводного аппарата и провести опытные биологические наблюдения. И все-таки…
Примерно через месяц в институт пришло письмо от командира подводников Виталия Васильевича Булыги.
Что я видел на Ампере
(из воспоминаний подводного пилота)
До нашего погружения я знал об этой горе следующее:
1. Из-за плохой погоды здесь сорвались четыре попытки спустить обитаемый аппарат. В трех разных экспедициях (аппараты «Пайсис» и «Аргус»).
2. В институте имеются фотографии, выполненные глубоководной фотокамерой на этой горе, которых я не видел и на которых запечатлены стенки якобы искусственного происхождения.
3. На гору опускали колокол с водолазами, они взяли «камушек» вроде бы от стенки, но я его не видел. Говорят, что «камушек» не искусственный, а настоящий природный базальт, и поэтому стенки, наверное, тоже.
Поэтому ни о каких «Атлантидах» ни перед погружением, ни в первые часы погружения я не думал. Меня, как пилота, интересовало в первую очередь, как себя будет вести аппарат в океанской воде и как бы не влететь в какие-нибудь рыбацкие сети. А рыбу там ловили, вы это, наверное, видели. И ловят ее там давно, в чем мы убедились на грунте, встречаясь несколько раз с переметами, обрывками ваеров и т. п. Романтического настроения, как вы понимаете, это не создавало. Сели на склоне на глубине 210 метров и «поползли» вверх, так как все живое тянется вверх к солнышку. Наблюдатель тем временем «изводил» пленку на рыбок. Я, занятый со вторым пилотом сугубо техническими делами: «дифферент?.. глубина?.. скорость?..», между делом заметил наблюдателю, чтобы он не увлекался, а поберег пленку на какую-нибудь «каменную бабу». Но он не очень послушался, в чем сам потом раскаивался больше всех. Хотя в душе я его понимал: как не снять мурену, которая пыталась откусить нашу механическую руку? Аппарат же нас слушался хорошо, и мы потихоньку «выползли» на стометровую отметку, где начиналось плато — вершина горы. Видимость достигала 40 метров. И здесь вот начали встречаться первые «стены» с ярко выраженной кладкой. Но к этому мы были морально подготовлены, так как я говорил выше, что о существовании этих стен было известно и ранее. Стены как стены, но когда мы подвсплыли над грунтом на 20–30 метров, то нам открылась панорама развалин города, так как стены уж очень похоже имитировали остатки комнат, улиц, площадей.
Схожесть добавляли форма и цвет милых нам земных кирпичей (из которых, например, строят новую котельную в отделении института). Но попытка отломать один такой «кирпичик» не увенчалась успехом. То ли это действительно стена базальта, то ли предки строили на совесть. Этот вопрос остался открытым. Удалось взять только камушек — окатыш, из которого была сложена арка, самое, на мой взгляд, сооружение, удивительно похожее на творение рук человеческих, из всего, что мы видели.
Об организации «Клуба атлантоведов», конечно, говорить рано. Но предварительные списки можно составлять.
Вот что я видел на Ампере. И очень хотел бы еще там побывать и побродить по удивительным и загадочным развалинам, зарядив много-много фотопленки, чтобы показать всем вам те красоты.
Автор этого письма Виталий Булыга и второй пилот, участвовавший в том уникальном погружении, — Леонид Воронов, находились сейчас на борту «Витязя», и можно было надеяться, что на этот раз они скорее смогут отыскать на вершине горы Ампер уже виденные ими «развалины затонувшего города».
…Наш «Витязь» тем временем весело бежит по Средиземному морю, и через двое суток в закатной дымке перед нами открывается синяя от сумерек Гибралтарская скала. С левого борта смутным контуром проступает высокий африканский берег. Вот они, «Геркулесовы Столбы». На верхней палубе звенит гитара, и несколько мужских голосов негромко поют:
У Геркулесовых Столбов лежит моя дорога, У Геркулесовых Столбов, где плавал Одиссей…На борту у нас журналисты — Александр Сергеевич Андрошин, представляющий центральную «Правду», и писатель Леонид Викторович Почивалов, корреспондент «Литературной газеты». Оба чуть ли не каждый день сидят в радиорубке «Витязя», передавая корреспонденции в свои редакции. Больше всего их, без сомнения, интересует Атлантида. Особенно Почивалова, который пишет книгу о тайнах океана. Обоих представителей прессы обещали допустить к погружениям на горе Ампер, «если погода позволит».
В кают-компании я сижу за большим прямоугольным столом, по одну сторону которого — места для руководства экспедиции, а по другую — для руководства экипажа. Сидящий напротив старпом Алексей Петрович Кодачигов немало лет бороздит на судах океаны. Он уверяет, что если все макароны, съеденные им на флоте, вытянуть в одну линию, то можно несколько раз обернуть земной шар по экватору. Главный шутник за столом — наш старший механик — Анатолий Георгиевич Прожогин. За его спиной тридцать лет плаваний на танкерах. Худощавый и темноволосый, с живыми острыми глазами южанина, он — неисчерпаемый источник всевозможных морских историй.
«А то еще был капитан, — продолжает он очередной рассказ, — который у нас на танкере вместе с собой в капитанской каюте петуха возил. Шли мы как-то Зундом, ну, натурально, — с лоцманом. Идем еле-еле, туман непроглядный. Лоцман нервничает и все время команды подает по-немецки, пролив-то узкий, того и гляди на берег наскочишь. Наконец лоцман успокоился и говорит: „Зер гут“ — вышли, значит, из пролива на открытую воду. И вдруг рядом с рубкой как заорет петух! Значит, берег-то рядом! Лоцман за сердце взялся и в осадок выпал — еле откачали». Наш капитан петуха с собой не возит и поэтому смеется громче всех.
«А дальше двинулись мы через Атлантику в Бостон, — не унимается стармех, — ну и, конечно, судовые часы все время переводили, поскольку на запад идем. А петух-то этого не знает. У него свои часы заведены — они ведь не переводятся. Так он и кукарекал как и прежде, пока однажды не заорал истошным голосом посреди бела дня и сам своего крика испугался. И замолк на весь рейс. Доктор говорил, что у него нервный шок наступил».
Пройдя Гибралтарский пролив, мы повернули налево вдоль африканского берега и зашли на пару дней в Танжер пополнить запасы топлива и продовольствия. Помню, в конце сороковых годов еще в школе мы, мальчишки, бегали смотреть знаменитый приключенческий фильм, «взятый в качестве трофея войсками Советской Армии». Фильм назывался «Сети шпионажа», и действие там происходило в Танжере, где скрещивались интересы тайных разведок всего мира. Преступный и таинственный буржуазный «Вольный город» мерцал на экране, притягивая и отпугивая полуголодных юнцов своими опасными соблазнами. Теперь Танжер входит в состав Арабского Королевства Марокко, и опасных соблазнов там нет.
Не обошлось, однако, и тут без приключений. Поздним вечером, так и не дождавшись конца внезапно налетевшего шторма, «Витязь» покинул порт и взял курс на вест в направлении горы Ампер. Всю ночь судно скрипело и раскачивалось под ударами взбаламученной воды. Утром следующего дня я, как обычно, проснулся от голоса старпома, зазвучавшего в динамике: «Доброе утро, товарищи. Судовое время — семь часов. Волна — семь баллов, ветер — четыре балла. До Танжера осталось тридцать миль». То есть как это — до Танжера? Мы ведь только вчера вечером ушли оттуда? Оговорился он, что ли? Выскакиваю на палубу и вижу: солнце сияет по курсу судна. Значит, действительно повернули на восток, обратно в Танжер. Что случилось?
Поднимаюсь на мостик и узнаю новость: на корабле обнаружили «зайца». Молодой араб накануне вечером пробрался к нам на «Витязь», спрыгнул с пирса прямо на корму и спрятался в кормовом трюме. Нашли его только около четырех часов утра и повернули обратно сдавать беглеца. А вот и сам виновник — сидит в конференц-зале под охраной вахтенного матроса. Он объясняет по-французски, что ему 27 лет, он механик, денег на билет нет. Надеялся добраться с нами до Франции или до Италии, но, когда увидел, что судно идет от берегов Африки на запад, «пошел сдаваться». Одет он в старую затертую кожаную куртку и брюки. Все пожитки в тощей кошелке. Благодарит за то, что не утопили. «Другие бы утопили, кто же будет из-за меня судно обратно поворачивать, время и топливо тратить. Это ведь деньги, и немалые». Его, конечно, кормят. Навстречу нам на рейде Танжера выходит портовый буксир, и беглеца забирают. Мы разворачиваемся обратно.
Радости от этого неожиданного происшествия мало. Раз посторонний проник в чужом порту к нам на борт, значит, плохо несется вахтенная служба. А вдруг он подложил что-нибудь? Да и один ли он был? Может, еще кто-нибудь на борту прячется? Вечером того же дня сидят себе старший помощник вместе с первым помощником в каюте у старпома и пьют чай. Разговор невеселый — кто и за что теперь отвечать будет. «Витязь» между тем полным ходом идет к горе Ампер. Вдруг без стука открывается дверь каюты, и в нее входит второй араб — в бурнусе и в чалме. Старпом и помполит как сидели, так и остолбенели с чашками в руках. Араб подходит к онемевшему старпому, протягивает руку и говорит: «Русский, дай дирхам!» У старпома отвисает челюсть. Тут гость скидывает чалму и бурнус и преображается в старшего механика.
«Что за дурацкие шутки?» — возмущается капитан. «Да это что, Николай Вадимович, — оправдывается стармех. — Вот мы также как-то на танкере из Адена вышли, а капитан наш тоже вот переоделся арабом, чалму напялил, бурнус и вышел на палубу на носу прямо перед ходовой рубкой. Вахтенная служба его, конечно, из рубки видит, а что делать, не знает. Звонят капитану в каюту, а его, понятно, нет. Объявляют по судовой трансляции: „Капитана срочно просят позвонить на мостик!“ Никто не откликается. Мало того что араб появился, а тут еще и капитан пропал! Что делать? Сколотили кое-как бригаду из добровольцев, кто поздоровее, и послали их на бак араба взять. А палуба у танкера огромная. Спрятался куда-то араб в носовую часть, и не видно его. Добежала бригада до носового трюма, а вниз лезть никто не хочет — мнутся. Наконец набрались смелости и вломились втроем. А араб чалму снял и говорит капитанским голосом: „Так-то вы, растяпы, вахту несете!“»
4. Тайны подводных гор
Вечером следующего дня пришли на гору Ампер, вышли по эхолоту на участок ее вершины и, выбрав плоское место, поставили буй. Вокруг нас крутится не меньше десятка рыболовных судов, здесь на мелководье много всякой рыбы. Нам они изрядно мешают. Дело не только в том, что все эти суда все время ходят взад и вперед, волоча за собой тралы и мешая нашей съемке: обрывки рыбацких сетей и переметы густо усеивают неглубокое дно у вершины горы и создают нешуточную опасность для «Аргуса». Зато погода нас на этот раз балует, поэтому нужно использовать каждый час. Решено ночью делать съемку рельефа дна, измерения магнитного поля и подводное фотографирование, а все светлое время суток использовать для «Аргуса» и водолазного колокола. Погружения «Аргуса» начались сразу же, на следующее утро. Прежде всего нужно найти участок со «стенами» и внимательно их обследовать. С помощью буксируемого аппарата «Звук» сделана детальная фотопанорама вершины горы, на которой снова отчетливо видны узкие вертикальные гряды, как бы сложенные из отдельных блоков. Может быть, это все-таки не гряды, а стены? Чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться в воду. Никакие фотографии и телевизионные осмотры сверху ничего толком об этом не скажут, смотреть надо не сверху, а сбоку. Осадков на вершине горы как будто немного — повсеместно из-под белого песка торчат черные скалы. Здесь работает сильное Португальское течение, которое гонит океанские волны с севера на юг со скоростью два узла. Поэтому илистых осадков на вершине горы нет. А стены вертикальные с глубокими расселинами.
Составили списки подводных наблюдателей. В них вошли и оба наших корреспондента. Поскольку подводная фотокамера может снимать только очень близкие объекты, а человеческий глаз видит дальше, то наблюдателей просили зарисовать все, что они увидят из иллюминатора. Ведь в прошлые века именно рисунки ученых и натуралистов и были главными документами! Ни у Крашенинникова на Камчатке, ни у Миклухо-Маклая в Океании фотоаппаратов не было, зато как они рисовали! Решено было каждый день после погружений собирать научно-технический совет для обсуждения результатов.
А подводные пилоты должны были вывести «Аргус» именно на то место, которое они так красочно описали в своем письме. Акванавты в это время усиленно готовили к спуску свой водолазный колокол, в котором после работ на горе Верчелли обнаружились неполадки.
В первый же день на «Аргусе» в качестве наблюдателя погружался и я. Однако на участок «со стенами» тогда выйти не удалось. Сильное течение сносило аппарат под водой, не давая удержаться на курсе. Дно вершины оказалось разбитым многочисленными трещинами и ущельями, засыпанными белым песком. Сами скалы заросли мелкими красными водорослями — литатамниями. Целые косяки рыб скользят перед иллюминаторами, но нам не до них. Повсюду обрывки сетей и переметов, опасные для аппарата, так что экипаж в постоянном напряжении. Правда, в первом же погружении я нашел, как мне показалось, амфору. Булыга долго и старательно маневрировал, чтобы взять ее манипулятором. Каждый раз при включении винтов мелкий песок вихрем взлетал вверх, и желанная находка скрывалась от нас. Наконец мы ухватили заросший ракушками явно рукотворный предмет и торжественно погрузили его в бункер, сообщив об этом на поверхность. Когда «Аргус» поднялся наверх, все население «Витязя» высыпало на корму посмотреть на находку. Каково же было наше разочарование, когда под слоем ракушек обнаружилась старая алюминиевая кастрюля, уж никак не «атлантического» происхождения. В этом же первом погружении нас атаковала большая пятнистая мурена. Когда видишь в двух шагах от себя через стекло ее зубы и безумные глаза, то хоть и знаешь, что ты в безопасности, а все-таки страшновато.
В последующие дни тщательно обследовалась с «Аргуса» вся вершина горы. Шаг за шагом просматривались и фотографировались выходы пород на северном, южном, восточном и западном склонах. Отбирались образцы базальтов, проводились фотосъемки и зарисовки скальных выходов, измерялись по компасу направления простирания трещин и скальных гряд. Уже на второй день геофизик Анатолий Шрейдер обнаружил в районе вершины какие-то округлые сооружения, напоминающие цирки, диаметром 40–50 метров, и квадратные углубления в скалах, похожие на «комнаты». Однако стен с «кладкой» никто не нашел. Пилоты наши пожимают плечами и никак не могут вспомнить, где они видели «развалины города». Наконец на четвертый день геолог Николай Прокопцев, человек тщательный и скрупулезный, неодобрительно относящийся к фантазиям, а вслед за ним и его болгарский коллега Петко Димитров, обнаружили странные «стены», «комнаты» и даже что-то вроде «арки». Вечером того же дня на «Витязь» пришла радиограмма из города Новокузнецка. Какой-то энтузиаст сообщал нам «точные координаты Атлантиды» и требовал, чтобы мы не теряли здесь зря время и немедленно шли туда, если хотим ее найти.
На пятый день в районе, где были обнаружены стены, погрузили в «Аргусе» представителей прессы, предложив им зарисовать увиденное. Они тоже сделали наброски «стен». Леонид Почивалов нарисовал даже в одной из «комнат» круглый каменный стол, похожий на жертвенник. Вскоре погода стала портиться, внезапный ветер разогнал волну, и последнее «рабочее» погружение предложили сделать мне. Это было уже четвертое опускание за день, однако пилоты хотя и устали, но охотно согласились «еще поработать», справедливо опасаясь, что в будущие дни погода не даст такой возможности. Я сменил Александра Андрошина. Мотобот, раскачиваясь и подлетая на сильной волне, помчался к всплывшему «Аргусу», рубку которого почти захлестывала вода. Это момент для аппарата неприятный. Поэтому мы с Андрошиным постарались не держать лишнее время люк «Аргуса» открытым. Проскальзывая в люк и захлопывая за собой его тяжелую крышку, я второпях сильно прищемил руку, хотя в первый момент даже не заметил этого. Еще бы — ведь предстояло самому взглянуть на «развалины Атлантиды», да еще в компании тех самых пилотов, которые ее «уже видели». «Ну, что, — спросил я у Булыги, как только плюхнулся на „свой“ тюфяк, — нашли это место?» — «Да кто его знает, вроде похоже». Связываемся с «Витязем» и просим засечь наши координаты. Сильное течение сносит аппарат в сторону от вершины. Надо торопиться. Задраивается люк и объявляется готовность к погружению. «Аргус» идет вниз. Привожу дальше отрывки из наблюдений, продиктованных мною под водой на магнитофон:
«Аппарат лег на грунт в 13 часов 20 минут на глубине 110 метров на южном склоне вершины горы Ампер. Координаты точки погружения: широта 35°03′ север, долгота 12°53′ запад. Видимость примерно 50 километров[10], поэтому можно работать без светильников. В поле зрения скальные выходы, хорошо видные на фоне белого песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалины домов. Всплываем над грунтом на 3–4 метра и ложимся на курс 90° На глубине 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой 2 метра и шириной около метра. Поверхность ее заросла красными литатамниями. На их фоне видны как бы следы кирпичной кладки, очень напоминающие на самом деле кубическую отдельность, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Хорошо бы посмотреть ее контакт со скалой! Тогда будет ясно, рукотворная это кладка, или же по трещине в старой скале внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав „стенку“. В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной лавой. Булыга подводит аппарат вплотную, так что наша „механическая рука“ царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и контакт не виден.
Всплываем над скалой, и перед нами снова открывается панорама прямоугольных гряд, чередующихся с долинами, засыпанными белым песком. На песке хорошо видны вытянутые борозды. Это так называемые рифели — следы сильного подводного течения, скорость которого на этой глубине достигает полтора узла, то есть почти столько же, сколько может давать наш „Аргус“. Подходим вплотную к одной из гряд и обнаруживаем в стене большие ниши и каверны, явные следы разрушительного действия волн. Значит, эта стена была раньше на поверхности? Она разбита трещинами, заваленными базальтовыми глыбами, которые хорошо окатаны. Между глыбами — галька разного размера, значит, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Да и края скал сильно разрушены выветриванием. Все это говорит о том, что гора Ампер была когда-то островом. Аппарат медленно всплывает над сильно разрушенными грядами. Они вытянуты в двух направлениях — на северо-восток и юго-восток. Вершины гряд напоминают зубья пилы. Где-то здесь мы потеряли в первом рейсе якорь: отдали его, а обратно выбрать не смогли, он зацепился за скалу и оторвался. Неудивительно при таком рельефе!
Неожиданно прямо перед „Аргусом“ возникает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной Булыга настораживается, его мышцы напрягаются: перемет! Аппарат взмывает вверх, и опасная снасть остается под нами.
Двигаясь тем же курсом, на глубине около 90 метров снова выходим на стенку высотой около 2 метров и шириной полтора метра с отчетливыми следами „кладки“. У ее подножия на песке — целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая водорослями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Так же как и в предыдущем случае, она упирается в сильно разрушенную скалу, но контакт завален камнями и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Подходим к стене вплотную. Ее верхний край разбит на правильные кубики с гранью около 15 сантиметров. С большим трудом, раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца „кубиков“ и кидает их в бункер.
Движемся дальше вдоль двух параллельных стенок. Их внутренняя поверхность разбита прямоугольными трещинами. Впечатление такое, что плывешь на „речном трамвае“ по родной Мойке. В конце канала между стенами — пещера с полуразрушенным навесом из крупных глыб. Все вокруг засыпано галечником и глыбами. В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера. Перед ней лежит большой электрический скат, полузарывшийся в песок. Заметив наше приближение, он неспешно скользит в сторону.
Долина под нами, засыпанная песком, напоминает горную реку, врезавшуюся в скалы. Впечатление такое, будто летишь на вертолете над заснеженной землей. Перед нами по курсу возникает новая гряда с глубокими расселинами по краю. Ее вершина похожа на полуразрушенную башню. В верхней части „башни“ прилепился к скале крупный осьминог. Подходим к нему вплотную и делаем фотоснимок. При вспышке света он дергается, как от удара. За грядой внизу на дне овальное углубление в скале диаметром около тридцати метров, похожее на цирк. Рядом с ним — целый ярус рыбацких сетей. Да, здесь нужно быть начеку!
На глубине 78 метров перед аппаратом снова возникает стенка со следами „кладки“. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней около двух метров. На внутренней стороне стены у ее основания выступ шириной около 20 см. Ниже по склону под „лестницей“ прямоугольный участок, засыпанный песком. Сильно разрушенный „свод“ над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели все это сделала природа?
В 16 ч. 30 мин., получив команду с „Витязя“, отрываемся от грунта с глубины 108 м. Координаты точки всплытия — широта 35°03′15″ с. ш., долгота — 12°53′15″ з. д.»
На следующий день было проведено погружение водолазного колокола на вершину горы Ампер, — прямо на обнаруженные «Аргусом» стены. Сделать это оказалось непросто — мешало сильное подводное течение.
Наконец Апехтин искусно поставил «Витязя» на два носовых якоря, и в воду пошел водолазный колокол с экипажем из трех человек — водолазы Анатолий Юрчик и Николай Левченко и оператор Владимир Антипов, способный художник. Уже с глубины 83 метра из колокола в прозрачной воде можно было отчетливо разглядеть на дне чередование ровных гряд, похожих на стены и вытянутых примерно в направлении «нос — корма». (Направление под водой водолазы определяли по отношению к корпусу стоящего на якорях «Витязя».) Анатолий Юрчик опустился с платформы колокола прямо на участок, где эти «стены» соединялись между собой. Их поверхность полностью заросла мелкими водорослями, как будто мхом. Понадобилось немало усилий, чтобы соскоблить их с камня. После этого Юрчик расшатал один из «кубиков» ломиком и взял образец, отметив предварительно, как он был ориентирован относительно самой стенки. В это время другой водолаз, Владимир Антипов, сделал несколько снимков, но старания его, к сожалению, оказались напрасны: когда колокол подняли на «Витязь», выяснилось, что в фотосистему попала вода и из всего материала сохранился только один кадр, на котором запечатлен водолаз Левченко на платформе колокола.
Однако главная цель погружения колокола осуществилась — были отобраны образцы пород с таинственных стен.
Последнее заседание научно-технического совета, происходившее на «Витязе», раскачивающемся над вершиной горы Ампер, было таким же бурным, как и океан. Небольшой конференц-зал был набит до отказа. После долгого обсуждения геологи сошлись на том, что найденные стены все же нерукотворные. Даже Леонид Викторович Почивалов, который, несмотря на свою седину, яростно, с детской настойчивостью, защищал идею Атлантиды, вынужден был отступить перед бесстрастными доводами геологов. «Я так понимаю, что сегодня выносится смертный приговор Атлантиде», — горько заявил он. «Ничего подобного, — возразил я, — речь идет только о стенах на горе Ампер».
Изучение поверхности горы Ампер показало, что глубокие трещины, разбившие этот старый, давно погасший вулкан, строго ориентированы в двух направлениях: на северо-восток и на юго-запад примерно под прямым углом друг к другу. Точно такое же направление имеют и таинственные «стены». Такое впечатление, что они образовались в связи с этими трещинами. Дело в том, что по трещинам, разбившим старую, уже застывшую породу, могут внедряться новые порции лавы. Достигнув поверхности, они застывают, отражая прямые линии вмещающих их трещин. Эти внедрения называются дайками. Именно с такими двумя перпендикулярными системами базальтовых даек мы, по всей видимости, и имели дело. Дайки эти, секущие склоны и вершину горы Ампер, сложены более молодыми базальтами, которые меньше поддаются разрушительному действию выветривания, чем старые породы, слагающие вершину. Более древние базальты в промежутках между «стенками» разрушились, и между ними образовались углубления, так похожие на «комнаты».
Ну а как же «кирпичная кладка»? Скорее всего это не что иное, как система небольших параллельных трещин на поверхности базальтовых гряд, иногда засыпанных белым песком, подчеркивающим впечатление кладки. Так называемая отдельность. Подобное я видел не впервые — когда-то в молодости мне пришлось несколько лет работать в северо-западной части Сибирской платформы, на знаменитых сибирских траппах. При выветривании базальтовые образования могут образовывать самые причудливые формы, напоминающие башни и стены. Вспомним известные всем Красноярские столбы! Вот и получается, что никаких «развалин древнего города» на вершине горы Ампер все-таки нет.
Уже стемнело, когда «Витязь» покинул гору Ампер и направился к ее недалекой соседке — подводной горе Жозефин. Из предыдущих исследований, проведенных несколько лет назад немецким научно-исследовательским судном «Метеор», было известно, что гора эта тоже потухший вулкан, образовавшийся примерно 13 миллионов лет назад.
Несколько раз опускался на вершину и склоны горы «Аргус». Подводный телевизор и фотопулемет «Звук-4» дали возможность получить полную визуальную фотопанораму вершины. Детально были изучены рельеф и структура аномального магнитного поля. На склон горы на рекордную глубину 200 метров был опущен водолазный колокол. Поднятые водолазами базальты оказались моложе, чем базальты, слагающие гору Ампер. Значит, если возраст горы Жозефин около 13 миллионов лет, то гора Ампер древнее? Немаловажно еще одно обстоятельство: плоская вершина и многочисленная галька, обнаруженная при подводном фотографировании и погружениях «Аргуса», однозначно указывают на то, что гора Жозефин была когда-то островом. Острая вершина вулкана, возвышавшаяся над поверхностью воды, срезана эрозией, а сам остров по каким-то причинам погрузился в океанские волны. Значит, не только гора Ампер «затонула», ее участь разделили и соседние острова. И только ли они?
5. Сколько миль до Атлантиды?
В конце сентября «Витязь» вернулся в Новороссийск. Встреча на этот раз была скромной: ни митинга, ни журналистов. Ведь это не первый рейс нового судна, а очередной, рабочий. И вопросов об Атлантиде уже поменьше, сенсация прошла. Любители невероятного снова переключились на «летающие тарелки» и экстрасенсов. Груда образцов, которую с таким трудом удалось добыть с вершин подводных гор Ампер и Жозефин, тоже уже никого не волновала, кроме специалистов.
Примерно через полтора месяца после нашего возвращения состоялось заседание ученого совета Института океанологии, на котором докладывались результаты рейса. Много видных геологов и геофизиков, специалистов по геологии океанского дна, собралось в зале. Отчетный доклад о работах экспедиции делал начальник рейса. Присутствующим продемонстрировали многочисленные (несколько сот) подводные фотографии вершин и склонов подводных гор, образцы горных пород, детальные карты и схемы рельефа дна, аномального магнитного поля, теплового потока через океанское дно, мощности и состава морских осадков и многие другие материалы.
Собравшихся интересовали прежде всего методические результаты рейса. Еще бы, ведь впервые в мировой практике человек вышел на океанское дно и отобрал образцы прямо из коренного залегания горных пород! И не просто образцы, а ориентированные в пространстве, пригодные для последующего палеомагнитного анализа. Таких образцов никто и никогда еще не получал. Это был первый шаг в глубину, отмечали выступавшие, шаг, который положил начало новой эпохе геологических исследований: подводной геологической съемке. Большие возможности открывают также и проведенные впервые измерения теплового потока с подводного обитаемого аппарата. Получены впервые надежные данные, по которым можно судить о глубинном тепле Земли. Подводные обитаемые аппараты, снабженные соответствующей аппаратурой, способны очень точно проводить комплексную геофизическую съемку с измерением магнитного поля Земли, и поля силы тяжести, и величины теплового потока.
Не менее интересными были признаны и геологические результаты рейса. Впервые были определены состав и природа подводной горы Верчелли.
Проведенные измерения теплового потока дали возможность высчитать глубину, на которой под дном Тирренского моря залегает расплавленная магма. Толщина твердой оболочки в южной части моря оказалась очень невелика — всего два-три десятка километров. Мощность и строение литосферы здесь такие же, как у типичных океанов. Значит, здесь остался либо незаживший кусочек древнего Тетиса, либо образуется новый, еще не ведомый, «микроокеан». Недаром именно здесь обнаружены молодые вулканы Вавилова и Маняги.
Самые важные результаты, однако, были получены в Атлантике. Анализ данных показал, что горы Ампер и Жозефин были когда-то островами и лишь позднее погрузились в воду. Они разбиты трещинами, которые расположены строго под углом 45° по отношению к зоне разломов, тянущейся от Гибралтара до Азорских островов. Случайно ли это? Если пластину из твердого материала сжимать с силой, превышающей предел ее прочности, то по законам механики в ней образуются трещины скола под углом 45° к направлению основного сжатия. Значит, этот участок испытывал сильное сжатие с юга на север, то есть как раз там, где Африканская плита наталкивается на Евразиатскую?
В то время когда мы работали на горах Ампер и Жозефин, второе наше судно «Рифт» провело глубинное сейсмическое исследование по профилю, пересекающему края обеих плит как раз перпендикулярно Азоро-Гибралтарской зоне. Выяснилось, что океанская литосфера Африканской плиты как бы пододвигается здесь под литосферу Евразиатской плиты. Из-за этого сжатия и возникают трещины! Со сжатием могут быть связаны и новые вспышки вулканической активности. На самих Азорских островах, например, и в наши дни происходят извержения вулканов. А раскалывание океанской литосферы может вызвать быстрые катастрофические погружения ее отдельных участков, вместе с образовавшимися на ней островами. Не так ли ушли под воду вулканические острова Ампер и Жозефин? На склонах горы Ампер, наряду с «сухопутными» типами базальтовых лав, были обнаружены лавы, образующиеся только при подводных извержениях. Эти лавы — самые молодые — излились уже после того, как остров Ампер ушел под воду.
Так нашей экспедиции удалось заглянуть в историю подводных гор всего этого района Северной Атлантики. Материалы рейса были признаны настолько интересными, что еще через месяц состоялся специальный доклад на президиуме Академии наук СССР и было принято решение о новых обширных программах по совершенствованию техники подводных исследований, а также о новых океанских рейсах по изучению подводных гор.
А как же все-таки с Атлантидой? Конечно же вопрос о природе таинственных стен тоже возникал при обсуждении результатов экспедиции. И мое сообщение об их естественном происхождении было выслушано с большим вниманием, но — честно говоря — без особого сочувствия. Председатель ученого совета Андрей Сергеевич Монин в заключительном слове неодобрительно заметил: «Рано делать окончательные выводы. Городницкий говорит одно, а рисует другое. Посмотрите на его подводные рисунки. С этим еще нужно разобраться».
Примерно в это же время Леонид Почивалов опубликовал в «Литературной газете» большую статью, в которой подробно описал наши работы на горе Ампер и свое погружение в «Аргусе» на загадочные стены. Он не оставлял надежду найти там Атлантиду. Вскоре я случайно встретился в театре с известным сторонником «летающих тарелок» и экстрасенсов — Феликсом Юрьевичем Зигелем. «Послушайте, — сказал он мне, — как вы относитесь к тому, что на вашей горе Ампер нашли недавно кусок мрамора? Об этом сообщалось в газетах». «Ну что же, — ответил я, — ничего удивительного. Мы сами дважды находили там куски песчаника и мраморизованного известняка. Их рыбаки привязывают к сетям вместо грузил, вот они и падают на дно». «Скучный вы человек, — расстроился Зигель. — Неинтересно с вами разговаривать».
И все-таки — где же искать Атлантиду? Правда, чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться снова к геологии океанского дна и тектонике литосферных плит. Когда в геологии господствовали представления о неизменности положения земных континентов (у них и сейчас еще немало именитых сторонников — «фиксистов»), легче жилось и атлантологам, ибо предполагалось, что океанские впадины возникли в результате опусканий отдельных блоков литосферы. Веский козырь! А если могли быть резкие опускания целых континентов, то это как будто легко объясняло причины гибели Атлантиды!
Увы! Сегодняшние многочисленные факты указывают на то, что в океане нет погруженных участков континентальной коры. И это, на первый взгляд, противоречит существованию Атлантиды. Один из основоположников теории тектоники литосферных плит Олег Георгиевич Сорохтин, заведующий нашим отделом, как-то сказал мне: «Никакой Атлантиды быть не может. Это противоречит тектонике плит. Если ты будешь верить в оккультные науки, я тебя уволю».
Ну что ж, континенты действительно не могут погружаться. А архипелаги? Проведенные нами исследования убедительно показали, что подводные горы Ампер и Жозефин были когда-то островами. И весь подводный хребет, в состав которого они входят, тоже, возможно, был когда-то на поверхности. А если были острова, то на них могли жить люди. Весь вопрос в том, почему и когда эти острова погрузились в океанские волны.
Попробуем посмотреть на эту загадку с позиций сегодняшних. Образующаяся в океане литосфера тяжелее, чем расплав, из которого она кристаллизуется. Поэтому чем толще она становится, тем глубже опускается в расположенную под ней полужидкую астеносферу. Значит, в направлении от срединных хребтов к более древним районам океана глубина дна должна расти. Кстати, первым расчет величины этого погружения сделал именно Сорохтин.
…Итак, поверхность океанского дна постепенно опускается вместе со всем, что на ней находится, — островами, хребтами и архипелагами. Срезанные плоские вершины таких вулканов, как Ампер, — это как раз типичные признаки такого погружения. Американский исследователь Хесс, впервые детально изучивший подобные плосковершинные горы в Тихом океане, дал им название «гайоты» — в честь известного французского геолога Гийо. На их плоских вершинах, медленно погружающихся в воды океана, вырастают коралловые атоллы и рифы. Больше всего их в Тихом океане. Но есть они и в Атлантике. Так, крупный гайот Грейт-Метеор входит в ту же систему подводных гор Подкова. Да и другие вулканические горы, входящие в эту систему — Атлантис, Плейто, Круизер, Йер, Эрвинг, также имеют плоские вершины и, значит, были прежде островами.
Но ведь, с другой стороны, такое опускание поверхности дна идет очень медленно и не может быть причиной внезапной катастрофы!
Когда я прикинул, с какой скоростью погружались в воду бывшие острова Ампер и Жозефин, то неожиданно оказалось, что скорость эта в несколько раз больше, чем должна быть по формуле Сорохтина. Такие же следы быстрого погружения были найдены американскими геологами, изучавшими несколько лет назад плосковершинную гору Атлантис, тоже входящую в систему Подкова. Еще 12 тысяч лет назад гора Атлантис была островом. С ее вершины были подняты драгой странные образования из известняка — так называемые «морские бисквиты», очень похожие на тарелки. Их диаметр — около 15 сантиметров, толщина — примерно 4 сантиметра, да еще и углубление посередине! Возраст «бисквитов» — около 12 тысяч лет. Доказано, что материал, из которого состоят диски, был когда-то на суше.
Значит, острова, входившие в систему Подкова, затонули катастрофически быстро, что никак не могло случиться при простом утолщении океанской литосферы! Что же заставило их столь внезапно погрузиться? Вспомним, как в описании Платона (если ему, конечно, верить) говорится, что гибель Атлантиды произошла «в один бедственный день и одну бедственную ночь».
Несколько лет назад все экраны мира обошел японский фантастический кинофильм «Гибель Японии». Грозные извержения вулканов и моретрясения вызывают неотвратимую катастрофу — и Японские острова начинают неожиданно разламываться и погружаться в океан. Миллионы беженцев, навсегда потерявших родину, ищут спасения на других материках. Не правда ли, похоже на гибель Атлантиды? Так вот, с современных геологических позиций ничего фантастического в кинофильме «Гибель Японии» нет. Ситуация вполне вероятная.
Там, где плиты сталкиваются, более тонкая и глубоко погруженная океанская литосфера ломается и «ныряет» под континентальную, унося в глубины на своей спине океанские острова. Именно такая картина наблюдается сейчас в Тихом океане, дно которого со сравнительно большой скоростью — около пяти сантиметров в год — пододвигается под край Азиатского континента: под Камчатку, Курильскую и Японскую островные дуги.
На восточной оконечности Камчатки, на полуострове Кроноцкий геологи нашли остатки двух океанских вулканов. Они сорвались с ушедшей вниз океанской плиты и «впечатались» в берег. Вся эта огромная полоса, протягивающаяся на юг до Новой Зеландии, называется «огненным кольцом» Тихого океана. И не случайно здесь происходят многочисленные извержения. Безжалостные волны цунами обрушиваются на побережья. Грозные землетрясения постоянно тревожат жителей этих мест.
Похожая картина могла наблюдаться и при закрытии древнего океана Тесис. Известно, что около тридцати миллионов лет назад Индия ударилась об огромную плиту Евразии. От этого мощного удара (к счастью, никаких Атлантид там еще в ту пору не было) южный край Евразиатской плиты смялся в складки, и образовались высочайшие в мире Гималайские горы, а сама Евразия раскололась на столько частей, что геологи до сих пор не могут их сосчитать.
В 1982 году в первом рейсе «Витязя» мы видели на острове Кипр остаток ложа древнего Тетиса — Троодосский офиолитовый комплекс. Как он туда попал? Похоже, что был выдавлен наверх, когда при закрытии океана Африка навалилась на юг Европы, сминая ее край. А большая часть дна Тетиса вместе с островами ушла в глубину. Не случайно к западу от Кипра расположена Эллинская островная дуга, под которую ушло дно древнего океана. Катастрофические извержения — Санторина, Везувия, Этны — все это следствия закрытия Тетиса.
Вспомним слова Платона, он пишет, что катастрофа произошла одновременно на всем Средиземноморье при извержении вулкана Санторин в Эгейском море. Можно предположить, что на востоке погибло Праафинское государство и эллинское войско. А на западе по ту сторону Геркулесовых Столбов от той же катастрофы, раскололся и погрузился в воду огромный архипелаг, протянувшийся от Азорских островов до Гибралтара, а вместе с ним и Атлантида. Значит, чтобы решить задачу, надо продолжить изучение подводных гор Азоро-Гибралтарской системы и прежде всего выяснить, была ли эта огромная горная страна на поверхности океана. А если была, то когда погрузилась? Вопрос — очень важный. Ведь если ее погружение совпадает с эпохой человеческой цивилизации, и особенно со временем извержения вулкана Санторин, то именно здесь могла погибнуть Атлантида!
Убедительный ответ могут дать только дальнейшие подводные исследования.
…Ну а если вслед за Аристотелем и современными скептиками считать, что никакой Атлантиды вообще не было и все это — миф, выдуманный Платоном, то и тогда можно сказать, что миф этот — полезный. Ведь не удалось же алхимикам в средние века синтезировать золото, найти секрет «философского камня», а сколько полезного принесли они науке!
В те дни, когда на «Витязе» исследовали подводные горы в Атлантике, другое судно нашего института «Академик Мстислав Келдыш» проводило их изучение в Тихом океане. Подводным аппаратом на одной из гор были обнаружены признаки богатого месторождения кобальта и меди. Так что первые шаги в океанские глубины сулят человеку открытия не только мифические, но и вполне реальные.
С. Старикович Рангифер
В диких местах человек лишен важнейшего орудия своей власти над природой, которое он для себя выковал и без которого трудно представить себе его жизнь, до такой степени человек от него зависит. Это орудие — способность предвидеть.
Лоис Крайслер. Тропами карибуКарибу, говоря попросту, — северный олень. И не только в зоологической номенклатуре, но и в общечеловеческом понимании, хотя точный перевод слова карибу, бытовавшего сперва лишь у коренных народностей Аляски и полярной Канады, означает разгребатель. Здорово сказано — разгребатель! И наш, и канадский северные олени исчезли бы с лика Земли, если бы перестали разгребать копытами снег, доставать себе пропитание — ягель.
И давайте отправимся в путь туда, где растет ягель, на Север, в недавнем дикий край — на Колыму, а точнее на Рангифер — единственный не только в стране, но и в мире стационар по изучению хитроумнейшей физиологии северного оленя — вроде бы затрапезного, но на поверку очень и очень выдающегося существа. Там мы прикоснемся к энергетической тайне, скрытой за ласковым носом да и во всей не очень вместительной и отнюдь не прожорливой оленьей утробе. Исследования на Рангифере как раз и нужны, чтобы не только предвидеть, но и точно знать пределы возможного для организма северного оленя при тех или иных коллизиях.
Спешу предуведомить: не ждите в тексте столкновений людских характеров, будет лишь эволюция идей. Бытовые зарисовки тоже на заднем плане. Моя цель иная — нарисовать эколого-физиологический портрет преполезнейшего животного. И все же мой герой — северный олень — представляется мне интереснейшей, многогранной личностью, сочетающей в себе покладистый нрав с железной жизнестойкостью. Однако сперва все-таки придется поговорить об ином. Ведь не только наше, но и оленье существование не сводимо лишь к жизнестойкости.
Пожалуйста, примите к сведению, что у по-настоящему бездомного домашнего существа, у которого никогда не было, да и не предвидится ни стойла, ни крыши над головой, у трудяги северного оленя, как и у нас с вами, полно дальних родственников, которым судьба уготовила теплые местечки под солнцем. Особенно повезло так называемым благородным оленям (изюбр, марал…).
И о них, не очень греша перед истиной, стоит сказать несколько нелицеприятных слов. Этих заносчивых копытных благородными назвали скорее всего за высокомерную осанку, вернее, за их манеру высоко держать голову. Северные же олени — сама скромность. И уж, конечно, нос не задирают. Но это отнюдь не означает, будто они склоняют голову перед кем угодно. Наоборот. У северных оленей такой немаловажный инструмент защиты, как рога, венчает головы и самцов, и самок. А ведь этого инструмента начисто лишены представительницы прекрасного пола всех его кичливых четвероногих родственников. И если благородные рогоносцы хоть как-то могут постоять за себя — скажем, при неожиданной встрече с врагом нос к носу, — то их комолые подруги, застигнутые врасплох, беспомощны. К тому же, рогатым главам семейств легко шпынять подруг, не опасаясь получить сдачи. Разве это благородно? Или вот такая фраза из научного фолианта: «В период гона самцы много пьют… и часто валяются в грязи». Красиво ли ведут себя перед свадьбой благородные женихи?
И после всего этого, право, обидно, что кроткого детеныша северного оленя, нетребовательное существо, которому от роду нет и года, зовут издевательски неблагозвучно — неплюй или, того хуже, — неблюй. И не только зовут, а прямо так и пишут даже в самых наиученейших книгах. Правда, новорожденного олененка именуют душевнее — пыжиком, да и мамашу величают ласково — важенкой. Увы, от названий северных оленей разного пола и возраста у непривычного человека рябит в глазах: годовалый олененок уже не неплюй, а лоншак; молодая олениха — вонделка, старая — хаптарка; самец в расцвете сил — гирвас, он же — хирвас, хор…
И за частоколом этих имен как-то ускользает главное. Так вот, будь на то моя воля, я бы переименовал не только неплюя, но и всего северного оленя как такового. Ведь чует сердце, не от хорошей жизни он подался на Север, скажем, из благодатной Швейцарии или с Украины. А может, на Севере он был спокон веку и просто-напросто там его не успели съесть ни волки, ни люди?
Как бы там ни было, но в биографии северного оленя, пожалуй, самое пикантное то, что в недавнем прошлом он чувствовал себя истым южанином. Ну уж если и не южанином, то обычным середнячком — обитателем средних широт. Вот тому доказательства. В каменном веке за вкусным и в общем-то безобидным животным, которое впоследствии стали именовать северным оленем, охотились тогдашние жители тех мест, где потом появились Франция и Швейцария. Пообедав, набравшись сил, древние европейцы иногда увековечивали свои гастрономические утехи — высекали или рисовали на скалах изображения северного оленя или бизона. Кое-какие монументальные произведения такого рода дошли и до нас. Вроде бы не менее весомые сведения гласят, будто на территории древней Германии герой этого очерка пасся еще во времена Цезаря, а на Украине его вроде можно было встретить гораздо позже.
Да и сейчас северный олень обитает не только на Севере, а, например, в Шотландии. Бродит по горам Южной (!) Сибири, по Алтаю. Есть он и в Монголии. Недавно аж перешагнул экватор — его акклиматизировали в Антарктике, на островах Южная Георгия и Кергелен. Как говорится, южнее некуда.
А вот про то, почему, когда и как этот олень пристрастился к Северу, к тундре с ее небезызвестным ягелем, история пока многое умалчивает. Скрыто туманом веков и другое обстоятельство — время одомашнивания северного оленя. Однако со всей категоричностью следует заявить, что этот дар фауны стал приближенным человека только в Евразии. А точнее — в горах Южной Сибири, в Саянах. Ни в Америке, ни в Канаде приблизить оленя не удосужились. С. Б. Помишин в работе «Из истории оленеводства» высказывается за то, что одомашнивание произошло давным-давно, где-то во втором тысячелетии до нашей эры. О времени появления домашних уз есть и материальные свидетельства — деревянные фигурки взнузданных северных оленей (I в. до н. э. — V в. н. э.), найденные в Хакассии. На Чукотке же заря оленеводства забрезжила будто бы позже — в IX веке.
Вот, пожалуй, и все более или менее достоверные пункты в анкете рогатого обитателя тундры. Увы, ему вообще не нашлось места даже в такой книге, как «Древнейшие домашние животные Восточной Европы» В. И. Цалкина, где обстоятельно повествуется о турах и лошадях, свиньях и козах. Встречаются в книге даже хорьки и благородные олени. Но северный олень напрочь отсутствует, наверное потому, что Цалкин обработал только материалы из раскопок в Молдавии, на Украине и Предкавказье.
Этнографию иногда величают сестрой истории. И не заглянуть ли в анналы этой сестрицы? Пожалуй, заглянем.
Так вот олени — надо полагать, не только благородные — фигурировали в свадебных песнях в качестве дивных животных с десятью или даже семьюдесятью рогами. Славянский фольклор утверждал, будто на конце самого последнего рога есть просторный терем, хозяйничает в котором девица-красавица. В старинных русских песнях олени порой выступали и в обличье громаднейшего быка-тура, прародителя домашнего скота. Может быть, это хоть как-то свидетельствует о том, что предки про одомашнивание оленей знали больше нашего? В самом деле, прикиньте — дикий олень, мечтающий при первой возможности улепетнуть от человека, вряд ли бы занял столько места в песнях, религиозных легендах или в житиях святых, где олени то и дело маячат с распятием между рогами.
Шаманы с распятием старались не общаться, но вот без оленей не могли и шагу ступить. Долгие два-три года посвящаемый эвенк готовился к шаманству. Когда он чувствовал, что созрел для таинственной деятельности, делал колотушку для бубна. А сделав и воткнув ее в землю, начинал петь шаманские песни, пока в грезах ему не являлся северный олень, из кожи которого только и можно было изготовить бубен. Сородичи шамана по высказанным признакам (раскраска шкуры, особенности рогов) искали такого оленя порой чуть ли не год. Раздобыв, привозили в стойбище и свежевали. Шаман тут же накидывал на себя шкуру, а охотники стреляли в него из маленьких луков. Только после этого мог получиться кондиционный бубен. Однако новый шаман не мог начать камлать без обновления бубна, для чего губили еще одну оленью жизнь — мазали бубен свежей теплой кровью. Зато потом с помощью такого бубна можно было устанавливать контакты с таинственным невидимым миром.
Долгие века олень для народов Севера был самым крепким связующим звеном между этим и потусторонним миром — кормил, одевал и возил здесь, а потом переправлял душу хозяина в специально отведенное место. И за все труды не требовал никакой компенсации — ни избавления от пытки гнусом, ни хлеба-соли, ни душевного тепла, ласки. В общем, всем обеспечивал себя сам и, не гневаясь, сносил нахлебничество человека, который напоследок, вытянув из него жилы, делал из них нитки. Это ли не вершина самопожертвования среди когорты домашних животных всех времен и народов?!
Суровый читатель, наверное, хмурит брови, мол, хватит патетики, не пора ли брать оленя за рога? Не знаю, право, как насчет рогов, но на Рангифер действительно пора.
Вот и позади солидный отрезок знаменитой Колымской трассы с перевалом Яблоневым, где самый большой перепад высот на здешней автодороге. Едем с ветерком — ширина и состояние полотна дороги, обслуживающей Колыму, таковы, что можно не снижая скорости разминуться даже с громадным встречным грузовиком. Во всяком случае, скорость 70 км в час чрезмерна. А кое-где «Запорожцы», «Москвичи» — и прочая личная техника, которой тут предостаточно, — могут нестись чуть ли не во всю прыть.
Позади вкусный и недорогой обед в придорожной столовой УРСа «Северовостокзолото»: брусника с сахаром, маринованные подосиновики, щи… Поев, заправили коня — фургончик Ульяновского автозавода. В машине десятеро: четверо хозяев — сотрудников магаданского Института биологических проблем Севера АН СССР, и гости — ваш корреспондент и другие участники X Всесоюзного симпозиума, поименованного очень сходно с названием института-организатора — «Биологические проблемы Севера».
Заседания и доклады тоже позади, теперь черед научных экскурсий.
Именно поэтому в кузове на полу ерзает ящик с сухим пайком, к которому, однако, чтоб не был совсем сухим, придана батарея бутылок с местной «Тальской» минеральной. На этикетках черным по белому написано: вода столовая, но пить ее разрешено лишь по стакану в день. А на местных же бутылках с более серьезным содержимым таких страшных надписей нет. Надо же!
Наконец машина сворачивает на старую лесовозную дорогу: домик стационара Рангифер, принадлежащий институту, стоит в 30 километрах от трассы, неподалеку от мест, где пасут оленей. Здесь сопки покруче, лиственницы не в два человеческих роста, а повыше. Брусничный ковер под ними погуще. В долине — озерки и озера блестят на солнце. По пути хозяева дают разнокалиберные пояснения — в этом озерке недавно утонул трактор, но его скоро вытащат; глубина вот этого озера неизвестна — когда меряли, не хватило стометровой веревки…
Вечереет. Сергей Владимирович Задальский — неутомимый опекун Рангифера, рассуждает, что хорошо бы засветло переехать речки, особенно реку Яму с верткими камнями на дне. Ибо дальше дороги, в общепризнанном смысле слова, нет. Машине нужно продираться по скользким камням в русле ручья, и по вязкому месиву протаявшей вечной мерзлоты. Ну что ж, по месиву, так по месиву…
Не судьба! Сломалась полуось заднего колеса. И пока шофер делал так, чтобы задние колеса могли хотя бы катиться, наваливается тьма-тьмущая. Но добраться до оленей все-таки еще есть шанс — у «уазика», как известно, два ведущих моста. И вот, влекомые передними колесами, мотаемся на рытвинах и камнях, которые в качающемся свете фар кажутся серьезными препятствиями. Но это цветочки, ягодки — впереди. И в первой же ягодке наполовину лишенная движителя машина встает намертво — замирает посреди речки Майманчан.
Коротаем ночь то в фургончике, то выскакиваем на близлежащий галечный островок. Жжем стволики лиственниц, которые паводок притащил сюда. От здоровенной, не растаявшей за лето наледи, в которую чуть ниже впивается Маймачан, ползет туман. Холодно. Бутылки без страшных надписей на этикетках пустеют, едва согревая и вовсе не поднимая настроения — близок локоток, то бишь Рангифер, да, наверное, теперь не укусишь.
Но сверкнула гениальная идея и окрасила ночь в радужные тона: нас десятеро, а на Рангифере много болотных, до пояса сапог. И если сапоги притащить сюда, неужто не протолкаем машину через речки? Посуху-то она и сама небось пойдет… И Александр Яковлевич Соколов — шеф группы по изучению биоэнергетики северного оленя, молчаливо маявшийся именно в таких сапогах от самого Магадана, не дождавшись рассвета, пускается в 12-километровый вояж.
Потом, когда мы чаевничали в уютном двухэтажном бревенчатом домике Рангифера, он сказал: «Все решили сапоги». И вправду, без двух рюкзаков резиновых сапог-вездеходов, доставленных к Майманчану, машину бы не протолкать ни босиком, ни в городских штиблетах. Вода холоднющая, кое-где с корочкой льда, а камни на дне скользкие как мыло.
Пьем чай. А рядом с лиственниц опадает хвоя. И все вокруг, даже мягкий моховой ковер, в котором приятно утопает нога, посыпано этими хвоинками, словно нежным песочком. Неподалеку деревянная изгородь экспериментального корраля — сюда для опытов приводят оленей. Вернее, приученные олени, почуяв работу, сами направляются туда. Они знают, что после не очень-то обременительного опыта тут же получат шикарную зарплату — толику комбикорма, до которого весьма охочи.
А уж коли так, то не побеседовать ли нам поначалу не об экспериментах, не о лакомстве, а о первооснове трудной оленьей жизни — ягеле?
Похоже, олени самые совестливые едоки из всех, кому природа накрывает стол.
Лоис Крайслер. Тропами карибуС этим высказыванием Лоис Крайслер можно поспорить. Совестливы не только олени. Зайцы, кролики, бобры и некоторые другие создания относятся к еде с превеликой экономией и частенько дважды съедают обед. Более того, зверьки-вегетарианцы собственными силами, с помощью кишечной микрофлоры, из коры и трав готовят белковые блюда и витаминные приправы группы В, появляющиеся на свет не совсем обычным способом — из-под хвоста. Свое всегда вкуснее. Вот для непривычного человека не очень аппетитное, но зато достоверное описание специалистом такой трапезы: «…бобр садится, подвернув под себя хвост и согнувшись так, что позадитазовая область располагается перед его мордой. Передними лапками он начинает массировать область клоаки. Затем с громким звуком извергает из клоаки кал и с причмокиванием пожирает его, подтягивая при этом клоаку лапками ко рту». Зайцам, чтобы слопать собственное кушанье, так изворачиваться не надо: катышки сами падают из-под хвоста.
И все-таки Крайслер права. Зайцы и бобры экономят то, что побывало у них в животе и транжирят в зеленой столовой. Так, бобры, ничтоже сумняшеся, бросают наполовину подгрызенное дерево, которое потом засохнет. Дикие же северные олени не разоряют скатерть-самобранку — тундру. И оленей много в тундре потому, что они не портили жизнь ягелю, не подрывали его естественное воспроизводство. К сожалению, домашние северные олени не очень совестливы и с ягелем не церемонятся. Почему и как это безобразие получается — вскоре будет сказано.
Ныне топтать ягель, олений мох, в котором так приятно утопает нога, все равно что топтать кусок хлеба на глазах страждущего. И все-таки этим неприятным делом однажды занялись достойные люди — сотрудники Института экологии растений и животных АН СССР. В трудах симпозиума рассказано, как они, выбрав в тундре типичные площадки пять на пять метров, ранней весной стали их усердно топтать, а потом смотреть, что из этого выйдет. Вышло же то, что после 2000 шагов лишайники и мхи словно растаяли, кустарнички исчезли почти наполовину. Зато пушица, осока и мятлик тут же заняли чужое место под солнцем. Занять-то заняли, но не зацвели — цветение наладилось лишь на третий год после топтанья. Дальнейшие наблюдения поведали о серьезной травме — жизнь сообщества тундровых растений там, где научные сотрудники на славу поработали ногами, вернется на круги своя лишь через десятилетия.
Стада домашних оленей волею человека то и дело теряют совестливость — топчутся на месте. Летом в Якутии в километровом радиусе от палатки пастуха олени невольно съедают половину растений, а в полукилометре — 60–70 %. На Таймыре зимой из-под снега домашний олень, ставший почти оседлым, достает половину того, что растет на пастбище, а треть — вытаптывает. И так далее, и тому подобное. В результате складывается неважная картина. Вот ее фрагменты. В Беринговском районе Магаданской области оленьи пастбища уменьшились почти наполовину. В южной тундре междуречья Енисея и Хатанги лишайники вовсе сошли на нет.
Но это еще что — нежные ягельники терзают колеса тракторов и гусеницы вездеходов, их гложут пожары, любая буровая поганит вокруг себя все что можно и все что нельзя. Из-за этих и других напастей, по мнению сотрудников Государственного научно-исследовательского центра изучения природных ресурсов, страна ежегодно теряет 2–3 % ягельников. Прикиньте — если так пойдет и дальше, через сколько лет северному оленю нечего будет кушать?
Прикинули? Ужаснулись? Конечно, это невероятно. Конечно, так не будет. Не век бушевать пожарам. Сделают же, наконец, снего-болотоходы на воздушной подушке, которые перестанут калечить тундру. Внедрится же в головы всех хозяйственников немудреная истина, что сердцевина оленеводства — это рачительное пользование круглогодичными пастбищами, и численность стад обязательно должна соответствовать их емкости. А за наукой дело не станет. Знаток оленьей проблемы профессор В. Н. Андреев из якутского Института биологии полон надежд. Выступая на пленарном заседании симпозиума, он выстреливал в зал доводы один железнее другого. Из доводов складывалась картина, что и на нынешних выпасах за счет оптимизации системы олень — пастбище Север способен дать не 40 тысяч тонн оленины, как сейчас, а 60, да еще от диких оленей без особых хлопот можно добыть кусище мяса в 8–10 тысяч тонн.
Но мясо мясу рознь. Затраты на промысел и доставку столь велики, что мясо дикого оленя пока впятеро дороже домашнего. Поэтому-то и встречаются в серьезных книгах фразы вроде вот этой: «Экономически невыгодно создавать для оленей новую среду обитания: заготовлять корм, оборудовать помещения и т. п.» Как будет дальше? Поживем — увидим. Но чтобы научно обоснованная мечта стала былью, настала пора неукоснительного соблюдения пастбищной дисциплины, сооружения или маркировки длиннющих изгородей для разграничения владений дикого и домашнего оленей, и прочая, и прочая.
Историки уверяют, будто цивилизация не только сейчас, при молниеносном росте населения, а спокон веку хронически мается белковым голодом. Так, в Древнем Риме крестьянина, отважившегося зарезать свою собственную скотину, ждала страшная кара, вплоть до смертной казни. Зато на лукулловых пирах знать могла до отвала тешиться муренами, говядиной или крохотными поджаренными язычками жаворонков. Иногда подавали и бешено дорогое, чуть ли не на вес золота мясо экзотического лося. Но для простонародья, в особенности для горожан, мясо всегда было и сегодня во многих странах (особенно африканских) все еще остается редким праздничным угощением. И количество мяса, приходящегося на душу населения, не просто экономический показатель, а категория социальная. По крайней мере так считают солидные исследователи.
И хотя молва твердит, будто на вкус, на цвет товарища нет, смею вас уверить — оленина много лучше лосятины. И если лосятина пока еще экзотична, то олениной запросто торгуют в магазинах Норильска и других заполярных центров, а жаркое из мяса северного оленя — обычная вещь в столовых тамошних маленьких поселков.
С легкой руки Ильфа и Петрова повелось верить, что статистика знает все. Так вот, если обратиться к статистике, то она нас порадует — по поголовью северных оленей мы впереди планеты всей. У нас в стране пасется более трех четвертей домашних оленей мира. В США, на Аляске, и в Канаде их жалкие пустяки — менее полутора процентов, остальные щиплют ягель в Швеции, Финляндии и Норвегии, где, однако, оленеемкость пастбищ почти исчерпана.
И если население планеты на наших глазах стремительно перевалило аж сразу за пять миллиардов, то мировое поголовье северных оленей более или менее стабильно и держится где-то возле четырех с половиной миллионов особей, из коих почти три миллиона домашних. По-моему, это не капля в море. Тем более что оленей никто не кормит и не поит. И на рубль затрат наши оленеводческие хозяйства получают никак не меньше двух рублей прибыли от продажи мяса и шкур.
Как ни странно, великие преимущества регулируемого оленеводства на Западе поняли недавно — лишь в последние десятилетия появились соответствующие исследовательские коллективы в Скандинавских странах и на Аляске.
Оленеводство чрезвычайно выгодно и экологически. Пожалуйста, вдумайтесь в высказывание профессора В. Н. Андреева, которое я заимствовал из его статьи в журнале «Экология». «В биологическом круговороте особая роль оленеводства заключается в том, что с его помощью ценная, хозяйственно полезная продукция создается на основе не используемого ни в одной из форм человеческой деятельности природного ресурса — оленьих пастбищ. В СССР оленьи пастбища занимают не менее половины территории Крайнего Севера. Проблемы рационального использования биологических ресурсов и охраны окружающей среды на этой огромной территории не могут решаться без учета оленеводства — его влияния на весь природный комплекс Севера».
Краеугольный камень оленеводства покоится на ягеле. Так что же такое ягель, знаменитый олений мох? Это дружественное сообщество, букет из трех лишайников, именуемых кладониями (альпийская, лесная и оленья). Наш рогатый герой уплетает и другие лишайники, те, что растут на скалах и деревьях (уснея, алектория и прочие). Всего в его меню полсотни лишайниковых блюд, однако ягель — превыше всего. Это любимая, предпочитаемая четвероногими младенцами и стариками еда, на которую обычно приходится две трети того, что попадает в лохматые животы. Летом язык и нутро олень балует еще и травами, брусникой, грибами, веточками полярной ивы… И не только балует, а в усвоенном виде заготавливает впрок. На зиму. Но и летом, когда вокруг столько съестного, олень от ягеля морду не воротит. На то есть весомая причина — отсутствие в рационе лишайников чревато расстройством желудка.
Однако ягель достоин и порицания. Ведь у него немало общего с быстрорастворимым сахаром-рафинадом, правда очень жиденьким, — лишь углеводы и сущие крохи белков, витаминов, минеральных солей. Попробуйте месяц-другой посидеть на диете из чуть сладенького чая. Нет, не пробуйте — добром вряд ли кончится. Ведь как раз из-за обожаемого и не очень калорийного ягеля оленю приходится уподобляться аккумулятору, чтоб летнего белково-витаминно-солевого заряда хватило на длиннющую свирепую северную зиму.
Чего это стоит! Чтоб перенести солевую голодовку, олень заблаговременно, еще летом, запасается солями во все тяжкие: лижет морскую пену на побережье, ищет сдохшую гнилую рыбу, глодает чужие рога; приходится уподобляться хищникам, ловить полярных мышей — леммингов. Казалось бы, проще простого: взять да и накормить оленей солью до отвала. Это только кажется — корабли тундры попадут из огня в полымя — наевшись соли, начнут страдать от жажды. Снегом-то вволю не напьешься. А про поилки в скованной морозом тундре пока ничего не слышно.
Физиологи недавно выяснили, что за зиму живой аккумулятор тратит все резервы, вплоть до того, что «переваривает» пятую часть своих мышц по весу. Из костей вымывается кальций, и они, ясное дело, от этого крепче не становятся. Безжалостная рука витаминного, минерального и белкового голода стискивает оленье горло. Но отступать некуда — кроме него, ни одна из божьих тварей не может заполнить экологическую нишу, где нескончаемую полярную зиму придется сидеть на тоскливой диете из ягеля и снега, которые природа не удосужилась даже посолить.
В работе финского биолога X. Хиваринена «Пищевая адаптация северного оленя к зимним условиям» отчетливо звучит призыв к коллегам как можно быстрее найти биохимические и прочие объяснения оленьего феномена. К живому сейфу уже начали подбирать ключи. Вслед за другими исследователями Хиваринен предполагает, что оленья утроба даст сто очков форы заячьей или бобровой. Еще бы — нутро северного оленя способно многократно использовать дефицитные вещества. Так, истощая свои кости, олень не разбазаривает их содержимое направо и налево — у него «происходит рециркуляция неорганических веществ между организменной жидкостью, тканевым пулом и пищеварительным трактом». Вот так-то.
Пожалуй, наиважнейший внутриолений круговорот — это круговорот азота, которого мало. За пределы организма олень не выпускает даже азот слюны. Но это еще что — жизнь рогатого корабля тундры, как и других жвачных, воедино спаяна с квартирантами — микробами, обосновавшимися в рубце. И не прелюбопытно ли, что оленьи бактерии обслуживают хозяина на манер бригады сезонников — зимой отдыхают, резко снижают ферментацию. Однако микробный синтез белка все же теплится. И это принципиально важно — к рафинаду, то бишь ягелю, олень добавляет толику белка, синтезированного собственными руками, вернее, собственными бактериями. Азотным же сырьем для этого синтеза служит — опять-таки внутренний, для большинства тварей земных бросовый ресурс — мочевина. Будучи полноправным жвачным, олень может свести к минимуму выброс этого чудесного для него вещества во внешнюю среду. Не мочевина ли помогает северному оленю зимой ноги не протягивать? Если это так, то с его точки зрения разбрызгивать желтую жидкость все равно что расставаться с жизнью.
И вот тут самое время обратиться к словам профессора А. А. Яхонтова: «Единственное, чем пользуется олень от человека, — это человеческая моча, к которой в зимнее время олени проявляют особую жадность, так как чистый снег не дает им необходимых солей, имеющихся в обычной питьевой воде. Оленям скармливают политый мочой снег, благо этот „продукт“ всегда скапливается около жилья, а свежей жидкостью пользуются для того, чтобы подманить упряжного оленя». Это написано лет двенадцать назад. Теперь-то мы знаем, что магнетическая сила желтых пятен на снегу заключена не столько в солях, сколько в азоте, коим богата жидкость, бездумно изливаемая человеком наружу. А впрочем, не столь уж бездумно — существует версия, согласно которой судьба заставила оленя променять свободу на эти желтые разводы на снегу. Азотный голод — не тетка…
Версий много. Но добывать факты труднее, чем плодить версии.
Тундра — это мир вне нашего мира, это тонкий покров мхов и лишайников, разостланный над толщей льда, под небом, где летом солнце не садится, а зимой не встает, где северное сияние призрачно-бледными огнями перебегает между звездами.
Лоис Крайслер. Тропами карибуВверх по долине в нескольких километрах от симпатичного двухэтажного домика Рангифера, вобравшего в себя лабораторию со всякими там самописцами, жилые комнатушки и небольшую кухню с «кают-компанией», там, где лиственницы растут совсем уж не густо, бригада орочей присматривает за совхозным стадом в 1400 голов. Я не оговорился, именно присматривает — олений пастух не бегает с кнутом за своими подопечными и не скачет на лошади в поисках отбившихся непутевых созданий. Здешнее стадо, так сказать, за решеткой: долина перегорожена плотной деревянной изгородью. Плотной настолько, чтоб не протиснулся и олененок. Стоит удрать одному, как остальные ринутся за ним. Видно, страсть к перемене мест еще угасла не совсем.
Раздвигаем то, что могло бы именоваться воротами, и, проникнув за ограду, тщательно заделываем вход. За решеткой вольготно — оленьи группки, пасущиеся вдали, не очень-то разглядишь без бинокля. А разглядеть хочется. Кручу головой — вон группа, занятая весьма уважаемым делом — жвачкой, а вот те аж на склон забрались… Продираясь сквозь кедровый стланик к подножию сопки, где белеют видавшие виды брезентовые палатки, замечаю, что возле них слоняются упитанные, с лоснящейся шкурой ездовые олени. Мне тут же поясняют: в упряжку берут крупных самцов, и чтоб они не теряли уйму сил во время гона и вообще были сговорчивей, спокон веку их кастрируют. Вот те на!
Подходим. Навстречу вылетают заходящиеся лаем здоровенные оленегонные псы. Когда владельцы их утихомирили, последовали взаимные приветствия. Осматриваюсь. Из брезентовых боков палаток торчат трубы буржуек. Скоро затрещат морозы, да, по правде, и сейчас не жарко. От палатки к палатке тянутся провода, кои берут начало в переносном генераторе, виднеющемся поодаль под деревом. В одной из палаток рация — связь с совхозом обязательна и ежедневна.
Раньше говаривали: «Где два оленя пройдут, там тунгусу большая дорога». Теперь-то палатки и утварь с места на место перетаскивают в основном вездеходы…
И прежде чем пуститься в рассуждения о заботах оленеводов или про иерархию стада, давайте посмотрим со стороны на жизнь бесхозных оленей, за которыми нет никакого присмотра. Поинтересуемся бытом дикого оленя, чьи стада, несмотря на все невзгоды, растут не по дням, а по часам. Хотя на него нынче ополчились не только браконьеры, но и оленеводы. Мол, и такой он и сякой. А он — хороший. Правда, не во всем безгрешен, но к главным преступлениям, приписываемым ему, непричастен. Во всяком случае, строгая научная экспертиза реабилитировала четвероногого обвиняемого, которому инкриминировали стравливание пастбищ, подпитывание очагов инфекции, увод домашних оленей.
Первое обвинение было опровергнуто цифрами и наблюдениями за примерным пастбищным поведением обвиняемого. Он всегда бережливо относится к тому, что растет под ногами в силу для нас дурной, но для него спасительной привычки есть на ходу. Осмотр места происшествия в Якутии, где рогатых обвиняемых сейчас более 100 тысяч (на Таймыре их полмиллиона и всего 55 тысяч потенциально потерпевших — домашних оленей) показал, что бродяги летом изымают с пастбищ в пять — десять раз меньше биомассы, чем их домашние собратья. Зимой из лунки они берут втрое или впятеро меньше, чем домоседы. Так кто стравливает пастбища?
Второе обвинение вообще повисло в воздухе — инфекционная обстановка среди дикарей благополучнее таковой в огромных малоподвижных домашних стадах. Третье же обвинение, простите, не по адресу — смотреть за тем, чтоб домашняя скотинка далеко не отлучалась, должны пастухи, а не дикие бродяги, напрочь незнакомые с колхозными правилами.
Но вообще-то бродяги не промах. Вот одна история. Долгие годы те бесхозные корабли тундры, которые зимовали на Ямале, на лето отправлялись на дачу — на близлежащий остров Белый, где можно отдохнуть от оводов и других кровососов. Недавно они вознамерились прописаться там постоянно. И зря. Пастбище на Белом не ахти. И когда в апреле 1981 года оседлое оленье население острова приблизилось к двум тысячам, с пропитанием стало туго. Раздались призывы спасти от несознательных оленей тундру, а их самих от мучительной голодной смерти. Но олени, наверное, поняли, что почем, и не стали ждать пуль — осенью того же года все до единого ушли на материк. (На островах советского сектора Арктики сейчас обитает примерно 16 тысяч диких северных оленей.)
Однако, если вам кажется, будто рогатые бродяги всюду могут идти куда вздумается, вы примете желаемое за действительное. Север не тот, что раньше. И на исконных путях естественных миграций там и сям выросли такие баррикады, что на их приступ олени и не отваживаются. Еще бы! В стародавние времена при охоте на северных оленей небезуспешно пользовались тем, что те боялись переступить лыжню. А теперь надо переступать тракторные колеи, газопроводы… Дабы не подливать масла в огонь, ограничусь цитатой из трудов симпозиума: «Задержка диких оленей перед газопроводом Норильск — Мессояха, скученный и беспокойный их выпас здесь приводят к вытаптыванию и стравливанию пастбищ, чего не наблюдается в условиях естественной миграции. В последнее десятилетие в период осенних миграций у линии газопровода ежегодно скапливается до 100 тысяч голов. При попытке обойти препятствия часть животных (3–5 тыс.) попадает в зону промышленных сооружений Норильского комбината и частично гибнет от браконьерства и истощения. Предложенный проект направляющих изгородей вдоль промышленных сооружений выполнен не полностью, построенные отсечные изгороди не ремонтируются. Отрицательное влияние оказывают и старые изгороди в долинах гор Путорана, использовавшиеся для содержания домашних оленей. С началом круглогодичной навигации на Енисее отмечается гибель оленей в крошеве разбитого льда после прохода судов».
В Скандинавских странах, где, прямо скажем, диких оленей не густо, в местах серьезных препон на пути их миграций не поленились построить, как сообщил журнал «Охота и охотничье хозяйство», покрытые естественным грунтом мосты шириной 10–15 метров. Для отпугивания же оленей от автодорог и прочих губительных мест там в ходу полосы мешковины шириной в метр, усеянные яркими пластинами, которые давят на оленью психику своими флюоресцирующими красками. Бег оленей изменяют и самые простецкие направляющие темные полосы, нарисованные на снегу порошкообразными красками, той же золой. Так что для разгребателей снега не везде стоит огород городить.
Когда-то в Туруханском крае местные жители, зная, где олени переплывают реки, гнали их между двумя суживающимися заборами, ведущими к обрыву. В воде под обрывом натягивали сеть покрепче, и запутавшихся в ней рогатых пловцов добивали дубинами, а тех, кто все-таки вырвался, догоняли на лодках. Сейчас такого варварства, конечно, нет. Но если вы решите, будто там, где на естественных путях миграций не выросли искусственные препоны, у оленей все идет как по маслу, вы опять-таки примете желаемое за действительное. И да простит меня читатель, снова кровавая цитата, на этот раз о бедствиях на реке Пясина. «Реку шириной 1000–1100 м при температуре воды 8–10° олени пересекают за 12–15 мин. Снос по течению незначителен и составляет в среднем 150–200 м. На переправах происходит значительный отход телят в возрасте 7–15 дней. (Представляете — на губах еще молоко не обсохло, а уже километровый заплыв! — С. С.) Гибель, как правило, происходит после преодоления реки в 2–5 м от берега. Слабые телята увязают в иле прибрежной полосы по скакательный сустав и не могут выбраться на берег. Через 2–3 часа теленок ложится в воду, затем погибает».
Неужели ничем не помочь? А что, если вычерпать или завалить смертоносную полоску ила? Конечно же кое-кто возразит, мол, это пустяк, есть беды и пострашнее — ящур, копытная болезнь, гнус, волки… Но по мне, чем меньше бед, пусть даже пустячных, тем лучше. Да и как можно счесть пустяком чью-то жизнь?
А ведь нынче срок жизни, если и не всей когорты диких оленей, то существенной ее части, предрешен заготовщиками, но подчас не лучшим образом. На той самой Пясине бригады профессиональных охотников подкарауливают оленей осенью, и, бывает, в сутки по 500–600 разгребателей расстаются с жизнью. Их тела отнюдь не всегда превращаются в бифштексы или рагу, потому что превосходное, не боюсь сказать — деликатесное мясо долгие месяцы валяется в тундре и попадает в магазины в таком прискорбном виде, что люди не хотят его брать. Недавно «Комсомолка» писала, например, о продукции отстрела, которая до весны лежала в мерзлотнике таймырского совхоза «Волочанский». Оленина долежалась до того, что стала, мягко говоря, некондиционной. Тонны мяса пришлось мыть, зачищать и подрезать. И все равно оно пошло не в магазин, а на промышленную переработку. «Комсомолка» не раз била тревогу о прорехах и неувязках в промысле северного оленя на Таймыре. Самый явный недостаток вылился в хлесткий газетный заголовок: «Нужен тундре холодильник».
Эх, если бы добытую оленину тут же грузили в вертолеты, а те спешили бы в Норильск или Дудинку! А если вертолету далеко, и рейс влетает в копеечку, мясо бы хорошенько заморозить до поры до времени. Так вот: промысел даст деликатес, когда обзаведется емкими скороморозильными установками, когда катер-рефрижератор или судно посолиднее (они пока что в мечтах) начнут усердно собирать мясо с горячих мест — с промысловых точек. И тогда до городской кухни сможет добраться и та треть мяса, которая сейчас по замерам ветеринаров попросту выбрасывается при разделке убиенных рогатых бродяг на берегу Пясины.
Поживите достаточно долго среди дикой природы, и вы почувствуете себя изгоем — все живое будет сторониться вас. Тень человеческой жестокости покрывает Землю. Незаметно для нас самих она омрачает и наши души.
Лоис Крайслер. Тропами карибуЖизнь пыжика, пусть самого что ни на есть домашнего, начинается не в теплом коровнике, а на чересчур свежем воздухе, порой в весеннем сугробе. Важенка тщательно вылижет новорожденного, чтобы он не заледенел, обнюхает, покормит, и спустя считанные часы маленький кораблик тундры готов пуститься в странствие. Ясно, что для круглогодичных променадов в студеных краях требуется отменная спецодежда. И у северного оленя она есть.
Специалисты по синтетическим тканям мечтают скопировать олений мех с полыми волосками. Если они умудрятся перенять эту особенность, то люди, возможно, перестанут зябнуть в синтетических шубах. У оленьей одежды есть и другое завидное качество: зимой кончики волосков разбухают, утолщаются, и мех становится чем-то вроде брони, которой ветер нипочем.
Величину теплоизоляции принято выражать в так называемых кло. Так вот, зимой олений мех дает теплоизоляцию в 7 кло, а мех белки — всего 2,5 кло. По этим самым кло среди наземных млекопитающих северного оленя перещеголял, пожалуй, лишь песец. Однако любая палка о двух концах — защита может обернуться помехой. И хотя летом одежда оленя скромнее, она все равно заставляет изнывать от жары. Разгребатели норовят прилечь на нерастаявший снег или стоят как истуканы в ледяной воде. Но и истуканят со смыслом — в жару это способствует пищеварению.
Наговорил я тут про оленя и то, и се, и это… И кому-то может показаться, будто рогатый зверь досконально исследован со всех сторон в мельчайших подробностях. Что вы! Наука про оленя пока знает меньше, чем не ведает. Олень, так сказать, плавает в океане незнания. Копилка сведений о нем полупуста. В ней меньше фактов, чем, например, в дельфиньей копилке. А ведь дельфины, в отличие от оленя, не живут с нами бок о бок долгие века и резвятся сами по себе в морях и океанах.
Про веселый нрав, звуковой локатор и прочие достоинства дельфинов бойко рассказывало радио. Телевидение демонстрировало игровые, научно-популярные и мультипликационные фильмы. Биологи и писатели плодили монографии, газетные статьи и детские книжки. И теперь граждане планеты впитывают информацию о дельфинах чуть ли не с пеленок.
Северный же олень почему-то остался на обочине извилистой дороги прессы. Да и научные силы, занимающиеся им, куда скромнее армады дельфинологов. Результат всего этого досадный — сведения о причудливой физиологии преполезнейшего обитателя тундры и о его анатомии пестрят белыми пятнами и уж, конечно, не доходят до широкой публики. Вот только один факт.
Знаете ли вы, что в сердце северного оленя засела самая что ни на есть всамделишная кость? Это не заноза и не камень за пазухой — олень не мнителен и не злопамятен. И не уникален — кость непременная принадлежность сердца пышущей здоровьем овцы, сайгака, коровы…
В пятидесятых годах зоологи сильно удивились, узнав о не совсем обычном обнаружении оленьей сердечной косточки. В своем высокомерии наука редко прислушивается к практике, но на сей раз ученого мужа просветил пастух. Когда один из научных работников, препарируя для скелета кости северного оленя, отпрепарировал последнюю и с удовлетворением вздохнул, помогавший ему местный житель сказал, что тут кости не все. «Как так не все?! Мы же аккуратно подобрали весь скелет». — «Скелет — да. А у оленя есть еще кость в сердце». Честь и хвала препаратору, отбросившему фанаберию. Вскрыв оленье сердце, он обогатил науку еще одним фактом, который, однако, до сих пор должным образом не истолкован.
Прямо-таки злость берет, что с тех пор этой витиеватой косточкой никто из ученого люда толком не заинтересовался. Удивительно, как она вырастает в отдалении от других частей скелета, где кость за кость так и цепляются. Но все же кое-что сделано — правда, не на северном олене. В 1964 году новосибирский биолог Н. П. Садовская защитила докторскую диссертацию о строении клапанов сердца рыб, ящериц, гусей и уток, кротов, крыс, морских свинок и кроликов, кошек и собак, а также свиней, коров и лошадей. Сердца этой разношерстной компании, положенные на алтарь науки, позволили исследовательнице впечатляюще назвать одну из глав диссертации: «Скелет сердца».
У млекопитающих скелет что надо, у прочих обитателей планеты какой-то квелый — у рыб перетяжки из сухожильных нитей, у птиц так называемое фиброзное кольцо, которое пучками коллагеновых волокон вплетено в ткань миокарда, у серых крыс — хрящ, у лошади — пластинки. Про сердечные тайны рогатой живности в диссертации черным по белому написано: «У овец и коров в фиброзных треугольниках имеется кость. У молодых животных здесь расположена хрящевая ткань, на месте которой у взрослых животных развивается пластинчатая кость с хорошо выраженными Гаверсовыми каналами. Внутри кости имеется полость, заполненная красным костным мозгом. По мере старения животного красный костный мозг, заполняющий полость кости, заменяется желтым костным мозгом».
Общий же вывод таков: «В скелет миокарда представителей различных классов позвоночных животных входят все виды соединительной ткани: рыхлой, плотной, хрящевой, костной и ретикулярной, со всеми присущими ей свойствами (вплоть до кроветворения у копытных млекопитающих)».
Шли годы, и коровьими сердцами увлекся кандидат ветеринарных наук Е. М. Пяткин. Его фотографии сердечных косточек, напоминающих миниатюрные бумеранги, были напечатаны в журнале «Химия и жизнь». В разговоре со мной (я редактировал этот материал) Пяткин развивал интереснейшую мысль. А что, если «сердечное кроветворение» в той самой косточке, которая имеется и у северного оленя, играет роль регулятора, синхронизирует дыхательные и окислительные процессы в организмах жвачных животных, задает ритм обмену веществ? Не любопытно ли? Если и в самом деле окажется, что это так, станет четче понимание и кое-каких сердечных недугов человека. Вот как далеко может увести изучение одной-единственной косточки.
Но не костью единой славен разгребатель — парнокопытные родственники северного оленя обходятся двумя легкими, а он зачем-то обзавелся третьим. Сперва думали, что третье легкое — это подспорье для быстрого бега по снежной целине. Но выяснилось, что на бегу олень потребляет всего в семь раз больше кислорода, чем в полном покое. (Нам во время бега надо в 10–14 раз больше кислорода, чем обычно.) Значит, чтобы удрать от волков, ему хватило бы и двух легких. Природа не прощает излишеств. И ею северный олень скроен на совесть. Зачем же ему столько легких? Олень молчит, а физиологи начинают склоняться к тому, что третье легкое может служить дополнительной печкой, обогревающей его изнутри. Не удивляйтесь — в легких млекопитающих при окислении жиров выделяется тепло. А тепло — первейшая необходимость в зимнюю стужу, особенно когда нет ни крыши над головой, ни костра под боком.
Вот мы с вами и добрались наконец до того, чем занимаются на Рангифере, до биоэнергетики северного оленя.
Стационар Рангифер — младенец, ему нет и десяти лет. И работают на нем четверо довольно молодых специалистов, причем работают почти круглый год. Летом их поедом ест комарье, зимой мороз старается пробрать до костей. Научные сотрудники с самым обычным цинковым ведром ходят по воду к ближайшему ручью, а зимой в таком же ведре растапливают лед и снег, сами рубят дрова, сами на здоровенной печке-плите готовят обед. И уж когда совсем невмоготу, едут к семьям в Магадан, благо до столицы Колымы не так уж и далеко. В городе они выглядели совсем по-городскому: костюмы, галстуки, никакой экзотики, даже бород нет. А здесь смотрятся по-домашнему — ватники, меховые куртки и сапоги на Рангифере гармоничнее вписываются в окружающее естество, нежели галстуки.
Изюминка здешних исследований в том, что удалось выявить корреляцию между частотой оленьего пульса и энерготратами животного. Иначе говоря, регистрируя биения оленьего сердца, можно сравнительно легко и быстро подсчитать, сколько энергии тратит олень, чтобы повернуть голову, или сколько калорий улетучивается в окружающую среду, если над рогатой головой промчится самолет, взбудораживший мирное существо. Фантастика? Нет. Уже зарегистрированы энерготраты, например, на жевание: во время жвачки траты возрастают на 6 % по отношению к полному покою.
Зачем все это? Вот зачем. Вспомните — олень подобен аккумулятору, расходующему зимой энергию, накопленную летом. И в том, чтобы вегетарианский аккумулятор разряжался помедленней, а не вконец измочаленным дотягивал до весны, заинтересованы не одни олени, но и мы с вами. Узнав, сколько энергии отвел естественный отбор на ту или иную форму поведения, можно будет не только давать прогнозы энергетики популяций (стад), но и корректировать эту энергетику.
На бумаге все просто. А на деле приходится битый месяц приучать рогатого подопытного, чтобы он не протестовал и не нервничал, когда ему на холку, бок и крестец прикрепляют датчики, которые будут ловить биения оленьего сердца. Но на одних биениях далеко не уедешь. Их нужно сопоставить с газообменом, свидетельствующим о том, на какую мощность олень запускает свой энергетический котел в той или иной ситуации. А чтобы познать газообмен, на лохматую морду надо надеть маску со шлангом и собрать выдыхаемый воздух в пустую оболочку от аэрозонда. Потом выдохнутую оленем смесь пропускают сквозь газоанализатор. И лишь тогда можно сопоставить пульс со скоростью обмена веществ, то есть с конкретными энерготратами. Вот несколько цифр. Зимой сердце лежащего оленя делает 35 сокращений в минуту, летом — 59. Зимой при ходьбе — 60 ударов в минуту, летом — 80. Отсюда недалеко до вывода, что зимой энергетическая стоимость каждого оленьего шага на 20 % дороже. И не потому ли он зимой лежит куда больше, нежели летом? Конечно, поэтому, но еще и потому, что зимой приходится вести тяжелые снегоройные работы — доставать ягель.
Такая энергостатистика, собранная на все сезоны года и на все главные случаи оленьей жизни, и даст нам в руки рецепт для уменьшения разрядки живого аккумулятора. Невысокий, кажущийся хрупким, Александр Яковлевич Соколов, руководящий такого рода исследованиями, чуть заикаясь, тихонько, но неумолимо сетует:
— Мы пользуемся радиотелеметрической установкой «Спорт». Она сконструирована для стадиона, для спортсменов, а не для оленей. Ее чувствительность и дальность действия ниже всякой критики. Правда, есть еще аппаратура «Опыт-4», применяемая в исследованиях по физиологии труда. Но и это не то, что надо. Ее передатчик тяжел и боится не то что мороза, а и дождя.
А вот зарубежные зоологи, — продолжает Соколов, — в брюшину медведя гризли вшивали автономный передатчик размером с сигару. Радиус действия — 10 километров, рабочий ресурс — год. Представляете, сколько можно узнать о жизни мишки? Да что там медведь — в мире есть передатчики, которые прикрепляли к голубям! Олень — не бабочка и не голубь, выдержит и полукилограммовый аппарат. Однако он должен быть надежен, герметичен, не бояться жары, холода и не менять параметры при погодных передрягах.
И все-таки с почти бесчувственным «Спортом», и даже без оного, получены любопытные результаты. Так, меряя электротермометрами температуру воздуха на вдохе и выдохе и следя за его влажностью, а также за теплоизолирующими свойствами оленьей шкуры и тканей, узнали, что дрожать от холода, то есть тратить на обогрев внутренние резервы, он начнет лишь при минус 61° Получается, что олень не только аккумулятор, но еще и превосходный термос. Как же сохранить внутреннее тепло, когда и пробки-то нет?
Вот как. В стужу, чтобы не отморозить легкие, надо дышать редко и неглубоко: летом 130-килограммовый олень за один вдох вбирает в себя примерно три литра воздуха, а на трескучем морозе вдвое меньше. Причем на выдохе, в носу, умудряется извлечь три четверти влаги, которая попала в нагретый внутри воздух. Из-за обратной конденсации этой влаги в верхних дыхательных путях при минус 40° на каждом выдохе сберегается 48,5 калории. Согласитесь — такое не каждому по носу.
Молодой, разудалый Сергей Владимирович Задальский по характеру прямая противоположность своего непосредственного шефа. Задальский из тех, без кого на далеких стационарах как без рук: и вездеход водит, и оленя освежевать ему ничего не стоит, а доску прибить — тем более. Так вот он разузнал, что за черными оленьими ноздрями скрывается нечто вроде змеевика самогонного аппарата. Это устройство, именуемое раковиной и имеющее площадь 0,15 м2 (в обеих ноздрях), не выпускает влагу, а с нею и тепло, наружу. У северного оленя расстояние между витками раковины 2–4 мм, у верблюда — 1 мм (верблюд затесался в текст не случайно — в раскаленной пустыне и на скованном морозом Севере животные всячески экономят воду, в том числе и с помощью носовых поглотителей).
Наверное, я замучил вас цифрами. Каюсь. Однако позволю себе еще несколько подробностей. Кроме носа олень обладает еще по крайней мере шестью теплообменниками: два уха плюс четыре ноги, вернее голени, где прямо под кожей сосредоточена многоярусная сеть кровеносных сосудов. По приказу центральной нервной системы скорость кровотока в этих сетях меняется словно по мановению волшебной палочки. Если нужно избавиться от излишков тепла в организме, скорость увеличивается, при противоположной надобности — уменьшается.
Такая же чудесная сеть размещена и в носу, который к тому же напичкан потовыми железами, напрочь отсутствующими на других участках оленьей фигуры. И ноги от копыта до колен с энергетической точки зрения прямо-таки прелесть. Зимой их температура бывает ниже плюс десяти. И ничего — олень копыта не откидывает. А летом зайдет в воду по коленки — и остудит всего себя.
Вроде бы со схемой оленьего термоса все ясно. Отнюдь нет. Наплевательское отношение северных оленей к холоду не дает покоя исследователям. Так, новосибирские физиологи докладывали на симпозиуме о некоей тепловой ловушке, найденной ими в оленьих легких. Допустим, ловушка играет роль войлока зимой, а что она делает летом? Сезонных-то органов олень не потерпит. Не служит ли ловушка, как и загадочное третье легкое, некоей дублирующей системой? Биоэнергетикой северного оленя давно и успешно занимаются и сыктывкарские физиологи, и приходят к своим, особым выводам. Методики же, придуманные в Сыктывкаре Н. А. Чермных, в ходу и на Рангифере.
Олень-жертва — это олень, который не может быстро бежать. А бежать быстро он не может либо по причине копытной болезни, либо от того, что его легкие поражены ленточным червем, либо оттого, что его ноздри забиты личинками носового овода. И если больной олень погибает, это не урон для стада, а для самого оленя — избавление от мук.
Лоис Крайслер. Тропами карибуОлень в хорошей спортивной форме может хоть час мчаться со скоростью 70–80 километров. Волк, даже если очень постарается, в такой гонке выдохнется за пять минут. Но о волках, которые не обошли своим вниманием и Рангифер, поговорим в конце главки. А сейчас мирно переночуем на стационаре и обсудим житье-бытье здорового оленьего коллектива, то есть стада.
Не обладая оленьей холодоустойчивостью, на ночь лучше протопить буржуйку, стоящую в углу комнатки Рангифера, отведенной мне и маститому московскому профессору. По неопытности накаляем печку так, что дышать невозможно. Из-за отсутствия в наших организмах могучих теплообменников, приходится открывать дверь, чтобы холодок прошел по коже. Наконец можно лезть под одеяло. В предвидении суматохи завтрашнего дня приятно вспомнить, что под домиком жил горностай, что неподалеку бегают зайцы. Как у них с теплообменниками?
…Я был в оленеводческой бригаде, когда наступил гон, который по весьма уважительной причине не интересовал ездовых оленей. И поначалу, сидя возле на бревнышке, можно было их принять за флегматиков. Живых тягачей понять можно — в свое время они нанервничались, выясняя отношения, устанавливая иерархию, насаждая уважительное отношение к старшим по званию. И вот в эту устоявшуюся компанию, вслед за изящной молоденькой оленихой врезался пышущий страстью гирвас. И началось коловращение. Презрительное фырканье чередовалось с наскоками и отскоками, с ляганьем и выпадами рогами. И все в таком темпе, что голова идет кругом. Какое поле деятельности для биоэнергетиков! Да, по числу движений в единицу времени олень лицом в грязь не ударит. А рога-то, рога-то какие мелькают! Иные, пожалуй, полпуда тянут. И вот с этакими-то гирями на голове цирковые номера. Именно — номера, война понарошку, ибо особых грубостей нет, кровопролития — тем более. В разгар представления слышу, что самые здоровенные рога у бывших самцов, у ездовых оленей, которые и зимой таскают на себе эту тяжесть. Ого! Не это ли позволяет им безбедно (по оленьим меркам, разумеется) скоротать зиму? И вот тут самое место проникнуться скорбью к переменчивому счастью оленьего рыцарства. После скоротечной поры любви они, утратив турнирное оружие, влачат самое жалкое существование. Не удивляйтесь — разоруженные рыцари опускаются на дно оленьего общества.
Представительницы же прекрасного пола, любезные и покладистые летом, свирепеют и захватывают власть. Всю зиму комолые самцы стонут под дланью рогатого матриархата, который наносит удар за ударом не только по их самолюбию, но и по животу.
Вот бытовая картинка. Безрогий вегетарианец широкими передними копытами, загнутыми на манер ложки, истово копает лунку в снегу, чтобы достать ягель. Едва доберется и сунет в лунку морду, подходит милая и, словно бездушный бульдозер, отодвигает, а то и отшвыривает работягу рогами. Вздохнув, гирвас принимается за рытье следующей столовой, из которой его тоже могут выгнать. Ужас какой-то: кто не работает, тот ест! Но это как посмотреть. Самец набьет брюхо лишь после того, как насытятся важенки и подрастающее поколение. Оно и правильно — в них будущее оленьего народца. Их благосостояние превыше всего.
Однако мысли о будущем вряд ли блуждают в оленьих головах, особенно в рыцарских. Увы, многое говорит о том, что среди самцов яркую индивидуальность надо искать днем с огнем. В книге «Северный олень. Экология и поведение» доктор биологических наук Л. М. Баскин, в свое время работавший зоотехником в оленеводческих хозяйствах, пишет: «…индивидуализация поведения происходит главным образом во время нахождения животных вне стада… Важенки накапливают дополнительный опыт с той же необходимостью, с какой они должны отелиться, отстать от стада вместе с новорожденным и научиться самостоятельно взаимодействовать со средой».
Важенки, умнеющие год от года, могут презрительно смотреть на представителей сильного пола, ведь любая из них потенциальный вожак, а самцы в силу обстоятельств остаются балбесами. Читатель вправе возмутиться — огульное охаивание не к лицу любому автору. И дабы такая грязь поменьше прилипала к мундиру пишущей братии, стремлюсь восстановить справедливость. Так вот Баскин сомневается в мыслительных способностях отнюдь не всех самцов; чуть далее он пишет, что примерно третья их часть те самые, кто особо измотался во время гона и не способен даже плестись за стадом, на два — восемь месяцев остаются с тундрой один на один. И если не съедят волки, то обогатят себя индивидуальным опытом борьбы за существование. Ездовые же вегетарианцы, повидавшие разные там трактора и посетившие поселки, столь раздвигают свой кругозор, что становятся кладезем рогатой премудрости.
Есть и мнение, будто неинтеллектуальные невежды обитают лишь в Азии, по крайней мере те гирвасы (хирвасы), что живут в Карелии, зимой лихо правят стадами в 200–300 подданных. И что особенно похвально — не только правят, но и от черновой работы не отлынивают: роют в снегу ямы, площадью аж в пять квадратных метров. И важенки в Европе трудятся в поте лица, не нахлебничают. Вот хронометраж рабочей смены некоей особы: копала ягель то одной, то другой ногой в течение 2 мин., затем стояла и жевала ягель 10 сек. Потом копала 1 мин., и так далее. А вообще-то в любом оленьем стаде даже изнуренная голытьба может покормиться в оставленной кем-то лунке.
Стадо — великая сила. Оно прикрывает своих членов и от гнуса. На Чукотке в центре стада из тысячи оленей 600 могут спокойно лежать, не подвергаясь уколам оводов, комаров и кровососущих мух, пока не нарушится боевое охранение из внешних пяти рядов движущихся собратьев, мучимых кровососами. Когда нет терпения сносить пытку, часть боевого охранения силой проламывается в центр, причем дорогу телятам прокладывают мамаши. И вот уже отдохнувшие олени принимают на себя атаки кровопийц. На Таймыре дикие оленьи армии, организованно обороняющиеся от гнуса, порой насчитывают по 70 тысяч солдат.
Однако и крылатые неприятельницы не лыком шиты. Почему только неприятельницы? Куда подевались комары-самцы, — взволнуется иной читатель. Никуда они не делись, летают рядом, просто до оленей им нет дела. Да, да, мужская часть кровососущего крылатого племени к злодеяниям непричастна. Комары-мужики этакие лапушки, истые вегетарианцы, пробавляющиеся только безалкогольными напитками — соками растений. Зато их подруги лютуют до невозможности. Так, дотошные энтомологи подсчитали, что в разгар лёта гнуса в оленя единовременно впиваются в среднем 8500 комарих.
Если б все комарами и кончалось… Сколько мук от носоглоточных оводов и прочей мерзости, помещающей яички в олений нос или под кожу. Раздобревшие под кожей личинки, вылупившиеся из яиц, терзают живую плоть и в конце концов буравят кожу изнутри, чтобы улететь и снова плодить мучения. Совсем уж по-инквизиторски поступает та крылатая нечисть, которая свое детство проводит в оленьем носу или в легких. Красноватые личинки носоглоточных оводов иногда почти закупоривают дыхательные пути, олень испытывает как бы постоянный приступ тяжелейшей астмы. Бедолага становится либо легкой добычей хищников, либо умирает от удушья.
Жизнь великомученика северного оленя сплошная пытка. Летом пытка жарой и гнусом, зимой — холодом, солевым и прочим голодом. Так всю жизнь, день за днем. Такое вне стада, пожалуй, и не перенесешь.
На краю стада в оленей впиваются и волчьи зубы, но отнюдь не столь часто, как гласит молва. Опытнейший полярный волчатник В. П. Макридин, от руки которого 500 хищников расстались с жизнью, в разговоре со мной оценил их численность менее чем в 10 тысяч. Но от ответа на вопрос, на сколько же менее, воздержался: мол, в тундре ни у кого руки не дошли до волчьей переписи, да и вообще полярный волк сегодня тут, а завтра там.
Пятерка серых пиратов пробовала взять на абордаж и Рангифер. Сидя на сопке, долго караулили момент, и, когда казалось, что вот-вот намнут оленям бока, те стремглав бросались к людям. После нескольких неудачных атак волки ушли несолоно хлебавши.
А вообще-то полярные волки не промах и не любят пустой беготни. Да и до беготни ли на голодный желудок? Охотятся они обстоятельно, по правилам: из засады, облавой или скрадом. Волк-загонщик гонит впавший в панику рогатый обед туда, где в засаде сидят другие члены банды, если же обед пытается улизнуть в сторону, те устремляются наперехват. Но догнать оленя им отнюдь не всегда по плечу.
Мне рассказывали, что ныне и охотникам трудновато добыть волка, если даже его преследуют на вертолете по следам на снегу. Например, в лесотундре, заслышав стрекот железной смерти, волк прижимается к дереву покрупнее, встает на задние лапы и, прильнув к стволу, вытягивается в струнку. Вертолет кружит над деревом, вокруг спасительного ствола кружит и волк, недосягаемый для пуль. А когда вертолет уберется восвояси, волк из преследуемого тут же превращается в беспощадного преследователя.
Серого агрессора, блуждающего вслед за стадами домашних оленей, понять можно. Зимой в тундре съестного не густо. Не по зубам даже песец, погибший в капкане, — клыки скользят по заледеневшему на лютом морозе мясу. Вот уж воистину: видит око, да зуб неймет. Уразуметь бы это серому и, дорвавшись до стада, не губить зазря десятки оленьих душ. Ан нет, натура не позволяет. Иные оленеводы в отчетных документах в графу «пропавшие без вести» порой вписывают и тех своих подопечных, кои исчезли с глаз вовсе не по причине преследования волками.
Кстати, из беседы с молодыми оленеводами выясняется, что самую большую трудность в работе они видят не в кочевой жизни, не в противостоянии холоду, нападению волков или атакам гнуса, а в сохранении доброжелательного психологического климата в крошечном людском коллективе, оторванном от цивилизации почти весь год.
На свете едва ли найдется другое животное, чьи рога могут соперничать по красоте с рогами северного оленя, одетыми в черный бархат. Рога бывают и рыжевато-коричневые, но только черный цвет придает им какую-то драматичность.
Лоис Крайслер. Тропами карибуС легкой руки небезызвестного Остапа Бендера среди читающего люда укоренилось ироническое отношение к рогам и копытам. Мне же больше по душе та драматичность, о которой пишет Крайслер. Судите сами — разве не драматично, что комолый самец северного оленя зимой, выбиваясь из сил, вынужден работать за троих, разгребать снег не только для еще хиловатого потомства, но и для рогатых подруг, шпыняющих его почем зря? И не драматично ли то, что иным самцам теперь приходится прощаться с едва начавшими расти рогами и во внеурочное время, летом? Их спиленную неокрепшую красоту присваивает — кто бы вы думали? — человек.
О могучем безвредном биостимуляторе пантокрине, добываемом из пантов пятнистого оленя, марала и изюбра, наслышаны все. И не мудрено — его громкая слава уходит в глубь веков к самым корням тибетской и восточной медицины. Славу подогревает и малодоступность лекарства. Увы, пантокрин — великий дефицит. Те двадцать тонн пантов, что заготавливают ежегодно, покрывают лишь десятую часть потребности в природном биостимуляторе.
…Передо мной не очень новехонький, но все еще красочный проспект, выпущенный в 1973 году Внешторгиздатом. На глянцевой обложке — символический рисунок: между рогами элегантного северного оленя зыбко мерцает северное сияние. Внизу заголовок: «РАНТАРИН», далее в скобках — «новый лекарственный препарат из пантов северного оленя». Проспект и подборку других материалов о рантарине подарил мне автор — владивостокский профессор И. И. Брехман. В руководимом им отделе и создан этот отменный и, по всему видно, вечный препарат.
Когда речь заходит о лекарствах, лучше сразу выложить официальные сведения. Вот они. В качестве тонизирующего средства рантарин утвержден для медицинской практики Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения СССР 12 февраля 1971 года. А 7 июня 1972 года в Государственном реестре изобретений Советского Союза под № 350840 зарегистрировано безвредное общетонизирующее лекарство из пантов самцов северного оленя. Авторов добрый десяток. Идейно-творческое ядро этой весьма энергичной десятки, пожалуй, треугольное. На вершине — маститый, великолепно эрудированный фармаколог профессор Брехман; его правая и левая научно-практические руки — Ю. И. Добряков и А. М. Юдин.
И очень может быть, что вскоре в реестре появится новая запись, под новым номером. Ибо рогата и женская половина миллионных стад северного оленя. Целебное зелье можно взять и из их ветвистого оружия, носимого на голове. Тем самым обитатель тундры дарит нам редчайшую в животном царстве возможность снимать урожай пантов дважды в год. Благородные южные родственники разгребателя снега тем самым остаются далеко позади.
Отдав дань официозу, можно поболтать о самих рогах и копытах. Так вот, из более чем двух десятков видов парнокопытных обитателей страны разве лишь свинья да кабарга начисто безроги. А по части обеспеченности рогами обоих полов, как мы уже знаем, с нашим героем и сравнить-то некого. Долгое-предолгое время наука и рога едва соприкасались. Самое первое, но зато обстоятельное изучение строения рогов северного оленя предприняли в 1936 году Б. К. Боль и Л. Н. Николаевский, чем несказанно удивили ученый мир: «…ни одна ткань, ни один регенерирующий орган у позвоночных не обладает таким бурным ростом, какой наблюдается при регенерации рогов северного оленя». Еще бы не удивиться — если и не слышно, то отлично видно, как растут рога. В июне они прибавляют на сантиметр-два в день!
И чего только не откопали в рогах последователи первопроходцев. Не странно ли, что в минеральном составе чудовищно довлеет крылатый металл — алюминий? Его до 8,5 грамма на сто граммов рога. Здесь же и плеяда других элементов: натрий, кальций, магний, сера, кремний, фосфор, хлор и даже железо. Растущие рога пропитаны кровью с пестрым букетом активных веществ. Выделены аминокислоты, кристаллы холина, азотные фракции, моно- и дисахарида… Но не будем тонуть в химических тонкостях. Давайте займемся тем, что попроще.
Сборник «Сибирская живая старина», вышедший в Иркутске лет этак шестьдесят назад, не без знания дела утверждал: «Роговой хрящ так любим тунгусами, что некоторые лакомки решаются обрезать рога у живых оленей». Еще раньше, в середине прошлого века врач, этнограф, писатель, а затем и почетный академик С. В. Максимов, не указывая, впрочем, на питательную или лекарственную ценность тех или иных частей оленьего тела, впечатляюще констатировал: «Свежее мясо оленя служит самоедам пищею летом; вяленное на солнце идет в зимние запасы. Вареные языки и губы нравятся самым избалованным лакомкам из русских, а наросты молодых рогов… студенистые, хрящеватые наросты, вырезанные из-под кожи, китайцы покупают на вес золота. Сами самоеды считают великим лакомством теплую кровь убитого оленя и находят великое блаженство в том, чтобы съедать с гостями и друзьями еще парное сердце, еще дымящиеся и сейчас вынутые из груди легкое и печень». И другой штрих, уже нашего времени. В архиве Магаданской оленеводческой опытной станции создатели рантарина нашли рукописный отчет о работах на Чукотке в 1956 году. Там среди прочего написано: «Во время недельного перехода пищей для нас были только оленьи рога, пресные лепешки и чай с остатками сахара».
Потом владивостокские исследователи самолично убедились, что коренные жители Заполярья с удовольствием и не без пользы для здоровья едят верхушки растущих оленьих рогов, чуть опалив их на огне. А это уже само по себе неимоверно расширяло спектр возможного использования рогов и копыт, которые раньше лишь кое-где шли на подкормку животных, изготовление столярного клея или на мундштуки и вешалки, а также для выработки железистосинеродистого калия, необходимого в производстве цветной бумаги и чернил. Во всяком случае, в 20-х годах наша страна вывозила на европейский рынок по добрых 20–40 тонн рогов оленей и лосей.
Но не про клей и вешалки тут речь. Про медицину. И не отрадно ли, что не только в Тибете, но и в нашем отечестве были медицинские предтечи. Лечебники XVII века советовали прибегнуть к оленьим рогам в случае эпилепсии, язв, малокровия, суставного ревматизма и головных болей. Ветеринарная фармакопея, изданная на русском языке в 1881 году на благо сельских хозяев, призывала отваром из рогов, копыт и хрящей пичкать захворавшую породистую скотину «для более скорого образования кровяных шариков». И тут же жаловалась: мол, «пригорелое масло» из оленьего рога многим не по карману.
Конечно же о рантарине никто и не заикался — все были заворожены рогами пятнистого оленя, которые использовали, как говорится, в хвост и в гриву. Рантарин — близнец пантокрина, хотя родился позже. Родство подтверждено серьезным свидетелем — наукой. «Близкое родство северного оленя к пятнистому оленю, маралу и изюбру давало основание предполагать весьма сходное строение и химический состав рогов». Так на поверку и вышло.
Воплощение идеи началось летом 1965 года, когда Брехман, Добряков и Юдин отправились в Магаданскую область в оленесовхоз «Омолон», чтобы впервые в мире начать заготовку и консервирование пантов северного оленя.
Стационара Рангифер тогда еще и в помине не было. Но северных оленей, как и сейчас, было предостаточно. И если толково вести дело, их пантов с лихвой хватит для внутреннего и внешнего рынка (кстати, экспорт уже начался). Рантарин — это таблетки, содержащие полграмма веществ, экстрагированных из пантов выносливого, живучего разгребателя снега.
Панторезных станков в северном оленеводстве еще нет. И приходится пользоваться дедовскими методами. Арканом, сплетенным из узких полос оленьей кожи, ловят рогача, валят и связывают. Продезинфицировав шейку рога, надрезают нежную бархатную кожу и мелкозубчатой пилкой из ветеринарного набора спиливают пант. Чтобы не было сильного кровотечения, пилят всегда выше первого, а то и второго надглазных отростков. Пенек сдавливают, и кровь перестает сочиться. Обычно вся операция занимает семь минут.
Тибетские лекари неделями сушили целые панты или разрезали их на кусочки и нанизывали на нитки. В сухом, почти стерильном горном воздухе так можно — панты не портились. Иное дело в тундре или в тайге. Панты пятнистых оленей либо сушат в электрокалориферах, либо многократно «заваривают» — то и дело ненадолго опускают в кипяток, а потом сушат. От этого панты, естественно, лучше не становятся, хотя и при «заварке» в них увеличивается уровень пептидов и аминокислот. Об окончании сушки сигнализирует «сухой звук» от удара пантов друг о друга. Правильно высушенные или, что то же самое, законсервированные панты не меняют вес битый год.
На что же способен рантарин? Да на все то, что и пантокрин: снимает утомление, улучшает работу сердца, нормализует кровяное давление, повышает физическую и умственную работоспособность, обладает противовоспалительными и антистрессорными качествами. Кажется, вряд ли найдешь в природе еще что-нибудь этакое. Ан нет — нашли. На фармацевтическом горизонте уже всерьез маячат рога лося, сайгака и косули. Но это особый разговор. А здесь мне кажется уместным привести слова профессора Брехмана, воздающего должное своему детищу — рантарину.
— Пятнистые олени не кочуют. За загородкой, на отведенной им территории быстро изничтожают любимые растения. И невольно получается так, что с годами в их меню преобладают не самые вкусные и предпочитаемые травы, а комбикорм или то, что человек заготовил впрок. Северный же олень, даже домашний, бродит весь год и пользуется только свежими дарами тундры. Весной это ягель, осоковые и злаковые растения, летом — карликовые березы, ивы, вика, астрагал, злаковые, осенью — ягель, хвощи, грибы и бобовые растения и все разнотравье. Возможно, этим и объясняется некоторая бóльшая биологическая активность рантарина по сравнению с пантокрином.
О северном олене можно писать, писать и писать. Ведь еще не сказано про то, что его кровь тоже кладезь загадок и подарков. Так, ее состав весьма схож с составом крови высокогорных животных и гематоген из нее получится преотличнейший. И житье-бытье разгребателя снега обрисовано отнюдь не досконально. Например, не сказано о редчайшей, но все же случающейся трагедии третьего члена семьи, когда важенка приносит двойню; о том, как оленята-сироты подкармливаются у чужих матерей; о том, как пастухи на путь истинный наставляют четвероногих недорослей, если те не хотят вовремя распрощаться с материнской юбкой. Порассуждать бы и о том, почему оленья грива (подвес) больше смахивает на бороду. И многом, многом другом.
Но не лучше ли вспомнить великий завет незабвенного Козьмы Пруткова: «Никто не обнимет необъятного». В самом деле, наука еще не способна дать исчерпывающий этологический, физиологический, биохимический и любой другой портрет не то что оленя, а даже инфузории. И сколько про оленя ни пиши, все равно непознанное будет подобно океану, в котором затерялся крошечный островок фактов.
И посему предлагаю попрощаться с Рангифером и с самим «Rangifer tarandus», с северным оленем, великолепным существом, описание которого в новейшем справочнике начинается с того, что он «имеет удлиненное туловище и шею, но относительно короткие ноги». Обладателям пыжиковых шапок, модницам, щеголяющим в замшевых юбках, гурманам, отведавшим котлету из оленины, право, поклониться бы в ноги этому зверю, который не за страх, а на совесть служит людям всем своим существом.
М. Черкасова Птицы и люди
(Записки орнитолога)
Каким скучным местом был бы мир без птиц!
Дж. Бартон1. КОГДА И ПОЧЕМУ ВЫ УВЛЕКЛИСЬ ПТИЦАМИ?
— С трех лет, почему — не знаю, генетика? (К. Альгирдас, Вильнюс)
— С пяти лет; я вырос на ферме и постоянно с ними встречался. (Т. де Руз, Нидерланды)
— Это было генетически предопределено. (С. Москвитин, Томск)
— С раннего детского возраста по склонности своего характера. (В. Немцев, Дарвинский заповедник)
— С детства, когда увидела в небе золотистых щурок и услышала их голоса. (Н. Скокова, Москва)
— Восхищалась птицами с детства, часами искала их гнезда. (Т. Нор, Франция)
(Из ответов участников XVIII Международного орнитологического конгресса, происходившего в Москве в августе 1982 года, на вопросы моей анкеты.)
— Сегодня такой счастливый день! Я нашел гнездо, по-моему камышовки, — срывающимся от волнения голосом сообщает по телефону мой десятилетний друг Илья. Родители его — типичные горожане — физик, филолог. Откуда у Ильи всепоглощающая страсть к птицам, понять нельзя. Каждую свободную минуту он стремится провести в лесу, благо лес рядом — живут в Беляеве.
— Скажите, камышовка живет на земле? Яички такие бурые, в пятнышках. А хвост у птицы красноватый. Голос? Трещит: т-ррррр…
— Все верно, — отвечаю я ему, — соловей!
Илья на том конце провода захлебывается от восторга, а на меня откуда-то из моего дальнего детства выплескивается волна сырой грибной прели, и я отчетливо вижу лесной овражек, где жили «мои» соловьи, и вновь переживаю дивный миг, когда, пробившись сквозь крапивные джунгли, увидела все то же самое, чем восторгался теперь мальчик.
С этим действительно надо родиться. И самая моя большая жизненная удача в том, пожалуй, и состоит, что среди доставшихся мне генов один оказался «орнитологическим». Потому что птицы, на мой взгляд, — самые чудесные создания на свете, и я не знаю занятия более увлекательного, чем наблюдать за ними. Вся их жизнь как на ладони: птицы, за редким исключением, не прячутся в глухие темные уголки и норы. Они любят солнце, воздух, простор, и никто, как птицы, не умеет так славно радоваться жизни и слагать в ее честь такие великолепные гимны.
А гнезда! Раздвинув колкие еловые ветки, видишь перед собой целое созвездие голубых, словно осколочки неба, яиц, сияющих на изумрудно-зеленом ложе. Так выглядит дом лесной завирушки — поразительной искусницы по части семейного уюта. Сама птичка маленькая, неприметная, и песенка у нее слабовата, зато гнездо — высший класс. В основание его завирушка укладывает тонкие еловые прутики, а лоток, внутреннюю чашечку гнезда, выстилает мягким лесным мхом.
Меня всегда занимало, как из нехитрых лесных материалов умудряются птицы возводить такие прочные и совершенные по форме сооружения. Подглядеть, как они строят, очень непросто: обычно это таинство совершается в ранние утренние часы, да и птицы в это время держатся очень скрытно. Но однажды, когда, еще будучи юннаткой, я работала в Дарвинском заповеднике, мне крупно повезло. Пробираясь по мокрому от росы весеннему лесу, я заметила серенькую самочку зяблика, копошившуюся на высоком кусте можжевельника. Разглядев, чем она занята, я позабыла обо всех своих делах и, осчастливив окрестных комаров, просидела на этом месте не одно, а целых три утра.
Жилищное строительство у зябликов — занятие, как оказалось, чисто женское. Самец выполняет роль подсобного рабочего, подтаскивая строительный материал, а поскольку немалое время он уделяет пению, то работает, скажем прямо, не слишком усердно. Зато супруга его трудится, что называется, не покладая рук. Как всякий уважающий себя архитектор, она начала с эскиза: в облюбованном местечке между стволом и боковой веткой можжевельника точно по форме гнезда натянула паутину и в этот прозрачный гамачок начала вплетать сухие травинки, корешки и тонкие веточки. Каждую новую деталь дома она заботливо пристраивала на свое место, а всего ей пришлось уложить их не менее тысячи. В качестве цемента птица использовала также паутину — вещь в лесном строительном деле совершенно незаменимую и явно дефицитную. Нередко, не дождавшись замешкавшегося супруга, она сама отправлялась на поиски нужного материала, чаще всего именно паутины, притаскивая ее вместе с паучьими коконами, а то и самим хозяином.
К концу второго утра основная часть работы была закончена: стенки гнезда достигли нужной высоты и толщины, осталась незавершенной только внутренняя и внешняя отделка. Однако эта деликатная работа требовала особо тщательного подбора материала, и на третье утро зябловка отлучалась особенно часто. Раз она явилась с длинным волосом в клюве, который, судя по всему, лошадь еще недавно носила в своем хвосте. Этот злополучный волос никак не умещался в лотке и причинил бедной птице особенно много хлопот. Самый последний штрих во внутреннем убранстве квартиры составило куриное перо, мягкое, с пушистой белой опушкой, принесенное торжествующим зябликом и помещенное вместо перины. Снаружи птица старательно облицевала гнездо кусочками лишайника и волокнами можжевеловой коры. Зяблики — непревзойденные мастера камуфляжа, и, даже прекрасно зная, где находится гнездо, я ловила себя на том, что постоянно теряю его из вида.
О гнездах можно говорить без конца: я перевидала их многие сотни, самых разных, больших и маленьких, спрятанных на земле, в дуплах, в кустах, на деревьях, являвших собой чудо строительного искусства и просто бездарных. Но среди всех них есть для меня одно, внешне совершенно заурядное, которое, тем не менее, я ставлю на самое первое место: гнездо, что я нашла под розовой горой.
Тогда я уже работала в Зоологическом музее, том самом, что в Москве на улице Герцена. Здесь, на «хорах» музея и состоялась моя первая встреча с горным вьюрком — хозяином гнезда. Строители музея отличались странной фантазией: большой верхний зал почти под самым потолком опоясывает узкая галерея с гулким железным полом и оградой, похожей на садовую, — это и есть хоры. По самой середине зала с одной их стороны на другую перекинут горбатый мостик. Все кругом, даже мостик, уставлено шкапами, сундуками, экспедиционными ящиками, где хранятся главные сокровища музея — научные коллекции. Сотни тысяч зверей и птиц со всех концов света собраны здесь трудами зоологов многих поколений. Только на хорах не чучела, как внизу, в зале для неискушенных посетителей, а тушки — набитые ватой шкурки, сделанные так, чтобы каждый волосок, каждое перышко были на виду.
В тот день рано стемнело, на хорах было сумрачно, и я долго копалась в огромном шкафу, подбирая нужные коробки. Потом, нагруженная целой их башней, пустилась к своему столу. Одуряюще пахло нафталином, снизу доносился нудный голос экскурсовода, и сами собой слипались глаза. Я совсем было собралась отложить дело до следующего раза и только приоткрыла крышку верхней коробки. Приоткрыла и обмерла: серебро с малиновым и карминным, радужные перламутровые струйки на черном бархатном фоне — тесно, грудка к грудке лежали невероятные птицы…
Коробки с горными вьюрками долго не сходили с моего стола. Оказалось, что кроме черных вьюрков есть еще и серые. Эти тоже очень хороши: поверх серого пера у них перламутрово-розовый налет. Черные вьюрки — орнитологи называют их сибирскими — распространены в горах Сибири, серые, окрещенные жемчужными, живут южнее — в горах Средней и Центральной Азии. Трудно сыскать птиц, избравших для своей жизни места более недоступные: они водятся в горах на самых больших высотах, где только возможна жизнь. А потому и сведения о них крайне скупы, даже гнезд их в ту пору никто еще не находил.
Теперь даже не верится, что тогда я наткнулась на горных вьюрков случайно, просто перепутав коробки. Но с того дня меня уже не оставляла мечта увидеть этих птиц живыми. И главное, они дарили счастливую возможность сочетать в работе птиц и снежные вершины.
С раннего детства жила во мне мечта о горах. Был даже любимый и время от времени навещавший меня сон: высокая снежная гора, розовая в лучах восходящего солнца и очень похожая на священную Фудзи на гравюрах Хокусаи. Утром после такого сна долго сохранялось праздничное настроение, как после нежданного подарка. Прошло много лет, прежде чем снежная вершина приобрела наконец реальные очертания, и когда это случилось, меня охватило странно знакомое чувство: она действительно была розовой в лучах восходящего солнца и почти столь же недосягаемой, как во сне. Когда же все-таки я добралась до кромки ее снежного покрывала, поняла раз и навсегда: нет на Земле места прекраснее снежных гор с их нескончаемой все лето весной.
Отныне тема моей работы стала называться так: «Птицы высокогорий Алтая».
…Где-то наверху тает снежник. Разливаясь бесчисленными струйками, по скале сбегает вода. Блестят мокрые гранитные лбы, отороченные снизу живой водяной бахромой. Я смотрю и не верю своим глазам: вот он, мой вьюрок, безмятежно разгуливает по скальной полочке, освещенный косыми лучами заходящего солнца. Невелик ростом, чуть крупнее воробья, но оперение, какое оперение! Черный глубокой матовой чернотой, хвост и крылья белые, а поверх черного пера на груди и брюшке нарядный серебряно-малиновый румянец. Вьюрок подставляет спинку под капли воды, встряхивает крыльями, рассыпая радужные брызги. Из трещины скалы прямо перед ним выглядывает целый букет голубых цветов. На мгновение птица замирает, будто в раздумье, а потом срывает лепесток и пускает его вниз со скалы. Нагнув головку и блестя смышленым глазком, следит за его полетом, срывает новый и снова бросает. Ни с чем не сравнимое чудо живой птицы.
Игра кончилась внезапно, как на сцене: погас солнечный луч, померкла, слившись с темным камнем, грудка птицы. Еще миг — и вскрикнув, она исчезла за скалой.
В первый же день и такая удача! Восьмого июля 1965 года, как значится в моем дневнике, вдвоем со студенткой Таней, тоже орнитологом, мы поднялись сюда, на трехкилометровую высоту. Путь с тяжелыми рюкзаками по крутому скальному кулуару, заваленному заплесневелыми глыбами, занял чуть ли не целый день. Пока было еще светло, я отправилась побродить…
Мы обосновались в небольшом и очень уютном старом ледниковом цирке — окаймленной скалистыми стенами впадине, где когда-то в незапамятные времена лежал ледник. Ледник этот растаял, и теперь на днище цирка росла мелкая изумрудная травка и причудливо извивался студеный ручей. С одной стороны цирка скальные стены расступались, образуя широкий проход, куда устремлялся ручей. Здесь на относительно ровной площадке и стояла наша палатка.
Прямо над лагерем искрилась на солнце округлая снежная вершина Купол, похожая на гигантскую сахарную голову. По утрам солнечный луч ложился на нее и постепенно, шаг за шагом, перекрашивал снега из синих в розовые. Из-за вершины, как шарф из-за плеча, выбегал застывший голубой поток ледника. Крутыми ступенями ледник спускался вниз, обрываясь далеко под нами у самого леса, деревья которого отсюда, с высоты, казались не больше волосков сапожной щетки. Там, в долине, ревел мутный бешеный поток, вырывавшийся из черной дыры под другим ледником. Немного ниже по его течению находился альпинистский лагерь Ак-Тру, куда время от времени мы спускались за продуктами и почтой.
Место для лагеря мы выбрали удачно: вьюрков даже не надо было искать, они сами исправно являлись к палатке, поодиночке и небольшими компаниями. И что самое замечательное, здесь в Северо-Чуйских Альпах, расположенных на стыке горных цепей Сибири и северного форпоста хребтов Центральной Азии, живут, как оказалось, не только черные — сибирские, но и серые — жемчужные вьюрки. Правда, последние показывались значительно реже, но наши сердца неизменно наполняли восторгом. Было тут одно обстоятельство, о котором стоит сказать. Среди орнитологов в то время шел спор: считать ли черных и серых вьюрков разными видами или это — всего лишь разные подвиды одного и того же вида? Теперь же, когда они разгуливали перед нами, не оставалось сомнений, что речь идет о разных видах. По голосу, манере поведения, даже в полете, сразу можно было безошибочно определить, какой это вьюрок. Но главное, если это подвиды одного вида, живя рядом, они непременно должны были бы образовывать смешанные браки. Однако птицы явно не признавали друг друга за родственников, и мы с радостью убеждались в правоте московских орнитологов — именно они были противниками объединения горных вьюрков в один вид.
Но вьюрки не только радовали, но и глубоко огорчали нас: дни шли за днями, а мы даже близко не подвинулись к разгадке того, где они гнездятся, в каком состоянии их семейные дела. Можно было только догадываться, что самки все еще сидят на гнездах, а самцы снабжают их провиантом, хотя и без особого усердия. Тщательным образом мы изучили окрестности и стали «в лицо» узнавать многих своих соседей. Мы разгуливали по своим владениям как по собственному курятнику, и только вьюрки по-прежнему водили нас за нос. Мы в кровь обдирали колени и руки, обшаривая завалы отвратительных камней, куда на наших глазах ныряли вьюрки, а они взвивались из-под ног — и, как всегда, только мы их и видели. И тогда, изрядно намучившись, мы решили изменить тактику. Еще немного — и у вьюрков должны появиться птенцы, настанет же такое время — июль подходит к концу, и у всех остальных птиц молодежь давно покинула гнезда. А вот когда у вьюрков начнется пора выкармливания прожорливого потомства — тут уж им от нас не уйти… Мы решили подождать.
Мы совсем прижились в «Зеленой гостинице» у подножия Купола, и наши соседи признали нас за своих.
Каждое утро мы просыпались от громких и на редкость противных воплей семейства воронов — черные, носатые и очень солидные родители и парочка тоже черных и носатых, но несколько менее солидных детей. Визит этого милого семейства начинался с тщательного осмотра нашего «стола» — большого плоского камня у очага, где остались крошки от ужина. Покончив с крошками, птицы начинали обшаривать соседние скалы и камни, где мы прятали продукты и ведро, в котором варили обед. При этом птенцы путались под ногами у родителей и, гнусаво вопя, требовали продолжения завтрака. Ведро птицы обычно находили и изо всех сил принимались долбить носами, с лязгом катая его по камням. Успокоить воронов могла только краюха хлеба, которую они после долгих пререканий затаскивали повыше на уступ скалы, неторопливо завтракали и отправлялись по своим делам до следующего утра.
Стоило первым лучам солнца упасть на землю, все кругом оживало. В оправе серых будничных камней желтым пламенем вспыхивали альпийские маки, расправляли крылья бабочки, из темного ущелья вылетала на солнышко грустная горихвостка-чернушка в сопровождении вечно голодного и ужасно настырного отпрыска. Постепенно на красочных альпийских лужайках собиралось небольшое, но изысканное птичье общество, способное привести в восторг любого понимающего орнитолога: скромные гималайские завирушки, украшенные элегантными белыми галстучками, затейливо разрисованные краснобрюхие горихвостки, роскошные большие чечевицы, одетые в блестящий карминно-красный наряд. Прилетали и крикливые альпийские галки, с бархатисто-черным оперением, желтым клювом и алыми лапками, и, разумеется, наши вьюрки.
Когда солнце освещало днище цирка, просыпались длиннохвостые суслики, обосновавшиеся здесь небольшой колонией. Одно семейство этих симпатичных зверьков проживало в лабиринте подземных ходов перед самой палаткой. Обычно первым появлялся из норы глава семьи — упитанный и всегда тщательно причесанный суслик. Склонный к философским размышлениям, он мог подолгу восседать на толстом заду, подобрав лапки к груди и устремив взор в небо. Суслиха, напротив, была вечно занята и не находила времени на туалет: зимняя шерсть клочьями висела по всему телу — как есть отягощенная семейными заботами тетка в драном халате.
За утренней порцией неизменной лапши мы наблюдали, как завтракают соседи. Безусловно, самый большой деликатес в высокогорном меню — альпийский мак, цветущий почти до самой зимы. Едва успеет сойти снег, как на талой земле появляются его ростки, а смотришь через несколько дней — уже развернулись цветы. Чуть отступя, где снег сошел еще раньше, у мака уже появились коробочки, наполненные мягкими белыми семенами, а пройдешь несколько шагов — коробочки созрели и гремят. Цветы и семена мака едят и звери и птицы, только у каждого свой прием. Суслик бережно срывает цветок у самой земли, переворачивает его головкой вниз и, перебирая лапками, аккуратно убирает в рот сначала стебелек, а на закуску и цветок. Улары — выводок этих крупных, похожих на индеек птиц часто пасся неподалеку от лагеря — торопливо отрывают головки цветов и глотают их, как пельмени… А вьюрки — эти аристократы — поднимаются перед цветком на цыпочки и точными изящными движениями выклевывают тычинки…
Однажды вечером, завершив дневные дела, мы забрались в свои мешки и совсем было собирались уснуть, как откуда-то издалека, с ледников на противоположной стороне ущелья, прилетел порыв ветра. Через несколько минут — другой, более мощный. Порыв следовал за порывом, пока наконец они не слились в непрерывный и все усиливающийся рев. Ветер остервенело налетал то с одной, то с другой стороны, палатка начала лихорадочно дрожать, бока у нее втянулись, еще немного — и она взовьется в воздух и улетит. Казалось, что над нами с оглушительным грохотом катится товарный состав, и нет ему ни конца, ни края.
Все-таки мы умудрились заснуть, а когда проснулись, поразились тишине. Снаружи струился странный свет. Провисшие скаты палатки были усеяны огромными каплями, какие бывают на потолке в бане. Выглянув наружу, мы все поняли: наступила зима. Всюду кругом, неузнаваемо изменив окрестности, лежал снег. Над горами низко нависло белесое небо.
Послышались тонкие жалобные стоны: на колышек палатки сел слеток горихвостки-чернушки, тот самый, что так досаждал своему родителю. Сегодня он имел до крайности жалкий вид: поджимал под себя то одну, то другую ногу и дрожал. Родитель не показывался. Обогнув заваленную снегом палатку, мы наткнулись на воронов. Непривычно притихшие, они сидели на очаге, втянув голову в плечи и взъерошив перья. Поделив с воронами остатки хлеба, мы побрели вверх по цирку. Снег был выше щиколотки, а местами мы проваливались по колено. Все живое попряталось, только в камнях по-птичьи вскрикивали пищухи.
В вершине цирка, в том месте, где в него впадает текущий с Купола ручей, мы остановились. Ручей совсем утонул в сугробе, исчезли в снегу и роскошные альпийские лужайки, только кое-где выглядывали на поверхность широко раскрытые синие колокольчики горечавок. Рядом с нами на камень опустился вьюрок, без долгих колебаний нырнул в снег и принялся энергично копаться в засыпанной траве, только снежные брызги полетели в разные стороны. Скоро возле нас уже орудовала целая компания: вот они наконец, долгожданные самки! Не могло быть сомнений в том, что где-то ждут не дождутся их прилета голодные птенцы. Птицы торопились изо всех сил. Семена, особенно мелкие семена мака, которыми они выкармливают птенцов, в клюве далеко не унести. Поэтому для транспортировки корма к гнезду у вьюрков выработались особые приспособления: они носят семена в пищеводе и в специально для этой цели предназначенных мешках за щеками. Утрамбовывая семена в зобу, птицы комично вертели шеями, совсем как дорвавшиеся до еды утки, старающиеся напихать в себя как можно больше. На наших глазах у птиц начали вырастать чудовищные флюсы, а перья на раздувающихся щеках вставали дыбом.
Когда же, наполнив все, что возможно, вьюрок поднимался в воздух, было видно, что летит он, нагруженный до предела.
Теперь все зависело от наших способностей: птицы сами обязаны привести нас к гнездам. Пожалуй, стоящая перед нами задача была бы более по плечу сотруднику угрозыска. Прежде всего нам надлежало засечь основные трассы, по которым следуют груженые вьюрки, а потом выслеживать их на отдельных отрезках пути, пока птицы еще остаются в поле зрения. Но сюрпризы, что нам приготовили вьюрки, превзошли все наши ожидания. Они словно специально позаботились о маршруте: то заводили нас в дебри кошмарных каменных россыпей, то им приходило в голову переваливать через нагромождения старых, едва державшихся скал, и нам не оставалось ничего другого, как покорно карабкаться за ними следом. Самое же обидное заключалось в том, что они вели нас к нашему собственному лагерю, только совершенно немыслимым путем.
Так или иначе, но к вечеру второго дня мы подошли к концу километрового путешествия. Нет, вьюрки-то летели дальше, а вот нам пути больше не было. Мы находились на гребне северного склона долины реки Ак-Тру, к которому вьюрки вывели нас с тыла. Если смотреть снизу и спереди, перед тобой почти отвесная скальная стена километровой высоты, у самого верха прорезанная глубокими ущельями. Вот в них-то и ныряли с деловым видом наши мучители, через несколько минут вылетая обратно, явно освободившись от груза. Более отвратительное место трудно было сыскать: круто вниз обрывались сырые темные колодцы, со дна которых поднимались изъеденные временем скалы. Спускаться дальше было слишком рискованно: ночуя у альпинистов, мы не раз просыпались от грохота обвалов, и всегда в них был повинен именно этот северный склон.
Можно было предполагать все что угодно, но что они приведут нас сюда… Срок командировки подходил к концу. Мы сели над одним из колодцев и задумались. И вдруг легкая серая тень метнулась из-под лежащей неподалеку под нами еще в сравнительно доступном месте плиты. Таня слегка тронула меня за рукав. Мы затаили дыхание. Прошло еще около часа — именно столько времени тратит обычно вьюрок, чтобы загрузить свои «авоськи». Снова метнулась серая тень в обратном направлении, минута — и она возникла опять, беззвучно растворившись в камнях. Только теперь птица выдала себя: мы разглядели маленькое белое пятнышко — вьюрок вынес помет птенца. Гнездо!
И вот оно перед нами. Правду сказать, птицы могли бы придать ему более аккуратный вид. Рыхлая корзиночка из сухой травы лежала под плитой прямо на каменной крошке, а весь комфорт составляла горстка шерсти горного козла буна. И все-таки это было самое прекрасное из гнезд, которые мне когда-либо приходилось видеть! В нем помещалась парочка птенцов, как две капли воды похожих на обычных воробьят. При виде нас они притаились и обиженно зажмурили глаза.
Прошло еще несколько дней. Вьюрчата вылетели из гнезд, и предприимчивые родители вместе с семействами перекочевали поближе к лужайкам и хорошей кормежке. Как раз тут началось массовое созревание семян альпийских растений, и нас больше не удивляло, почему вьюрки так задерживались с выводом потомства: все было точно подогнано по времени.
Появились и жемчужные со своими детьми. Где гнездились они, мы тогда так и не узнали, но явно где-то совсем в других местах. Теперь мы получили последнее и самое убедительное подтверждение, что наши вьюрки — совсем разные виды: их дети — и те без труда различались и даже орали, требуя корм, на разные голоса.
У каждого орнитолога есть, наверное, свое заветное гнездо, которое он долго искал и нашел наконец, а для очень многих дорога в науку началась именно с тайны птичьего гнезда, заворожившей в детские годы.
Среди нынешних моих коллег немало добрых друзей детства и юности, прошедших под знаком горячего интереса и любви к Птице. Тогда, в начале пятидесятых, нас, «кюбзовцев» и «вооповцев» — членов Кружка юных биологов зоопарка и юношеской секции Всероссийского общества охраны природы — сводили полные птичьего гомона рассветные часы в весеннем лесу и маленького роста человек с большой белой бородой и смеющимися глазами — Петр Петрович Смолин, наш учитель, которого все мы боготворили. Выезды в начале мая с Петром Петровичем были в те годы чудесной традицией. Сколько книг и диссертаций, кандидатских и докторских, были написаны потом с посвящением нашему незабвенному ПэПээСу, который сам так ничего и не стал защищать, щедро раздарив свои мысли и наблюдения своим воспитанникам.
А позднее, сделавшись студентами и научными работниками и даже разъехавшись кто куда, мы много лет встречались под крышей Зоологического музея на улице Герцена на знаменитых на всю страну орнитологических субботах, ровно в час дня, по раз и навсегда заведенному обычаю. И лишь чрезвычайные обстоятельства могли объяснить отсутствие кого-либо из нас, москвичей, а тот, кто приезжал в Москву из своего далека, являлся на субботу, отложив все прочие дела, и держал творческий отчет перед всеми нами и председателем. Председатель — Георгий Петрович Дементьев, признанный глава отечественной орнитологии, был человеком редкостного обаяния и безграничной эрудиции. И я могу безо всякой натяжки утверждать, что благодаря субботам все орнитологи страны знали друг друга, кто чем живет, являя собой единое и дружное братство.
Подумайте только, что за счастливый народ орнитологи! Никогда не стоял перед ними столь тягостный для многих вопрос — кем быть? Они преданно служат любви к Птице, даже если зарабатывают свой хлеб каким-то иным путем. Существует, в особенности за рубежом, целая армия орнитологов-любителей, работающих на вполне профессиональном уровне. Терез Нор из французского города Лиможа, к примеру, та самая, что восхищалась птицами с детства и часами искала их гнезда, преподает математику, а в свободное от работы время изучает и кольцует пернатых хищников, делая все возможное, чтобы они не исчезли из ее родных мест.
Терез Нор очень живо откликнулась на мою анкету, замысленную, чтобы выявить не столько даже научный, сколько общечеловеческий смысл исследования жизни птиц. А всего на вопросы анкеты ответило более полусотни участников XVIII Международного орнитологического конгресса: сотрудники заповедников, институтов и научно-исследовательских станций, наших и зарубежных, совсем молодые ученые и вполне зрелые, с признанной мировой репутацией.
2. ВАША ЛЮБИМАЯ ПТИЦА?
— Сокол-сапсан, символ свободы, славящийся своей красотой и не превзойденный в полете. (М. Маньес, Испания)
— Журавль — изящный, стройный, благородный. (Ю. Шибнев, заповедник «Кедровая падь»)
— Ворон. Элегантен, умен. (З. Вольднек, Нидерланды)
— Гриф — за таинственность, скрытность, мощь; зорянка — за доверие к людям, песни, которыми она их радует, хрупкость. (Т. Нор, Франция)
— Зяблик, потому что с ним работаю, и серая ворона, потому что с нею удается максимальное общение. (В. Дольник, Ленинград)
— Канадская казарка — каждую весну она возвращается вновь. (А. Кист, Канада)
Сокол-сапсан оказался у орнитологов в особом почете, собрав наибольшее число «голосов». Впрочем, не уступает ему по количеству приверженцев и еще одна птица — журавль. Профессор Владимир Евгеньевич Флинт, руководитель международной операции «Стерх», направленной на спасение белого журавля, свою преданность этим птицам обосновывает очень основательно:
— Журавли — совсем особые птицы. Самые умные. Самые красивые. Самые удивительные. Иногда они просто поражают совершенно человеческим ответом на ваши действия. Они способны не только к взаимопониманию, но даже к какому-то своеобразному подобию дружбы. Мне всегда приходит в голову эта мысль, когда я смотрю на выращенных человеком журавлей. У них удивительное чувство собственного достоинства, чувство равенства с человеком. Журавли не только умны, они красивы. Красивы особой законченной грацией, изяществом, свободой и своеобразием движений, нежной «продуманной» гаммой окраски. У журавлей удивительный голос — грустный и вместе с тем торжественный, жизнеутверждающий. Вероятно, все это послужило причиной особой любви к журавлям, которая живет у разных народов мира.
И еще одно обстоятельство выделяет журавлей из общего ряда птиц: никто из диких животных не находится сейчас в таком критическом положении, как журавли. Почти половина всех видов журавлей нашей планеты включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов как исчезающие виды. И нет сомнения, что полное исчезновение журавлей на нашей планете — только вопрос времени. Для одних видов потребуется несколько десятилетий, для других — считанные годы, но все они обречены. Если, конечно, человек не придет к ним на помощь…
В основном же — сколько было отвечавших, столько и любимых птиц. Были и такие, что ответили лаконично: все любимые. И нелюбимых, следовательно, просто не бывает.
Что до меня, то, полностью разделяя такую позицию, я не могу все-таки не выделить из всего множества птиц самых любимых. Их три. Первая из них — горный вьюрок, позволивший мне в полную меру познать упоение поиска и находки. Вторая — гусь. Помните Ивана Ивановича в «Каштанке» Чехова? «По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью…» С той далекой поры, как я узнала эти строки, не перестаю мечтать о том, что и в нашем доме будет жить гусь, — правда, не домашней породы, как Иван Иванович, а из диких. Мои родные давно уже сжились с этой идеей и вполне реалистически представляют себе, как будут делить с гусем ванную. И сейчас эта достаточно сумасбродная идея как никогда близка к осуществлению: по долгу своей службы я имею дело с гусями, именно с горным гусем — чудесным серовато-голубым гуськом с белой головкой, украшенной черными полосками. Но о моей нынешней работе — позднее. А теперь — о третьей моей любимой птице: ласточке-касатке. Она приобщила меня к самой таинственной загадке из всех птичьих таинств — загадке их перелетов — и позволила ощутить себя причастной к чуду.
Ласточки достались нам в наследство от прежних хозяев деревенского дома вместе с просторным крытым двором, где прежде жила корова и хватало места всякой прочей живности. Таких дворов, как этот, у нас в деревне почти не осталось. Место коров заняли мотоциклы, а то и «Жигули», ворота теперь всегда на запоре, ласточки же изгнаны по гигиеническим соображениям, и осталось их в деревне считанные пары.
В природе ласточки живут в горах или речных обрывах, устраивая гнезда в пещерках, норках или скалах. Но две из них — касатка и воронок — давно связали свою жизнь с человеком, поселяясь в его жилищах. Воронок — черный верх, белое брюшко и относительно короткий хвостик вилочкой — предпочитает лепить свои гнезда под карнизами каменных зданий, отсюда и второе название этой ласточки — городская. Касатке — от воронка ее отличают красновато-рыжие лоб и горло и длинный хвостик косицами — более по вкусу деревянные постройки, оттого и зовут ее еще деревенской ласточкой.
Касатки избегают селиться шумными компаниями, как это делают воронки. В нашем сарае жила обычно одна пара, но, бывало, уживались и две, каждая на своей территории. Нас они совершенно не боялись. Похоже даже, знали всех своих в лицо. Целыми днями сновали птицы туда-сюда через распахнутые ворота и, случалось, даже задевали тебя легкими крыльями. На собак они тоже не обращали ни малейшего внимания, но появление незнакомого человека встречали резкими тревожными криками.
Кольцеванием установлено, что ласточки из года в год возвращаются к своему гнезду. Правда, старое гнездо обычно не занимают, а устраиваются вблизи от него. До той осени, когда случилась вся эта история, я ласточек не кольцевала, потому точно не скажу, но склонна думать, что на протяжении нескольких лет у нас гнездилась одна и та же пара. Свой дом из мокрой земли и соломы она неизменно возводила в одном и том же уголке сарая, даже на одной и той же жерди.
С этой-то парой и случилась беда. Своих детей они вывели в тот год необычайно поздно: только 23 сентября молодые ласточки вылетели наконец из гнезда. Видимо, это было второе гнездование — в наших краях ласточки успевают вывести детей дважды за лето. Когда они гнездились в первый раз, я не знала — все лето прошло в разъездах. Очень может быть, что и в первый раз они запоздали, слишком уж скверное лето выдалось в том году.
Правда, приобщение молодых к самостоятельной жизни свершилось в тот год в рекордно сжатые сроки. Всего один день родители позволили им попорхать в сарае, а там вывели на свет божий. Еще денек молодые ласточки провели на телевизионной антенне соседнего дома, время от времени заглядывая в родимый сарай — ночевать они всегда возвращались под крышу. А на третий день уже довольно уверенно чертили воздух над садом. Родители явно спешили, ведь молодежи предстояло еще окрепнуть перед дальней дорогой: 6 тысяч километров до зимовок в Африке — нешуточное дело! И, возможно, птицы успели бы все-таки улететь до наступления холодов, не заверни они так рано.
Каждый вечер, зажигая в ледяном сарае свет, я находила одну и ту же грустную картину. Малыши сидят кучкой на жердочке в углу, два хвостика в одну сторону, два в другую, греют друг дружку. Родители устроились под самой крышей, завернули головки под крылья. Видимо, они впадали на ночь в оцепенение, нечто наподобие легкого летаргического сна, есть у ласточек такая способность — Андерсен в своей сказке не все придумал. Разумеется, провести всю зиму под землей ласточка не может, но на время, чтобы пережить резкое похолодание, она в самом деле может оцепенеть. Температура ее тела — у птиц всегда очень высокая, до 45°,— тогда сильно понижается, и главный выигрыш, который она от этого получает, — экономия энергии и, значит, горючего.
А что значит горючее для птицы, однажды пришлось мне очень хорошо прочувствовать. Тогда, много лет назад, я ездила со студентами зимой на Алтай, в самое его холодное место — Чуйскую степь. Весь январь под пятьдесят, изо дня в день. Спасибо — нет ветра и хоть капельку, но все-таки пригревает днем солнце — сказывается двухкилометровая высота. Но все-таки холодно зверски! И что самое удивительное, нашлись птицы, избравшие Чуйскую степь местом своей зимовки: пуночки, выведя детей в своих тундрах, летят сюда за тысячи километров!
Весь день, наполненный поисками корма, уходит у этих птиц на то, чтобы накопить на ночь горошину жира — это и есть птичье горючее. На ночевку пуночки собираются группами, иной раз по 20–30 птиц, в снежных пещерках, образующихся в плотных надувах снега по берегам реки, и греют друг друга. Мы ловили их сетью, кольцевали и выпускали. Если поймаешь птицу вечером и раздуешь перья на грудке, видишь возле шейки маленькое пятно жира. Возьмешь ту же птицу в руки утром, а пятнышко уже растаяло — весь жир ушел на ночное «отопление». Ну а если почему-либо не придется ей подкормиться, вторая ночь при сильном морозе может оказаться последней…
И вот, возвращаясь в тепло натопленный дом, я прямо-таки физически ощущала, как тает на грудках моих ласточек с таким трудом накопленная капля драгоценного горючего. Ночь длилась теперь для них бесконечно долго: в 5–6 вечера они уже на своей жердочке и сидят на ней до 9, а то и до 10 утра. Где им при северном ветре и пролетающей снежной крупе наловить потребное количество мошкары! Чем дальше, тем хуже сводили они концы с концами, и значит, надежды на спасительный юг совсем уж не оставалось.
Дело в том, что для путешествия в Африку ласточке необходимо «взять на борт» большой запас горючего. Поэтому перед началом перелета птица жиреет, набирая необходимый резерв энергии. Одновременно с этим у нее развивается и нарастает так называемое миграционное состояние — неудержимое стремление к перемене мест. У худых птиц такого состояния может просто-напросто не наступить. Так, по-видимому, и случилось с нашими ласточками, потому и не увели их за собой перелетные стайки птиц, не раз появлявшиеся в нашем саду.
— А может, поймать их и взять в комнату? — прервала мои размышления дочь.
— А дальше что? Кормить-то их придется насильно. Ты же знаешь, чем питаются ласточки, — аэропланктоном. И ловят его на лету. Разве мыслимо всю зиму пихать им корм в горло, да и что от них после этого останется?
— Но неужели все-таки ничего нельзя придумать? Ведь они живут под нашей крышей, это наши ласточки!
Все было верно. Среди обитателей нашего деревенского дома эти птицы заняли прочное и очень заметное место. Хотя и четвероногих, и крылатых обитателей в нем всегда хватало. Так что же все-таки с ними делать? Отпуск подходил к концу, а мы и представить себе не могли, что бросим их вот так. Положение же с каждым днем становилось все более угрожающим. Из молодых осталась уже только одна ласточка. Сначала две, а потом и еще одна не вернулись ночевать и скорее всего погибли. Теперь даже среди дня птицы прилетали в сарай подремать, а это — явное свидетельство голодания. Трое-четверо суток, больше им не протянуть.
И тут пришла на ум давняя история. Тогда замерзающие ласточки, целая большая стая, набились где-то в трубу котельной. Об этом сообщили в Общество охраны природы, и будто бы ласточек отправили самолетом в Крым. Но у нас нет самолета, да и лететь кому-то из нас на юг сейчас нет возможности.
— Но зачем обязательно кому-нибудь из нас? Мало ли народу летит на юг! Попросим кого-нибудь из пассажиров, неужели откажутся? — неожиданно рассудила Лена. И в самом деле, как это нам раньше не пришло в голову?
Тотчас мы начали готовиться к операции. Первая ее часть — птиц поймать. Проще всего, конечно, было бы взять их ночью, но вся троица усаживается слишком высоко — молодая ласточка, оставшаяся в одиночестве, пристраивается теперь на ночь между своими родителями. Остается одно: ловить их утром, когда они вылетают из сарая. Если ворота закрыты, они всегда пользуются одним и тем же отверстием в стене, мы его даже специально не заделываем. Тут и надо ставить ловушку. Из тюлевой занавески Андрей соорудил объемистый сачок и установил его снаружи отверстия. Изнутри мы закрыли его доской и с чувством исполненного долга отправились спать.
Утром все пошло как по писаному: мы отодвинули доску, и вот уже самец с великолепными длинными косицами хвоста, а за ним и самочка с хвостиком поскромнее оказались в сачке. Но молодая ласточка спутала нам все карты: она наотрез отказалась последовать примеру родителей, и никакие силы — а пугая ее, мы прибегли ко всем мыслимым подручным средствам — не могли заставить птицу залететь в ловушку. Решив дать ей время успокоиться и подумать, мы ушли в дом, а когда вернулись, ласточки и след простыл — она утекла, воспользовавшись каким-то неизвестным нам каналом.
Времени у нас совсем не осталось, надо было торопиться на автобус. Мы доделывали последние дела, складывали вещи, и каждому из нас мерещилась одна и та же разрывающая сердце картина: под крышей темного ледяного сарая одинокий остывающий комочек перьев. Короче, мы плюнули на автобус и остались со слабой надеждой, что упрямая птица все-таки вернется в дом, где с ней так нехорошо обошлись.
К вечеру она действительно вернулась, но не забыла утреннего урока и, словно прочитав наши мысли, выскользнула на улицу, даже не позволив нам закрыть ворота. Прилетела она и еще раз — совсем, верно, плохи были ее дела. Ворота на этот раз мы закрыли, но она жалобно пискнула и просочилась в такую щель, что мы только диву дались. Вконец расстроенные, мы распахнули ворота пошире и пошли топить печку — не ночевать же и нам в холодном доме. А когда уже в темноте вышли в сарай, увидели ту самую картину: сжавшийся одинокий комочек перьев под крышей сарая.
Через час, когда она была-таки у меня в руках, сердце готово было вырваться из груди — те трюки, которые мы проделывали, гоняясь за ласточкой по сараю, не поддадутся никакому описанию. Безо всякого сомнения, это была выдающаяся птица, недаром она одна уцелела из целого выводка. И все же в тот же вечер мы поспели на последний автобус и на последнюю электричку и поздней ночью прибыли в Москву. Но когда утром устроили смотр птицам, стало очевидно, что отправлять их в таком состоянии нельзя, слишком они были истощены.
Немедленно было организовано усиленное питание: фрикадельку из сырого мяса с яйцом в глотку — и никаких разговоров. Немного повредничала только молодая птица, старые тотчас принялись глотать фрикадельки с полной готовностью. Уже к вечеру в их тельцах стал ощутим прилив энергии, а наутро я рискнула перевести птиц из картонной коробки в клетку. Как поведут себя в клетке ласточки, я понятия не имела — никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь держал этих птиц в неволе.
Но все опасения оказались напрасными. Скоро на моем столе открылся натуральный курорт, по определению бабушки. Сидя под дождичком и на солнышке, ласточки с упоением чистили перья. Дождь я устроила, брызгая сверху водой, а солнце — посредством настольной лампы. В жизни не приходилось мне встречать столь спокойных и приятных в обхождении птиц. Ведь хоть и были они наши, ласточки оставались настоящими дикими птицами. Скоро вокруг них собрался весь дом, не исключая, конечно, и собак — уж больно хороши были наши ласточки вблизи. А они, блестя черными бусинами глаз, в свою очередь рассматривали окружающих.
— Я же всегда говорила, что они всех нас знают! — торжествовала бабушка.
После изучения наличной литературы и нескольких консультаций по телефону, наиболее целесообразным местом выпуска было признано Черноморское побережье Кавказа. На свои зимовки наши европейские ласточки летят двумя главными дорогами: через Украину и Черное море и через Кавказ. Перелет через море нам, конечно, был ни к чему. Оставался Кавказ. «Летим в Сочи», — объявила я птицам, когда были определены подходящие рейсы. Мы решили отправлять их пораньше, чтобы птицы сумели засветло освоиться на новом месте, да и не было уверенности, что удастся пристроить их с первым же рейсом. Тут наши опасения, к сожалению, оправдались.
— Люди так удивились, когда мы попросили взять ласточек, — рассказывала Лена, вернувшись с аэровокзала. — И с таким недоверием на нас смотрели! Но на втором рейсе была славная женщина, она сразу все поняла!
И вот в руках у меня открытка из Сочи: «Все в порядке. Ласточки выпущены в 12.30 в зеленом месте…» И хотя надеяться было почти не на что, мы с нетерпением начали ждать весны.
Когда в мае мы вернулись в свой дом, ласточки уже хозяйничали под его крышей. Однако, увидев, где они начали строить гнездо, мы расстроились и решили, что, как и следовало ожидать, чудес на свете не бывает и это совсем другая пара. Та, прежняя, хоть и гнездилась в том конце сарая, но на другом скате крыши.
Я съездила в экспедицию, ласточки за это время благополучно вывели первую партию детей, успели построить второе гнездо, и в нем стало уже слышаться тоненькое теньканье новых птенцов. Вот тут-то мы и заметили кольцо! Я вооружилась биноклем — и никаких сомнений! На правой лапке у самца, обладателя яркого черного нагрудника и пары великолепных длинных перышек в хвосте, надето наше колечко. Поначалу же мы его просто не заметили: на коротенькой лапке ласточки оно видно очень плохо, а первое время по прилете птицы нас немного дичились и не позволяли разглядывать себя с близкого расстояния.
Теперь все разъяснилось: самец оказался из нашей закольцованной пары, тогда как самочка — другая. Наверное, тем и объясняется смена вкусов в выборе места для гнезда.
— Ладно уж, будь по-твоему, — сказала новая подруга нашему герою, — так и быть, я согласна жить в твоем любимом конце сарая, но только по другую сторону крыши!
О судьбе же «нашей» самочки можно только гадать. Увы, слишком много опасностей подстерегает птиц на их долгом пути в Африку и обратно. Ежегодный отсев их огромен. Несмотря на то что многие пары успевают сделать за лето два выводка, что означает пополнение в 8–10 молодых, на следующий год ласточек на места гнездовий прилетает, как показало кольцевание, не больше, чем в предыдущий год. Больше всего гибнет первогодков, но и старые птицы, разумеется, не вечны. И кто знает, может быть, молодая ласточка и прошла благополучно через все испытания дальней дороги. Ведь в наш сарай я ее и не ждала. Молодые птицы, хоть и стремятся обратно на родину, особой привязанности к родимому гнезду не обнаруживают, а рассеиваются по его окрестностям, подыскивая место для собственного дома. Вот к нему-то они и будут отныне стремиться!
Многие, кому я рассказывала об этой истории, особенно поражались тому, что ласточка нашла дорогу домой. Ведь мы увезли ее далеко от него, и значительную часть пути на юг она проделала не на своих крыльях. Но в этом как раз нет ничего неожиданного. За то время, что люди пытаются проникнуть в тайну птичьих перелетов, проделана масса опытов по перевозке птиц. И как бы далеко от родины их ни увозили, они с беспримерной настойчивостью возвращаются обратно. И все же я не могу относиться ко всему происшедшему иначе как к великому чуду. А благодарность и уважение, что испытываю я к нашей ласточке, вовсе не соответствуют ее мизерному живому весу: всего-то в этом отважном тельце каких-нибудь двадцать граммов.
Ласточка с кольцом трижды возвращалась под нашу крышу. А потом птицы перестали у нас гнездиться. И наш дом, лишенный плеска их легких крыльев, милого щебета и родительских хлопот, утратил весомую часть своего очарования…
И еще одну птицу, кроме любимой, попросила я назвать коллег-орнитологов: Птицу-мечту, с которой более всего хотелось бы встретиться в природе. Нашлись и тут максималисты:
— Все те 8300 видов, которых еще не встречал, а всего в мире 8700. (Б. Брошо, Франция)
Но большинство ответило вполне конкретно, вот, к примеру: кречета, розовую чайку, дальневосточного аиста, сибирских журавлей, глухаря (мечта испанского орнитолога М. Маньеса), попугаев Амазонии, колибри и даже жар-птицу и додо. Последнее не более вероятно, чем жар-птицу, но более грустно: беззащитный нелетающий голубь додо с одного из Маскаренских островов, дававший на свою беду много жирного мяса, был истреблен еще в XVIII столетии. И еще один очень символичный ответ — непуганую…
Ну что ж, заметит иной настроенный скептически читатель, мало ли кто что любит, пусть даже с детства! Потому и поставила я перед орнитологами следующий вопрос.
3. ЧТО ДАЛИ ПТИЦЫ ЛЮДЯМ?
— Сопереживание полета. Раз птицы летают, значит, летают и боги, и душа, и мысль, и сам человек мог бы летать. Без птиц человечество мыслило бы более приземленно. (В. Дольник, Ленинград)
— Краски, песни, движение, вдохновение. (Дж. Босвал, Великобритания)
— Счастье общения с ними. (Д. Жордания, Тбилиси)
— Мечту, иногда религию, ощущение свободы. (К. Вуари, Бельгия)
— Символ торжества жизни при всей ее хрупкости. (Д. Бернар, Франция)
— Широкий кругозор. (В. Константинов, Москва)
— Победу над силой тяжести. Восхитительные тайны, в которые человек получил возможность проникать. (Т. Нор, Франция)
— Окрылили его. (С. Москвитин, Томск)
— Хлеб и красоту. (В. Мельничук, Киев)
— Главным образом, духовную пищу, не мясо. (Ю. Шибнев, заповедник «Кедровая падь»)
Итак, орнитологи благодарны птицам прежде всего за пищу духовную. Тут можно усмотреть некую пристрастность, а потому я несколько углублю вопрос: а зачем, собственно, все они нам, эти 8700 видов птиц, населяющих ныне Землю?
Я бы сказала, что при решении этого вопроса «за» голосуют по крайней мере четыре «э»: экология, экономика, эстетика, этика.
Экологическая сторона дела заключается в том, что каждый вид на своем отведенном ему природой месте по-своему важен и необходим. В слаженно работающем оркестре — экосистеме — ему принадлежит особая, тщательнейшим образом отдирижированная эволюцией партия. Главная экосистема Земли — биосфера — слагается в конечном итоге из партий двух миллионов видов живых организмов, известных на сегодняшний день людям, а на самом деле их, видимо, много больше. Чем богаче и разнокачественнее биологическая система, тем она устойчивее и надежнее — подобно этому надежность технических систем повышается за счет дублирования их элементов.
«Крупнейшее открытие XX века — это не телевидение и не радио, а признание всей сложности организма Земли, — сказал выдающийся американский эколог Олдо Леопольд. — Самый большой невежда — тот человек, который спрашивает про растение или животное: „А какой от него прок?“ Если механизм Земли хорош в целом, значит, хороша и каждая его часть в отдельности, независимо от того, понимаем мы ее назначение или нет… Сохранять каждый винтик, каждое колесико — вот первое правило тех, кто пробует разобраться в неведомой машине».
Приходится признать, что за сорок лет, прошедших со времени, когда были написаны эти строки, винтиков и колесиков было разбазарено великое множество, хотя то, как работает машина Земли, людям и по сей день почти неведомо. По некоторым же прогнозам, при нынешних темпах вымирания населяющих Землю организмов, происходящего по вине человека, число их до конца столетия может уполовиниться. Как скажется это на работе биосферы и, соответственно, на нас с вами?
Каждое живое существо на отведенном ему природой месте жизненно необходимо, если как следует разобраться, и с самых потребительских позиций человека. Это, так сказать, второй пласт полезности, более глубокий и не столь очевидный, как мясо, яйца или шкура, однако по своему значению этот первый часто далеко превосходящий. Просто мы еще фантастически невежественны в вопросах экономики природопользования и, раз не научились еще выражать в рублях экологическую ценность того или иного вида, склонны считать ее и вовсе несуществующей.
Один пример из мира птиц — «морские огородники». В арктических морях — Баренцевом, Охотском, Чукотском — встречаются участки, отличающиеся необычно высоким содержанием биогенных веществ — азота и фосфора. Все они располагаются вблизи крупных птичьих базаров, где гнездятся чайки, чистики, бакланы. Удобряя воду своим пометом, птицы и создают гидрохимическую аномалию. В результате в окрестностях базаров сильно повышается продуктивность и стабильность сообществ фито- и зоопланктона, возрастает количество рыбы. Особенно благоприятные условия создаются здесь для нагула рыбьей молоди. А ведь тех же чаек, бакланов, цапель до сих пор преследуют как злостных пожирателей рыбы. В рыбоводческих хозяйствах, где птицы достают рыбу прямо из садков, им и в самом деле не место, но природные условия — совсем иное дело!
Первые попытки оценки экологической ценности биологических видов основываются на теории поддержания экологического равновесия. Согласно этой теории, для обеспечения надежности работы экосистемы требуется определенное число видов; при уменьшении их числа ниже определенного предела экосистема начинает разрушаться. Вот один из расчетов, основанный на допущении, что вымирание даже не половины, а всего пятой части живых организмов приведет к потере биосферой Земли экологического равновесия. Это, в свою очередь, вызовет утрату мирового продукта (суммы национальных продуктов), оцененного экспертами ООН в 3400 миллиардов долларов. Поскольку критическое число видов, ответственных за утрату мирового продукта, составляет примерно 300 тысяч (пятая часть от общего числа 1,5 миллиона видов, принятого в этом расчете), оценка одного вида живого получается при простом делении 3400 миллиардов на 300 тысяч, что составляет примерно 11 миллионов долларов! Такова стоимость одного из исчезающих видов живого, очень, конечно, условная и примерная, но если и нуждающаяся в поправке, то только в сторону увеличения.
Экономика, разумеется, тесно сопрягается с экологией, хотя подход тут несколько иной. Как это ни удивительно, до сих пор люди крайне плохо осведомлены о том, какие полезности заключены в окружающем их мире живого. Блага, получаемые современным человеком от природы, основываются на изученности с этой стороны примерно десяти процентов видов растений и — лишь одного процента видов животных! Перспективы же тут самые заманчивые. По расчетам наших экологов, биологическую продуктивность Земли только за счет увеличения продуктивности существующих сельскохозяйственных растений и животных и вовлечения в хозяйство новых видов можно повысить в 3–4 раза. Надо ли объяснять, что это за животрепещущая проблема перед лицом стремительно растущего человечества?
Но не станем предаваться фантазиям о выгодах, которые сулят, к примеру, стада одомашненных страусов, разгуливающих по бесплодной для других животных местности и преобразующих чахлые пустынные растения в отличное мясо, гигантские яйца и восхитительные перья. Хочу обратить внимание читателя на другое: на ту информацию, которую содержит окружающий нас живой мир и которую можно, и даже более того — нужно! — рассматривать как особый природный ресурс, вечный и неистощимый, пока неистощима на выдумки природа, и иссякающий вместе с нею. Любая природная система, начиная с одноклеточного организма и кончая биосферой в целом, служит бесценным и уникальным ресурсом информации. Сокрушая очередную такую систему, мы каждый раз должны отдавать себе отчет в том, что уничтожили невосполнимый источник знания и, возможно, образец для подражания. Кто знает, какие премудрости преподал бы нам этот образец, тот же истребленный додо с Маскаренских островов. Успехи бионики, во всяком случае, основываются именно на таких премудростях.
Птицам же в этом смысле принадлежит роль исключительная. Не зря в ответах орнитологов крылья, победа над силой тяжести расцениваются едва ли не как главный дар птиц человечеству. И дар этот вовсе не исчерпал себя: человеку у птиц учиться еще и учиться до бесконечности, особенно по части премудростей, связанных с полетом. Потому и возникло новое, очень плодотворное направление орнитологии — биофизика полета. Особенности строения птичьего крыла, аэродинамику полета — на воле и в условиях эксперимента, в аэродинамической трубе, — летные характеристики и стратегию полета различных видов птиц изучают теперь детальнейшим образом и всеми доступными средствами во многих странах мира.
Пристальное внимание орнитологов обращено на самые разные стороны биологии птиц и их строения. В их числе теплоизоляционные и аэродинамические качества перьев, дыхание и регуляция температуры тела, биоэнергетика и многое другое. Птицы, как выяснилось, обладают наибольшей среди позвоночных животных устойчивостью к гипоксии — недостатку кислорода. Это и неудивительно: во время перелетов они поднимаются на высоту свыше двенадцати километров. Решения физиологических и биохимических задач, обеспечивающие уникальные способности птиц к длительному полету, перенесение не только гипоксии, но и других экстремальных ситуаций, поражают своей экономичностью и «остроумием».
Ученым же для разгадки этих решений приходится, в свою очередь, изощряться в изобретательности. Высокую оценку коллег получила работа П. Батлера из Великобритании, изучавшего, как дышат птицы в полете. Гусят белощеких казарок он выращивал в неволе с момента вылупления, так что они принимали его за своего родителя и следовали за ним повсюду, даже если он находился в кузове движущегося грузовика. Это-то и позволило решить задачу: с помощью миниатюрных радиопередатчиков, имплантированных в тело птицы, Батлер получал все интересующие его сведения от летевших за машиной казарок. Как оказалось, сердечный ритм птиц увеличивался с 70 ударов в минуту в состоянии покоя до более чем 500 в начале полета, затем устанавливаясь на уровне 287 ударов в минуту. Частота дыхания в полете возрастала не столь резко: 99 вдохов в минуту против 85 в покое. При приземлении частота ударов сердца птицы постепенно снижалась до нормального уровня, тогда как частота дыхания, напротив, возрастала и через четыре минуты после приземления составляла 250 вдохов в минуту!
Первостепенное внимание, разумеется, уделяют орнитологи феномену птичьих перелетов, прежде всего вопросам ориентации и навигации. Полосатая древесная славка, к примеру, весящая всего 20 граммов, совершает трех-пятидневный беспосадочный перелет над океаном от берегов Канады до Южной Америки, протяженностью около 4 тысяч километров! Каким способом она выбирает и затем выдерживает единственно верное направление полета?
Нельзя сказать, чтобы загадка на сегодняшний день была решена, но существенные успехи исследователей очевидны. Особенно ощутимый сдвиг произошел с того времени, как для «прослеживания» невидимых мигрирующих птиц начали применять радары, а за отдельными мигрантами следить с помощью прикрепленных к ним миниатюрных радиопередатчиков. Этим путем удалось получить прямые доказательства ориентации птиц по солнцу и звездам и в то же время установить, что птицы находят и выдерживают верное направление в условиях сплошной облачности при отсутствии видимости. Какими механизмами ориентации они при этом пользуются, пока неясно. Чем больше накапливается новых фактов и их толкований, тем яснее становится, что единственно верного объяснения уникальной способности птиц к ориентации просто не существует. Разные виды птиц при различных обстоятельствах пользуются для ориентации разными способами, тут и земной магнетизм, и многочисленные ландшафтные ориентиры, и направление господствующих ветров. Самые смелые гипотезы находят неожиданные подтверждения, хотя наиболее поразительные открытия, по всей видимости, еще впереди.
Птичьи премудрости — благодатная и плодотворнейшая область знания, оборачивающаяся вполне реальными материальными выгодами, и работы тут непочатый край. Но еще на одно обстоятельство непременно хочется обратить внимание. Как показал в своих работах покойный профессор МГУ Л. В. Крушинский, несмотря на то что мозг птицы невелик по размерам и значительно отстает в развитии коры больших полушарий от млекопитающих, по уровню развития высшей нервной деятельности некоторые группы птиц сравнимы с такими зверями, как псовые, медведи и даже — высшие приматы. А наиболее высокая пластичность поведения врановых птиц вполне может быть расценена как рассудочная деятельность. Наблюдая за живущей у меня в доме скромной серенькой воробьихой Чирой, так легко и органично вписавшейся в наш быт и вовсе не уступающей по интеллекту нашим собакам, я не устаю поражаться тем феноменально целесообразным и компактным устройствам, что работают в ее крошечной головенке.
Третье «э» — эстетическая сторона дела, которой, отвечая на вопросы моей анкеты, орнитологи отдали самую серьезную дань. Не могу не вспомнить тут кадры одного из виденных на орнитологическом конгрессе фильмов. В роще высоких деревьев — колония белых цапель (дело происходит на Корейском полуострове). Птицы суетятся возле гнезд, кормят птенцов, а в отдалении, за полосой болотистого луга, — зрительские трибуны, как на сельском стадионе, — взрослые и дети наблюдают за птицами. Одни вооружились биноклями и просто предаются созерцанию, третьи фотографируют птиц, четвертые тут же делают зарисовки. И всех объединяет единое настроение — сосредоточенное и благоговейное.
«Человечество тратит миллиарды и миллиарды (к сожалению, не так уж много тратит! — М. Ч.) — не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить ту окружающую нас природу, которая дает возможность эстетического и нравственного отдыха», — пишет академик Д. С. Лихачев. И далее развивает свою мысль: «В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и культурой».
И, следовательно, между природой и нравственностью, ибо, по Лихачеву, «культура — это нравственность прежде всего». Так вот птицы — не только из области экологии биологической, но и в очень большой мере — из области экологии нравственной. И я глубоко убеждена в том, что наша (и, увы, не только наша) деревня, лишившая себя ласточек-касаток, безусловно, проиграла в нравственном отношении, ибо, пусть и незаметно, но эти щемяще-родные птицы, как и проплывающие в осеннем небе журавли, и почти исчезнувший с наших полей перепел, и звенящий над лугом жаворонок, служили неотъемлемой частью ее духовной среды, как и те леса и перелески, которые оставлял крестьянин нетронутыми, обходя их плугом, «и потому они вырастали ровными купами, точно в вазу поставленные», как пишет Д. С. Лихачев, и золотые маковки церквей. Это тот случай, когда экология биологическая и культурная (ведь экология от слова «экос» — дом) выступают в нерасторжимом единстве. Ласточка весною в сени к нам летит. С ней и солнце краше, и весна милей… Помните?
Но следует говорить не только о том эстетическом и нравственном уровне, который мы понесем оттого, что она уже «не летит». Есть тут и аспект чисто потребительского порядка, потому что существует немало людей, готовых щедро платить за возможность убежать хоть ненадолго от масс-культуры и насладиться подлинной природной красотой, которой остается с каждым годом все меньше, и оттого стоит она все более дорого.
Недавно мне попалась статья под выразительным названием: «Экономика… льва». В ней приводится расчет, сделанный для национального парка Амбосели (Африка). Большинство посетителей парка стремятся в него прежде всего для того, чтобы посмотреть львов, разгуливающих на свободе. Оказалось, что доход, приносимый парку одним единственным львом, позволяющим смотреть на себя без помех посетителям, за 15 лет составляет более полумиллиона долларов! В то же время, как объект охоты, лев может дать максимум десять тысяч долларов. Пять тысяч процентов чистой прибыли от живого льва! Правда, автор статьи беспристрастно замечает, что в парке Амбосели хищники уничтожают около десятой доли процента рогатого скота. Но этот урон с лихвой возмещают из своих карманов поклонники живого царя зверей.
Львов у нас нет. Но есть зато, если снова обратиться к птицам, те же птичьи базары, являющие собой в пору разгара гнездования поистине феерическое зрелище. Правда, наслаждаться им, помимо редких специалистов, могут лишь совсем не редкие браконьеры. Никогда не поверю, чтобы не нашлось достаточного количества людей, стремящихся увидеть это чудо, пусть и за очень большие деньги. Разумеется, это требует предварительного вложения изрядных средств, необходимых не только для создания соответствующего сервиса для людей, но и — чтобы не навредить птицам. Все надо очень тщательно продумать, но ведь есть же подобные «шоу» в других странах мира!
Наконец, сторона этическая. Отчасти мы ее уже коснулись, но со стороны, так сказать, центростремительной, имея в виду моральные потери, которые несет сам человек. Но не обязаны ли мы задуматься наконец о том, что все живые существа, и птицы в том числе, имеют не меньшее, чем мы с вами, право на место под солнцем? Независимо от того даже, снабжают они нас или нет вкусными яйцами, информацией для размышлений или служат объектами для любования. Просто потому, что они живые?
Великий Альберт Швейцер еще на заре нашего века, мудро прозрев грядущие проблемы, написал такие слова: «Поистине нравственен человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Он не спрашивает, насколько та или иная жизнь заслуживает его усилий, не спрашивает также, может ли она и в какой степени ощутить его доброту, Он не сорвет листочка с дерева, не сломает ни одного цветка и не раздавит ни одного насекомого. Когда он летом работает ночью при лампе, то предпочитает закрыть окно и сидеть в духоте, чтобы не увидеть ни одной бабочки, упавшей с обожженными крыльями на его стол. Он не боится, что будет осмеян за сентиментальность. Такова судьба любой истины, которая всегда является предметом насмешек до того, как ее признают. Когда-то считалось глупостью думать, что цветные люди являются действительно людьми и что с ними следует обращаться как со всеми людьми. Теперь эта глупость стала истиной. Сегодня кажется не совсем нормальным признавать в качестве требования разумной этики внимательное отношение ко всему живому, вплоть до низших форм проявления жизни. Но когда-нибудь будут удивляться, что людям потребовалось так много времени, чтобы признать несовместимым с этикой бессмысленное причинение вреда жизни.
Этика есть безграничная ответственность за все, что живет».
Современное развитие этих мыслей я нашла недавно в журнале «Этика окружающей среды» («Environment Ethics»), поместившем целый ряд статей по проблеме взаимодействия человека и других живых существ. Наибольший интерес у читателей журнала вызвал, как отмечает редакция, вопрос о правах животных. В одной из статей даже анализировалась аналогия между освободительным движением людей и «освободительным движением» животных! Дж. Кейв (G. Cave), автор статьи «Животные, М. Хайдеггер и права на жизнь», с этических позиций стремится доказать, что всякое убийство животных аморально. Однако доказательство этого положения оказалось невозможным без выработки ряда четких этических критериев, прежде всего «добра». Вслед за Хайдеггером автор в качестве такого критерия предлагает рассматривать «заботу». А поскольку животные способны к ее проявлению и при заботе о потомстве достигают самых высоких «нравственных» вершин, с моральных позиций человек обязан, по мнению автора статьи, воздерживаться от их убийства, даже безболезненного…
Видимо, если бы дело ограничивалось только проблемой вегетарианства и личной этикой каждого человека по отношению к живому, так доходчиво объясненной Швейцером явно применительно к самому себе, человечество могло бы в принципе стать на этот путь. Но мало нынче отказаться от котлеты и, закрыв окно, сидеть в духоте, чтобы ни одна бабочка не обожгла свои крылья о горящую на столе лампу. Вселенские лампы, зажженные повсюду человечеством, пышут таким жгучим пламенем, что в их огне сгорают мириады живых существ. Сколько пернатых гибнет на пролетных путях от столкновения с маяками, электролиниями, телевизионными вышками! Случается, за одну только ночь под маяком набираются тысячи разбившихся птиц. Одна авария нефтяного танкера оборачивается смертью десятков и сотен тысяч птиц. Во всем мире от загрязнения нефтью ежегодно погибают миллионы пернатых…
Нельзя сказать, что совсем ничего не делается для предотвращения этих массовых убийств наших соседей по планете. В принятом в 1980 году Законе СССР об охране и использовании животного мира есть две статьи, имеющие к этому самое непосредственное отношение. Статья 23 посвящена охране среды обитания, условий размножения и путей миграций животных, и статья 24 — предотвращению гибели животных при осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств. Очень гуманные и умные статьи, но для того, чтобы они заработали на деле, необходима подготовка так называемых подзаконных актов, где должно быть строго регламентировано, кто и каким образом отвечает за нарушения этой самой среды и гибель животных при осуществлении производственных процессов. Пока, признаться, непонятно даже, как подступиться к решению этих головоломных вопросов. И можно ли всерьез рассчитывать на то, что в наше время при решении таких проблем, как переброска вод северных рек («Заворот рек», по выражению Валентина Распутина), строительство очередной гигантской ГЭС или массированная вырубка последних массивов дальневосточной тайги, судьбы наших меньших братьев в самом деле будут приняты во внимание?
Есть и еще один аспект проблемы, неведомый во времена Швейцера и даже сейчас очень непросто укладывающийся в сознании. Человек настолько глубоко и беспорядочно вторгся в природные сообщества с их отлаженными в процессе эволюции взаимоотношениями между видами, что вызвал массовые размножения и процветание одних из них и, как следствие этого, — угнетение и гибель других. И теперь, дабы исправить роковую ошибку, приходится регулировать численность видов-победителей, то есть сохранение одних становится невозможным без войны с другими. Да и самим нам не выжить в этом мире, если позволить безнаказанно процветать таким спутникам нашей цивилизации, как крысы, мухи, тараканы.
Из птиц более всего подходит в эту компанию серая ворона. На недавнем совещании, посвященном специально этой птице, было подсчитано, что на каждого гражданина Советского Союза приходится своя ворона — столько развелось их за последние годы. Когда я прохожу мимо вороны, занятой таким рутинным для нее делом, как размачивание сухой хлебной корочки под подтекающим водопроводным краном, не могу не восхититься про себя: какое великолепное животное! А ведь замечательные умственные способности, под стать приматам, и сделали ее столь пластичной, позволив извлекать из соседства с человеком все мыслимые выгоды. И это же делает ее злостным вредителем! С комфортом перезимовав в городе, вороны на лето выселяются, как и положено, на дачу и там-то бесчинствуют вовсю, истребляя все живое, доступное по размерам. Да и в городах в окрестностях вороньих гнезд, а часть их живет в городах постоянно, переводятся даже воробьи — покинувших гнезда воробьят вороны съедают практически вчистую. Причем наглость и агрессивность этих птиц возрастает пропорционально росту численности.
Один мой знакомый охотовед прямо-таки трясется от ярости при виде ворон: «Ты подумай только, всех утят на пруду сожрали!» (утята были дикие, не домашние). Недавно, кстати, он возглавил специальную группу, призванную разработать надежные способы истребления ворон. Но справиться с этой птицей при ее хитроумии оказывается ох как непросто!
Итак, как бы аморально ни выглядело это с определенных философских позиций, люди настолько запутались в своих отношениях с природой, что во имя жизни одних ее детей вынуждены убивать других. Но как соблюсти при этом, насколько возможно, этические принципы Швейцера, прежде всего понимание этики как безграничной ответственности за все, что живет? Очевидно, попытка сохранить жизнь всем без исключения народившимся на свет живым существам, всем крысам, воронам, тараканам и им подобным — чистейший бред. Если же, говоря о живом, иметь в виду не отдельные особи, а все биологические виды, «вплоть до низших форм проявления жизни», все встает на свои места. Именно принцип необходимости сохранения всех без исключения биологических видов получил в наше время самое широкое признание и взят за основу во Всемирной стратегии охраны природы. И выходит, вынужденно объявляя в определенных местах войну той же серой вороне, ее, как вид, люди, вне всякого сомнения, обязаны сберечь.
Как и остальные 8699 видов птиц (из 8700 существующих).
После этого — центральный и на этот раз вполне академичный вопрос:
4. САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОРНИТОЛОГИИ?
Почти все, кому был задан вопрос, ответили без промедления: Охрана птиц. Любые действия на их благо. Сосуществование нас с ними и их с нами.
Разумеется, не забыты были и другие направления орнитологии: изучение миграций птиц, их физиологии, поведения, энергетики, языков, экологии (с оговоркой — пока не поздно!), эволюции, систематики, морфологии. Но мысль о первоочередной необходимости охраны птиц присутствовала, за редким исключением, всегда, а многие из только что перечисленных направлений рассматривались прежде всего через призму охраны. По меткому выражению профессора В. Е. Флинта, «чтобы изучать птиц, надо прежде всего придумать, как их спасти, чтобы изучать».
Вот какая проблема поднялась во весь рост перед современными орнитологами, оказавшимися, по существу, в положении родителей, влюбленных в свое прекрасное дитя, но улавливающих в нем черты смертельно опасной болезни, а потому вынужденных подчинить свою жизнь единственно важной цели — борьбе за его спасение.
Насколько же серьезно, в самом деле, положение, помогут представить ответы орнитологов еще на один вопрос: каково будущее птичьего населения планеты в связи с растущим антропогенным прессом?
— По крайней мере десять процентов птиц вымрут. (Дж. Босвал, Великобритания)
— Одни виды, самые прекрасные и не мирящиеся с человеком, погибнут, другие, более вульгарные, кого я люблю меньше, возобладают. (Т. Нор, Франция)
— Меньше будет различных видов и выше численность тех, что сумеют приспособиться к нам. (Д. Владышевский, Красноярск)
— Есть, к сожалению, виды, на сохранение которых трудно надеяться, но мы делаем для их спасения все от нас зависящее. (Б. Белл, Новая Зеландия)
— Невеселая перспектива, если охрана птиц не станет главной целью каждого орнитолога. (В. Ковшарь, Алма-Ата)
— Нужно надеяться и действовать, чтобы с увеличением антропогенного пресса увеличивать и размах охранных мероприятий. (Ю. Шибнев, заповедник «Кедровая падь»)
Из этих и других, не уместившихся здесь, ответов следуют, на мой взгляд, два основных вывода. Первый сводится к тому, что различные виды птиц очень по-разному реагируют на антропогенный пресс. Одни не могут ужиться с человеком, и потому — увы! — обречены на вымирание. Другие, напротив, с человеком отлично уживаются, и будущее их безоблачно.
Так что же это за птицы на практике, а не в теории?
Чтобы познакомиться с первыми, надо поступить очень просто: раскрыть Красную книгу. Вот она, у меня под рукой: Красная книга СССР, том первый «Животные», 1984 год (издание второе, дополненное). Птиц в этой книге ровным счетом 80 видов, то есть десятая часть видов птиц фауны СССР. Скажу для сравнения, что в странах Западной Европы, подвергшихся наибольшей урбанизации, например, в ФРГ, под угрозой исчезновения уже находится более половины видов птиц. А если мы откроем Красные книги Эстонии или Латвии, найдем в них более трети всех видов птиц, встречающихся в этих республиках…
Перелистаем теперь раздел Красной книги СССР, посвященный птицам. Лучшие наши художники-анималисты В. Горбатов и Ю. Смирин устроили на этих страницах красочный парад поистине самого цвета отечественных пернатых. Если бы этот парад не был по сути траурным шествием, оставалось бы только восхищаться. Вот, полюбуйтесь: белоспинный альбатрос, птица с рекордным, чуть ли не четырехметровым размахом крыльев; следом оба наших пеликана, розовый и кудрявый; белая колпица с ее чудо-клювом лопаточкой; экзотический красноногий ибис — во всем мире этих птиц, в лучшем случае, уцелело чуть больше десятка; дальневосточный и черный аисты; фламинго — стая этих розовых с красными крыльями птиц над голубой гладью озера… нет слов!; краснозобая казарка, эндемик нашей фауны, изображение этого маленького очаровательного гуська сделалось эмблемой XVIII Международного орнитологического конгресса и Всесоюзного орнитологического общества; не имеющая себе равных по прихотливости наряда утка-мандаринка; все наши орланы, почти все орлы и крупные соколы — в Красной книге СССР 18 видов хищных птиц, число рекордное; почти все наши улары или горные индейки; пять видов журавлей из семи в отечественной фауне; голубая красавица султанка; все три вида наших дроф; прелестный степной куличок кречетка, еще совсем недавно в изобилии водившийся в казахстанских степях; розовая чайка; дальневосточный рыбный филин; чешуйчатый дятел, исчезнувший после вырубки тугайных лесов на берегах среднеазиатских рек; крошечная воробьиная птичка тростниковая сутора, живущая только на берегах озера Ханко и исчезающая в результате сведения тростников. Разумеется, я назвала далеко не всех…
Нетрудно заметить, что в первую очередь в Красной книге и, следовательно, под угрозой вымирания оказались самые крупные, яркие, заметные, самые прекрасные птицы — французский орнитолог Терез Нор совершенно в этом права. Все они издавна промышлялись человеком ради мяса, пуха, перьев либо, как хищные, с давних пор были изгоями. Та же закономерность отчетливо прослеживается и в мировом масштабе: наибольшим числом видов представлены в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов такие группы, как журавли, ибисы, крупные хищные птицы, фазаны, попугаи. Подтверждает печальную закономерность и список вымерших пернатых, среди которых три гигантские птицы — аист, индейка и хищная птица тераторн, исчезнувшие в Америке с появлением там первобытного человека, 20 видов гигантских новозеландских птиц моа, ставших жертвами охотников уже в нашем тысячелетии, нелетающий голубь дронт, размерами вдвое превосходивший гуся…
И в наше время хищническая охота наносит птицам огромный урон, особенно во время пролета или на зимовках, когда на небольшой территории они образуют крупные скопления. Однако главная причина исчезновения птиц в наше время уже не эта, а изменение и разрушение человеком среды их обитания. И чем дальше, тем более она выступает на первый план. Главная битва, как считают специалисты, ведется теперь на экологическом поле боя за сохранение естественных мест обитания.
Все те гуси, казарки, журавли, улары, фазаны, орлы, соколы, что в первую очередь бросаются в глаза, когда открываешь Красную книгу, только лишь первый эшелон. А второй, в наше время все более стремительно набирающий вес, составляют птицы вроде чешуйчатого дятла и тростниковой суторы. Охотничьими объектами они никогда не служили, большинство людей и не знает об их существовании, человек убивает их, даже не коснувшись рукой, просто вырубая леса или выжигая тростники. Особенно плохо тем из них, которые встречаются на очень небольшой территории — так называемым узкоареальным эндемикам.
Конечно, и крупные заметные виды от разрушения среды обитания страдают не в меньшей, а даже в большей степени, чем мелкие. Еще более печальна их судьба в том случае, если они служат заманчивой мишенью для охотника, встречаются на небольшой территории и к тому же имеют, как говорят орнитологи, «узкие места» в биологии, такие, как малая плодовитость, гнездование немногими крупными колониями, дальние миграции. Свойства, отрицательные с точки зрения шансов вида на выживание в этом мире, тогда суммируются, давая в ряде случаев прямо-таки катастрофическую составляющую.
А теперь о тех птицах, которым Красная книга никак не светит. С одной яркой представительницей этой группы мы уже знакомы: серая ворона. Все козыри на безбедную жизнь в нашем мире тут налицо. Взятки с вороны, что называется, гладки — как дичь она интересует разве что ястреба-тетеревятника. Живет ворона практически повсюду, населяя полмира — Северную Америку, Европу, Азию (местами, правда, вместо серой вороны — черная). Кормится всем, что хотя бы приблизительно можно признать съедобным. И еще важный козырь — домоседство: жизнь некоторых из ворон так и проходит вокруг одной городской помойки. Что же до плодовитости, то за судьбу вороньего племени можно не беспокоиться. Каждый год из окна своей квартиры в центре Москвы я наблюдаю за вороньей парочкой, неизменно безо всяких помех выводящей полдюжины хорошо упитанных и очень жизнеспособных потомков. Вторая воронья чета обосновалась поблизости в глубине двора, третья — чуть подальше… Летом подрастающее воронье потомство наполняет наш двор нахальным ором, а когда по осени молодежь поднимается на крыло, в воздухе делается черным-черно.
Все виды птиц, населяющие ныне Землю, располагаю я мысленно в ряд, с одного конца которого помещаю серую ворону — это край видов-победителей, а на противоположной стороне — виды из Красной книги, некоторые из которых, например, красноногий ибис, уже почти в небытии. Из тех же, что занимают промежуточное положение, одни явно тяготеют к «вороньему» краю, иногда самые неожиданные — в последние годы, например, резко возросла численность озерной чайки, отлично приспособившейся жить возле человека, даже в удалении от воды, питаясь, как и ворона, на свалках и устраивая свои колонии под защитой топей заброшенных силосных ям. Другие виды не обнаруживают пока определенных тенденций, и трудно предугадать, как сложится в дальнейшем их судьба. Третьи же, и со временем их становится все больше, уже явно «повернули» в сторону Красной книги. Та же перепелка, так хорошо знакомая с детства своим трогательным призывом «спать-пора, спать-пора, спать-пора…», или коростель, чье кряканье неслось всю ночь с болотистого луга возле занавесившейся туманом речушки, давно уже переставшей существовать.
И дело даже не в том, что виды, уже попавшие в Красную книгу или стоящие на очереди, не могут ужиться с нами, а в том, что мы не хотим и не умеем уживаться с ними! Или не берем на себя труд это делать. И если мы не хотим, чтобы в окружающем мире кроме нас с вами уцелели только вороны и им подобные, вроде крысы или таракана, надо научиться уживаться!
А орнитологам, соответственно, не остается ничего другого, как, трезво оценив серьезность положения, надеяться и действовать, чтобы с увеличением антропогенного пресса увеличивать и размах охранных мероприятий — это и есть второй из главных выводов на вопрос моей анкеты, который так удачно сформулировал Юрий Шибнев из заповедника «Кедровая падь».
Поэтому следующий вопрос к орнитологам был таким:
5. ЧТО БЫ ВЫ СЧИТАЛИ НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДПРИНЯТЬ НА БЛАГО ПТИЦАМ?
— У всех без исключения с раннего детства воспитывать любовь к птицам и чувство ответственности за их сохранность. (Т. Ардамацкая, Черноморский заповедник)
— Всемерно пропагандировать глубочайшее уважение ко всем проявлениям жизни птиц. (Л. Бурма, Нидерланды)
— Создавать как можно больше резерватов, невзирая на границы государств. (Т. де Руз, Нидерланды)
— Открыть как можно больше заповедников, особенно редкие виды разводить в неволе. (К. Альгирдас, Вильнюс)
— Незамедлительно заповедать уцелевшие болота на берегах озера Ханко, да и в других местах (Ю. Шибнев, заповедник «Кедровая падь»)
— Больше международных организаций и действенных законов об охране птиц! (М. Маньес, Испания)
— Достичь того, чтобы главным вопросом современной международной политики стала охрана среды. (Дж. Босвал, Великобритания)
— Добиться глобальных изменений в методах защиты растений, очистки воды, достижения равновесия между рубкой лесов и их восстановлением, а также объявить по крайней мере треть площади Земли такой территорией, на которой интересы животных признавались бы выше интересов людей при любых видах деятельности последних. Я считаю локальные усилия по охране природы без глобальной стратегии бесперспективными. (В. Дольник, Ленинград)
Не случайно симпозиум «Стратегия охраны птиц» сделался на XVIII Международном орнитологическом конгрессе центральным, собрав рекордное число участников. Правда, готовой стратегии пока нет, есть только предложение о ее разработке и документ, способный служить в известной мере прообразом — Всемирная стратегия охраны природы, а также более чем достаточное количество идей. Внимательный читатель, поразмыслив над приведенными здесь ответами орнитологов, может получить представление о контурах такой стратегии.
Главный вопрос заключается, однако, не в разработке стратегии учеными — они достаточно хорошо представляют себе, что надо делать, а в том, как она будет осуществляться на практике. Именно о бездне между теорией и практикой говорил в своем выступлении на Московском конгрессе Чарльз Имбоден — ученый секретарь Международного совета по охране птиц, являющий собой сгусток воинствующей энергии и здорового скептицизма. Если бы рекомендации ученых выполнялись, все было бы превосходно, но, увы, на практике они, как правило, не работают. Да и не заработают на полную мощь в отсутствие надлежащих социальных и политических преобразований нашего, столь далекого от совершенства мира.
И тем не менее действовать приходится сейчас, немедленно, буквально выхватывая из огня самое горящее. Среди орнитологов можно, пожалуй, выделить две наиболее отчетливо выраженные общности: патриотов хищных птиц и патриотов журавлей, недаром в ответах на вопрос о любимой птице сокол-сапсан и журавль собрали наибольшее число голосов. И тех и других объединяет единое чувство: крайняя озабоченность за судьбы своих любимцев.
Сокол-сапсан в шестидесятые годы оказался в числе птиц, наиболее близких к вымиранию, и был занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. И это при том, что он является среди пернатых рекордсменом не только по скорости полета, но и по площади гнездового ареала — сапсан живет чуть ли не по всему земному шару. Главная причина трагедии с ним — неумеренное применение в сельском хозяйстве пестицидов, и в первую очередь ДДТ, которые накапливались в тканях этих птиц в гибельно высоких концентрациях (из растений пестициды переходят к насекомым, от них к насекомоядным птицам, а от тех наконец к соколу, стоящему на самом верху трофической пирамиды). В итоге сапсаны начали откладывать яйца с такой тонкой скорлупой, что она трескалась под тяжестью насиживающих птиц. Молодых стало рождаться на свет слишком мало, чтобы компенсировать смертность стариков. В Финляндии до начала «эры пестицидов» гнездилось более тысячи сапсанов, а в 1975 году самые тщательные поиски позволили обнаружить всего 20 пар. В сельскохозяйственных районах США численность этих птиц упала местами в десятки раз, или они совсем вымерли.
«Поклона нашего заслуживают пострадавшие от ядохимикатов соколы. Не случись краха их популяций (да и не найдись орнитологов, этим обеспокоенных), как бы ни пришлось изучать губительные влияния пестицидов уже на человеке… Для нас сапсаны оказались чем-то вроде предохранителя, которому положено сгорать первым» — это слова Владимира Михайловича Галушина, признанного знатока, страстного поклонника и защитника хищных птиц.
И хотя в странах северного полушария, в том числе в нашей, применение ДДТ теперь запрещено, сапсаны в целом ряде мест «сгорели» настолько, что самим им уже не оправиться — критический для популяции предел оказался перейденным. В такой ситуации единственный выход — вольерное разведение соколов с дальнейшим их расселением в тех местах, где они прежде гнездились. Представленный на конгрессе доклад на эту тему американских орнитологов Т. Кейда и У Бернхэма слушался и смотрелся как самый увлекательный детектив.
Сначала присутствующих на заседании ознакомили с помощью слайдов с планировкой весьма комфортабельных и для птиц, и для людей ферм — центров по разведению сапсанов, их в США три, и работают они за счет специального фонда сохранения сапсана. У каждой пары птиц своя резиденция, достаточная для разминочных полетов, наблюдения же за птицами орнитолог ведет с пульта, оборудованного телевизионными камерами. У птиц, выращенных в неволе и импринтированных на человека, то есть считающих сородичем его, а не кровных братьев, размножение затруднено, и приходится потому прибегать к искусственному осеменению самок. Сперму же собирают путем безобидного для птиц и весьма остроумного приема, обязательно контролируя под микроскопом ее жизнеспособность. Самка в положенный срок откладывает яйца, но, поскольку толщина яичной скорлупы продолжает внушать опасения, деликатное дело насиживания ей не доверяют, а переносят яйца в инкубатор. Вылупившихся соколят поначалу кормят искусственно, а по достижении недельного возраста возвращают чуть было не ставшим бездетными родителям. Что и говорить, в первый момент птицы бывают немало шокированы, но вид требующих пищи птенцов побуждает их приняться в конце концов за родительские хлопоты, благо корм в вольеры поставляется в изобилии.
Эта первая часть дела уже хорошо отработана и затруднений не представляет. Но вторая… Каким образом выращенных в клетке соколят вновь превратить в вольных птиц? Дело осложняется еще и тем, что сапсаны любят жить в скалах, недоступных для человека, и тут орнитологам не остается ничего другого, как превратиться в альпинистов-скалолазов. Соколят помещают в клетку, поднимают ее повыше на скалу, чтобы кругом был хороший обзор и соколята имели возможность ознакомиться с окрестностями. Дней десять их держат в клетке, а потом снабжают радиопередатчиками и распахивают дверцу. Еще с неделю птицы держатся неподалеку, возвращаясь к людям за едой, а потом начинают постепенно жить самостоятельно.
Это самый сложный вариант — метод «одичания». Пользуются им в тех случаях, когда сапсаны в районе совсем вымерли, и популяцию приходится создавать заново. Легче, если некоторые пары сохранились, хоть и размножаются недостаточно продуктивно. Тут другой метод — «усыновления»: выращенных на ферме птенцов подкладывают в гнезда вольных сапсанов, где уже есть птенцы, или подменяют яйца маленькими птенцами, а яйца забирают на ферму. И в том, и в другом случае птицы усыновляют подкидышей и выкармливают их вполне успешно. Есть и другие возможности помочь соколам. В местах, где дичи для них довольно, сооружают искусственные гнездовья — вышки с ящиком для гнезда. Охотно гнездятся сапсаны и в городах, охотясь там за сизыми голубями (еще одним видом-победителем). Известен даже случай, когда выпущенная на волю соколиха по имени Алая загнездилась в Балтиморе на балконе 35-го этажа высотного здания, и орнитологи на протяжении нескольких лет успешно подменяли в ее гнезде яйца птенцами, и всех она выкармливала. Дело в том, что это была мать-одиночка, супруга у нее не было, и яйца она откладывала неоплодотворенными. Телевизионная кампания организовала еженедельные телепередачи о состоянии выводка, что сильно повысило число вкладчиков в Фонд сапсана.
За первые 8 лет работы было выпущено на волю 800 сапсанов, доподлинно известно, что 8 пар из их числа благополучно гнездятся и выводят потомство. В дальнейшем, когда число птиц удастся довести до нескольких тысяч, можно будет надеяться на восстановление жизнеспособности угасшей было американской популяции этого сокола.
Когда отгремели аплодисменты, не так часто сопровождающие научные сообщения, был задан вопрос о стоимости работы, вызвавший большое оживление. Один сапсан, как выяснилось, обходится более чем в три тысячи долларов, а общие затраты составляют многие миллионы. Так в денежном выражении выглядит плата за человеческую вину перед едва не погибшей птицей, но это — только одна птица и только в одной стране, а во всем мире терпящих бедствие пернатых, нуждающихся в неотложной помощи, насчитывается уже не одна сотня.
Не менее высокую оценку специалистов получила и работа по спасению журавлей, названная участниками конгресса в числе самых выдающихся орнитологических работ последнего времени. Залогом ее успеха послужил союз двух людей — канадца Дж. Арчибальда и американца Р. Сауэйхема, учредивших в 1973 году, главным образом на собственные средства, Международный фонд охраны журавлей. За счет фонда в штате Висконсин был открыт питомник, где ценою отчаянных усилий удалось собрать все 15 видов журавлей мира и добиться, чтобы все они начали размножаться. В 1979 году при Международном совете по охране птиц начала свою деятельность Всемирная рабочая группа по журавлям, а год спустя такая группа начала работать и у нас в стране. В том же 1979 году в Окском государственном заповеднике открылся питомник по разведению в неволе редких видов журавлей, где собрана самая большая в мире коллекция стерхов и ведется их международная племенная книга.
Но я вернусь к 1974 году, когда, собственно, и началась «Операция стерх». В тот год Джордж Арчибальд предложил Владимиру Евгеньевичу Флинту кооперироваться в работе по спасению этого прекрасного белого журавля, оказавшегося из всех своих сородичей в наиболее бедственном положении. Во всем мире стерхов уцелело катастрофически мало, в лучшем случае 250–300 птиц. Правда, американских белых журавлей насчитывается еще меньше, но число их, благодаря самоотверженной работе американских и канадских орнитологов, с каждым годом растет, тогда как число стерхов — тает.
Сохранилось всего два места, где гнездятся стерхи — эндемики нашей фауны: болота в низовьях Оби и влажные тундры на севере Якутии. Зимует же этот журавль за пять — шесть тысяч километров от наших тундр — в Индии и Китае, посреди сильно освоенных человеком аграрных районов. И как раз на зимовках и по пути к ним грозит стерхам наибольшая опасность. Смысл операции в том и заключается, чтобы заставить стерхов сменить исконные места зимовок! А для этого на специальной встрече в Москве решено было создать новую популяцию стерха в достаточно охраняемом месте, с тем чтобы и на зиму птицы летели в новые места, где им будет обеспечена надежная охрана.
Таким местом был признан Окский заповедник в Рязанской области. На его болотах живут серые журавли, которых решено было использовать в качестве «приемных родителей». В самой общей схеме все мыслится так: яйца стерхов надо подложить под серых журавлей, те их высидят, выкормят журавлят и уведут с собой сначала на новые зимовки, а потом обратно на болота Мещеры. Метод приемных родителей уже апробирован: именно так буквально накануне вымирания был спасен американский белый журавль, яйца которого подкладывали под серого канадского журавля, и птицы заботливо выкармливали приемышей. Есть и еще один важный довод «за». В гнездах стерхов, как и других журавлей, обычно бывает два яйца, но из-за исключительной агрессивности журавлят вырастает только один птенец — второй непременно погибает. Поэтому одно яйцо безо всякого ущерба можно из гнезда забирать.
Но тут возникло очень серьезное «но»: серые журавли в Окском заповеднике начинают гнездиться на месяц раньше, чем стерхи в сибирских тундрах. Поэтому прямая перекладка яиц невозможна. Не оставалось ничего другого, как получить яйца для перекладок от стерхов, живущих в питомнике, а уж потом, подгоняя должным образом длину светового дня, можно заставить птиц нестись в нужные сроки. Вот почему в 1977–1978 годах наши орнитологи передали в питомник в Висконсине несколько яиц стерха. Яйца были успешно инкубированы, и сейчас в питомнике Международного фонда охраны журавлей создана генетически полноценная группа из десяти стерхов. Вторая группа из двадцати стерхов живет в питомнике Окского заповедника. Так что первый шаг на пути спасения вида от вымирания сделан: создан генетический банк, служащий надежной страховкой на случай непредвиденных бед с вольными птицами. Теперь остается ждать, когда стерхи станут размножаться, а взрослеют журавли очень медленно. Но и здесь есть первая победа: в 1981 году в Висконсине из отложенного в вольерных условиях яйца родился стершонок! А скоро должны начать размножаться и стерхи в Окском заповеднике.
И хотя до заключительного этапа операции дело еще не дошло, можно с полным правом сказать, что пока все идет успешно. Недаром осенью 1985 года профессор Владимир Евгеньевич Флинт удостоился высшей награды Международного союза охраны природы и природных ресурсов — ордена «Золотой ковчег». Название ордена полно глубокого смысла: современное человечество в самом деле уподобляется библейскому Ною, и только от него зависит, кто уцелеет в ковчеге, бьющемся в волнах нашего бурного времени.
А теперь вот какое важнейшее обстоятельство: птицы на своих легких крыльях летают над земным шаром во всех направлениях, за многие тысячи километров, и даже предпринимают кругосветные путешествия. Государственные границы для них решительно не существуют, а отсюда — тщетность усилий по охране большинства видов птиц в рамках одной страны, ответственность за их судьбу может быть только общечеловеческой. Слишком уж плотно завязано все в один узел на нашей столь маленькой по нынешним временам планете. Сапсаны, к примеру, из Северной Америки улетают на зимовку в Южную, где до сих пор широко используются пестициды, и американским орнитологам никак не удается поэтому достичь полного «выздоровления» соколов. Когда в беседе с канадским ученым доктором А. Кистом зашла речь об охране его родных птиц, он взволнованно заговорил о трагичной судьбе южноамериканских тропических лесов — многие канадские птицы отправляются туда зимовать.
Невеселую историю слышала я и от голландских орнитологов, заботу о птицах в своей маленькой стране наладивших самым завидным образом: вся ее территория поделена на квадраты со стороной в пять километров, и ежегодно в каждом из них проводится тщательный учет всех птиц, так что ученые точно осведомлены, сколько пеночек или соловьев находится под их опекой. Но вот беда: столь любимые на севере маленькие певцы на зимовках в странах Средиземноморья служат традиционным объектом охоты. Чтобы уберечь соловьев от печальной участи попасть в жаркое, голландцы собирают специальные средства, на которые арендуют в этих странах участки, особенно важные для зимующих птиц, и даже скупают охотничьи лицензии, чтобы они никому не достались…
Вывод очевиден: усилия по охране многих, а то и большинства видов птиц дадут плоды только лишь при условии надежного международного сотрудничества. И вот наглядный тому пример — работа по сохранению белых гусей острова Врангеля, которая проводится в рамках Международного советско-американского соглашения по охране окружающей среды. О ней мне рассказал Евгений Сыроечковский, вот уже более десяти лет встречающий, а потом провожающий белых гусей на их гнездовье на острове Врангеля, единственном и последнем в восточном полушарии. Наблюдал он наших гусей и на зимовках в Северной Америке.
Из-за крайне суровых условий жизни гусям на острове Врангеля далеко не каждый год удается вывести потомство. Вспоминаются кадры из прекрасного и драматичного фильма Юрия Ледина: снегопад разыгрался в самый разгар полярного лета, когда гусыни уже начали насиживать. И вот посреди безбрежной снежной равнины сидят на гнездах закованные в снежный панцирь героические птицы, не имеющие права покинуть своего поста, чтобы не загубить начавшиеся под ними жизни. Случается, и нередко, что они так и гибнут — вместе… Несмотря на то что на острове Врангеля был создан заповедник, колония белых гусей продолжала неуклонно таять.
Кольцевание гусей на острове Врангеля и последующее наблюдение за ними на зимовках подсказали первую охранную меру. Дело в том, что в солнечной Калифорнии наши белые гуси зимуют вместе с местными, американскими, судьба которых пока не вызывает тревоги, и на них разрешена охота. Заодно попадают под выстрелы и наши гуси; но самое обидное состоит в том, что прилетают они в Калифорнию значительно раньше американских сородичей, и именно на них и обрушивают свои залпы полные свежих сил охотники. Теперь по предложению орнитологов охоту на гусей открывают позднее, когда подоспеют уже эшелоны американских птиц и опасность оказаться под выстрелом для наших гусей сильно поубавится.
Каждый год, строго до 24 июля, советские орнитологи направляют американским ученым, прежде всего курирующему эту работу доктору Слайдену, информацию об успешности гнездования наших гусей на Врангеле. В зависимости от этого и составляется на текущий год закон об охоте на гусей в США. И вот какое красивое и совсем неожиданное решение вопроса предложил Сыроечковский. Казалось бы, все просто: плохо жилось птицам на Врангеле, мало вывелось молодняка — охоту на зимовках следует всячески ограничить, если же год был удачным и молодняка много, охотники могут поразвлечься всласть. Таково, во всяком случае, традиционное решение. А наш ученый рассудил совсем наоборот: куда полезнее для популяции ограничивать охоту именно в удачные годы, когда молодняка много, чтобы дать первогодкам спокойно подрасти, окрепнуть, набраться опыта, а взрослой птице угрожает куда меньше опасностей. Именно так теперь и поступают. И вот результат: с пятидесяти тысяч численность врангелевской колонии белых гусей возросла уже до девяноста. Когда же удастся довести ее до 120 тысяч, говорит Евгений Сыроечковский, можно будет, пожалуй, признать, что жизнь прожита не зря.
А теперь, раз речь зашла об этих птицах, самое время вспомнить и о моем любимом гусе — горном. Минувшей весной мне удалось наконец побывать в единственном в нашей стране (и не исключено — в мире!) месте, на берегу тувинской горной речки Каргы, где горные гуси устраивают свои гнезда на деревьях. Пока я не увидела эту картину собственными глазами, сочетание «гусь на дереве» прочно ассоциировалось с «собакой на заборе». Оказалось, все получается очень даже складно.
…Гусыня сидит ко мне в профиль и смотрит на ручей, бегущий по камням совсем близко от тополя, и на синие горы с сияющими снежными вершинами. Сидит не шелохнувшись, не выдавая себя ни единым движением, только черный глазок бдительно несет свою вахту. В бинокль все изящество ее чуть рыжеватой головки предстает в полную меру: заостренный черный клюв с желтым кончиком, черная полосочка, идущая от глаза вверх через голову, и вторая полосочка, короче, на затылке. Видимая мне в переплетении тополевых веток, она уже не смотрится голубой, эта гусыня, устроившая свой дом столь поразительным для гусей образом, на высоте по крайней мере пяти метров от земли. Сейчас ее тело кажется серебристо-зеленоватым, точь-в-точь как кора у тополевых веток, и даже струйчатый рисунок на ее оперении как нельзя более подходит к поперечной исчерченности тополевой коры.
Она не сама строила свой дом. Прежним его хозяином был коршун, ужасный барахольщик. В неряшливую груду тополевых веток, натасканную в развилку тополевого ствола, где сидит сейчас моя гусыня, он приволок с пастушеской стоянки тьму всякого хлама, и развевается кусок драной в лохмотья шкуры теперь по ветру чуть пониже гусыни. Когда я отнимаю бинокль от глаз, можно подумать, что поверх старого коршуньего гнезда лежит серая тополевая коряга. Но если приглядеться повнимательнее, видишь головку птицы, настороженно приподнятую над гнездом на стройной, как у Нефертити, шейке. Когда гусыня спокойна, она заворачивает шею на спину и укладывает ее на крылья, и тогда сходство с тополевой корягой не нарушается уже ничем, и так она естественно смотрится, будто тут и выросла.
Свое гнездо коршун вряд ли оставил добровольно: гуси на этот счет не слишком церемонны и запросто изгоняют хозяина из законной квартиры. Коршун же, не тратя времени на бесплодные переживания, строит на соседнем тополе новое гнездо — вот он, легок на помине, прилетел с мышкой в клюве и любезно протягивает ее подруге, что сидит на ветке у своего гнезда, как деревенская хозяйка на лавочке перед домом. Но коршуниха не так проста, чтобы сразу взять да и скушать мышку — жеманно отворачивает голову, чешет за ухом и принимается охорашивать оперение. Терпению супруга приходит конец, с досады он проглатывает мышку, как пилюлю, и срывается с ветки…
Так что же все-таки вынудило гусей решать здесь жилищную проблему столь несвойственным для них образом?
Живут горные гуси главным образом в горах Центральной Азии, у нас — на Памире, в Тянь-Шане, горах Алтая и Тувы — встречаясь на северном пределе распространения. И всюду у нас живут они, как и положено гусям, на земле, на берегах и островах рек и озер. Правда, уровень воды в высокогорных водоемах очень непостоянный, и гнезда гусей часто гибнут от затопления. Вот тут-то, пожалуй, и зарыта собака. Гнездо, устроенное на земле в пойме реки Каргы, обречено наверняка — слишком переменчивы русла ее бесчисленных проток. А гуси ведь очень умные птицы, и нетрудно представить, что какой-нибудь особо выдающийся из них после очередной катастрофы поднял глаза вверх и оценил счастье семейства коршунов, благоденствующих в комфортабельной развилке тополевого ствола. Поначалу, быть может, он воспользовался пустовавшим гнездом, а потом, когда опыт прошел удачно, завладел жильем уже с позиции силы. К тому же гусь — птица общественная, а здесь, на Каргы, коршуны тоже живут колонией: на километровом отрезке реки около двадцати пар, а гнезд еще больше. В этом году, к примеру, «парк» вполне исправных гнезд составил около полусотни, из которых гуси заняли двенадцать. И мало того что коршуны предоставляют гусям жилье, они же и стерегут его заодно со своим. Когда гусыня сидит на гнезде, ей, кроме человека, бояться некого, но стоит с него слететь подкормиться (а гусак, хоть и всегда находится рядом, участия в насиживании не принимает), как яйца тут же привлекают внимание пернатых воров. От коршуна же они предпочитают держаться подальше.
И все на этой гусиной колонии было бы просто прекрасно, если бы… не таяла она на глазах. Еще в начале семидесятых годов на Каргы гнездилось более полусотни пар гусей, в середине семидесятых — 20–25, теперь — 10–12! Конечно, виноваты тут и браконьеры, но сейчас на Каргы не стреляют: горный гусь как редчайший вид нашей фауны занесен в Красную книгу СССР, и охота на него, как и на все «краснокнижные» виды, запрещена. Но это как раз тот случай, когда истребить птиц можно, их и не коснувшись. Достаточно вырубить тополевую рощу, а это и делается с упорной неотвратимостью. Каждую зиму пастухи устраивают свои кошары в пойме реки, срубают все новые деревья. Тополя и последние уцелевшие лиственницы идут и на другие нужды — лес в безлесном краю на вес золота. А роща эта — последняя в районе и одна из последних во всей Южной Туве!
Когда-то леса росли здесь по поймам всех рек и ручьев и по увлажненным участкам горных склонов. И теперь встречаются среди голого щебня сиреневые цветочки сон-травы, скрюченные от сухости до неузнаваемости. А вокруг уже полупустыня.
С исчезновением островка пойменного леса на реке Каргы перестанет существовать хранилище генетического материала не только уникальных «древесных» гусей, но и множества других видов животных и растений, связанных с пойменными местообитаниями, находящимися на грани вымирания. Нет поистине цены этому уголку!
В 1984 году в Тувинской АССР работал отряд Западно-Сибирской проектно-изыскательской экспедиции, в задачу которого входило проектирование на территории республики Горно-степного заповедника. Необходимость в таком заповеднике назрела самая насущная: под влиянием чрезмерной нагрузки горные степи — главные пастбища Тувы — пришли в плачевное состояние. Место ценных для скота растений занимают теперь несъедобные и просто ядовитые, лишенные лесного заслона, сохнут ручьи и реки, на место степей приходит полупустыня, а то и щебнистая пустыня. Заповедник необходим, чтобы уберечь от гибели участок не успевших еще деградировать степей, где уцелевшие степные растения и животные получили бы возможность выжить, а затем — расселиться оттуда и на соседние территории, где их уже не осталось. Среди них много эндемичных, нигде более в мире не встречающихся, в том числе — ценнейших кормовых бобовых, на которых испокон веков откармливались в этом краю стада овец.
Так вот, не для прихоти даже науки, как иной раз считают, нужен заповедник, а для самой что ни на есть хозяйственной пользы. И нельзя с ним временить: вымершее уже не вернуть! Наученная горьким опытом экспедиция много не запросила: даже не один большой участок, а 5–6 маленьких, в том числе пойму реки Каргы, всего в общей сложности менее 50 тысяч гектаров. Потом урезала свои планы до двадцати и даже — до десяти тысяч. А не дали под заповедник ни одного гектара: «Совет Министров Тувинской АССР, изучив и проанализировав социально-экономические условия степных районов, современное состояние и перспективы развития животноводства в них, характер использования естественных пастбищ и пахотных земель и учитывая в перспективе развитие горнодобывающей промышленности, пришел к выводу о невозможности организации в настоящее время горно-степного заповедника в пределах территории республики…»
Поэтому и лежит на моем столе «Типовое положение о государственных республиканских зоологических заказниках Главохоты РСФСР». Отложив в сторону все прочие дела, готовлю я обоснование на организацию в нижнем течении реки Каргы заказника — не вышло пока с заповедником, то хоть его удастся, может быть, пробить. И тогда тополевая роща и мои гуси вместе с нею, быть может, уцелеют. Чтобы изучать, надо прежде всего придумать, как их спасти, чтобы изучать — очень это справедливо сказано.
А что до реальной возможности появления в моей московской квартире гуся, то дело вот в чем. Будущей весной мы собираемся взять с собой на Каргы небольшой полевой инкубатор. Некоторые гусыни имеют скверную привычку откладывать яйца в чужое гнездо, понравившееся им по непонятным причинам, и тогда в гнезде набирается столько яиц, что обогреть их всех гусыня просто не в силах. Вот эти-то яйца, в любом случае обреченные, мы и собираемся положить в инкубатор и привезти в Москву. И тогда, если гусята благополучно вылупятся из яиц, придется выполнять материнские обязанности, пока гусята не подрастут, ведь они почитают за мать первое живое существо, попавшееся им на глаза.
В ближайшее время для разведения редких видов гусей планируется создать специальный питомник, в том числе для горных. В нашей стране, да и во всем мире численность их за последние годы резко сократилась, а перспектива возможного осушения лежащего посреди центральноазиатских пустынь озера Кукунор, служащего приютом для гусей и множества других птиц, делает их будущее и вовсе безрадостным. Для разведения же именно «древесные» гуси представляют особую ценность, ведь их гнезда подвержены превратностям судьбы куда менее, нежели устроенные на земле. Правда, после нескольких поколений разведения в неволе птица становится уже иной — уж я-то хорошо знаю, как различаются на глаз зоопарковские гуси и настоящие вольные. И чтобы «порода» не перевелась, непременно нужен в природе запас диких птиц.
Во что бы то ни стало нужно уберечь Каргы!
Во Всемирной стратегии охраны природы есть очень, на мой взгляд, наглядный рисунок под названием «айсберг управления генетическими ресурсами». Вся громада айсберга символизирует то многообразие живого планеты, которое современное человечество обязано сберечь для потомков. Как известно, плавающая в океане ледяная гора делится на сравнительно очень небольшую надводную часть и огромную скрывающуюся в водной стихии. Так вот, маленькая верхушка айсберга, высовывающаяся из волн, включает те виды животных и растений, на сохранение которых в природных условиях уже нет надежды. Спасти их можно только путем разведения в питомниках, зоопарках, ботанических садах. На главной подводной части айсберга сосредоточено огромное большинство живых организмов. Их надлежит сохранить в естественных условиях: одни — на заповедных территориях, другие — за их пределами.
Приходится быть реалистами. Наладить и, главное, обеспечить разведение в неволе или культуре всех без исключения видов животных и растений Земли — дело немыслимое. Рассчитано, к примеру, что при имеющейся емкости зоопарков США в них можно поддерживать существование лишь около сотни видов млекопитающих при минимальной численности каждого вида в 150 особей — меньше никак нельзя, иначе не будет обеспечено поддержание генетического разнообразия видов. Так что создание генетических банков — размножающихся в условиях неволи популяций диких животных — только лишь исключительная спасательная мера, к которой приходится прибегать в крайних случаях.
А сохранение в заповедниках? Если представить себе, что площадь заповедников нашей страны будет увеличена в 10 раз, что при нынешнем уровне развития промышленности и сельского хозяйства абсолютно нереально, то и тогда она составит менее 5 % территории страны. И выходит, львиная доля наших растений и животных останется, как ни раскидывай, на территориях, так или иначе вовлеченных в сферу хозяйственного использования. Судьба их будет зависеть исключительно от того, насколько разумно и рационально поведет человек свое хозяйство.
Рациональное природопользование — понятие очень емкое. Оно включает в себя и недопустимость чрезмерного промысла того или иного вида, и сохранение благоприятной среды для жизни животных и растений. А среда эта едина для всех обитателей планеты, в том числе — и для человека. Там, где хорошо им, хорошо и нам, и, спасая их, мы спасаем самих себя.
Правда, не все животные соглашаются жить в ближайшем соседстве с нами. Иные его совершенно не переносят, сохранить их можно только в заповедниках. Но очень многие, вовсе не одни только вороны и крысы, легко уживаются с человеком, если он оставляет им место для жизни и оказывает необходимое содействие. Птицы же в этом смысле — существа исключительно благодарные. Никто, как они, не умеет так тонко приспосабливаться к нашему человеческому миру и так чутко откликаться хотя бы на малейшее к ним внимание. Это-то и вселяет надежду.
Поставив последнюю точку, я привычно глянула в окно. День стал прибавляться, и вороны на тополе под моим окном уже начали любезничать. Совсем скоро воронья чета обновит свое гнездо. Как бы хотелось мне вместо восседающей перед окном на гнезде вороны, именно восседающей — уверенно, безмятежно, — увидеть мою прелестную серо-голубую гусыню! Ведь там, на Каргы, растут точно такие же тополя, как и тут, на Бронной. И горные гуси, если люди не воспринимают их только как кусок мяса и не трогают, отлично привыкают к такому соседству. Живут же они в городах, в Лхасе и даже в самом центре Западной Европы, в ФРГ, есть вольная популяция горных гусей! А на наших московских прудах живут вольные огари — красивые рыжие утки, тоже, кстати, гнездящиеся на Каргы, но не на деревьях, а в скалах. Почти каждое лето подрастает на наших прудах новое поколение московских огарей, вылупившихся из яиц на чердаках соседних домов. Горные птицы особенно охотно переходят жить в города с их домами-скалами и ущельями-улицами.
Так что, если разобраться, моя мечта увидеть на тополе в центре Москвы горную гусыню, сидящую в гнезде, построенном пусть не коршуном, а человеческими руками, — отнюдь не безумная фантазия.
Н. Бианки Слепые
Они идут, постукивая выдвинутой вперед палочкой, узнавая по каким-то им одним известным приметам перекрестки, обходя углы зданий, уличные урны, не сталкиваясь со встречными… Головы они держат прямо и настороженно, как будто их незрячие глаза участвуют в выполнении этой трудной задачи: пройти по оживленному тротуару, перейти улицу, найти нужный дом, зайти в него… Мы смотрим на них немного отчужденно, иногда удивленно, иногда сочувствуя, но почти всегда сразу же выбрасывая из памяти. Мы привыкли видеть калек, а слепые всегда относились к этой грустной категории. И о слепоте люди думают редко, реже, чем о смерти. Потому что смерть лежит в конце жизни каждого человека, а слепота — участь немногих.
Но немногих ли? Есть категория слепорожденных, и мы им привычно сочувствуем, как сочувствуем всякому неполноценно рожденному, у которого судьба отняла что-то необходимое для настоящей и полнокровной жизни. Но таких не так уже и мало. Достаточно заглянуть в медицинскую энциклопедию.
Ну, а не слепорожденные? Те, кто потеряли зрение в результате несчастного случая… И те, кто вдруг почувствовал, как серая сетка начинает покрывать прежде яркие краски пейзажа, как начинают сливаться или же раздваиваться строчки в книге?.. Кто теряет зрение не вдруг в результате катастрофы, а постепенно, с отчаянием чувствуя, как меркнет свет, как утрачивается самая главная возможность получения информации… Конечно, остаются другие чувства, остается слух. Но ведь недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать… Утрата зрения воспринимается как трагедия, как крушение жизни. Конечно — трагедия. Но — полное ли крушение?
Увы — люди стали видеть хуже. Герои Фенимора Купера и других любимых книг нашего детства не носили очков. Мы и сейчас с восхищением, а часто и с завистью следим по телевизору, как сильные молодые люди натягивают тетиву спортивного лука и попадают в десятку мишени; как точно попадают в цель биатлонисты, спортивные стрелки… И все они — без очков. А на неспортивных телевизионных репортажах чуть ли не половина людей — в очках. Их становится все больше и больше, и мы уже перестали ужасаться, видя в очках совсем маленьких детей. Очки — одно из благодетельнейших изобретений человека. И у нас очки больше не ассоциируются со старостью. Для нас привычно видеть еще совсем нестарого человека, который носит с собой целый комплект очков: для улицы, для чтения, для кинотеатра и телевизора. Очки бифокальные, цилиндрические, очки столь сложные, что требуется много времени для их изготовления. Медицинская оптика прогрессирует, она может помочь в случаях, которые в прошлом столетии считались наступлением почти полной слепоты. Но и здесь есть граница.
И наступает — иногда трагически рано, иногда позже, когда врачи становятся бессильны… И человек получает не рецепт на очки, не направление в очередной лечебный кабинет, а направление в совсем не лечебное учреждение — в ВОС. Всероссийское общество слепых.
Человек — слеп. Как он будет жить дальше? Каким он станет через годы, через десятилетия слепоты? Все мы читали «Слепого музыканта» Короленко и с душевной болью, сочувствием, надеждой и радостью воспринимали переживания молодого слепорожденного человека. Но герой повести Короленко с детства и на всю дальнейшую жизнь был окружен любовью и вниманием близких; он не нуждался в куске хлеба, он смог реализовать свой музыкальный дар. Герой повести Короленко — исключение, случай редкий даже и для своего времени. Ну а как же живут, чувствуют те слепые люди, количество которых исчисляется великими цифрами?
Всесоюзное общество слепых. В самом этом названии есть что-то трагическое. У нас возникают воспоминания о когда-то прочитанных повествованиях, где рассказывалось о сообществах калек, людей, обделенных жизнью, озлобленных, сплотившихся, чтобы противостоять миру, часто им враждебному.
Ничего этого в ВОСе нет. Когда знакомишься с его деятельностью, то сразу же отпадает впечатление о том, что это общество ущербных неполноценных людей. И Алла Владимировна Топалова сразу же расшифровывает смысл моего неуклюжего вопроса:
— Да почему же вы все думаете, что незрячие себя чувствуют иначе, чем зрячие?! Это очень — к сожалению — распространенное мнение. Считают, что у слепых представление о внешнем мире однообразно, бедно, что слепота накладывает своеобразный и нивелирующий отпечаток на духовную жизнь человека. Конечно, своеобразный, но вовсе не нивелирующий, не однообразный. Отсутствие зрения развивает у них другие органы, дающие человеку информацию об окружающем мире. У них такие же органы обаняния, как и у всех. Но мы очень редко воспринимаем весь спектр запахов. А слепые четко отличают запах шерсти от запаха хлопка, различных сортов чая и кофе, разнообразнейших продуктов питания, красок здания, покрытия мостовой…
А еще сильнее у слепых развит слух. Он доставляет им такое количество информации, которое мы себе и не представляем. И не в обострении слуха дело. Хотя и это поражает — они точнее, чем зрячие, способны не только услышать голос или сигнал, но и могут определить, откуда и с какого расстояния раздается голос или звуковой сигнал. По голосу они способны получать такую информацию, о какой мы — зрячие — и не догадываемся. По голосу они узнают человека, с которым не разговаривали несколько лет; по голосу часто определяют возраст и рост собеседника. Больше того — даже общественное положение и характер… Голос человека, его тончайшие изменения во время разговора, вибрация, тембр, ударения говорят чуткому слуху, мгновенно срабатывающему мозгу о жестокости или озлоблении, о глупости или уме беседующего с ним человека. Не от внешности, не от выражения лица начинает незрячий чувствовать симпатию или антипатию.
Слух у слепых настолько развит, что они различают колебания воздуха в пустом или заполненном пространстве. Еще Дидро писал, что незрячий по движению воздуха чувствует приближение к стенке. Да, — продолжает Алла Владимировна, — мне приходилось слышать от незрячих людей, что как у себя дома, так и на улице — на ходу или останавливаясь перед каким-нибудь предметом — они могут себе представить, велик ли он или мал, узок или широк. Предметы как бы ощущаются кожей лица и это передается прямо в мозг. И чем суше воздух, тем точнее эти лицевые ощущения. Очень странно, что после выпавшего снега предметы ощущаются более отчетливо, хотя казалось бы, что снег должен приглушать шаги и всякие другие звуки.
Конечно, вы вправе возразить мне, что даже самые тонкие ощущения слепого человека, помогающие ему ориентироваться дома или на улице, не в состоянии обогатить его духовную жизнь, его интеллект. Но надо ли вам рассказывать, что сейчас слепые могут читать книги и ноты, что им практически доступна и классическая и современная литература. Давно разработанная азбука Брайля дает возможность незрячему человеку свободно читать. Эта азбука передает не только алфавит, но и цифры, знаки препинания, ноты, математические и химические формулы. Ну а о музыке — говорить не приходится, она звучит для незрячих сильнее, производит более эмоциональное впечатление, чем для нормального, зрячего слушателя. Это связано с тем, что слепота освобождает человека от избыточной, пестрой информации, дает возможность большего сосредоточения, более глубокой душевной жизни. И надо ли приводить примеры из истории литературы, вообще из истории, что слепота не помешала многим замечательным людям стать великими учеными, писателями, поэтами, политическими деятелями. Да вот — посмотрите справочник!
Да, есть такой справочник. Он знакомит с дореволюционными и современными писателями: поэтами, прозаиками, драматургами. Они совершенно разные по возрасту, национальности, жанрам. Но всех их объединяет одно: они слепые. Одни — слепые от рождения, другие — потерявшие зрение в результате ранения, несчастного случая или болезни.
И все же слепота — несчастье. Она не всегда одаряет человека литературными или музыкальными способностями, даром математика или историка. Она не исключает, но и не помогает получить высшее или специальное образование. И перед нами, размышляющими о слепоте, о слепых, всегда встает вопрос: а все же могут ли незрячие люди заработать себе на хлеб насущный? Себе и своей семье, ибо они — нормальные люди, стремящиеся иметь все человеческие радости, иметь семью.
Да, могут. Могут общаться, учиться, получить квалификацию, работать на сложных работах с самым современным оборудованием. Трудиться и не только обеспечивать себя и свою семью, но и облегчать жизнь себе подобным и тем людям, которым грозит слепота, но могущим еще рассчитывать на чудеса современной медицины. Вот всем этим и занимается ВОС — Всесоюзное общество слепых.
Что слепые в состоянии трудиться, известно давно. Работать дома или в маленьких мастерских, изготавливать мебельные гвоздики, плести авоськи и коврики, мастерить из дерева несложные предметы.
Но вот я получила возможность ознакомиться с одним совершенно современным предприятием, изготавливающим такие сложные изделия, как… телевизионные блоки.
Подмосковный старинный город Дмитров. Обычное большое современное заводское здание. Все как у всех: проходная, контора заводоуправления, заводские цеха. Входим в один из них.
Огромный зал. Сразу и не сообразишь, сколько в нем метров. Тысяча? Возможно, больше. Вдоль зала, почти до противоположной стены, где красуется фотопанорама города, длинные ряды столов. За каждым — рабочий в белом халате. Между рядами конвейер. Небольшой промежуток — и снова конвейер. Третий конвейер почти у самого окна. На каждом столе ящик — «касса». Он состоит из ячеек: резисторы, трансформаторы, сопротивления, конденсаторы.
Перед рабочим — основание блока с отверстиями. Это схема расположения радиоэлементов. Их примерно три сотни. Радиоэлементы, учитывая их размеры, разбиты на три группы: мелкие, средние и крупные. Чтобы слепой мог разобраться в отверстиях и правильно сориентироваться в деталях, разработаны специальные трафареты. Трафарет впоследствии надо уложить на основание блока и закрепить. Трафарет состоит из так называемых зон, каждая из которых включает различное количество элементов. Граница зоны обозначена рельефно. Первый рабочий начинает монтаж с мелких деталей. На ощупь он быстро вставляет в отверстие нужную деталь. Когда первая зона заполнена, основание блока укладывают на конвейер. Тот в свою очередь передает его рабочему, монтирующему вторую зону. Лента движется, и трафарет обрастает все большим количеством деталей. Прошел час — и блок телевизора готов. В день их сходит с конвейера пятьсот штук.
Так объяснил мне всю эту специфическую технологию директор Николай Яковлевич Лапчинский.
С чего все началось? Директор, коммерческий директор и главный инженер завода ВОС надумали наладить у себя выпуск блоков цветных телевизоров «Юность». За заказом они обратились на телевизионный завод. Те с ходу отказали. «Каждому свое, — заявили они, — пусть слепые занимаются консервными крышками, тоже ведь занятие». Но директор не отступил. Уговорил дать ему небольшой заказ для зрячих, которые тоже работают у него на заводе.
А тем временем конструкторы и технологи завода разработали трафареты и специальную технологию.
Когда телевизоры «Юность» получили Знак качества, а предприятие определенную репутацию, директор признался, что в свое время схитрил и что заказы как выполняли, так и выполняют в основном слепые…
У Всесоюзного общества слепых много разных предприятий. Не все они производят такие сложные изделия, как блоки для цветных телевизоров. Но завод в Дмитрове является одним из наиболее интересных не только по своей продукции, но и по тому, как организована трудовая деятельность слепых на современном производстве. Не только технология интересна, интересно, как внимательно, больше того — любовно, создана обстановка для труда не совсем уж обыкновенных рабочих.
…Маленькая группа зрячих стоит в углу огромного цеха. Для руководителей завода зрелище сотен сосредоточенно работающих людей — обычно и, вероятно, не вызывает никаких эмоций. Не то мне — впервые сюда попавшей… Как же они работают, как организован для них быт, перерыв, питание, отдых?..
Как бы отвечая на этот вопрос, прозвенел звонок — обеденный перерыв. Ближайший от меня рабочий поднялся, скинул халат и направился к двери. Он шел быстро и уверенно к двери, из которой неслось как будто соловьиное пение… Не сразу я догадалась, что соловьиные трели издает повешенное над дверью специальное устройство.
За первым рабочим двинулись и все остальные. И мы, как бы замыкая шествие, пошли по ковровой дорожке. Кстати, эта дорожка с уплотненными краями также является ориентиром. Большинство рабочих повернуло к столовой. Столовая на самообслуживании, почти все, как в обычной столовой. Мы отправились в спортзал. На удивление — зал переполнен рабочими из других цехов, уже успевшими пообедать. Кто-то выжимает гантели, кто-то на велогометре усиленно крутит педали, кто-то занимается на шведской стенке.
Выходим в коридор. По правую и по левую стороны — двери. И на каждой таблички: верхняя для нас — зрячих, а немного ниже тот же текст, но уже выпуклыми, по Брайлю. В одной из комнат музей, где хранятся изделия ВОСа. Следующая дверь — здравпункт. Прием врачей начнется во второй половине дня, а пока — можно получить кислородные коктейли.
Дверь библиотеки открыта настежь. Несколько лет назад мне пришлось быть на читательской конференции в Центральной республиканской библиотеке слепых. Библиотека поразительная! Полностью представлена отечественная и зарубежная классика. Книги все напечатаны по Брайлю. Но там было множество магнитофонных кассет, так называемых говорящих книг.
На дмитровском заводе библиотека поскромнее. Но в ней есть почти все произведения, которые недавно появились и вызвали всеобщий интерес. Есть Трифонов, Астафьев, Распутин, Рыбаков… Заведующая библиотекой объясняет: они не дожидаются, пока специальная типография напечатает их азбукой Брайля. Наиболее интересные вещи, будь то журнальная публикация или книга, записывают на пленку.
Недалеко от станции метро «Щербаковская», на Ново-Московской улице, находится типография ВОСа. Там печатают книги для слепых. На одном из этажей, между печатным и брошюровочным цехами, расположилась студия «говорящей» книги. Мне пришлось однажды там побывать. Она не похожа на огромный московский Дом звукозаписи.
Меня провели в большую комнату, где на столе большой магнитофон с двумя кассетами, которые беспрерывно крутились. Напротив магнитофона, за стеклянной перегородкой, сидел диктор. Выразительно, размеренно, останавливаясь на всех знаках препинания, диктовал он повесть М. Рощина «Шура и Просвирняк». Запись закончилась. Магнитофонную пленку отнесли в соседний небольшой цех, где пленку тиражируют. Затем упаковывают в специальные кассеты, и они отправляются на полки многих библиотек для слепых.
Первый Всероссийский съезд слепых состоялся в апреле 1926 года. Основная задача, обсуждаемая съездом, — трудоустройство слепых. Конечно, было множество и других важных дел: обучение грамоте, профессии, организация культурного досуга. Но вопрос о труде, дающем возможность самостоятельно существовать, — был главнейшим. И — труднейшим.
С помощью государства, оказавшего огромную материальную и моральную помощь, стали создаваться первые предприятия, где работали слепые. Это были кустарные мастерские с примитивным оборудованием, выпускавшие щетки, веревочные изделия, валяную обувь, плетенную из лозы мебель.
Сейчас все 183 предприятия ВОСа — современные учебно-производственные предприятия со специальной технологией, высокопроизводительными станками, приспособленными для того, чтобы на них могли работать люди, лишенные зрения. Эти предприятия называются учебно-производственными. На них не только работают, на них еще и учатся работать. И проходит немало времени, пока слепой человек, не имеющий никакой специальности, научится свободно работать иногда на очень сложном оборудовании, иметь дело — как на дмитровском заводе — с сотнями мелких и мельчайших деталей.
Предприятий много не только потому, что слепых много. Но и потому, что слепой человек тоже должен иметь возможность выбора профессии, выбора такой работы, которая была бы для него наиболее приемлемой. Но — все предприятия с планом, графиком работы. Большинство предприятий ВОСа — смежники. Они выпускают детали для обычных фабрик и заводов. От того, как планово и точно они будут работать, зависит выполнение плана на заводах, куда они поставляют детали. И это включает предприятия ВОСа в общий план города, отрасли, страны.
За последнее десятилетие предприятия Общества выпустили продукции на сумму свыше пяти с половиной миллиардов рублей. Уже в 1951 году Общество отказалось от государственной дотации. Доходы, получаемые ВОСом от своих предприятий, идут целиком на расширение производства, строительство жилых домов, санаториев, больниц.
Институт микрохирургии глазных болезней, созданный проф. С. Н. Федоровым, известен не только в нашей стране — во всем мире. Большие корпуса клиники и поликлиники института всегда полны людьми. Старые и молодые, пенсионеры и студенты, мужчины и женщины, дети… Они приехали со всех концов страны, из больших городов и маленьких деревень. С самого раннего утра автобусы привозят на окраину Москвы, в Бескудниково, людей, которым угрожает беда — потеря зрения… Как хорошо ни была бы организована работа института, в его коридорах, у лечебных кабинетов, в регистратуре — всегда очереди. Но среди посетителей института есть категория людей, которых принимают вне очереди — членов ВОСа. И иногда можно услышать, как на недоуменный или негодующий вопрос из очереди медицинская сестра объясняет:
— Они нам построили институт.
Да, знаменитый «Федоровский» институт построен на средства Общества. Но разве среди больных института есть слепые? Что делать в таком медицинском учреждении людям, навсегда утратившим зрение? Но зрение не всегда утрачивается навсегда… В институте возвращают зрение полностью или частично людям, которые были слепы много лет, а то и вовсе с самого рождения. Но в Обществе состоят и такие, кто не полностью ослеп, кто не окончательно слепой, но и не может считаться зрячим. Во всяком случае настолько, чтобы иметь возможность полноценно жить и трудиться наравне с полностью зрячими.
В 1971 году С. Н. Федоров предложил, а Общество поддержало и помогло провести в системе нашего здравоохранения массовую офтальмологическую диспансеризацию. Надо было выявить не только слепых, но и слабо видящих. Офтальмологи — хирурги и терапевты — обследовали больных не только городов, но и далеких поселков, сел и деревень. Участвовал в этой диспансеризации и специальный операционный автобус. Ведь если не поврежден зрительный нерв, цела сетчатка, можно немедленной операцией спасти зрение, а то и восстановить утраченное. Каких только не было операций! Профессор Линник удалил злокачественную опухоль на глазу и сохранил этим не только зрение, но и жизнь больного. Доктор Малышева вылечила девушку, у которой близорукость достигла –25. При помощи своеобразного корсета, который был надет на задний отдел глаза, была приостановлена прогрессирующая болезнь, угрожающая полной слепотой. Доктор Мороз вживила больному в ожоговое бельмо оптический прибор — керопротез. Человек прозрел после пятидесяти лет слепоты. Он ослеп, когда ему не было и двадцати лет, и впервые после глазной операции увидел жену, детей и внуков… Впрочем, этот рассказ можно вести долго-долго. Нет темы более драматической и в то же время более радостной, чем описание случаев утраты зрения, жизни слепого и возвращения ему зрения. Из таких рассказов можно было бы составить целые тома.
Но часто радостного конца нет. Слепота оказывается необратимой. И Общество создало целую сеть учреждений, где делается все возможное, чтобы жизнь слепого человека не была полной трагедией, чтобы он мог стать полноценным членом общества. Таких учреждений много.
Есть школы-интернаты. Когда подходишь к этим домам, расположенным обычно за городом, в здоровом месте, издали слышно все, что таким учреждениям свойственно: детский смех, крики играющих… Дети бегают, играют, ходят компаниями. И только вблизи понимаешь страшное: все эти дети — слепые.
Но почему эти бедные дети живут и учатся в интернате? Разве они брошены злодеями родителями? Нет. Родители приезжают часто, и с каждым приездом убеждаются в изменениях, происшедших у их несчастливых детей. Изменения эти — благотворны. В семье слепорожденный или ослепший от несчастного случая ребенок был бы, вероятно, более ухожен, окружен заботой и ласкою близких. Но ребенка, который несчастливой судьбой обречен на слепоту, надо приучить к жизни, которую ему придется вести. Его надобно научить грамоте по Брайлю, надо научить пользоваться магнитофоном. Наконец, ему необходимо пожить в обществе себе подобных, участвовать в общих детских играх, вместе слушать сказки и рассказы, обсуждать их вместе. В подобных учреждениях обездоленные слепотой дети освобождаются от чувства своей неполноценности. Надо ли говорить, что быть воспитателем, педагогом в такой школе — нелегко.
Школы для незрячих приходится создавать не только для детей, но и для взрослых людей, которых катастрофа или болезнь лишила зрения. Одна из таких школ находится неподалеку от Москвы — в Волоколамске. Она поражает не только своей благоустроенностью: асфальтированными дорожками, цветниками, спортплощадками, даже оранжереями. Главное в этой школе — учебные комнаты и лаборатории. Здесь потерявшего зрение человека научат читать книги, напечатанные по Брайлю, научат быть самостоятельным, двигаться в любом направлении, выполнять простейшую работу, обслуживать себя. Женщин учат готовить, шить и вязать; мужчин — столярничать, ремонтировать инвентарь, знакомят с механизмами, простейшими станками. Вероятно, работать в такой школе — намного труднее, нежели в школе для детей. Дети быстрее адаптируются; а здесь приходится иметь дело с отчаяньем, раздражением, иногда озлобленностью. И отбор работников для подобной школы происходит очень тщательно. Главное, что требуется для человека, решившего работать со слепыми людьми, — человеколюбие, сострадание, терпение… Таких — ищут. И находят!
Под Москвой есть еще одно учреждение ВОСа, о котором стоит рассказать. Неподалеку от станции Купавна, в густом лесу, несколько зданий. На дорогах и дорожках странные сооружения. Не сразу мы догадываемся, что перед нами макеты железнодорожных рельсов, лестниц, помещений различного назначения По этим тропинкам неторопливо ходят люди. И у каждого на поводке — собака. Разные собаки: эрдель-терьеры, колли, водолазы, московские сторожевые. Больше всего — овчарок.
Вот человек с собакой подходит к железнодорожным рельсам. Собака сейчас же останавливается. Останавливается и ее хозяин. Он поднимает палку, нащупывает препятствие, потом переступает рельсы. Перед новым препятствием собака вновь остановится, чтобы предупредить своего слепого хозяина, дать ему возможность сориентироваться и найти дорогу.
В этой необычной «школе» дрессируют собак, приучают их быть проводниками у слепых. Впрочем, слово «дрессируют» здесь будет не совсем точным. Собаку здесь, скорее, воспитывают, приучают жить и дружить с человеком, заботиться о нем, помогать ему. Это все далеко не просто. И об этом мне рассказывал один из тех, кого привела в это учреждение его несчастливая судьба.
Несчастье с Сережей произошло, когда ему было семнадцать лет. Он играл в футбол, защищал ворота своей команды, когда летевший мяч ударил его в переносицу. Он потерял сознание, а когда очнулся — понял, что потерял зрение. В обоих глазах тотально отслоилась сетчатка. Множество операций ни к чему не привели… Когда понял, что впереди навсегда полная слепота, такая навалилась тоска… Как же жить дальше? А жить он продолжал, окруженный заботой, которая оказалась чрезмерной. Сережа забыл, где покупается хлеб и молоко, без матери не выходил на улицу. Растолстел и стал неповоротлив, он-то — бывший спортсмен! Ну хорошо — способности у него не утратились, он блестяще сдал экзамены, поступил на математический факультет университета. Но как обрести большую подвижность, самостоятельность?
По совету консультантов ВОСа решил обзавестись собакой-проводником. Это оказалось вовсе не таким простым делом. Собаку надо подобрать с учетом характера ее будущего хозяина, условий, где она будет жить. А когда такую нашли, необходимо не только познакомить собаку-поводыря с ее хозяином, но и научить их «сосуществовать». На это уходит несколько недель, и Сережа с матерью поселился в общежитии собачьего питомника в Купавне. Не просто дается это обучение. Иногда оказывается, что собака и ее возможный хозяин психологически несовместимы — и такое бывает. Собака должна полюбить человека, а человек — собаку. А потом пройти полный курс обучения. Но тогда у слепого появляется четвероногий друг, не только помощник и поводырь, но и живое, теплое существо, о котором надо заботиться и который отвечает тебе тем же… Известно, какие эмоции вызывает у людей их близость с собакой. Сережа рассказал, что Мухтар — как зовут его собаку — сделал его жизнь не только легче, но и более полной эмоционально.
Сережа — студент математического факультета. Окончив его, он станет, очевидно, ученым или педагогом, как стали ими многие и многие незрячие. Нам известно, что среди них есть и кандидаты, и доктора наук, профессора, и даже академик… Слепые учатся, работают, занимаются искусством. У них есть свои клубы, свои дома культуры.
В одном из них — московском — мне приходилось бывать. Это внешне ничем не примечательное здание находится на улице Куусинена. Внутри удивительно чисто, красиво, гармонично. Кажется сначала удивительным: почему в этом доме столько цветов, ярких красок, цветных аппликаций — посетители этого дома ничего не увидят! Только потом, глядя на людей, привычно-уверенно поднимающихся по лестнице, гуляющих по фойе, легко проводящих руками по цветам, по аппликациям, только внимательно рассматривая их поведение, начинаешь понимать, что незрячие хозяева этого красивого дома совершенно отчетливо ощущают его гармоничность, чистоту, все то, что составляет подлинную культуру Дома культуры.
Белла Акимовна Торбина, показывавшая мне дом, быстро взбегает по лестнице, ведет меня по комнатам, по музею, по библиотеке и «читальне», где слушают записанные на магнитофоне недавно опубликованные в журналах повести, рассказы, стихи. Не сразу догадываешься, что Белла Акимовна — слепая…
На третьем этаже Дома культуры — музей. В одном из его залов лежат двигатели, стартеры, трансформаторы, блоки для телевизоров — изделия, выпускаемые предприятиями слепых. В другом зале — скульптуры Лины По. До болезни Лина танцевала, была хореографом. Ей было тридцать шесть лет, когда она в результате необратимой болезни ослепла. В этом возрасте трудно справиться с несчастьем, приноровиться к новой жизни. Лина По справилась с этим, она — имевшая всю жизнь дело с пластикой, обратилась к другому роду пластического искусства — скульптуре. В ее работах нет ничего, что говорило бы о трагедиях их автора, о трагизме жизни слепого скульптора. Они полны жизни, ее красоты и гармонии.
Когда знаешь про существование Общества слепых лишь понаслышке, то легко себе представить, что руководится-то оно, безусловно, зрячими. Чтобы руководить большой организацией, в которой десятки тысяч членов, множество предприятий, лечебных и учебных учреждений, имеющей многомиллионный бюджет, надо быть не только зрячим, но и иметь «семь пядей во лбу»…
Однако Борис Васильевич Зимин — слеп, как и те, которых он возглавляет. До войны Борис Васильевич учился на вечернем отделении строительного института, днем работал — руководил в строительном техникуме производственной практикой. Из института ушел на фронт. Был политруком стрелковой роты и комиссаром батальона. В 1943 году был тяжело ранен, безвозвратно потерял зрение.
Деятельный, энергичный, полный сил — слепота… Куда деться, чем заняться, как снова обрести чувство самостоятельности?.. Ах, как не хотелось идти в ВОС, оказаться слепым среди слепых! Но в Обществе быстро поняли, что перед ними — талантливый организатор. И очень скоро он стал начальником организационного отдела, а затем и заместителем председателя Общества. С 1947 года Борис Васильевич Зимин — бессменный председатель центрального правления ВОС. В 1969 году на IV конгрессе Всемирного совета благосостояния слепых Зимина избирают вице-президентом совета. Затем в течение пяти лет он был президентом. На Шестой ассамблее его избирают пожизненным почетным членом Всемирного совета благосостояния слепых.
В приемной и кабинете Б. В. Зимина всегда народ. Руководители предприятий, директора школ-интернатов, иностранные делегации. Так — каждый день, до позднего вечера, иногда и по выходным. Большинство посетителей — слепые. И председатель Общества очень хорошо знает, как себя чувствует слепой человек, когда он приходит со своим делом, со своей просьбой, предложением… Он выслушивает не торопясь, спокойно, не раздражаясь. Привычно хочется сказать — всматривается в посетителя. Но, нет — вслушивается.
Ну а зрячие? Какое место они занимают в жизни и работе Общества, которым руководят сами слепые? У председателя ВОСа ответ на этот вопрос — категоричен.
Да, принцип работы Общества в том, чтобы потерявшие зрение не нуждались все время в поводырях. Как можно больше самостоятельности! Слепые вовсе не утрачивают способности быть организаторами и руководителями. И жизнь это подтверждает. Но все достижения Общества стали возможны лишь потому, что зрячие люди выполняют свой гражданский, свой нравственный долг перед теми, кого жестоко обделила судьба. Пусть не все, а те, кто может понять и разделить чувство, с которым Твардовский написал свои знаменитые стихи: «Я знаю — никакой моей вины…»
С помощью всего советского общества, всего народа делает ВОС свое трудное и благородное дело. И в этом деле необъятна, ничем и никем не может быть восполнима помощь ученых. Врачей, психологов, педагогов, высококвалифицированных специалистов разных профессий. Это те — кто протянул руку помощи и дружбы незрячим людям.
III
А. Мелик-Пашаева А. М. Будкер в четырех ракурсах
Слово «невозможно» для него не существовало. Чем труднее была задача, тем больше она его увлекала. Решения, которые он находил, были оригинальны, неожиданны, просты и эффективны. Оригинальными — в том смысле, что только он мог придумать это решение; неожиданными — потому что все вокруг удивлялись, что можно сделать это именно так; простыми — потому что это всегда был самый прямой путь к цели, который казался очевидным лишь после того, как он его предложил; эффективными — потому что он успешно претворял свои идеи в реальность. Я говорю не только об идеях физических или инженерных, я также думаю о проблемах человеческих взаимоотношений, организации работы и руководства научным коллективом. Все это он делал не так, как любой другой, — лучше, дешевле, быстрее и более элегантно…
Виктор Вайскопф, профессор Массачусетского технологического института, СШАОн был артистом. Я утверждаю это как артист.
Аркадий РайкинФизики мира знали Андрея Михайловича Будкера как автора замечательных работ по ядерным реакторам, ускорителям, физике плазмы, физике частиц высоких энергий. И как очень изобретательного, остроумного человека.
Мне же посчастливилось видеть его дома изо дня в день последние восемь лет его жизни — видеть жизнерадостным, искрящимся и измученным, отчаявшимся, открытым людям и ушедшим в себя, нестареющим человеком, мудрым и нежным отцом и настоящим мужчиной, героически сражавшимся с болезнью.
…Если верно, что даже в крошечном мгновении отражается жизнь, подобно тому, как в капле воды — океан, тогда есть какая-то надежда собрать крупицы этой жизни — так, как сохранила их память других людей, как сохранила их моя память. И из этих осколков постараться составить зеркало.
Итак, Будкер в четырех ракурсах.
Ракурс первый. С самим собой…
Из биографии:
Родился в 1918 году, первого мая. В селе Мурафа Шаргородского уезда Винницкой области. Отец работал на мельнице по найму. Мать обыкновенная, неграмотная сельская женщина. Отец погиб, когда сыну было две недели от роду. Мать вырастила его одна. В 1935 году, окончив девятый класс, он попытался поступить в Московский университет, но принят не был. Не по возрасту — его взгляды по одному из вопросов разошлись со взглядами экзаменатора. Поступил в следующем — 1936-м. Стипендия маленькая. Для заработка разгружал арбузы в столичном речном порту, преподавал западные танцы. На лекциях ничего не записывал, запоминал. К экзамену готовился одну ночь и неизменно получал отличные оценки. Первую научную работу, еще будучи студентом, выполнил под руководством Игоря Евгеньевича Тамма. Она была посвящена теории относительности. Последний госэкзамен сдал 23 июня 1941 года. После экзамена пошел записываться добровольцем в Красную Армию — началась Великая Отечественная война. Военная специальность — воентехник по артиллерийским приборам. Командовал зенитной батареей. В 1945 году — участник слета армейских изобретателей. Войну закончил на Дальнем Востоке и демобилизовался в 1946-м. Поступил на работу в Лабораторию № 2 — так назывался будущий Институт атомной энергии, руководимый И. В. Курчатовым. Работал с выдающимися физиками.
* * *
— Не могу сейчас вспомнить, кто мне посоветовал встретиться с Андреем, — рассказывает академик А. Б. Мигдал. — Пришел 26-летний парень в гимнастерке без погон, только что демобилизовавшийся лейтенант, выпускник Московского университета. Я стал задавать ему вопросы по физике. Он помнил очень мало. Но понравился мне независимо от ответов. Я знал, что там, в армии, ему удалось усовершенствовать систему управления зенитным огнем. Мне стало ясно, что человека, который в боевой обстановке делает изобретение и еще осуществляет его на месте, надо брать на работу немедленно!..
Мы собирались в нашей комнате теоретиков — № 37 — дважды в неделю. Спорили неистово и страшно при этом кричали. Я пытался хоть что-то понять в этом невообразимом шуме. Как-то при обсуждении очередной идеи Будкер, по своему обыкновению, рта никому не давал открыть. Он меня просто взбесил, и я выставил его из комнаты. Но через минуту он все-таки просунул голову в дверь и прокричал, перекрывая голоса спорящих, как надо сделать. Я расхохотался: этот несносный нахал снова оказался прав!..
Андрей Михайлович рассказывал мне свою жизнь, день за днем. Наверное, «рассказывал» — слово неподходящее. Он показывал ее, живописал, раскадровывал, монтировал — словом, действовал как истинный документалист. Он не мог режиссировать по-своему или отменить прошедшее, и единственная его власть над непрерывной лентой судьбы — перестановка или повтор уже зафиксированных жизнью событий.
Я отчетливо видела то, чего видеть не могла, более того, не мог видеть и сам Андрей Михайлович, — маленькое украинское село в разгар гражданской войны, мельницу над рекой, где батрачил его отец, торопливую, отчаянную перестрелку красных и петлюровцев… Крепкое тело отца будто сломалось под градом петлюровских пуль. Он как-то неловко, боком рухнул в реку. Мать, стоя на берегу (все произошло на ее глазах), долго следила взглядом, как успокаивалась вода. И когда мельница наконец снова отразилась в зеркале реки, бесцельно побрела прочь, не сознавая еще, что с этой минуты осталась 19-летней вдовой с двухнедельным младенцем на руках.
В июне 1976 года Андрей Михайлович взял меня и младшего сына в Винницу на празднование сорокалетия окончания школы. Он увидел город своего детства в солнце, зелени и цветах, Южный Буг и чудом уцелевшую на окраине, вросшую в землю подслеповатую халупу.
Кажется, после них никто в ней больше и не жил: всего-то одна комнатушка под покосившейся крышей, сыро, неудобно… А ему, помнится, все здесь казалось уютным: коврик, сплетенный из разноцветных лоскутков на полу, некрашеный стол, одна табуретка, узкая кровать в углу у окна… На видном месте стояла фотография отца: на него внимательно смотрел худощавый молодой человек в темном сюртуке, цилиндре и с тростью — все взято напрокат у фотографа. Он так долго вглядывался в фотографию, что запомнил ее на всю жизнь, до мельчайших черточек. Чем старше он становился, тем чаще находил во внешности отца что-то до боли знакомое. Но что?! Однажды понял: руки отца, держащие трость, — это руки его старшего сына Володи.
Мать была доброй, работящей и совсем неграмотной женщиной. Вместо подписи ставила крест. К концу жизни научилась читать и читала много, жадно, упиваясь страстями и страданиями, так подробно и красочно описанными Мопассаном, Флобером, Стендалем.
Все ее существование в лучшие годы делилось на две неравные половины: одна — постоянная борьба с нуждой, другая — неотступный страх за лобастого, непоседливого, быстрого, как ртуть, Эську (так его называли в детстве дома). Совсем пацаном он уже знал наизусть — стараниями набожной родни — целые главы Библии и Талмуда. Его ставили на стул посреди комнаты, и восьмилетний мудрец вел ожесточенные споры с убеленными сединами старцами… Может быть, именно с тех пор он не признавал незыблемых авторитетов перед лицом истины?..
В голодные двадцатые годы они чуть не погибли вместе с матерью. Спас красный командир, попавший к ним на постой: потрясенный необыкновенными способностями и быстрым умом маленького заморыша, он, уходя, оставил мешок пшена. Мать растянула его на долгую голодную зиму. С тех пор Андрей не брал в рот пшенки. Ну разве на войне…
Это был замечательный традиционный сбор: съехалось много народу, и в каждом он видел все тех же одноклассников 30-х годов. И в нем никто не видел академика, физика с мировым именем. Он затрепетал, взглянув на свою первую любовь, дочку школьной уборщицы, она всегда была гордой и независимой девочкой, и, слава богу, жизнь, кажется, не сломала ее. Он обнял Витьку Братковского, совесть всего класса, борца за всеобщую справедливость и благоденствие. Поцеловал руку своей учительницы — худенькой высокой старушки в деревенском ситцевом платочке: в свои восемьдесят с лишним лет Вера Генриховна Дяченко отчетливо помнила, что было и сорок, и пятьдесят лет назад, в год их поступления в школу, и каждого знала по имени…
Но, может быть, главным смыслом этой поездки было последнее посещение могилы матери. (Ровно через год его не станет.) Почему-то вспомнил во всех деталях тот день, когда он дополз — в буквальном смысле этого слова — домой, истекающий кровью. Рассеченная кастетом голова была расплатой за неслыханную дерзость: провожая девушку с танцев, он, городской, посмел появиться во владениях слободских заречных парней. Перед глазами встало белое от ужаса лицо матери, и, может быть, над ее могилой он осознал впервые в жизни ее судьбу…
Это было во время войны, поздней осенью. По первобытной грязи разбитой проселочной дороги, под дождем, в холод он прошагал тридцать километров. Добрел до деревни, свалился замертво у крайней избы. Проснулся среди ночи и долго лежал, прислушиваясь к одинокому девичьему голосу, выводящему частушку. Через много лет вспоминал:
— Представьте, девушка любила, надеялась. Проходили месяцы, годы. И стало ясно, что надежды на счастье не сбылись. Как в двух строчках, всего в двух строчках, выразить все: грусть, разочарование первой любви, мудрость повзрослевшей женщины, ее готовность принять свою судьбу? — И цитировал с восторгом:
Я гуляла — грязь топтала. Он дурак — а я не знала…Рассказывали такую историю. Ускоритель, на котором работали Будкер и его коллеги, надо было закрыть свинцом, защищающим от излучения. Свинца не было. Но в другом ведомстве имелся склад со свинцом, предназначенным совсем для других целей. Тогда Андрей Михайлович предложил устроить этот склад прямо над ускорителем в том же зале: никто не пострадал, бесчисленных бумаг писать не пришлось, чужие запасы остались в неприкосновенности. В этой парадоксальной простоте решения, так сказать, мышлении «наоборот», — склад его ума.
* * *
Было известно, что Будкер испытывает необыкновенный восторг перед авиацией. Однажды под окнами его дома в Академгородке, на огороде, появился старенький, давно списанный учебный самолетик — подарок командующего округом. Он и его офицеры были гостями ученых.
Не прошло и двух часов после их отъезда, как примчались запыхавшиеся офицеры: «Командующий приказал снять крылья. А то Будкер еще полетит, — сказал он, — я его знаю!..»
* * *
Андрей Михайлович очень любил научную фантастику, признавался, что хочет написать книгу, наполненную фантазией без берегов. Обдумывал сюжет, искал детали. Но взяться за перо не было времени…
— Однажды, — рассказывает академик Л. А. Барков, — мы обсуждали с ним картины будущего Земли. Что, если люди заселят весь земной шар, как пчелы в ячейках, и многоэтажные «соты» поднимутся до облаков? Мне, любителю нетронутой природы, картина эта не представлялась радужной. Но Андрей Михайлович пытался увидеть в ней хоть какие-то преимущества. Он энергично обсуждал, думая по своей привычке вслух, как можно будет организовать нормальную жизнь столь сложной ассоциации людей, какие откроются возможности для регенерации веществ… Мне кажется, и Будкер думал как я. Но он просто не мог отказаться от обсуждения любой самой невероятной перспективы жизни человечества в будущем.
* * *
Будкер говорил:
— …Вообще-то фантазировать — дело неблагодарное. Фантасты, опирающиеся на науку своего времени, мало изобретательны по сравнению с теми, кто науку делает. Помните Уэллса: «Когда спящий проснется»? Человек проснулся через двести лет, примерно в начале XX века и увидел над Лондоном крылья огромных ветряных мельниц, — так рисовалось ему будущее энергетики. В небе дирижабли и маленькие самолетики, вроде наших «ПО-2». Единственное из предсказанного в этой повести великолепным фантастом, чего не достигла пока современная цивилизация, — машинка, с помощью которой можно сразу же снять мерку с человека для шитья костюма.
…Теперь и такая машинка появилась, но Будкера уже нет.
* * *
После девятого класса Андрей отправился в столицу — поступать в МГУ, но принят не был и вернулся в родную Девятую школу. Учителей не хватало, и ему предложили преподавать физику и математику в своем и в соседнем классе. Порядок на уроках поддерживали признанные силачи и забияки — в заработках Эськи были кровно заинтересованы все: если у него вдруг заводилась копейка, он щедро делился с товарищами.
Но в 1935 году рыжий, вихрастый и с виду нахальный пацан снова появляется в столице, в Марьиной роще.
…Почему он выбрал университет, науку? Мальчишки в то время бредили авиацией, охотно шли в автодорожный и транспортный. Наукой же мало кто интересовался, она давала плохое материальное обеспечение в будущем. Слово «физика» значило очень мало. Однако уже в девятом классе, лучший из лучших учеников, он твердо знал, что пойдет в университет, хотя это было не в моде, там не было даже конкурса… Не потому ли, что латинское слово «универсум» означает «мир как целое»? Да, ему было интересно все. И хотя университет сулил в будущем разве что распределение в среднюю школу, ему он обещал целый мир!
…Я как будто вижу осеннюю Москву 1936 года, аудитории старого здания на Моховой и вчерашних школьников, перед которыми на первой же лекции возникла непонятная страна, где не существует понятий «большое», «малое», а «больше чем» и «меньше чем». Здесь требуются не решения поставленных задач, а самостоятельные размышления.
Их курс оказался очень сильным: из 100–120 поступивших не менее 20 — огромный процент! — стали потом докторами наук, членами академии, признанными в своих областях физиками. А сколько ярких ребят погибло, не дожив до славы и признания!
Коренастый и настырный провинциал выделялся даже среди самых сильных студентов. Но была сфера, где с ним не мог тягаться никто: самозабвенное хвастовство. Чем он хвастался? Да чем угодно — шириной своих плеч, гимнастическими успехами, знанием самых современных танцевальных па. Но его хвастовство почему-то не раздражало: возможно, потому что в нем не было оттенка карьеризма, просто он самоутверждался, этакий юный провинциальный лев, в среде интеллигентных московских мальчиков, пришедших в университет также по чистому велению души. Интересно, что всю свою жизнь он гордился и хвастался вовсе не главными своими достоинствами. Трудно было найти человека более штатского, чем Будкер. Но в 60-х годах — очевидно, из уважения к его выдающимся научным заслугам — были отмечены его инженерные разработки. Надо было слышать и видеть, как его распирало от гордости. Он упоминал об этом при каждом подходящем и неподходящем случае. Но никогда не хвастался своим академическим титулом.
Кажется, Будкер имел все взыскания, какие можно было схлопотать. Даже по спортивному обществу «Наука». Он занимался в гимнастической секции и получил спортивную форму. Но в нарушение всех правил ходил в ней на лекции. Ларчик просто открывался: его стипендия на нынешние деньги была рублей двадцать. Уже на третьем курсе женился и нахально появлялся в университете раз в месяц — в день выдачи стипендии. Он работал, зарабатывал деньги для семьи чем мог, начиная с модных тогда танцев. Танцор он был отменный.
…Однажды, через много лет, его вызвали в Москву. После утомительного, нервного совещания в очень высоких инстанциях, устало опустившись на переднее сиденье присланной из академического гаража черной «Волги», он, вопреки обыкновению, не сразу взглянул на сидевшего за рулем водителя. А когда взглянул… «Постой, постой!.. А вы не играете на рояле?..»
Все сорок минут пути они, перебивая друг друга, вспоминали подробности тех счастливых и голодных молодых дней, когда рыскали в поисках заработка, рыжий учитель танцев и его лихой, зажигательный тапер — черноглазый грек Семерджиев.
«Подумать только, — как будто не веря самому себе, произнес в задумчивости водитель Семерджиев, — договариваться об уроках вы ходили в моем пальто (своего у вас не было) и в тапочках на босу ногу. И на тебе — академик…»
Преподавание танцев изматывало. Однажды он опоздал на первую лекцию — по математике. Уселся, удобно развалясь, перед самой кафедрой и не скрывал сворачивающей скулы зевоты. Профессор, рафинированный интеллигент, тихо и медленно произнес, глядя в пространство: «В студенческие годы, когда мне было скучно на лекции, я не садился в первом ряду и не зевал в лицо лектору…»
В перерыве Будкер помчался объясняться: поведение его, сообщил он, свидетельствует как раз о необыкновенном интересе к предмету. Иначе он не явился бы на лекцию вообще, а остался досыпать в общежитии.
…Наступил последний пятый курс университета. 1 апреля 1941 года он исполнил немыслимый танец под окнами роддома — недалеко от их студенческого общежития на Стромынке: в этот день у него родился сын.
* * *
Художник Орест Верейский рассказывал:
— Он поразил меня с первой встречи красочностью, сочностью натуры, юмора. Сама внешность его была необычна. Что-то вечное, точно его создал художник школы Рембрандта. С него можно было бы писать героев классических мифов. Не то пророк, не то фавн… И юмор его был особенный, свой. В его взгляде были и мудрость и мальчишество. Только очень хорошим людям удается сохранить в себе до седых волос ясное, незамутненное детство.
* * *
Аркадий Райкин вспоминает:
— А как он смеялся! Иногда я не успевал даже договорить фразы, довести до конца мизансцену, а он уже хохотал. Он опережал привычную для меня реакцию, видел перспективу роли… Он любил задавать вопросы. Множество вопросов. И умел слушать. Он искусно провоцировал меня на рассказы, импровизации. Слушал и смотрел по-детски жадно. И неожиданно разражался блистательной речью. Это были неожиданные, интересные мысли о музыке, живописи, театре, литературе…
* * *
Феликс Кривин:
— …А я помню его улыбку, когда он слушал юмористические рассказы в Доме ученых. Директор института ядерной физики улыбался. Он улыбался не реакторам, не ускорителям… — он улыбался тому, что какие-то часы, вместо того чтобы идти, стояли на страже времени, что какая-то простыня по ком-то сохла, а какой-то утюг просил выключить его из электросети, поскольку он переходит на творческую работу. И все это не имело никакого отношения к ядерной физике, но академик улыбался. Может быть, в том и состоит широта ума, чтобы сближать далекие и, казалось бы, чуждые друг другу понятия, находить между ними связь? А может быть, сближение и не требуется — связь существует постоянно, в самом человеке, в котором одновременно уживаются и заботы о физике, и любовь к лирике, и жадность к шутке, содержащей серьезную мысль?..
* * *
Умирает от рака замечательный физик-теоретик, и Будкер дает себе слово сделать доступный любому медицинскому центру ускоритель протонов для бомбардировки злокачественных клеток… Задача оказалась сложнее, чем думали вначале. Он так и не успел. Жалел. Сейчас этим занимаются его ученики.
История с хлебом. Кому могло прийти в голову привлечь физика-ядерщика с мировым именем к спасению зерна от амбарных вредителей? Он пошел на это дело сам. Как-то прочитал, что от пяти до десяти процентов зерна во всем мире погибает от амбарных вредителей, и не смог с этим примириться. Говорил: это же бессмыслица, унижающая человека!
Теперь в Одесском портовом элеваторе стоит ускоритель, созданный в его институте: защищает пшеницу от долгоносика.
* * *
Однажды Андрей Михайлович сказал, обращаясь к конопатой девчушке, очень стесняющейся своих веснушек и рыжих волос: «А ты знаешь, Елена Прекрасная тоже была рыжей… — И добавил: — В шестнадцать лет я явился в столицу — поступать в университет — страшно неуверенный в себе провинциал с плохими манерами и корявым русским языком. В один из тех дней я купил мороженое на улице. Пожилая мороженщица, вручив сдачу, на секунду задержала на мне взгляд, улыбнулась и сказала: „А ты, парень, хоть некрасивый, но приглядной!“ Этот случайный разговор в каком-то смысле перевернул мою жизнь…»
Однажды — на заре Академгородка — в «кофейно-кибернетическом» клубе шла очередная дискуссия на модную тогда тему «о физиках и лириках». Математики утверждали, что искусство — это не более чем способ передачи информации. Представители искусства, ошеломленные научной эрудицией, сникли. В уголке в клубах сигаретного дыма — Будкер.
— Здесь уже два часа кряду толкуют об искусстве, — сказал он, — но никто еще не произнес слово «любовь»…
Тут вскочил молодой человек и, уперев в грудь Будкера прямой, как указка, палец, потребовал: «Определите, что такое любовь!»
— Если вы нуждаетесь в определении любви, мне жаль вашу избранницу, — печально сказал Будкер.
* * *
Академик Г. Т. Зацепин, учившийся в университете на одном курсе с Будкером, рассказывает, что тот очень рано сложился как незаурядная личность, умеющая нестандартно мыслить и в вопросах науки, и в вопросах общественной жизни.
…На политзанятиях (их проводил преподаватель политэкономии Островский) возник вопрос о советско-германском пакте. Докладчик был Будкер. Он высказался вполне определенно: пакт — это вынужденная для нас мера и он носит временный характер. Не может гитлеровская Германия быть другом СССР! Выведенный из равновесия преподаватель рявкнул о вылазках классового врага и выскочил из аудитории.
Андрею угрожало исключение из университета, однако ограничились лишением стипендии. Островский настоял.
Последний госэкзамен — 23 июня. Из аудитории Будкер побежал в комитет комсомола, считал, что с комсомольским билетом у него будет больше прав пойти на войну добровольцем.
Надев военную форму, пришел на Моховую. Все знали, что Будкер будет бить Островского. Обшарил все до одной аудитории, но так и не нашел. Потом говорили, что тот отсиживался в женском туалете…
Пройдет тридцать лет, и однажды 9 мая Андрей Михайлович расскажет младшему сыну историю, которая останется в семейных воспоминаниях под названием «Как папа был дезертиром». О вчерашнем школяре, попавшем не в регулярную часть, а в один из отрядов московского ополчения. Командир — усталый седой человек, кадровый офицер, не знал, куда спрятаться от этого шумного, рыжего, постоянно вертевшегося под ногами новобранца, задававшего кучу вопросов и требовавшего немедленно выдать ему оружие…
В один из жарких июльских дней в расположении отряда появился грузный, с тяжелой одышкой человек, беспрестанно вытиравший катившийся градом пот со лба: военпред оборонного предприятия срочно разыскивал дезертира Будкера!
Оказывается, за несколько месяцев до начала войны, Андрей, как обремененный семьей выпускник, был распределен, в порядке исключения, не в школу, а на подмосковный завод — дефектоскопистом. В первый же день войны завод стал оборонным предприятием, а дефектоскопист Будкер, выпускник Московского университета, попал в число очень дефицитных специалистов по контролю за качеством металла.
Один бог ведает, как удалось военпреду разыскать его в суматохе и неразберихе первых дней войны. При всех он обрушил на его голову поток брани и страшное обвинение — дезертир. И тут произошло неожиданное: измученный командир вдруг взорвался: «Какой он, к лешему, дезертир? Он же воевать пришел, он мне всю плешь проел своими вопросами! А ты — „дезертир“!»
…Тридцать лет спустя, рассказывая эту историю сыну, Андрей Михайлович так и не знал, кто же был прав — доброволец, рвущийся из тыла в пекло, или военпред, которому позарез нужен был в тылу редкий специалист…
Он часто вспоминал лица девочек-зенитчиц, которыми командовал он, неуклюжий лейтенантик в мешковато сидевшей гимнастерке. Пройдет много лет после войны, и эти девочки сольются в его воображении с героинями Бориса Васильева из «Тихих зорь», и он будет плакать, не скрывая слез, над их загубленными войной судьбами.
Когда в Театре на Таганке был поставлен спектакль по этой повести, Будкер сделал все, чтобы его увидеть. И снова душили его слезы, и снова в антракте рассказывал он о девочках: они никак не могли отрешиться от пионерско-комсомольской привычки делать все сообща, коллективно — спать, есть, отдыхать. Он не мог без боли слышать их почти детские голоса и, как умел, старался заслонить их от тягот военного времени.
Ночами, когда выдавалась тишина, всматривался в звезды: если совершить путешествие почти со скоростью света к одному из этих мерцающих в холодной пустоте миров, то вернешься на Землю моложе собственного сына. Вот когда начнутся реальные проблемы отцов и детей…
Впрочем, для размышлений о красоте и парадоксах теории относительности времени оставалось немного. Тревожное небо ставило перед воентехником по артиллерийским приборам иные задачи.
В начале сорок пятого его послали в Москву — на слет армейских изобретателей. Командир полевой части, где он сделал первое свое изобретение, назвал созданный им прибор «АМБ» — Андрей Михайлович Будкер.
В Москве стояла зима, а в воздухе уже пахло весной, весной победы. На улице Горького, «у Елисеева», как на старый манер говорили москвичи, открыли коммерческий магазин, без карточек: одно пирожное — пятьдесят рублей, порция мороженого — двадцать пять.
Будкер просадил «у Елисеева» солидную часть своих денег, которые не на что было тратить на фронте. Он решил как следует подкрепиться перед ответственным визитом — сдачей теорминимума самому Ландау.
В доме Ландау его проводили куда-то на второй этаж, и он неуклюже рухнул в низкое, обтянутое кожей кресло. Оно показалось ему страшно неудобным.
Стремительно вошел хозяин дома, отрекомендовался: Лев Давидович. Будкер мгновенно забыл имя-отчество и обращался к профессору по-военному: «товарищ доктор». Ландау это раздражало. В течение беседы он неоднократно напоминал, как его зовут. Но тщетно, Будкер, обладавший феноменальной памятью, на этот раз усвоить два слова так и не смог — они будто проскакивали в бездонную бочку.
Ландау предложил взять ему какой-то интеграл и вышел. И вот тут-то и начались муки: дали себя знать пирожные, с детской жадностью поглощенные в магазине. В глазах помутилось, лоб покрылся испариной, он проклял все — в том числе и неизвестное ему расположение помещений в квартире профессора.
Теорминимума он не сдал.
В следующем году он снова появился в Москве. Все та же армейская форма, но уже без погон. В доме товарища по университету сразу стало тесно и шумно. Объявил: «Срочно нужна работа и квартира!» Однокашник обещал подумать: возможно, что-то прояснится в ближайшие месяцы.
— Какие месяцы?! — искренне изумился Будкер. — Мне нужно сегодня, сейчас: жена с детьми и вещами сидит на вокзале!
— Сколько можешь назвать яблок, вошедших в историю?
Не дожидаясь ответа, он нетерпеливо подымает руку — пять широко расставленных пальцев. Загибая один за другим, радуясь, перечисляет:
— …Райское яблоко — без него не было бы рода человеческого.
Яблоко Париса — причина Троянской войны (помнишь «Илиаду»: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»?).
Дальше. Золотые яблоки из садов Гесперид. Чтобы раздобыть их, Гераклу пришлось совершить свой самый знаменитый подвиг: удержать на плечах нечеловеческую ношу — небосвод.
Яблоко Вильгельма Телля — самое трагическое и возвышенное. Вообрази: у дерева стоит мальчик и легендарный стрелок из лука целится в яблоко на голове собственного сына — такова цена свободы для народа. Может ли он промахнуться?!
Яблоко Ньютона…
Почему он так часто возвращался к «делам давно минувших дней»? Какой магнетизм был заключен для него в этих легендарных яблоках?
* * *
Чем старше становился Будкер, тем чаще вспоминал своих учителей, которых боготворил. И объяснял ученикам, что для Мигдала готов сбегать на угол за папиросами, если тот вдруг об этом попросит.
«Встречая своего школьного учителя физики, я всегда выражаю ему свое почтение, — рассказывал Андрей Михайлович. — Не могу объяснить себе того внутреннего трепета, который я испытываю в этот момент. А ведь я знаю, что как физик мой учитель всегда был слаб.
…Ядерной физикой я всерьез заинтересовался, прочитав выпущенную в 1934 или в 1935 году книжку Антона Карловича Вальтера — „Атака атомного ядра“. С автором ее познакомился много лет спустя, когда был уже членом академии и директором института. Он долго не мог принять моего отношения к нему как ученика к учителю, а я до самой его смерти с благоговением относился к человеку, чьи слова позволили мне когда-то понять красоту удивительного мира.
Состояние почтения ученик должен сохранять к учителю всю жизнь, даже если сам он намного превзошел его в науке. Не исключено, что выросший ученик может испытывать неприязнь к учителю — в конце концов, разные учителя бывают, — но моральный принцип, пришедший к нам из глубин веков, не позволяет ученику выступить против учителя. Он может уйти от него — и это есть высшая форма протеста для ученика. Ученик не раб учителя, не слуга, даже не подчиненный. Он сын его, со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до проблемы „отцов и детей“…»
* * *
— Было это в шестьдесят первом или шестьдесят втором году, — вспоминает академик А. П. Ершов, — в ноябре. Обское море замерзло. Но снег пока не выпал, и образовался естественный каток. На льду — группа людей, одетых по-зимнему. Андрей Михайлович — в свитере, шарфе — один катается на коньках. Я наблюдал за ним. Он осознавал себя в центре серьезных и ответственных событий, связанных с его наукой. Но было видно, что он, как юноша, радуется ранней зиме, заново ощущая забытую легкость скольжения.
* * *
Из биографии:
…В 1949 году Андрей Михайлович получает Государственную премию за участие в создании гигантского по тем временам Дубненского циклотрона. Когда была сформулирована идея управления термоядерного синтеза, И. В. Курчатов привлек к этой работе и его среди первых. Через некоторое время Будкер предложил «открытые ловушки» для удержания плазмы, получившие потом развитие во всем мире. В 1956 году на Международной конференции в Женеве была доложена его работа по «стабилизированному релятивистскому пучку». Реализацией этой идеи занялись в исследовательских центрах Швейцарии, Англии, США. В Институте атомной энергии организуется Лаборатория новых методов ускорения во главе с Будкером. В 1957 году было образовано Сибирское отделение Академии наук СССР. По предложению И. В. Курчатова Будкер создает в Новосибирске Институт ядерной физики.
Ракурс второй. С наукой…
Судьбой его распорядился случай. Оказавшись в сорок шестом в Москве, он пришел в университетское общежитие на Стромынке. Кто-то из ребят посоветовал разыскать учреждение, где занимаются какими-то хитрыми проблемами, там позарез нужны физики.
Отдел кадров находился в центре города. Там ему показали план и объяснили: доедете на трамвае, пойдете прямо, потом сворачивайте налево, идите через лес, там есть тропинка, она выведет прямо к институту. Андрей Михайлович изучил план в присутствии сотрудников отдела кадров, четко повторил, куда и как надо сворачивать.
Благополучно приехал на окраину, покрутился, покрутился и не обнаружил поворота ни налево, ни направо. Подошел к продавщице пирожков у ресторана «Загородный»: «Не скажете, как пройти в учреждение…» Тут он начал в нерешительности мяться. «Тебе, случаем, не туда, куда люди идут? — помогла ему продавщица. — Иди во-от по этой дорожке…»
Будкер очень любил рассказывать эту историю.
Молодость его совпала с героическим временем в физике. В работе — вся жизнь и радость, в ней черпал он веселье, силы, дружбу.
Однажды Аркадий Бенедиктович Мигдал, шеф теоретиков, задержался где-то на лекции и был невероятно растроган, застав по возвращении свою команду на месте — в столь поздний час: «Сейчас, сейчас будем говорить за науку! Дайте только руки от мела отмыть!»
Команда ждала — чинно и благопристойно. Мигдал открыл кран — мощная струя воды ударила ему прямо в живот: сработало-таки поворотное устройство Васи Кудрявцева, слывшего в теоротделе богом технической мысли. Все умирали со смеху.
Мигдал и по сей день уверен, что это проделки Будкера…
С самого начала ему посчастливилось работать рядом с И. В. Курчатовым, И. Я. Померанчуком, Л. А. Арцимовичем, М. А. Леонтовичем, А. Б. Мигдалом. Это была прекрасная школа. Школа зрелости. На ее пороге он простился с поисками в русле известных, общепризнанных идей и сделал шаг в мир собственных дерзких проектов, которые многим будут казаться просто фантастическими и годными для обсуждения лишь в узком кругу друзей…
Когда была сформулирована идея управляемого термоядерного реактора, — вспоминает профессор И. Н. Головин, — Игорь Васильевич назвал имена четырех-пяти теоретиков, которых надо непременно к этой работе привлечь, среди них был и Будкер. С осени 1950 года все его мысли поглощены новой проблемой. Он регулярно приходит в лабораторию, чтобы встретиться с Курчатовым, потом долгими часами размышляет в тишине над листами исписанной или чистой бумаги. Суровый, уединенный, почти монастырский уклад. Вечерами он возвращался в финский домик (он жил рядом с институтом) и вместе с матерью копался в земле — сажал цветы (эта страсть осталась у него на всю жизнь), разводил огород — семья росла, ждали третьего ребенка, и жить на одну зарплату в 1700 (по-нынешнему 170) рублей было сложновато.
Будкер предложил свой собственный подход к проблеме термояда, придумал «магнитные пробки» для удержания плазмы и стал родоначальником нового направления. И. Н. Головин вспоминает, что все, кто занимался термоядом, были взволнованы смелостью выдвинутых им идей. За месяц до Женевской конференции 1956 года, к которой Игорь Васильевич готовился очень интенсивно, он привлек Головина и Будкера к написанию статьи для журнала «Атомная энергия» — «О некоторых работах Института атомной энергии по управляемым термоядерным реакциям». «Статью писали в чудесные солнечные дни в саду под яблонями, — пишет Головин в своих воспоминаниях. — Игорь Васильевич обсуждал, правил текст, радовался каждой удачной мысли».
Как-то Будкер рассказал Курчатову о гегелевском софисте: тот никак не хотел войти в воду, пока не научится плавать. Игорь Васильевич включил шутку в статью. Она прозвучала и на Женевской конференции.
А нетерпеливый ум Будкера стремился дальше — от «обычной» плазмы к плазме релятивистской. В этом зыбком, странном, неустойчивом мире частиц, мчащихся почти со скоростью света, он вдруг мысленно различил нечто реальное, почти осязаемое! «Я отчетливо видел в своих формулах яркое светящееся кольцо. Оно могло часами неподвижно висеть в вакууме. Что-то в этом чудилось мистическое, — признавал Будкер. — Так же ясно я потом представил себе свечение встречных пучков. Сделали их — увидели: и вправду светятся!»
«Помню давний научный семинар в Женеве, — расскажет потом писатель-популяризатор Владимир Орлов. — …Из формул, выводимых мелом на коричневой доске, возникал еще один, пока воображаемый объект, порожденный научной фантазией Будкера. Я заметил, как физик Раби из США, нобелевский лауреат, отшатнулся и зажмурил глаза. Он и впрямь увидел кольцо, магически повисшее в пространстве, излучающее грозное сияние».
Будкер назвал его «стабилизированным релятивистским пучком». Сплетенное из мчащихся с околосветовыми скоростями электронов и ионов, прочно спаянное их взаимным притяжением, это образование стягивается в упругую нить — не толще человеческого волоса.
Если закольцевать этот бесплотный, невесомый (меньше миллиардной доли грамма!) поток частиц, он сможет работать не хуже мощных тысячетонных магнитов современных ускорителей!
Исследователи и сегодня все еще мечтают о плазме с температурой сто миллионов градусов. А эта изящная конструкция из релятивистской материи — «пучок Будкера» — сулила океан энергии.
Интерес к стабилизированному пучку был столь велик, что Будкер едва успевал выступать с докладами. На одном таком докладе произошел курьезный случай, о котором Андрей Михайлович вспоминал всю жизнь.
В проходах, на подоконниках возбужденная молодежь. Ближе к докладчику — видные ученые, солидная публика. Один известный академик (он сел в первый ряд, чтобы лучше слышать) расспрашивает буквально о каждой мелочи. Сначала докладчик отвечает толково, дельно. Но поток вопросов не иссякает. Он начинает нервничать, сбиваться. А голос вопрошающего настигает его безжалостно и методично. Будкер наконец не выдерживает: «Известно, что один человек может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят!»
В зале внезапно застывает тишина. Вдруг в задних рядах кто-то прыснул. Еще один…
Будкер похолодел, он понял, что в запальчивости обидел человека: переиначил известную пословицу о глупце.
Зал хохотал. Академик Арцимович, председательствующий — надменно поднятая голова, побледневшее от гнева лицо — приносит извинения уважаемому ученому: «Вы же знаете невоспитанность Будкера…»
Через двадцать лет эта теоретическая работа будет зарегистрирована официально как открытие нового явления природы.
Реализацией идеи стабилизированного пучка занялись в лабораториях разных стран: пучок сулил революционные перемены в термояде, в проблеме передачи энергии на большие расстояния, в создании ускорителей.
«Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены». Эти слова Плиния Старшего сказаны как будто о трудах и днях Будкера.
Что отличало его как ученого? Теоретик или экспериментатор? Один из учеников — член-корреспондент АН СССР В. А. Сидоров ответил так: «Будкер был истинным физиком. Узкая специальность — фантазер».
Он придавал огромное значение интуиции, этой логике чувств.
— Нередко думают, — говорил Андрей Михайлович, — что наука — это цепь строгих доказательств. Между тем они появляются лишь тогда, когда эксперименты закончены. Их результаты записываются в виде четких выводов. Сам же научный процесс никогда не бывает формальным, он всегда творческий. Я часто советую своим ребятам: «Послушайте, что и как говорят художники. Учитесь у них».
«Будкер ощущал физику не в виде серии формул или исторической последовательности открытий, — сказал мне академик Р. Солоухин, — а как художник, смешивающий краски. Это была стихия, которую трудно объяснить словами…»
«Он всегда отрицательно относился к попыткам возврата к „старому доброму времени“ классической физики. Вместо этого он сумел развить свое воображение настолько, что теория относительности и квантовая механика, которые он понимал тонко и глубоко, стали для него не просто понятными, но естественными и наглядными, стали теориями, с которыми можно работать». Так говорилось в статье, опубликованной к 60-летию А. М. Будкера в «Успехах физических наук». Ее авторы — академик А. П. Александров и другие физики.
* * *
Узнав о «стабилизированном пучке», Ландау назвал автора открытия «релятивистским инженером». Некоторые усмотрели в этих словах великого теоретика «приземляющий» оттенок. Будкер же этой характеристикой гордился. Говорил: «Конструировать из разогнанной до скоростей света материи с температурой в миллиарды градусов с давлением в тысячи атмосфер, — занятие не такое уже недостойное, не хуже любого другого». В последние годы он читал в Новосибирском университете курс: «Релятивистские конструкции».
* * *
Андрей Михайлович говорил:
«В науке много возможный путей, и заведомо не годится лишь тот, по которому прошли другие. Хорошая наука — всегда открытие».
«Иногда полезнее не знать, что сделано до тебя, чтобы не сбиться на проторенный путь, ведущий в тупик».
«Когда придумываешь что-то сам, то высок шанс ничего не придумать. Но когда живешь чужим умом, то уж точно ничего не сделаешь. Никогда не делай того, что делают другие. Это на сто процентов обрекает на неудачу».
«Количество железа в ускорителе, помноженное на количество мыслей, вложенных в него, — величина постоянная». (Будкер и его ученики работали над ускорителями «без железа». Это была смелая и красивая идея: перешагнуть пределы величины магнитного поля традиционных ускорителей. Поскольку эта величина ограничена свойствами железа, они вовсе отказались от него и предложили новый оригинальный способ формирования магнитного поля.)
«Если бы Андрей Михайлович делал авторские заявки на все свои научные и технические идеи, — заметил лауреат Ленинской премии, доктор физико-математических наук И. М. Подгорный, — то в Комитете по делам изобретений и открытий пришлось бы открыть специальный будкеровский отдел…»
Антивещества нет на нашей планете и в ближайших ее окрестностях, но Будкер придумал, как получить на Земле атомы антиводорода, — легчайшего элемента «антимира».
Мечтая о будущем, он представлял Землю цветущим садом. И мысленно возвращался сюда из индустриального и научного космоса для тихих размышлений и отдыха. Разместить рай на Земле, а работать на небесах — в этом весь Будкер!
Все равно что многотонные магниты ускорителей, которым положено покоиться на мощнейших фундаментах, подвесить к потолку, как это сделано у ядерщиков в Новосибирске…
Зло он умел превращать в добро. Так было с энергией, которую «разбрызгивают» бешено мчащиеся по кольцевым орбитам электроны. Это зло, которое не отменить и не обойти: таковы законы природы.
И тогда физики догадались — собрать «брызги» в единый поток излучения и направить его, словно мощный прожектор, в глубину вещества, чтобы увидеть структуру кристалла или гена, создать «молекулярный» портрет работающего сердца.
Андрей Михайлович был убежден: любой рассказ о науке должен быть прежде всего «человековедческим».
Ему предложили написать статью для «Известий» об одном из эпизодов истории физики высоких энергий, связанном с именем Игоря Васильевича Курчатова. Будкер с энтузиазмом взялся за дело — он любил рассказывать о своем учителе. Я помогала ему в этой работе. И он объяснял мне: это интересно не потому, что в ускорителе впервые столкнулись «мир» и «антимир», — здесь столкнулись крупные человеческие характеры. В статье «из жизни элементарных частиц» прежде всего он сказал об отношениях ученых между собой, об их ответственности перед людьми, перед будущим.
Снимали документальный фильм о Ландау. Кинематографисты приехали в Новосибирск — взять интервью у Будкера. Он охотно согласился и сказал коротко: «Мне Ландау всегда казался человеком самым обыкновенным, ординарным…»
Интервьюеры ошеломленно застыли. Насладившись их изумлением и выдержав необходимую паузу, Будкер добавил: «Самым обыкновенным человеком. Но из цивилизации на порядок выше, чем наша, земная…»
На ученом совете решили: хорошо бы иметь в институте портрет Эйнштейна. Пригласили из Москвы скульпторов — В. Лемпорта и Н. Силиса. Андрей Михайлович объяснил им свои пожелания.
Портрет удался, и Будкер всегда с гордостью показывал его гостям: «Я художников просил вылепить голову Эйнштейна. И они это сделали. Видно, что это и великий интеллект, и душа, открытая печалям и заботам всего мира. А слеза, застывшая в уголке глаза, показывает, что это просто очень старый человек, который по рассеянности забывает застегнуть ширинку…»
* * *
В 1965 году были проведены первые эксперименты на ускорителях со встречными пучками — в Новосибирске и в Стэнфорде (США).
В 1967 году сибирские физики первыми в мире начали изучать на ускорителях со встречными пучками взаимодействие «вещества» и «антивещества». Сегодня методом встречных пучков физика высоких энергий добывает львиную долю новых сведений о свойствах материи.
Сама по себе идея ускорителей на встречных пучках не нова. Многие высказывали ее и до Будкера, но считали ее недостижимой мечтой, или даже курьезом.
«Для характеристики щепетильности Андрея Михайловича, — пишет академик Я. Б. Зельдович, — напомню, что в своем докладе общему собранию Академии наук он упомянул и мое замечание, что встречные пучки энергии очень выгодны. Тут же он, совершенно справедливо, говорит, что встречные пучки считались практически неосуществимыми из-за трудности фокусировки.
Очень характерно для смелости Андрея Михайловича, что он воспринял положительную часть высказывания. В то же время простейшие (но и наивные) пессимистические оценки его не испугали, он нашел пути преодоления трудностей».
Выгоды «встречных пучков», по сравнению с обычными методами ускорения, фантастичны. Что это за выгоды — показывает следующий пример. При столкновении двух электронов, мчащихся навстречу друг другу с энергией в миллиард электрон-вольт, эффект взаимодействия оказывается таким же, как если бы в «классическом» ускорителе электрон налетел на неподвижную мишень с энергией в четыре триллиона электрон-вольт! Неудивительно поэтому, что именно Будкер с его характером и парадоксальным научным мышлением взялся за решение этой задачи.
Самые квалифицированные эксперты, специалисты по ускорительной технике отрицали возможность ее решения. Наиболее страстным оппонентом Будкера был выдающийся физик, создатель первых советских ускорителей «классического типа» академик В. И. Векслер. Через много лет он признал свою неправоту. Он был честен и справедлив в науке.
А Игорь Васильевич Курчатов сразу доверился «сумасбродной» идее.
* * *
Столкнуть пучки частиц, бешено мчащихся навстречу друг другу, трудно.
Представьте себе двух мелких стрелков из лука. Один — Робин Гуд — стреляет с Земли, другой — Вильгельм Телль — целится со спутника Сириуса. Они выпускают стрелы одновременно, и те должны столкнуться острием в острие.
Задачу примерно такой же сложности решил будкеровский коллектив, заставив столкнуться в ускорителе пучки элементарных частиц, летящие навстречу друг другу почти со скоростью света…
— При решении этой задачи, — говорил Будкер, — центр ее тяжести перемещается с министерства финансов на плечи ученых. На одной чаше весов — непомерная стоимость мощных ускорителей классического типа. На другой — огромные интеллектуальные затраты, которые требуются для создания установок со встречными пучками.
Усилия ученых у него всегда перевешивали.
Лауреат Нобелевской премии, директор Стэнфордской лаборатории Бертон Рихтер писал:
«Развитие метода встречных пучков в физике высоких энергий обязано пионерским работам трех групп физиков — содружеству исследователей Принстона и Стэнфорда в США, Будкеру и его коллегам в Новосибирске и итальянской группе во Фраскати. Об успехах метода можно судить по такому факту: все новые ускорители на сверхвысокие энергии, которые создаются сегодня, — это установки со встречными пучками».
В 1978 году академик А. Н. Скринский получил письмо от профессора Роберта Вилсона, в то время директора Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми в США. Он писал:
«Не проходит и дня, чтобы мы в „Ферми-лаб“ не вспоминали о Будкере: наш проект основан на его идеях и на огромных достижениях Будкера и его коллег в Новосибирске».
* * *
Друживший с Будкером писатель Сергей Залыгин присутствовал при его встрече с видным французским физиком. «Разговор происходил за обедом. Обсуждали какую-то проблему, и гость никак не соглашался с мнением Будкера. „Но почему вы так думаете? — горячился он. — Докажите же в конце концов, что это так!“
— А я некоторые вещи не считаю необходимым доказывать. Я знаю, что так должно быть. И доказательства меня не занимают. Они уже существуют. Но зачем тратить время на их поиски!
— Но я не могу верить вам только потому, что вы в этом убеждены, — не уступал француз.
Будкер довольно миролюбиво объяснял ему: „Я и не прошу вас верить. Вы меня спрашиваете — я отвечаю“.
Дальше пошли анекдоты — Андрей Михайлович потерял интерес к спору.
Гость остался в недоумении, а я, признаться, — в большом сомнении.
Через год, встретившись с Будкером, спрашиваю: „Ну, как тот француз?“ — „Прислал письмо, пишет: „Да, вы оказались правы…““»
Будкер говорил: «Физики моего поколения, создавшего ядерное оружие, — в долгу перед человечеством и просто обязаны решить задачу управляемого термоядерного синтеза!»
* * *
Работы по «термояду» начались в 1951 году. У физиков была уверенность, что они решат эту проблему с ходу, сразу. Будкеру было поручено обеспечивать регулирование будущего термоядерного реактора, чтобы тот не очень «разогнался» и не вышел из-под контроля. Позже он говорил: «Это поручение напоминает мне сейчас историю о том, как некто хотел изобрести вечный двигатель и взял патент на то, чтобы тот не разогнался до бесконечных скоростей…»
После первой неудачной атаки на проблему ученые приступили к методическому накоплению знаний о свойствах плазмы — субстанции, оказавшейся невероятно капризной. Наивный оптимизм, настроение кавалерийского наскока, когда, казалось, еще немного — и «термояд польет рекой» (песня с этими словами пелась под гитару термоядерщиками), сменились горьким отрезвлением.
С конца 50-х годов все силы были брошены на изучение плазмы. Именно в те годы была осознана вся сложность задачи и стало понятно, как далеко до ее решения.
«Нельзя сказать, чтобы это открытие вызвало у нас, молодых физиков, особое уныние, — рассказывал член-корреспондент Академии наук Д. Д. Рютов, — разбираться в сюрпризах, преподносимых плазмой, было невероятно интересно. Многих из нас это так увлекло, что конечная цель оказалась почти забытой, и вспоминать о ней стало даже чем-то неприличным… В такой обстановке прозвучало в 1968 году выступление Будкера на Новосибирской конференции Международного агентства по атомной энергии. Он почувствовал: знаний, накопленных к тому времени, достаточно, чтобы вернуться к исходной задаче. Он призвал физиков-„плазмистов“ вспомнить о своих прямых обязанностях и начать работы над термоядерным реактором. У огромного большинства присутствующих этот призыв вызвал какое-то внутреннее сопротивление. Сегодня, когда мы знаем, что на рубеже 60-х и 70-х годов в проблеме „термояда“ наметился заметный прогресс, этот призыв кажется и своевременным и логичным. Но тогда у многих он вызвал раздражение и даже противодействие.
Требовались прозорливость и смелость, чтобы пойти против течения. Но Будкер был упорен в своих убеждениях, и они возымели действие на всю термоядерную программу».
«Физику не обязательно начинать дело только тогда, когда он будет знать о проблеме все, — утверждал Будкер. — Чтобы достичь цели, надо отправиться в путь. На это могут возразить: как же можно начинать, если нет новых идей? Но идеи неизбежно появятся в процессе работы». И он вновь повторял свой любимый афоризм о софисте, который утверждал, что не залезет в воду, пока не научится плавать.
* * *
Кто-то из кинематографистов рассказывал, как много лет назад в Доме ученых обсуждали фильм «Девять дней одного года». Будкер был краток:
— Я высоко ценю этот фильм — гимн нашим романтическим ядерным временам. Но вот лучевую болезнь Гусева я бы заменил «обыкновенным» инфарктом, болезнью людей неравнодушных…
* * *
Из биографии…
В 1958 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1964 — академиком. В этом же году в Новосибирске вошла в строй первая установка на «встречных пучках» — ВЭП-1. В 1967 году Будкер с группой своих сотрудников удостоен Ленинской премии за эксперименты по столкновению электронов и позитронов на установке ВЭПП-2 (встречные электрон-позитронные пучки). В 1968-м в Новосибирске под руководством Будкера проходит конференция Международного агентства по атомной энергии, посвященная проблемам «термояда».
Ракурс третий. С коллективом…
Когда в Институте атомной энергии решили открыть новую лабораторию для создания установок со стабилизированным пучком, остро встал вопрос о ее руководителе.
Как случилось, что Будкер — «чистый» теоретик — решился возглавить группу экспериментаторов и инженеров? Понимал ли он сам, что делает главный шаг в своей жизни? Почти всем, в том числе и близким друзьям, это казалось очередным будкеровским сумасбродством.
— Многие не понимали Курчатова, — вспоминает И. Н. Головин, — поставить во главе коллектива человека с нулевым организационным опытом, да еще такого странного? Этот чудак бродил по коридорам института и донимал всех разговорами то о «карманном» ускорителе, который непременно должен уместиться на столе, то об особенностях архитектуры современных «храмов науки», то о том, что в слаженной волейбольной команде играть надо на гасящего (он был капитаном институтской сборной), то он вдруг увлекся легендарными рыцарями короля Артура и их круглым столом…
В подтверждение того, что Будкера никак нельзя назначить руководителем, приводили разные аргументы, даже курьезные. Один очень уважаемый ученый сообщил: он просил Будкера помочь ему снять дачу, но толку от того не было никакого… И вообще может ли стать во главе экспериментаторов человек, не умеющий забить молотком гвоздь?!
Но Курчатов был дальновидней…
«Стремительное появление Будкера поляризовало общественное мнение физиков, — вспоминает академик Я. Б. Зельдович. — Одни говорили о ярком и талантливом человеке, другие его же называли прожектером и чуть ли не местечковым нахалом — „легко писать формулы, а вот ты попробуй сделать то же“.
Яркое воспоминание: говорим о Будкере с двумя весьма почтенными академиками из ЛИПАНа („Лаборатория измерительных приборов“ — так назывался тогда Институт атомной энергии). Академики придерживаются противоположных точек зрения. И в течение десяти минут мне приходится (буквально) держать одного из них, более физически слабого, за руки, чтобы спор не перешел в вульгарную драку. Решающими были не словесные аргументы. Решающим оказалось создание Института ядерной физики в Новосибирске».
— Я сразу согласился на предложение Игоря Васильевича работать в Сибири, — рассказывал Будкер, — хотя он и посоветовал мне подумать до утра. Мне достаточно было и пяти минут. Я давно хотел уехать из столицы, начать большое дело без оков научных традиций и предрассудков. Это так важно и так трудно — освободить свою психику от этого груза. В детстве меня бабушка заставляла выучить Ветхий завет. Мне запало в память: Моисей водил свой народ по Синайской пустыне сорок лет. Когда я вырос и посмотрел на карту, то увидел, что пустыня эта — крохотный пятачок, там негде да и незачем ходить сорок лет. Эти годы понадобились пророку, чтобы вытравить из людей дух рабства, чтобы вымерло поколение рабов…
* * *
«Акт творения» института ядерной физики начался с провозглашения культа научного работника. Это главная фигура, — считал Будкер, — центр мироздания. Все службы, весь административный аппарат, включая самого директора, должны быть обращены лицом к научному сотруднику. Первая опора института — наука. Вторая — мобильное производство, способное быстро воплотить любую, самую дерзкую техническую идею.
Многие недоумевали: к чему это в академическом институте?
— Нам часто говорят, что мы работаем по-новому, — отвечал им на это Будкер. — На самом деле мы вернулись к добрым старым временам, когда физики делали свое оборудование сами.
Он объяснял: «Наш принцип — не повторять работы других. Мы отвергаем гонку за лидером. Единственный способ конкуренции — соперничество свежих идей».
Друзья смеялись: изобретательность Будкера не знает пределов — на висках седина, а бороду после инфаркта сумел отрастить рыжую. Но если говорить серьезно, возможно, наиболее эффективное изобретение Будкера — его «Круглый стол». Инструмент, с помощью которого удалось из обыкновенных людей создать один из самых необыкновенных творческих коллективов.
Когда Андрей Михайлович предложил ученому совету собираться каждый день и сообща решать все проблемы института, у большинства его сотрудников это не вызвало энтузиазма. Отрывать время от работы для ежедневных разговоров и обсуждений казалось расточительством. Будкер не настаивал и не давил. Сказал: пусть приходит, кто хочет. Попробуем. Не понравится — отменим. Но он знал точно — понравится!
Будкер думал вслух. Он любил и умел это делать. Собеседники вдохновляли его на блестящие импровизации. Ученики, постоянно подтрунивавшие над ним, назовут этот способ работы «беседы Сократа». Самые интересные свои идеи он приносил на «Круглый стол». Мысль каталась по его черной зеркальной поверхности, словно шар — ее можно было рассмотреть со всех сторон. Здесь она оттачивалась и шлифовалась, приобретая завершенную форму. И сегодня сотрудникам института кажется, что большой круглый стол, покрытый черным пластиком, в зале ученого совета стоял всегда. Без него им невозможно представить свою жизнь.
«Науку делают специалисты, и они лучше знают, как ее делать и как ее организовать, — утверждал Будкер. — Из опыта моего учителя Игоря Васильевича Курчатова я извлек важнейший урок — в успехе атомной проблемы в нашей стране решающую роль сыграло то, что среди организаторов этого огромного дела оказался выдающийся физик-ядерщик и что среди физиков-ядерщиков оказался блестящий организатор…»
Курчатов требовал, чтобы на научные совещания приглашали и административных работников, людей, казалось бы, далеких от научной задачи. Поначалу это многим казалось излишним, тратой времени. А потом стало ясно: Курчатов обучал людей быстро понимать друг друга. Когда есть общий язык — дело движется неизмеримо быстрее, без лишнего шума, как по рельсам без стыков.
За круглым столом обсуждаются проекты новых установок и эксперименты на них, размещение заказов в производственных мастерских и распределение жилья, политические новости и театральные премьеры. Все, чем живет институт и его люди. Неважных дел нет.
Иногда обсуждения проходят долго, мучительно. Но если решение принято, то принято оно единогласно. И выполняет его каждый. За «Круглым столом» вырабатывается общая точка зрения.
Факт существования в институте такого неформального органа, где можно решить все, — и есть главный импульс для создания настоящего научного коллектива. Это школа товарищества. Здесь рождалось братство…
* * *
— Средний уровень в науке неустойчив, — рассуждал Андрей Михайлович. — Если мы не пойдем на пределе возможностей, — мы отстанем, скатимся вниз. Если мы не сделаем все, чтобы быть первыми, мы станем плохим институтом. Сейчас встречные пучки — достижение, а что будет завтра? Надо уже сегодня искать ускоритель, который будут строить те, кто только начинает свой путь в науке.
* * *
— Будкер — как истинный теоретик, — вспоминал профессор Я. А. Смородинский, — придумал модель — идеальный образ института. И как истинный экспериментатор реализовал ее. Я думаю, что это одна из четырех эффективных моделей творческого научного коллектива. Три другие принадлежат Н. Бору, П. Капице, И. Курчатову.
* * *
К урокам Курчатова Будкер возвращался часто. Он писал: «По моему глубокому убеждению, учиться нравственности и морали в науке, как и в любви, надо не по своду правил и заповедей — „не убий“ (талант), „чти отца (учителя) своего“, „не пожелай жены (идеи) друга своего“… Никому и в голову не приходит оспаривать эти заповеди. Но учиться лучше всего лишь на реальных жизненных примерах. Как по самоучителю нельзя освоить виртуозную игру на скрипке, так невозможно по книгам научиться искусству руководителя. Оно передается от учителя к ученику вместе со сложным комплексом моральных принципов и душевных качеств».
Он постоянно повторял, что творческим научным коллективом должны руководить ученые. Их мнение — решающее. Важно, чтобы и директор, и остальные подразделения института узнавали это мнение не из отчетов бумаг, резолюций и выступлений с трибуны, а в прямом неформальном общении. Наука и бюрократизм несовместимы!
— Если аппарат обращен лицом к директору, нетрудно догадаться, что ко всем остальным он повернут спиной, — шутливо объяснял Будкер. — А кто же эти остальные? Ученые, исследователи — главные люди в научном обществе!
Поэтому между собой и аппаратом он поставил верховную власть в институте — совет ведущих научных сотрудников. Аппарат оказался в позиции — лицом к совету!
* * *
Кто хоть раз побывал за «Круглым столом», вряд ли сможет смириться с бюрократизмом в науке. Бывало, Будкер, схватывавший все с полуслова, прерывал говорящего. Тот решительно возражал: я вас слушал — не перебивал, и вы меня не перебивайте!
Однажды решали вопрос о приеме на работу конструктора из другого института. Многие были против, а Будкер упорно отстаивал кандидатуру. Уставшие после длительных обсуждений, так и не договорившись, сотрудники предложили: пусть директор решает — в конце концов, это его компетенция… Но Будкер не принял на работу конструктора, против которого выступил совет.
* * *
Итак, институт в Новосибирске жил, действовал. Получил мировую известность. Но… из песни слова не выкинешь.
Недавно академик Я. Б. Зельдович[11] прислал мне свои воспоминания об Андрее Михайловиче. Они заканчиваются такими словами: «Не могу передать свое возмущение тем, что на общем собрании Академии наук СССР в Москве было высказано предложение не утверждать Андрея Михайловича директором созданного им Института ядерной физики! Я узнал, что этому предшествовал вызов в Новосибирск академической комиссии для обследования Института ядерной физики. К чести комиссии, которую возглавлял академик Бруно Максимович Понтекорво, она поддержала Будкера! Немедленно и комиссия подверглась нападкам и обвинениям в беспринципности и кумовстве, и это несмотря на то, что трудно себе представить, как итальянец Понтекорво мог быть кумом никогда не покидавшему Советский Союз уроженцу украинского села Андрею Михайловичу Будкеру.
Я далек от мысли сводить с кем-то счеты. Просто хочется осмыслить, почему здоровяк Будкер получает свой первый инфаркт 50 лет от роду и умирает в расцвете таланта и душевных сил в 58 лет. Нет сомнения, что треволнения, описанные выше, укоротили жизнь Андрея Михайловича. Грош цена нашим воспоминаниям, если мы будем писать их неискренне, с оглядкой на „внутреннего редактора“, обходя острые углы и неприятные эпизоды. Не тому нас учил яркий, прямой и откровенный Андрей Михайлович».
* * *
Будкер говорил: «Успех соседа — это твой успех. Он помогает всему сообществу двигаться вперед быстрее. Неудача соседа — тормоз для развития в целом, и твоего лично — тоже».
* * *
Одно из первых моих сибирских впечатлений.
Однажды в выходной день раздался звонок по телефону.
— Милок, мне бы Будкера надо, — прозвучал в трубке старушечий голос.
— Нет его сейчас, что-нибудь передать?
— Нужен он мне, милок, — продолжала старушка, — приехала я из деревни, ищу (она назвала имя и фамилию), он сторожем работал в институте. Я пришла сюда. Говорят, уволился и уехал. Тот, кто дежурит, спасибо ему, надоумил: позвони, говорит, Будкеру, и телефон дал. Он должон сказать, куда твой подался. Он каждого в институте знает…
Академгородок летом выглядит по-курортному: и палящее солнце, и толпы спешащих на пляж людей — босых, с ластами, масками, надувными лодками, волейбольными мячами…
В один из таких дней в директорском кабинете раздался звонок: «Шеф, мы внизу, к разговору готовы, но пройти к вам не можем: в шортах не пускают…»
Через пять минут сотрудники с удивлением заметили, что директор — во внеурочное время, в самый разгар рабочего дня — торопливо сбегает по ступенькам вниз и садится за руль машины. В те времена у порога института поджидал Будкера старомодный черный автомобиль, неуклюжий и громоздкий, — подарок вдовы И. В. Курчатова. Водить машину Андрей Михайлович научился очень поздно, в этом занятии не преуспел, хотя лихо, по-шоферски произносил всякие словечки, в том числе хвастался, что ездит «на курчатовском ЗИСу». Теперь этот ЗИС уже не увидишь: какие-то умники распорядились разрезать автогеном и сдать как металлолом.
Итак, через минуту он уже мчался по направлению к дому. А еще через пятнадцать минут предстал перед изумленным дежурным уже не в брюках, как утром, а в шортах. И, не произнеся ни слова, проследовал наверх, в свой кабинет.
Известный физик доктор Карл Штраух из Гарвардского университета (США) вспоминает свой первый приезд в Новосибирск в конце 60-х годов: «В гостиницу заехал молодой человек, и мы отправились в институт. На третьем этаже за большим круглым столом меня ждал Будкер. После официальных представлений он сказал, что хотел бы начать со своего личного взгляда на роль встречных пучков в слабых, электромагнитных и сильных взаимодействиях.
При этих словах молодой человек обратился к Будкеру: „Поскольку я все это уже слышал много раз, уйду и вернусь через час“. Встал и вышел — при полном молчаливом согласии директора. Много ли найдется лабораторий в США, где могла бы произойти подобная сцена? А в Советском Союзе?
Это было блестящее проявление того фантастического духа, который создал Будкер в своем институте…»
* * *
Академик Р. З. Сагдеев, директор Института космических исследований АН СССР, говорит:
— Чем больше мне приходится общаться с людьми как руководителю, тем чаще я обращаюсь даже не к научным дискуссиям с Андреем Михайловичем (это отдельный разговор), а к его размышлениям вслух о жизни. Я часто цитирую его. Наверно, это невольно делают все, кому посчастливилось с ним работать.
Однажды меня попросили открыть конференцию молодых ученых (к ним относят исследователей в возрасте до 33 лет) и сказать им напутственное слово. Я сразу вспомнил отношение Будкера к этому понятию — «молодой ученый»: «Меня можно обвинить в чем угодно, только не в том, что я притесняю молодежь», — шутил Андрей Михайлович. В созданном им институте работали самые молодые академики, средний возраст членов ученого совета равнялся 30 годам. Двадцатипяти-тридцатилетние исследователи защищали докторские диссертации…
Открывая конференцию, я рассказал нашей молодежи, как более двадцати лет назад, примерно в их возрасте, я, переполненный энтузиазмом, пришел к Андрею Михайловичу — как представитель только что созданного Совета молодых ученых Сибирского отделения академии. Будкер внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ученые делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков!»
Будкер недоумевал: «Откуда взялось понятие „молодой ученый“? И почему определили ему возраст Иисуса Христа? Разве уместно, например, о Роальде Сагдееве, ставшем ведущим теоретиком института не достигнув тридцати, сказать — молодой ученый?! Или назвать так Александра Скринского, которого в 34 года избрали академиком? А Дмитрий Рютов? В 30 он возглавлял целое термоядерное подразделение нашего института, через несколько лет стал членом-корреспондентом Академии наук…
Понятие „молодой ученый“ пригодно с точки зрения морали: опыт старших надо уважать безусловно! Но если в научной среде возникает конфликт поколений, ищи причины более глубокие, чем возрастные различия!»
* * *
— Мы часто вспоминаем «проповеди» Будкера за «Круглым столом»: это была школа мудрости, терпимости, взаимопонимания и дружелюбия, — рассказывает академик Л. М. Барков. — Он учил нас, что институт — большая семья, где нет друг от друга тайн и все вопросы решаются честно и открыто. И призывал искоренять любой ненаучный конфликт. «Нельзя создать творческую атмосферу в институте, не утвердив духа доброжелательности, — повторял Будкер. — „Круглый стол“ — не ристалище. Здесь каждый должен сказать ровно столько, чтобы его поняли, и не более».
* * *
Будкер твердил: «Смертельно опасна для науки система мелочного конкретного руководства исполнителем — это все равно что, пригласив художника рисовать свой портрет, взять его руку и фактически своей рукой водить его кистью по холсту».
* * *
«Уважайте труд директора» — было написано на двери будкеровского кабинета.
Окна в ИЯФе светились ночи напролет.
Когда жены сотрудников жаловались на катастрофическую занятость своих мужей, Будкер их утешал: «Помните: вы жены моряков. И радуйтесь, что институт — единственный порт, в который они заходят…»
Свои представления о принципах руководства коллективом ученых и деятельности руководителя Будкер так обрисовал в интервью корреспонденту «Литературной газеты»:
«Когда-то я думал, что хороший руководитель, как и хороший шахматист, продумывает очень большое количество ходов вперед, и в этом их сила. Однако и в шахматах, и в науке главным оказывается создание выигрышных позиций. Это позиции кадровые, нравственные, материального обеспечения исследований. Если вы правильно подберете и расставите людей, при этом они будут стремиться к взаимному сотрудничеству в интересах дела и даже в каком-то смысле к любви — этой великой силе, преобразующей мир не только в обычных человеческих отношениях, но и в отношениях научных, если вы уберете все, что мешает нормальным отношениям, укрепите коллектив материально и правильно определите тематику, результаты будут получаться сами собой.
Разумеется, когда подходит конечный момент реализации этих выигрышных позиций, как и в шахматах, нужно продумать какие-то умные комбинации и рассчитать на несколько ходов вперед, но это, как говорится, может сделать даже вычислительная машина.
Жизнь — не шахматы, позиции в ней много сложнее. В шахматах требуется только разум, в жизни — еще многое другое: добрая воля, обаяние руководителя, его личное влияние.
Когда смотришь со стороны на деятельность какого-то научного коллектива, видишь лишь эти последние комбинации, заключительные ходы, а все остальное — то есть главное: процесс создания позиций — не видно. Я наблюдал не раз: приходит новый руководитель на хорошее дело, но это человек, способный лишь формально-логически осмыслить последние результативные ходы. Он и начинает с результатов, а не с укрепления и расширения основных позиций. И коллектив неизбежно становится менее результативным.
Поэтому в каждый данный момент надо следить за тем, чтобы выигрышные позиции восстанавливались и расширялись — в этом мудрость руководителя и сила коллектива.
Конечно, в создании позиций ведущую роль играет талант отдельных ученых. В конечном счете наука как футбол: играют все, а гол забивает один. В науке голы забивают одиночки. Но если не будет основной слаженной команды, этим одиночкам не придется забивать свои голы. Все важно — и материальное обеспечение, и структура коллектива, но главное — то, что объединяет коллектив в единое целое».
— В настоящем научном коллективе, — говорит академик А. Н. Скринский, преемник Будкера, — формируется и отчетливо выделяется индивидуальность каждого исследователя. Для Андрея Михайловича не было толпы. Он видел и понимал каждого в отдельности. И в каждом умел разглядеть и пробудить лучшее.
Там, где в основу жизни коллектива положены моральные принципы, как правило, возникает научная школа. Успех новосибирской школы физиков во многом обязан нравственному климату.
* * *
Из беседы академика А. М. Будкера с молодыми физиками:
«Всем, кто отправляется в дальний путь, обычно желают попутного ветра. Но если у судна крепкий руль и опытный рулевой, то оно может плыть, и не только по ветру, но и поперек ветра и даже против ветра. Более того, если тебе ветер все время дует в спину, то остановись и подумай: туда ли ты плывешь, не плывешь ли ты по воле ветра? В науке очень опасно плыть по воле ветра: постоянно создается иллюзия, что ты движешься, а на самом деле тебя несет…
Наиболее опасен для судна штиль. В этом случае можно двигаться только на буксире. Поэтому бояться следует только штиля. А бояться бокового и встречного ветра не нужно: при них всегда можно двигаться вперед, к цели. Бойтесь штиля!»
Из биографии:
В 1968 году он отметил свое пятидесятилетие, совпавшее с десятилетием института.
В 1969 году заболел (инфаркт миокарда). В институте — наряду с фундаментальными исследованиями все большее развитие получают работы по применению ускорителей в народном хозяйстве.
В 1972–1974 годах успешно проведены эксперименты, подтверждающие его идею «электронного охлаждения», что открывало новые перспективы в физике высоких энергий. 4 июля 1977 года Андрей Михайлович Будкер скончался в результате внезапной остановки сердца. Через год было отпраздновано двадцатилетие созданного им института.
Ракурс четвертый. С будущим…
Мысль, к которой он не раз возвращался: «По своему соответствию духу времени все великие открытия и достижения бывают своевременные, запоздалые и преждевременные.»
Сопоставив момент появления открытия с возможностями времени, можно установить, соответствует ли оно уровню науки и техники или нет.
Пример своевременного свершения — освоение космоса.
Психологически человечество было подготовлено к нему давно. Этому способствовали фантастические романы — в них уже в прошлом веке подробно описывали космические полеты. Мнения фантастов подтверждались и серьезными научными прогнозами. Истоки ракетной техники, как известно, уходят в глубокую древность. Пороховые ракеты для фейерверков изготовлялись в Китае еще в X веке, позже ракеты появились в Европе и в России. Вначале сигнальные и артиллерийские ракеты, потом управляемые снаряды и реактивная авиация и, наконец, современные баллистические и сверхмощные космические ракеты и, наконец, спутники — таков путь развития. Подготовленное технологически и психологически, человечество шаг за шагом продвигалось в космос. Вот пример великого своевременного свершения.
* * *
Пример запоздалого открытия — лазеры.
Психологическая и практическая потребность в создании лазера назрела давно. Вспомним гиперболоид инженера Гарина и узкие лучи смерти в руках уэллсовских пришельцев из «Борьбы миров»… Теория лазеров, то есть теория индуцированного излучения, была разработана еще в начале века. Уже к 30-м годам оптика была развита практически до современного уровня. Ею тогда занимались лучшие физики мира, а теория индуцированного излучения после известной работы Эйнштейна вошла в учебники. Я еще в 1941 году сдавал ее на государственных экзаменах в Московском университете.
Достаточным для практического создания лазера был и уровень развития экспериментальной техники. Короче, все было готово, чтобы лазеры появились на свет накануне второй мировой войны. Однако этого не произошло… Война, а затем работы по атомной энергии отвлекли внимание наиболее сильных ученых и наиболее сильных людей в промышленности, — проблеме явно не повезло!..
Пример преждевременного открытия — атомная энергия.
Незадолго до открытия процесса деления ядер урана, то есть до открытия возможности использования атомной энергии, академик Абрам Федорович Иоффе, ученый необыкновенно прогрессивный, скорее мечтатель, нежели скептик, утверждал, что о практическом использовании атомной энергии речь может идти только через сто лет.
Общество было совершенно не подготовлено психологически к освоению возможностей атомной энергии. Даже в фантастических романах доатомной эры вы почти не найдете и намека на идею использования ядерной энергии, да и вообще внутренней энергии вещества. Наука была тоже не готова: не было теории атомного ядра, а теории ядерных сил, кстати, нет и поныне. Но атомная энергия все-таки родилась. Эти преждевременные роды вызвала вторая мировая война. О том, что процесс этот был, в сущности, неестественный, говорят и расходы, связанные с решением научных проблем получения атомной энергии: впервые в истории науки они стали сопоставимы с национальным доходом самых развитых стран мира! Да ведь и потребности в атомной энергии общество в то время по-настоящему не испытывало. Лишь сейчас наступила пора определенной зрелости, только теперь человечеству стало по силам заниматься этой проблемой. Атомная энергия появилась на свет на несколько десятилетий раньше, чем ей полагалось, но дитя родилось, выжило и начало расти не по дням, а по часам.
Атомные исследования давно уже окупили себя и в научном, и в чисто экономическом плане. Более того, это открытие резко ускорило темпы развития науки, революционизировало все другие области знаний. Значительных успехов достигла благодаря этому и техника.
Никогда раньше человечество не сталкивалось с задачами, сравнимыми по грандиозности с атомом. А если и сталкивалось, то отступало перед сложностью целого комплекса проблем, когда не ясно, какова их очередность и иерархия, на что в первую очередь нацеливать умы и на что давать деньги, как сводить воедино результаты и за кем должно быть последнее слово в проектах, стоящих миллиарды.
Но именно благодаря опыту, накопленному при решении атомной проблемы и ее революционизирующему воздействию на все направления науки — организационному, психологическому, технологическому — оказалось сравнительно легко в дальнейшем добиться успехов и в освоении космоса и в лазерной технике и во многом другом…
«Опыт истории показывает, — говорил Будкер в интервью „Неделе“, — что развитие науки состоит в том, что она снимает запреты. Был запрет на саму мысль о делимости атомов. Оказалось, они делимы. Считалось, что человек не может оторваться от Земли. Он оторвался. Был такой закон: масса продуктов до реакции равна массе продуктов после нее. Оказывается, ничего подобного. Если же наука не может снять запрета, она показывает путь в обход. Поэтому можно ожидать, что невозможное окажется возможным».
* * *
В публичной лекции в Политехническом музее Будкер рассказал о гипотезе академика Б. П. Константинова:
«Если половина мира состоит из „антивещества“, если это так, то почему бы какому-нибудь куску его не залететь к нам? Окажись, например, проходящая близко комета из антивещества, — мы заживем в другом темпе. Вся деятельность человечества сосредоточится на том, чтобы поймать ее за хвост. Современный уровень ракетной техники позволяет это сделать. И это было бы экономически целесообразно — получить неисчерпаемый источник самой удобной, самой дешевой, самой концентрированной энергии!..»
Будкер собирался написать научно-фантастический рассказ, придумал название — «У звезд взаймы». Из антигалактики буксируют в нашу вселенную островок антивещества. Фантазировал, как это можно сделать. Таким образом, энергетические проблемы землян были бы решены навсегда!
Мысль его работала на границе мечты и фантастики, и она обладала замечательной взлетной силой. Легко покидая пределы Земли, она тем не менее всегда стартовала с нашей планеты и неизменно на нее возвращалась. Он грезил космосом, уговаривал Сергея Павловича Королева включить его в состав экспедиции на Луну.
Когда он заболел, то стал все чаще в мечтах улетать с Земли. Грустно и с надеждой спрашивал: что там, в медицине, скоро ли будут лечить сердца невесомостью? Хотел предложить себя в качестве подопытного объекта врачам.
«Для полетов к далеким звездам вне Солнечной системы, — считал Будкер, — атомное топливо не годится. Антивещество, — единственный из известных сегодня источников энергии, дает возможность развить скорость, близкую к скорости света. И тогда человечество сможет расселиться на расстояния столь большие, что даже сигналы, идущие со скоростью света, будут приходить только через поколения. Страшно даже подумать о такой разобщенности, особенно людям нашего времени, меж которыми практически нет расстояний! Наука утверждает: нельзя двигаться быстрее света. А физики будущего, быть может, научат людей перемещаться из точки в точку за время меньшее, чем это нужно свету. Тогда перед человечеством откроется вся Вселенная. Однако это уже не прогноз, опирающийся на современную науку, а мечта: фантастика, волшебные сказки нашего времени…»
* * *
Письмо Васе Корягину, победителю конкурса фантастических проектов Всесибирской олимпиады школьников:
«Дорогой коллега!
Как известно, физики — самые тонкие лирики-мечтатели. Научная фантастика — это сказки современности. А сказочники — добрые и мудрые люди. В их сказках — мечта человечества. В делах людей — ее осуществление. Мечтайте и помните — вас ждут дела!
Академик А. Будкер».Осень. Воскресный день. Часами шагает он взад и вперед по тропинке в лесу. Вдыхает запахи остывающей земли. Сегодня выходной. Но он работает — пусть не в институте, а здесь, в лесу, на воздухе, в движении. Собеседники меняются каждые два-три часа, больше не выдерживают. Обсуждаются то проблемы «термояда», то электронное охлаждение, то промышленные ускорители, то физика высоких энергий. Собеседники меняются.
Будкер — один на всех.
Перед домом растет кедр, посаженный им в год переезда в Сибирь. Андрей Михайлович непременно подводит к кедру очередного собеседника, заставляет потрогать длинные зеленые иголки. Радуется и гордится: кедру еще жить и жить.
А следующей осени он уже не увидит…
Г. Федоров Возвращенное имя
Поезд — несколько маленьких синих вагончиков и допотопный паровоз с расширяющейся кверху, как воронка, трубой — медленно, но неуклонно поднимался в горы, проходя сквозь туннели, огибая лесистые склоны, гремя по железным мостам, переброшенным через пропасти. Паровозик пыхтел от натуги, выпускал клубы черного ядовитого дыма, но упорно лез все выше и выше, и вот уже стали видны сверкающие на солнце вершины и скалистые пики. В вагоне первого класса, кроме меня, не было ни одного пассажира. Это и понятно — разницы между первым и вторым классом, собственно, не было. Только спинки и изголовья кресел в первом классе были обиты бархатом, а во втором — кожей. А вот стоимость билета — вдвое дороже. Меня-то это не затрагивало. Я считался гостем президента Академии наук этой страны и, пользуясь государственными ресторанами, гостиницами, всеми видами транспорта, денег не платил, а только подписывал корешки квитанций.
Я хотел было лететь в тот город, расположенный на высоком горном плато, но друзья отсоветовали. По их словам, на этой трассе небольшие самолетики нередко затягивали мощные воздушные течения между горами и приходилось неизвестно где совершать вынужденные посадки. Впрочем, я не жалел о потерянном времени. Медленно разворачивалась передо мной со всех сторон величественная панорама Западных гор. Подножия их то подступали к самому полотну дороги, то отходили вдаль, и тогда на луговинах видны были разномастные отары овец и маленькие ослики с разноцветными лентами, вплетенными в гривы, и звонкими бубенчиками на нагрудных ремнях. Но вот наконец наш паровозик, выпустив последний клуб черного дыма и издав неожиданно мощный, как львиный рык, гудок, остановился у дебаркадера маленького, словно от игрушечной железной дороги, вокзальчика. Сейчас-то у меня в городе полно друзей, но тогда своих коллег я знал только по их работам, а с другими горожанами и вовсе не был знаком. Однако вызвавший меня сюда Помонис все мне очень хорошо объяснил еще у себя в музее, и я, забравшись на сиденье извозчичьего экипажа, сказал кучеру, что мне нужно в отель. Извозчик — здоровенный детина в расшитой гарусом жилетке и желтой рубахе, а также его мохноногая лошаденка согласно кивнули головами, мы тронулись и буквально через пять минут оказались у подъезда небольшого двухэтажного и очень уютного на вид отеля с грозным названием «Партизан». Портье, видимо уже предупрежденный Помонисом по телефону, встретил меня очень приветливо и протянул вместе с ключом от номера, к которому была привешена покрытая затейливой резьбой деревянная груша, телеграмму. Недоумевая, я распечатал ее. Телеграмма оказалась от Помониса. Он сообщал, что в связи с неожиданными открытиями на раскопках он задержится на три-четыре дня, просил извинить его и надеялся, что я смогу провести хорошо это время. Я порадовался открытию, немного огорчился из-за задержки Помониса, которого очень любил и дорожил общением с ним, принял душ и перекусил в маленьком ресторанчике. В нем на каждом столике в старинных узких и высоких вазах желто-синего стекла стояли горные фиалки. Потом я вышел на улицу, намереваясь как следует осмотреть город, в который меня закинули судьба и мой неугомонный друг. Его коллега и приятель археолог Фаркаш раскопал высоко в горах какой-то средневековый могильник, возможно славянский, и, зная о нашей дружбе с Помонисом, пригласил нас обоих приехать на место раскопок, чтобы помочь разобраться что к чему. Я, конечно, очень заинтересовался, ну да что же делать. Придется повременить три-четыре дня. Ладно, используем это время для осмотра города. В центре его возвышался костел из темного кирпича с прекрасными цветными витражами в свинцовых переплетах. Костел был небольшой, но из-за стройности башни и ажурной каменной резьбы на фронтоне казался очень высоким. Перед ним в сквере тяжело сидел на бронзовом коне бронзовый же знаменитый король, во владения которого во времена оны входил и этот город. Небольшие старинные здания университета, театра и моего отеля выходили на эту же мощенную брусчаткой площадь — по ней, цокая подковами, изредка проезжали извозчики и еще реже какие-то допотопные автомобили с открытыми кузовами, выкрашенными в немыслимо яркие разнообразные цвета и с большим количеством хромированных и никелированных деталей. Это и был исторический и геометрический центр города. Все остальное — окраины. Улочки, почти все прямые, радиально расходились от центра к подножью гор. Улицы, на которых находилось какое-либо городское учреждение, по нему и именовались. Так, улица, состоящая сплошь из магазинов, магазинчиков и ларьков, называлась «Торговая», та, на которой расположен музей — огромное, многочленное — казалось, перенесенное из другого города — здание, звалась «Музейная», и т. д. Дома были разнообразной, подчас причудливой архитектуры: то аккуратные, беленые, с черными замысловатыми, из полированного дерева переплетами на фасаде двухэтажные особнячки, то избы с крутыми, покрытыми дранкой крышами, стенами из толстых бревен и маленькими оконцами, словно спустившиеся сюда с горных склонов. Почти перед каждым фасадом были разбиты сады или цветники, сами вереницы домов часто прерывались скверами и бульварчиками, синели видневшиеся в конце многих улиц уходящие ввысь ели. Низвергаясь с крутого склона, через весь город протекала неширокая, но быстрая река с удивительно прозрачной и чистой водой. В глубине ее отчетливо виднелось каменистое дно и веретенообразные рыбки, играющие среди колышущихся водорослей. Через реку в нескольких местах были переброшены дугообразные мостики с чугунными узорными литыми перилами.
Горожане были одеты примерно одинаково, на этакий среднеевропейский манер, но слышалась речь на самых разных языках: гортанная с множеством шипящих — венгерская; певучая, мелодичная — румынская; медленная, раскатистая — немецкая; мягкая, быстрая — болгарская и еще какие-то незнакомые мне наречия. Люди были неторопливы и приветливы. В самом конце одной из улочек находилось непонятное мне пока заведение с зазывным названием «Сладкая жизнь», в конце другой, называвшейся «Нескучайная», — небольшой кинотеатр «Колизей» с афишкой, извещавшей, что в нем идет фильм «Парад Чарли». Исходив в течение полутора-двух часов весь город, я зашел из любопытства в «Сладкую жизнь». Заведение оказалось кондитерским магазином и кафе с несколькими деревянными столиками. Столики и высокие спинки стоявших возле них стульев были покрыты нарядной резьбой. Магазин-кафе был совершенно пуст. Я не особенный любитель сладкого и хотел было уже уйти, когда выкатившийся из-за стойки толстый и добродушный хозяин, сверкая совершенно лысой головой, осыпал меня градом приветствий на всех мыслимых языках мира, видимо не сумев даже своим наметанным глазом определить мою национальность. Тут я вспомнил детство, кафе в Столешниковом переулке, непередаваемо вкусные шоколадные сбитые сливки и, ответив на приветствия хозяина, стал, как мог, объяснять ему, что хотел бы отведать именно их. Хозяин морщил огромный лоб, закрывал серые, слегка навыкате глаза, даже вспотел от напряжения, но в конце концов понял. Он просиял, закивал мне головой, закричал: «Момент!» — и, с невероятной для такого толстяка быстротой, исчез за дверью, находящейся за стойкой. Почти тут же он вновь появился, неся на подносе четыре бокала с шоколадными сбитыми сливками, которые ароматными воздушными шапками возвышались над ними.
Испросив разрешения, хозяин присел к моему столику и с явным удовольствием смотрел, как я поглощаю сливки, один бокал за другим. Ответив на мое приглашение, он и сам съел серебряной ложечкой содержимое одного из бокалов.
Однако едва я раскрыл бумажник, чтобы расплатиться, как на лице хозяина появилось обиженное и даже сердитое выражение:
— Как можно, господин! — негодующе завопил он. — Сегодня вы мой гость. Я вас угощаю, и незачем вам оскорблять меня.
Видя, что споры бесполезны, я поблагодарил его и протянул руку. Пожатие его было неожиданно сильным для такого рыхлого человека. Он, слегка кивнув, представился:
— Иштван.
Пришлось и мне назвать свое имя.
— Заходи, заходи, Георг, — бормотал, провожая меня, хозяин, — для тебя «Сладкая жизнь» всегда открыта. Я ведь и живу здесь же в задних комнатах, а окна из них смотрят прямо на горы.
Выйдя из кафе с хорошим настроением от встречи с детством и от искренней приветливости хозяина, я отправился на Музейную улицу, по-прежнему с любопытством оглядываясь по сторонам. Как мог я знать, что все праздные наблюдения, которые я сделал во время прогулок по городу, вскоре мне очень пригодятся. Оказалось, что музей уже закрыт, но, когда я показал хранителю пышное удостоверение гостя президента, он гостеприимно распахнул передо мной двери.
На месте этого города когда-то была римская колония, вошедшая в период расцвета империи в одну из ее провинций. С тех пор город, за исключением краткого периода варварского разорения после эвакуации римлян, все время был городом, переходя от одного властителя к другому и даже попадая в пределы разных государств, каждое из которых оставляло на нем свой отпечаток в материальной и духовной культуре, в этническом составе, во многом другом. Неизменным оставалось лишь занятие окрестных жителей — овцеводство, собственно, единственно возможное основное занятие для этого климата, ландшафта и рельефа, и, соответственно, городские ремесла, его обслуживавшие.
Музей оказался богатейшим. Я бродил по его залам и в конце концов, уже, казалось, пресытившись удивительными яркими экспонатами разных эпох и культур, неожиданно попал в лапидарий: самое большое помещение музея — собственно, целую анфиладу зал, уставленную статуями, горельефами, гермами, бюстами, саркофагами, надгробными и памятными плитами, колоннами, фризами и другими архитектурными деталями самых различных стилей и эпох от античности до позднего средневековья. Даже переходы из одного зала в другой были обрамлены средневековыми каменными резными порталами. Это было настоящее пиршество, торжество мастерства и искусства обработки, одухотворения камня различных пород, цветов, времен, запечатлевшее чьи-то стремления, чьи-то жизни, каждая из которых была неповторимой, своеобразной, значительной, потому что иными жизни и не бывают.
Но вот внимание мое привлек мраморный саркофаг, даже здесь выделявшийся каким-то благородством и изяществом резьбы. На крышке его находилось рельефное в полный рост изображение молодой женщины, лежащей на спине в спокойной позе, с руками, сложенными на талии. На женщине была крестьянская одежда — длинная рубаха-платье, на груди, подоле, плечах и запястьях покрытая широкими поясами вышивки. Из-под расшитого же платка выбивалась прядь волос. Глаза женщины, сделанные из лазурита, смотрели вверх. На небольших полных губах застыла улыбка — печальная и зовущая. В ногах лежали рассыпанные цветы — розы и лилии. Стены саркофага были покрыты растительным орнаментом: какими-то высокими, словно колышущимися травами, может быть водорослями. Казалось, женщина плывет по реке на спине, плывет глядя в небо и молча и ласково зовет за собой неведомо куда. Никаких надписей я, к удивлению моему, не обнаружил. Это было необыкновенное и прекрасное произведение искусства, а может быть, и не только искусства?
Кто мог соорудить для простой крестьянки такой баснословно дорогой саркофаг из желтоватого мрамора? Какой художник сделал эту резьбу, в которой ясно чувствовались особое вдохновение и талант? Эти и многие другие вопросы возникли у меня, пока я тщательно осматривал весь саркофаг, а потом долго вглядывался в лицо молодой женщины. Ответов на мои вопросы не было. Даже датировать сколько-нибудь точно этот саркофаг я не смог. Тайна была и здесь. По стилю, в особенности растительного орнамента, саркофаг был средневековым. Однако лицо и руки молодой женщины были выполнены в поистине совершенной античной технике, если такая терминология была вообще применима к тому, что я видел перед собой.
Переполненный впечатлениями, я присел на обломок резной каменной колонны и довольно долго отдыхал, а потом побрел дальше, из зала в зал, поверхностным, почти невидящим взглядом окидывая экспонаты. И вдруг я невольно вскрикнул. В одном из залов стоял такой же саркофаг из желтоватого мрамора с растительным орнаментом на стенах. Только на крышке его находилась скульптура юноши. Он, лежа на боку, видимо, отдыхал, оперев голову на руку. Возле него лежал меч и какой-то странной, необычной формы кинжал. Юноша был в рыцарском снаряжении — в латах, но без шлема, с длинными вьющимися волосами. На крышке была и надпись. Надпись на латинском языке. Каждая буква отчетливо видна, и я без труда прочел: «Анно Домини 1401. Мария, любимая! Я выполнил свой долг любви и гнева, и я иду к тебе!» Угол крышки саркофага, где могло быть имя юноши, давно отбит. Когда первая оторопь прошла, я стал перебегать из одного зала в другой, от саркофага к саркофагу. Хотя в их отделке и были некоторые различия, но они скорее всего сотворены одним мастером — ведь даже глаза у юноши тоже были сделаны из лазурита, — и теперь я уже знал когда. Но количество вопросов только увеличилось.
…Не помню, как я добрался до номера в моем верном «Партизане» и повалился на кровать. На другой день, не забыв, однако, отдать дань шоколадным сбитым сливкам «Сладкой жизни» и одарив Иштвана бутылкой «Столичной», я снова пришел в музей. На этот раз, несмотря на раннее утро и субботу, все сотрудники были на местах. Оказалось, что некоторые из них читали мои работы, так что личное знакомство было легким и непринужденным. Директора музея — одного из крупнейших в Европе археологов — я знал и раньше, встречаясь с ним на разных конгрессах и конференциях. Однако как раз его-то на месте и не было — он находился в командировке в Мюнхене. После долгих взаимных расспросов и бесчисленных чашечек кофе, который варился тут же в одном из кабинетов или «бюро», как выражались мои новые знакомые, я наконец улучил момент и спросил, что известно моим коллегам о тех двух саркофагах и почему они находятся в разных залах. Увы, они почти ничего не знали. Саркофаг юноши находился здесь с незапамятных времен, задолго до создания лапидария, открытого совсем недавно. Саркофаг женщины обнаружили местные археологи случайно во дворе одного крестьянина из небольшой горной деревушки возле города и с великими трудами, дней 10 назад, привезли в музей.
— Сам громовержец, — сказал мне невысокий черноглазый крепыш лаборант Василе, — его еще не видел.
— Какой громовержец? — с недоумением спросил я.
Василе покраснел, а товарищи его прыснули. Оказалось, что «громовержец» — прозвище директора музея и второй саркофаг, до его приезда, поместили в зал новых, еще не классифицированных поступлений.
Я был раздосадован, что, собственно, так ничего и не узнал о саркофагах. С удовольствием тут же в музее пообедал с моими новыми товарищами, обменялся с ними книгами и оттисками статей и не заметил, как кончился рабочий день. Распрощавшись, я вместе с Василе вышел на улицу и ахнул. Куда девалось безликое среднеевропейское облачение жителей города? То есть такие попадались, но их было совсем мало. Город заполнили молодые рослые загорелые парни в белоснежных в обтяжку домотканых брюках, в расшитых рубахах и надетых поверх кожаных жилетах, в фетровых шляпах с небольшими перышками за лентой или в бараньих шапках самой разнообразной формы: островерхих, приплюснутых «пирожках», папахах и т. п. Не менее колоритными были и их миловидные подружки, в длинных широких платьях, щедро расшитых у кого цветами, у кого растительными или геометрическими узорами. В длинные косы их были вплетены громадные, как пропеллеры, белые или розовые банты. Однако они не делали их похожими ни на бабочек, ни на стрекоз, ни даже на прекрасные ахмадулинские маленькие самолеты. Они были сами собой, «красивые во всем красивом» девушки, как и их кавалеры, невесть откуда взявшиеся.
Василе тут же объяснил мне, что это пастухи с окружающих гор спустились на плато в город, чтобы провести здесь субботний вечер и воскресенье, оставив отары под присмотром дежурных пастухов и верных сторожевых венгерских овчарок.
— Смотрите, — возбужденно сказал я, — вон у той девушки вышивка точно такая же, как на платье у молодой женщины, возлежащей на крышке саркофага!
— Да, да, — обрадовался Василе. — А ведь эта девушка немка. Немецкие села появились здесь еще в XI веке. Подумать только, какая стойкость традиций. Непостижимо.
— Да что там, — возразил я, — вот у нас на Руси некоторые сарматские узоры до сих пор сохраняются в русском народном орнаменте, например в вышивках полотенец. Уже две тысячи лет. Так что ничего непостижимого в этом нет. А вот то, что погребенная в саркофаге была скорее всего немкой — это уже ясно.
Обсуждая неожиданно возникшую догадку, мы не заметили, как оказались около «Колизея», и решили пойти в кино, билеты стоили поразительно дешево, но места не были нумерованы, пускать начали всего за несколько минут до начала сеанса, и поэтому в дверях образовалась изрядная давка. Кое-как протиснулись в небольшой зал и уселись, тут я узнал, что «Парад Чарли» — это пять немых фильмов Чаплина, снятых еще в 1915 году. Я их не видел и уже предвкушал удовольствие, когда прямо передо мной расположились парень в высоченной барашковой шапке и девушка с розовым пропеллером и двумя лентами, оказавшимися у меня на коленях. С трудом удержавшись от того, чтобы не подергать эти ленты, я проворчал:
— Ну вот, теперь из-за шапки и этого пропеллера ничего не увидишь.
Однако мои опасения оказались напрасными. Как только погас свет, сеанс еще не начался, а парень уже снял шапку, кофту, жилет, рубаху и, оставшись в одной майке, принялся с жаром целовать свою девушку, изрядно примяв ее пропеллер.
— Горец, — с улыбкой пояснил мне Василе. — Ему здесь душно. А с этим, — он указал на целующихся, — там в горах строго.
Когда фильм кончился и свет зажгли, парня и девушки давно и след простыл.
Василе проводил меня до «Партизана», где мы и распрощались.
Проснулся я на другой день от знакомого голоса, открыл глаза и увидел улыбающегося Помониса.
— Это ведь не наш князь, а ваш Владимир Мономах писал, — насмешливо бросил он мне. — «Пусть солнце не застанет вас в постели». Вставайте! Позавтракаем, и прямо в горы — на раскопки к Фаркашу.
— Подождите, неугомонный, — проговорил я, садясь, — сейчас я вам кое-что расскажу, и отъезд, может быть, придется отложить…
— Что?! — гаркнул Помонис и заметался в нетерпении по номеру, расшвыривая своими огромными ножищами в неизменных кожаных постолах стулья, тумбочки и другие мелкие предметы, попадавшиеся ему на пути.
Понимая, что теперь все равно быть мне без завтрака, я кое-как привел себя в порядок и стал рассказывать Помонису о том, что уже два дня не давало мне покоя. Рассказывая, я увидел, что Помонис в своей полной экспедиционной форме: за плечами рюкзак, на голове вязаная всесезонная шапочка с помпоном, в петлице потертого замшевого пиджака — неизменная гвоздика. Слева на груди и боку пиджак слегка топорщился. Я знал, что там, где шерифы и гангстеры обычно носят пистолеты, у Помониса в кожаном футляре подвешена кисть и складная, его собственной конструкции, лопатка.
Заметив все это, я приуныл — вряд ли мне удастся задержать его в городе. Но произошло чудо, нечто неожиданное, как, впрочем, и всегда в отношениях с Помонисом.
Я не успел кончить свой рассказ, как он прервал меня и заявил безапелляционно:
— В лапидарий! Ждите на улице, пока я дам телеграмму Фаркашу, что мы задерживаемся, — и швырнул на стол рюкзак. Я поневоле вздрогнул, так как знал, что в рюкзаке есть по меньшей мере два бьющихся предмета: бинокль и фотоаппарат. Выйдя, поеживаясь от свежего утреннего ветерка, я увидел перед подъездом «Партизана» старинную автокарету «скорой помощи» с большими красными крестами на боках. Никого, однако, туда не вносили и никто оттуда не выходил. Сидевший за рулем парень с огромной курчавой шевелюрой только дружелюбно мне улыбнулся.
— Интересно, за кем приехала эта «скорая помощь»? — спросил я Помониса.
— Как за кем? — возмутился он. — Конечно, за нами, — и потянул меня к машине.
— Подождите, — упирался я, — одному из нас действительно, видимо, нужна «скорая помощь», но вряд ли он об этом подозревает.
— Она нужна нам обоим, милосердные боги! — заревел Помонис. — Это машина доктора Фаркаша. Он же не только археолог, но и врач.
Когда мы уселись и шофер, повинуясь указанию Помониса, часто и без всякой надобности включая сирену, помчался к музею, я спросил:
— Кем же доктор Фаркаш был сначала?
— Сначала был врачом. Его несколько раз приглашали для антропологических экспертиз на раскопки, а потом некоторые обстоятельства сделали и его самого археологом.
— Догадываюсь, что это за некоторые обстоятельства, — проворчал я и уставился на Помониса, все еще немного сердясь за насилие, примененное им при посадке в машину. Он, однако, и ухом не повел.
В лапидарии Помонис, как и я недавно, заметался от одного саркофага к другому.
— Подобные я видел только в Альгамбре в соборе, когда был в Испании, — восклицал он отрывисто.
Однако вскоре он бросил это занятие и умчался куда-то на своей «скорой», пугавшей редких утренних прохожих завываниями сирены, но перед отъездом успел о чем-то перемолвиться с Василе. Лапидарий стали заполнять археологи из музея и какие-то молодые парни — студенты исторического факультета местного университета, как они мне объяснили. Вскоре вернулся и Помонис. По его команде ребята вкатили в зал несколько гладко отесанных бревнышек, и все мы стали освобождать проходы между залами, где находились саркофаги. Помонис распоряжался как у себя дома в приморском городе, где он сам был директором знаменитого музея, им же и построенного. Впрочем, он, по-моему, в любой точке земного шара чувствовал бы себя как дома. Все же я, улыбаясь, спросил вполголоса у Василе:
— Вы хорошо знаете профессора Помониса?
Василе ответил очень серьезно:
— Все археологи страны знают и уважают профессора Помониса. Кроме того, вы живете в отеле его имени.
— Да нет же, — ответил я, — я живу в отеле «Партизан».
— Это и есть отель его имени, — упрямо повторил Василе. — Во время войны он сражался против фашистов в партизанском отряде в наших горах.
Но вот проходы освобождены, саркофаг молодой женщины не без труда втащили на подставленные бревнышки и медленно подкатили к саркофагу юноши. Поставили рядом с ним. Помонис попросил всех, кроме меня, уйти, поблагодарив за помощь. Студенты и археологи с явной неохотой, но беспрекословно подчинились.
Оставшись вдвоем, мы некоторое время молча рассматривали саркофаги, после чего Помонис спросил меня:
— Ну, что вы можете о них сказать?
С некоторым недоумением я повторил то, что уже говорил ему в отеле: о единстве стиля, датировке и т. д.
Помонис негодующе фыркнул и проворчал:
— Вы разучились смотреть. То есть вы сделали несколько правильных наблюдений, но не довели их до точных выводов. Слушайте! — с некоторой театральной торжественностью сказал он. — Вы заметили, что в технике резьбы этих саркофагов есть много общего, но имеются и различия. Однако вы ошибочно посчитали, что оба саркофага делал один мастер. Их делали разные мастера, хотя и принадлежавшие к одной школе.
— Почему вы в этом уверены? — с вызовом спросил я.
— Да вглядитесь: на саркофаге юноши все детали, и фигуры, и обрамления выполнены очень тщательно, все проработано до мельчайших подробностей. У того, кто создавал этот саркофаг, был огромный опыт и много времени для работы. А вот саркофаг женщины сделан совсем по-другому. Виртуозно, вдохновенно, но без деталировки. Тщательно отработано только лицо и руки молодой женщины. Но, например, орнамент на стенках выполнен не то чтобы небрежно, но наспех. Вот — посмотрите — этот завиток не получился — откололся кусочек мрамора. Но художник не стал углублять изображение, чтобы исправить, он просто загладил это место. Да и все растения сделаны широкими полосами. Художник спешил, очень спешил. Стили обоих саркофагов похожи, но их делали разные мастера и в разных условиях, хотя принадлежали они к одной школе, творили в одно и то же время и были тесно связаны между собой, может быть — не только творчеством.
Ну а теперь посмотрите снова на саркофаг юноши. Вот вы сказали, что возле него рядом с мечом лежит кинжал и что этот кинжал какой-то необычной формы. А вы уверены в том, что это кинжал?
— Ну а что это по-вашему? — с недоумением спросил я.
— Это не кинжал, — медленно, уставившись на меня своими голубыми блестящими глазами, проговорил Помонис. — Это вовсе не кинжал, это резец скульптора.
— Значит, этот юноша был скульптором, так, что ли? — запальчиво ответил я. — Не верю. Он в рыцарских латах. Рыцарь в XIV веке не мог быть художником или скульптором. Это противоречило его званию.
— Нет, мог, — холодно парировал Помонис. — Так например, одним из самых знаменитых ювелиров еще в XII веке был великий лотарингец рыцарь Годфруа де Клер, которого так и прозвали Годфруа Знатный. Он с 27 лет вел жизнь странствующего ремесленника, побывал даже в Палестине, работал в Германии, Франции, Бельгии. Всюду оставил свои разноцветные эмали, украшавшие целые ярусы фигур и орнаментов в литургической утвари христианских храмов. А теперь, — не давая мне опомниться, продолжал Помонис, — вот еще: вы обратили внимание на то, что глаза и у юноши и у женщины сделаны из лазурита, но не заметили, что лазурит у них разный: синий у юноши и зеленовато-голубой у женщины. А главное, вы не поняли, что значат эти глаза из лазурита, такие необыкновенные для средневековых скульптур.
— А что они значат? — озадаченно спросил я.
— По поверьям, пришедшим в Европу с Востока и сохраняющимся до сих пор во многих странах, лазурит — это кости людей, умерших от любви. Этих двух людей объединяют не только саркофаги, их связывала жизнь, любовь, и она же послужила причиной их смерти. И еще: вы утверждаете, что юноша на крышке саркофага отдыхает. Это неправда. Он не отдыхает, он умирает. Посмотрите на его голову, видите небольшую вмятину выше левого виска? Сюда пришелся страшный удар копьем, или, скорее, мечом, который сбил с него шлем и был смертельным. Он погиб, этот юноша, и, может быть, слова, высеченные на саркофаге, были его предсмертными словами и обращены они были именно к этой молодой женщине, которая умерла раньше его.
Наверное, я должен был бы почувствовать стыд от того, что так мало понял по сравнению с Помонисом в этих саркофагах, но я не почувствовал никакого стыда. Напротив, меня охватило какое-то волнение.
— Да, да, — почти закричал я, — так и было. Наверное, юноша сделал саркофаг для своей внезапно умершей или убитой любимой, а потом, мстя за нее, сам был смертельно ранен. А саркофаг для него сделал его друг, родственник, может быть, отец!
— Да, все это, может быть, так и было, — неожиданно тихо и задумчиво произнес Помонис, — но и это, и многое другое нам еще предстоит выяснить. Хотя бы: почему на саркофаге женщины нет надписи? А пока надо отдохнуть.
Только тут я сообразил, что мы сегодня не только не завтракали, но и не обедали.
— Пойдемте, — предложил я, — я знаю тут прекрасное кафе «Сладкая жизнь». Там мы сможем и отдохнуть и подкрепиться.
Помонис как-то странно усмехнулся, кивнул головой. Мы вышли из лапидария, и Помонис пообещал болтавшим у входа в музей археологам и студентам, что скоро мы сможем кое-что рассказать о саркофагах.
Честно говоря, я хотел не только поесть, поговорить о наших находках, но и похвастаться Помонису, как быстро я завел в городе знакомства. На этот раз «Сладкая жизнь» была полна. За каждым столиком сидели пастухи со своими подружками. Они все как один уплетали шоколадные сбитые сливки, да при этом умудрялись еще и петь. Пели они на разных языках, но песня-то была одна, и пели они ее стройно и дружно.
Увидев нас, Иштван просиял и поспешил к нам навстречу. Я было уже приготовился возможно более эффектно произвести церемонию знакомства, но — толстяк и Помонис уже заключили друг друга в объятия и потом довольно долго чертыхались и хлопали друг друга по плечам. Да… С Помонисом не расхвастаешься… Наконец Иштван приветливо поклонился мне и повел нас в дверь за стойкой. Усадив за столик в небольшой комнате, он, ничего не спрашивая, ушел на кухню, откуда тут же потянуло аппетитным дымком, запахом жареного мяса и зашкваркало, зашипело. Иштван принес сифон с газированной водой, графин красного вина, лепешку овечьего сыра, ножи, вилки, тарелки, стаканы и снова ушел на кухню.
Я ревниво спросил Помониса:
— Так вы уже знакомы с Иштваном?
— Да, — беспечно пожал плечами Помонис, — у нас с ним еще во время войны были кое-какие общие дела тут в горах.
Я не успел отозваться на слова Помониса, как толстяк снова появился. На этот раз он нес замечательное местное блюдо — жаренное на решетке мясо и, разложив его по тарелкам, сам присел к столу.
Мы наполнили бокалы, и Помонис, произнеся традиционное: «На долгие годы!» — выпил, и мы последовали его примеру. Пока мы ели мясо и сыр, запивая вином, слегка разведенным газированной водой — чудесная смесь, по-местному называющаяся «шприц», Иштван то присаживался к столу, то убегал в зал, отвечая на призывы пастухов.
После того как мы опорожнили напоследок и бокалы со сбитыми сливками, а Иштван убрал посуду, Помонис сказал задумчиво:
— Ну, что же, теперь еще раз подумаем, на какие вопросы прежде всего предстоит ответить. — И он стал перечислять эти вопросы и при этом загибать по очереди свои сильные, длинные пальцы: — Мы не знаем, кто сделал для нее саркофаг. Не знаем, кто и почему убил юношу, не знаем, кто и для него сделал саркофаг. Не знаем имен обоих скульпторов, судьбу старшего, фамилию женщины и почему нет надписи на ее саркофаге, не знаем, что произошло между этими тремя людьми и, вероятно, еще кем-то, нам пока неизвестным. Есть много и других вопросов. Высказанные вами догадки вполне правдоподобны, но это только догадки, а нам нужны точные знания. Да и догадки ваши касаются далеко не всех, даже самых главных вопросов. Я думаю, что нам обоим нужно снова и снова осматривать саркофаги, особенно саркофаг женщины, поехать в ту деревню, из которой его привезли — может быть, что-то удастся узнать у крестьянина, в усадьбе которого его нашли. А потом мы разделимся. Я пороюсь в архиве, а вы будете искать городское кладбище XIV–XV веков.
— Разве неизвестно, где оно находилось?
— То-то и дело, что неизвестно, — бросил Помонис. — Мы прекрасно знаем, где был расположен могильник римских колонистов и ветеранов. На теперешнем кладбище самые ранние погребения датируются второй половиной XVIII века. Случайно наткнулись на кладбище XI–XII веков. А вот где были городские кладбища в промежутке между этими периодами, нам неизвестно.
— Почему? — удивился я.
— Да ведь город переходил несколько раз от одного властелина к другому. И каждый норовил как бы начать все сначала — с самого себя. Вот городские кладбища и устанавливали на новых местах, а прежние сравнивали с землей и лишь немногие из погребений переносили на новое место. Кроме того, здесь нередки горные оползни и селевые потоки, которые, случалось, погребали различные окраины города, а ведь именно на них обычно и располагаются кладбища.
— Да-а… — протянул я. — Но вот как же я буду искать это кладбище? Ума не приложу.
— Вас ведь, кажется, учили археологии, не так ли? — насмешливо спросил Помонис. Я только отмахнулся в ответ и стал обдумывать, как же мне действительно приступить к поискам. Однако сосредоточиться мне мешало странное поведение Иштвана во время нашего разговора, к которому он вполуха, между отлучками в зал, но с некоторых пор очень внимательно прислушивался. Стоя за спиной Помониса, Иштван, отчаянно жестикулируя, делал мне какие-то таинственные знаки. Понять, что они значат, я не мог. Ясно было только, что Иштван хочет мне сообщить нечто важное и что Помонис не должен об этом знать.
Подивившись про себя сложности отношений между этими давними друзьями, я, конечно, не выдал Иштвана. Мы с Помонисом попрощались с Иштваном и снова пришли в музей, где снова осмотрели саркофаги и убедились, что оба они внутри пусты. Помонис в саду перед музеем взобрался на скамью и стал рассказывать любопытствующим студентам и археологам о наших выводах, догадках и вопросах. Мне очень хотелось удрать к Иштвану, но я так и не нашел благовидного предлога для этого. После окончания рассказа Помониса Василе накидал в нашу «скорую помощь» лопаты, кирки, положил теодолит, буссоль, рулетку и другое снаряжение, а также отобрал двух археологов, и мы поехали в деревню, где был найден саркофаг женщины.
— Странно, — протянул Помонис, — почему саркофаг оказался в деревне? Ведь мастерская этих скульпторов и резчиков наверняка была в городе. Зачем же понадобилось оттаскивать этот тяжеленный саркофаг в деревню?
Вопрос его повис в воздухе. Ни Василе, ни я, ни двое наших новых спутников не знали, что на это ответить. Небольшая деревня с ладными усадьбами, за высокими сплошными заборами которых виднелись черепичные крыши просторных домов, улица с каменными кольцами колодцев, хотя на окраине вилась такая же горная чистая река, оказалась совсем близко, и первый же встречный показал нам усадьбу Гюнтера Шваба, где был найден саркофаг. Гюнтер — пожилой рослый крестьянин, рыжеволосый, веснушчатый, голубоглазый, сначала перепугался, увидев «скорую помощь», но, узнав, зачем мы приехали, приветливо распахнул ворота. Усадьба тыльной своей стороной примыкала прямо к подножию горы и здесь не была даже огорожена.
Из дома степенно вышла все еще красивая дородная жена Гюнтера, а следом за ней выкатились во двор шестеро босоногих, но аккуратно одетых ребят: пять мальчиков, в возрасте от 7 до 15 лет, и одна девочка лет десяти, с такими же, как у отца, голубыми глазами.
— Марта, — представилась она и сделала книксен весьма церемонно.
Помонис, карманы которого были вечно полны всякой всячины, тут же роздал ребятам шоколадки, и мы направились к месту находки саркофага. Там, у самого подножия горы, почва как бы поднималась пологой террасой и в центре ее виднелся довольно широкий коридор — явно место, где был найден саркофаг. Помонис несколько минут своими зоркими глазами осматривал стены коридора, а затем сказал:
— Давно, но уже после того, как здесь оказался саркофаг, произошел оползень, и саркофаг, прежде стоявший просто на земле, оказался погребенным под чистой почвой — балластом. А теперь посмотрим, что было под саркофагом. Мы разбили несколько шурфов на полу коридора — всюду оказался только материк — почва без вещественных остатков человеческой деятельности.
— Надо снимать балласт в ширину метров на 10 по обе стороны коридора, — распорядился Помонис и тут же сам взялся за лопату. Мы все присоединились к нему, вооружившись лопатами, кирками и тому подобным, сам Гюнтер Шваб и его дети, в том числе и Марта, стали нам помогать. Часа три мы работали с короткими перерывами. Я очень жалел, что нет бульдозера. Ведь балласт не содержит никаких элементов культурного слоя, его спокойно можно было срезать машиной. Наконец Помонис, отирая пот со лба, сказал:
— Стоп! Приближается погребенная почва. Надо отдохнуть, а потом перейти на мелкий шанцевый инструмент. Работать будут только археологи.
Мы расселись кто куда. Хозяйка фрау Бригитта принесла из погреба крынки с чудесным холодным варенцом, сáуре по-ихнему, и круглые пшенично-белые караваи. Марта с важным видом разлила сауре по толстым фаянсовым кружкам и с поклоном поднесла каждому из нас по кружке и по громадному ломтю хлеба. Гюнтер, сходив в дом, принес блюдо с аккуратно нарезанным розовым, пахнувшим дымком, салом.
Я заметил, что Василе не сводит глаз с Марты. Он заметил мой взгляд и тихо сказал:
— Вам не кажется, что женщина на саркофаге и Марта чем-то похожи друг на друга?
— Да ведь это и в самом деле так!
Помонис, слышавший наш разговор, поманил к себе Гюнтера и спросил:
— Давно твоя семья живет в этой усадьбе?
— С незапамятных времен, господин профессор, — ответил Гюнтер, — и деды и прадеды мои здесь жили. Только раньше мы платили арендную плату господам Вартбургам, а до того, говорят, каким-то баронам фон Клюге, а вот теперь, после установления народной власти, — земля наша.
Помонис ничего не ответил и знаком показал нам, что пора приниматься за работу. Теперь мы уже разбили настоящий раскоп, даже два раскопа — по обе стороны коридора. Трассировочным шнуром разделили их на квадраты, быстро начертили план с указанием рельефа и нулевой точки отсчета горизонталей и стали малыми саперными лопатками, ножами и кистями постепенно разбирать и просматривать хотя и слабо насыщенный, но все же явный культурный слой: попадались уголь, кости каких-то птиц, немного фрагментов керамики, камни. Прошло больше часа, когда я, выпрямившись, сказал Помонису:
— Саркофаг не привезли сюда из города. Его здесь сделали.
— Почему? — быстро и резко спросил Помонис. — Как вы об этом догадались?
— Видите ли, — мстительно ответил я, — в свое время меня кое-чему учили на кафедре археологии.
Помонис вспыхнул, но продолжал молча в упор глядеть на меня. Я не стал тянуть и объяснил:
— Саркофаг женщины, то есть саркофаг Марии, совершенно целый. А среди камней, которые мы находим, больше всего обломков именно такого мрамора, из которого сделан саркофаг. Кроме того, на многих обломках есть следы срезов и сколов. Если бы саркофаг сюда привезли, то ничего бы этого здесь не было. Ведь не стали бы возить вместе с саркофагом и, так сказать, отходы производства, никому не нужные.
Помонис прищурился, провел своей ручищей по моему плечу, как бы извиняясь за давешнюю насмешку, и снова взялся за расчистку. Мы проработали еще час с лишним, солнце немилосердно палило, пот заливал глаза, когда Помонис вдруг подозвал меня к себе и сказал, улыбаясь:
— Смотрите, вот он — ваш кинжал.
Хорошо расчищенные, лежали на земле резец скульптора, точно такой же, какой был изображен на крышке саркофага юноши, и еще три зубильца разных размеров.
— Он очень торопился, этот скульптор, — процедил Помонис, — даже бросил здесь свои инструменты. Ему тогда понадобилось нечто совсем другое.
Я почувствовал, что, несмотря на жару, меня начинает бить озноб.
Мы работали до самого вечера, но уже не нашли ничего особенного, только еще несколько кусков мрамора. Тщательно очистив и упаковав все находки, проверив чертежи и записи в полевых дневниках, мы уложили все это в машину. Помонис сфотографировал еще засветло место раскопок, все находки и всех членов семьи Швабов вместе и по отдельности, особенно, несколько раз, Марту. На прощанье гостеприимный хозяин угостил нас на славу. Не обошлось и без нескольких графинов зеленоватого, довольно вкусного, но и довольно крепкого вина. К моему ужасу, больше всего его выпил наш шофер Зураб. Однако это никак не сказалось на его искусстве вождения, да и вообще никак не сказалось, разве что он еще чаще, чем обычно, включал сирену и показывал в улыбке свои белоснежные зубы, особенно ярко блестевшие на его смуглом лице. До номера в «Партизане» я добрался изрядно усталый, умылся, разделся и сразу же уснул.
Ранним утром Помонис безжалостно вытащил меня из постели и, не дав принять душ, увел на реку. Ледяная вода не оказала на литое античное тело Помониса никакого видимого воздействия. У меня же дух перехватило, а все тело стало колоть множеством иголок, как будто я стал показательным экспонатом при демонстрации сеанса акупунктуры. Зато все остатки сна как рукой сняло. Забежав в отель и переодевшись, мы с Помонисом вышли на улицу. Он отправился в архив, предоставив мне неизвестно где и неизвестно как отыскивать городское кладбище XIV–XV веков.
Подумав, я решил начать танцевать от печки и отправился в музей. Там у Василе спросил, есть ли у них план археологических памятников города. Оказалось, что есть, да не один, а несколько — для разных эпох. Разложив эти планы, к счастью сделанные в одном масштабе, я перенес на кальку с каждого из них примерно очерченные контуры городских кладбищ разных времен. Оказалось, что Помонис был не совсем точно информирован. Начиная еще от времени до римского завоевания и до X–XI веков места погребений, топография древних городских могильников была уже разведана и они частично исследованы. Сначала меня удивило, что в IV–V веках хоронили очень близко от центра города, но потом я сообразил, что ведь после эвакуации римлян город захирел, территория его очень уменьшилась, да и количество жителей тоже, даже прежнее имя забылось. Так что и топография этого могильника вполне понятна. Но вот разноцветной тушью перенес я на кальку намеченные сначала карандашом, сведенные со всех планов территории городских кладбищ. Картина получилась очень интересная. Могильники I–XI веков и кладбища от XVI века и до наших дней, иногда накладываясь частично друг на друга, занимали по периметру большую часть окраин города, до самых гор, почти со всех сторон. Свободным от них оставался только один относительно узкий сектор. Если представить себе городское плато, со всех сторон окруженное горами, в виде гигантского блюдца, то края этого блюдца более или менее проглядывались, кроме одного — как бы обломанного и еще не найденного и не приклеенного на место. Как же я удивился, когда оказалось, что этот, пока не вклеенный край блюдца — может быть, именно то, что я искал, — находится в том самом районе, где помещается «Сладкая жизнь». Да, все дороги ведут в Рим. Я решил тут же зайти к Иштвану, позавтракать, выяснить, что значат его таинственные знаки и попробовать именно в этой части города провести разведку.
Иштван встретил меня очень приветливо и даже возбужденно, но тактично ждал, пока я кончу завтрак, — видимо, кроме всего прочего, желая насладиться, так сказать, полным эффектом от того, что он собирался мне сообщить. Но вот завтрак окончился. Иштван присел к моему столику и, хотя «Сладкая жизнь» была совершенно пуста, спросил вполголоса:
— Вы с господином профессором ищете городское кладбище XIV–XV веков, не так ли?
Я утвердительно кивнул головой. Иштван посмотрел на меня пристально и не без торжественности произнес:
— Если ты обещаешь не говорить господину профессору, то я открою тебе, где находится это кладбище.
Я очень удивился и спросил:
— Почему об этом нельзя говорить господину профессору?
— Потом объясню, — упрямо сказал Иштван. — Так обещаешь или нет?
— Обещаю, — ответил я, пожимая плечами. — Так где же оно?
— Здесь, — торжествующе воскликнул Иштван и топнул ногой. Видя мое недоумение, он добавил: — Уже после того как «Сладкая жизнь» была построена, я сообразил, что погреб для моих нежных продуктов имеет недостаточные размеры, и стал его расширять. Сейчас ты увидишь, на что я наткнулся.
Иштван повесил на входную дверь табличку «Закрыто». Мы прошли за стойку в задние комнаты. Там в коридоре он откинул крышку люка и включил свет. По крепким дубовым ступенькам мы спустились в подвал. Это было невысокое, но очень обширное помещение. Стены до половины его выложены камнем, а пол и полки вдоль стен уставлены различными бочонками, банками, бидонами, кувшинами. Стены второй половины подвала оставались земляными, а пол устлан соломой. Иштван, пыхтя, принялся сгребать эту солому граблями. Под соломой показались каменные надгробные плиты с высеченными на них крестами и надписями. Я кинулся к плитам и стал переходить от одной к другой. Плит было около десятка, и даты на них выбиты: «1387», «1435», «1394» и т. д. Да, это была часть того самого кладбища, которое я должен был найти. Все могильные надписи были сделаны на латыни. В этом смерть уравняла и тогда разноязычное и разноплеменное население города. Направления, в которых лежали плиты, и направления стен подвала не совпадали. Это и понятно. Христианские могилы ориентированы с востока на запад, а стены «Сладкой жизни», в том числе и стены подвала, — в соответствии с планировкой улицы и рельефом местности.
С трудом оторвавшись от рассматривания могильных плит, я спросил кондитера:
— Почему же ты не хочешь, чтобы я рассказал об этом господину профессору? Ведь здесь необходимо провести раскопки.
— Вот именно, — уныло ответил Иштван, — и если этим займется господин профессор, то для начала он взорвет мою «Сладкую жизнь», так что от нее и пылинки не останется.
— С чего это ты взял, что он будет взрывать? — возмутился я.
— Господин профессор очень хорошо умеет это делать, — еще более уныло ответствовал Иштван, — уж я-то знаю это и знаю его характер.
— Ну, ладно, ладно, — стал я успокаивать вконец расстроившегося кондитера, — не скажу господину профессору. Но дай мне фонарик и метелку. Я хочу как следует все рассмотреть.
Иштван, кряхтя, поднялся по ступеням и принес мне яркий электрический фонарик и веник. Я стал, позабыв обо всем, рассматривать плиты, как мог, читать надписи. Но вот у самой боковой стенки я заметил небольшую часть плиты, косо уходившей в стену, или в профиль раскопа, как сказали бы в экспедиции. Я тщательно расчистил ее. На высовывавшейся из-под стены подвала части плиты были видны только крест и последние цифры даты: «01».
— Ноль один, ноль один, — машинально повторял я. — Так вызывают по телефону пожарную команду. Фу-ты, чушь какая! — встряхнул я головой, и тут словно молния озарила все вокруг: на саркофаге юноши была дата «1401». — О господи. — Почувствовав, что, несмотря на прохладу, я весь вспотел, я вылез в коридор, прошел в комнату, усадил за стол Иштвана, сел сам и сказал как только мог раздельно и убеждающе — Иштван! Там в подвале из стены торчит кусок могильной плиты, которая может открыть одну важную тайну истории твоего города. Я знаю, я чувствую, что это так. Нужно провести раскопки. — При этих словах моих Иштван дернулся, а я обнял его и продолжал: — Совсем небольшие раскопки. И клянусь тебе, никто не станет взрывать твоей «Сладкой жизни». Я обещал тебе молчать и, если ты будешь настаивать, — промолчу. Но тогда тайна, может быть, навсегда останется тайной, мы ничего не узнаем о судьбах замечательных людей, которые здесь когда-то жили.
Я коротко рассказал ему о том, что до сих пор удалось узнать нам с Помонисом о тех двух саркофагах.
В начале моего рассказа лоб и вся лысая голова Иштвана покрылись испариной, ярко-красные губы его дрожали, но я видел, что он постепенно успокаивается.
— Что же, — сказал он наконец, правда, при этом горестно вздохнув, — раз нужно для науки, а тем более для нашего города… Но только помни — ты дал клятву не допустить, чтобы господин профессор взорвал мою «Сладкую жизнь».
Я подтвердил клятву и, уже не слушая причитаний кондитера, примчался в городской архив на поиски Помониса. Я и застал его там, страшно возбужденного, с взлохмаченной полуседой шевелюрой и сверкающими глазами. Не дав мне и рта разинуть, он громко и быстро, нарушая сонную тишину архива, сказал:
— Смотрите, что я нашел! — и сунул мне под нос толстую рукописную книгу, раскрыв специальный картонный архивный бювар с номером и застежками.
Причудливо и остро изогнутые готические буквы прыгали перед моими глазами, и я ничего не мог разобрать. Тогда нетерпеливый Помонис, который одинаково свободно говорил, читал и писал на всех европейских языках, в том числе на древнегреческом и латинском, вырвал у меня из рук книгу и, прищурившись, сказал:
— Помните фамилию фон Клюге? Так вот это расходная книга управляющего дворцом барона Франца фон Клюге за 1398–1400 годы. Вот запись от декабря 1400 года. — И он стал торжественно читать, тут же переводя: — «1400 года от рождения Господа нашего Иисуса Христа, декабря двадцать второго дня. Уплачено господину кавалеру Роже дю Вентре — скульптору и резчику по камню и товарищам его 18 золотых цехинов в счет оплаты работ, производимых ими по украшению дворца всемилостивейшего и могущественного господина барона Франца фон Клюге», — с торжеством закончил Помонис и тут же добавил: — Разница по сравнению с датой на саркофаге всего один год. Фамилию Клюге упоминал Гюнтер. Мы знаем теперь, что был скульптор Роже дю Вентре и что у него были товарищи по ремеслу.
— Интересно, — протянул я, — ну а если саркофаги делали одни мастера, а дворец украшали совсем другие?
— Не прикидывайтесь дурачком! — взъярился Помонис. — Или, может быть, вы меня за дурака считаете? — и уставился на меня инквизиторским взглядом. Однако лицо мое, видимо, выражало такую полную невинность и непричастность ко всякого рода злокозненным помыслам, что он смягчился и довольно спокойно пояснил: — Люди, получавшие за свою работу, да еще не завершенную, 18 золотых цехинов, должны были быть первоклассными мастерами. Саркофаги тоже делали первоклассные мастера. В одно и то же время в этом небольшом городке не могли работать целые две группы таких мастеров, да я вам уже и напомнил, что Гюнтер говорил о Клюге.
— Потрясающе, — искренне восхитился я, — ведь на такие розыски могли уйти годы, а вы нашли за один день.
— Ладно, ладно, — проворчал Помонис, — а что у вас?
По мере того как я рассказывал, лицо Помониса все более багровело, и он, даже не дослушав до конца, заревел так, что подпрыгнули старинные бра на стенах архива и старушки-хранительницы в ужасе сбились в кучку:
— Старый глупый кабан! Да я в щепки разнесу его берлогу, я ему покажу «Сладкую жизнь»!
— Ничего этого не будет, — твердо сказал я, — я обещал, что «Сладкая жизнь» не пострадает и намерен выполнить свое обещание.
Тут Помонис произнес в мой адрес на незнакомом мне языке нечто, что вряд ли можно было счесть комплиментом, и, внезапно смягчившись, стал втолковывать мне, как студенту:
— Если «Сладкую жизнь» придется снести, клянусь Дианой, я сам построю ему новую, которая будет в два раза больше и лучше.
Я понимал, что это не пустые слова. В своем родном городе в тяжелые послевоенные годы Помонис сам спроектировал великолепное здание аквариума, сам руководил его строительством, заполнением всех бассейнов и отсеков живыми экспонатами и сам был его директором. Аквариум стал едва ли не лучшим на всем этом море и едва ли не самым доходным предприятием города, соперничая с местным казино. И все же…
Но Помонис прервал мои размышления, решительно сказав:
— Хватит терять время! Поехали в музей за ребятами, а потом в «Сладкую жизнь».
По дороге я спросил невзначай:
— Почему Иштван крутится в своем заведении один? Ведь он уже не молод, а работы там хватает.
Помонис, помолчав, ответил с неожиданной и потому поразившей меня особенно сильно печалью:
— Мы оба с Иштваном были женаты и оба овдовели почти одновременно и при сходных обстоятельствах. С тех пор так и живем бобылями. Может быть, Иштван не хочет держать женщину в «Сладкой жизни» потому, что думает, будто это может оскорбить память Илоны. А мужиков ему не надо — он сам еще за пятерых сойдет.
Иштван встретил меня пронзительно укоризненным взглядом, но Помонис обнял его, что-то пошептал на ухо, после чего кондитер повеселел, и сам принялся нам помогать.
Раскопки шли двое суток без перерыва, по сменам. Студенты и археологи да и все мы работали как одержимые. Мы прокопали над плитой глубокую и высокую нишу, укрепив потолок и стены железными листами со швеллерами. Помонис собственноручно скреплял их электросваркой при помощи сварочного аппарата, который он где-то раздобыл.
Надгробная плита была большая и сплошь покрыта резной надписью. Только первый абзац ее состоял из букв большого размера. Все остальные были маленькими, не более полутора сантиметров в высоту. Что же, такие обширные надписи на надгробных плитах, в том числе и в XIV–XV веках, — не особая редкость. Но о чем же гласит она? Нам всем не терпелось скорее прочесть надпись, но Помонис был неумолим. Сначала ее сфотографировали, — что пришлось сделать по частям, так как никакой широкоугольный объектив с высоты потолка ниши не охватывал ее целиком. Потом надпись скалькировали, смуляжировали, покрыли консервирующим раствором. Только тогда Помонис, склонившись поневоле в три погибели в нише, стал читать ее и тут же переводить, хотя многие из присутствующих и так знали латынь. Вот эта надпись в моем, весьма несовершенном изложении:
«Анно Домини 1401[12].
Господин скульптор и резчик по камню, мастер цеха кавалер Роже дю Вентре нашел последнее успокоение здесь вдали от родной Лотарингии, да смилуется над ним Господь Бог.
Владетельный барон Франц фон Клюге всемилостивейше призвал в сей град кавалера Роже дю Вентре с племянником его кавалером Гийомом дю Вентре-младшим, мастером, скульптором и резчиком, и мною — недостойным подмастерьем Иштваном Ковачем.
По указанию господина барона мы покрывали резьбой стены его нового каменного дворца в городе. Кавалер Гийом дю Вентре всей душой полюбил молодую крестьянку Марию Шваб, которая привозила нам продовольствие из принадлежащей господину барону деревни. Любовь их была взаимной и приближалась к бракосочетанию. Кавалер Гийом дю Вентре поехал в Лотарингию, чтобы получить на этот брак согласие своей матери, поскольку отец его к этому времени скончался. Во время его отсутствия господин барон Франц фон Клюге вероломно заманил к себе девицу Марию Шваб и овладел ею. Не перенеся бесчестья и обиды, бедная девушка бросилась в речку и утопилась. Вернувшийся на другой день после этого с разрешением на брак кавалер Гийом дю Вентре, к всеобщему удивлению, не стал мстить господину барону, а молча увез тело своей возлюбленной куда-то в горы»…
— Да у него и не было другого выхода, — прервав чтение, бесстрастно пояснил Помонис. — Мария Шваб как самоубийца совершила смертный грех и не могла быть похороненной ни на одном христианском кладбище. По закону могила ее должна была оставаться безымянной. — И продолжал чтение: «— Кавалер Гийом дю Вентре вернулся через две недели изможденный и бледный и тут же бросил перчатку господину барону Францу фон Клюге, который не мог не принять вызов, так как кавалер Гийом дю Вентре имел рыцарское достоинство. На поединке он убил господина барона, но и сам получил смертельную рану, от которой вскоре скончался.
Безутешный дядя его господин кавалер Роже дю Вентре создал для него небывалой еще красоты саркофаг, похоронил племянника с честью, но, сломленный страшной потерей, скончался в том же году и погребен под сей плитой. Я же, недостойный и горемычный его подмастерье Иштван Ковач, отдав последний долг своему учителю и вырезав эту надпись, остаюсь в родном городе с разбитым сердцем.
Аминь.»Мы все долго молчали, после того как Помонис кончил читать надпись. Потом, не знаю почему, я сказал:
— В ледяной воде реки утопленница так закоченела, что, когда вернулся Гийом, тела его любимой еще не коснулось тление. А может быть, оно так и пролежало до его приезда на дне реки, среди водорослей и играющих рыбок.
Никто не ответил мне. Наконец послышался громкий голос Василе:
— Девице Марии Шваб, кавалерам Роже и Гийому дю Вентре, честному летописцу Иштвану Ковачу вечная память!
— Вечная память! Вечная память! Вечная память! — повторили мы хором, а Иштван, у которого слезы выступили на глазах, при этом мелко крестился.
Затем Василе так же громко возгласил:
— Господину профессору Помонису, господину профессору (тут он назвал мою фамилию), господину Иштвану Дьердю — ура! Ура! Ура! — И ребята подхватили это «ура».
— Скажи громовержцу, — обратился к Василе после некоторой паузы Помонис, — пусть поломает голову над тем, почему оба саркофага оказались пустыми, как попал мрамор в деревню, да тут еще вообще есть над чем подумать. А еще скажи: я прошу, чтобы оба саркофага всегда стояли рядом, а если при раскопках придется разбирать этот дом — пусть вызовет меня. Я позабочусь о том, чтобы новый дом Иштвана был лучше этого.
Мы помылись, поели и, тут только осознав, как сильно устали, повалились спать где попало. Однако утром, как и обычно, Помонис разбудил меня. Археологи уже ушли — в музее, да и вообще в городе, рабочий день начинается очень рано.
На прощанье мы обнялись с Иштваном, уселись в нашу «скорую», которая уже ждала у входа в «Сладкую жизнь».
— К Фаркашу! — приказал Помонис.
Шофер Зураб с места рванул машину.
— Да погодите, — в сердцах сказал я, — у меня вещи остались в отеле.
— Вещи давно в машине, пора бы и привыкнуть, — проворчал Помонис.
Да, в самом деле, пора бы и привыкнуть, но мне не хотелось сдаваться.
— Скажите, а что, эта «скорая помощь» не может понадобиться по прямому назначению? — с вызовом спросил я.
— У них там есть еще точно такая же колымага и два врача, — парировал Помонис, — а вот вы хоть раз видели ее на улицах города?
— Нет, — честно признался я.
— И не увидите, — с твердым убеждением сказал Помонис, — здешние жители не любят торопиться. Они ничего не делают наспех. «Скорая помощь» им не нужна. Вот Фаркаш нас заждался. Эй ты, мямля! — закричал шоферу Помонис. — Ты что, заснул там за рулем?!
Зураб только ухмыльнулся и заложил крутой вираж по серпантину горной дороги на такой скорости, что у меня в глазах потемнело. Мы мчались, поднимаясь все выше и выше в горы, навстречу новой тайне — неведомому еще мне древнему могильнику и незнакомому пока доктору Фаркашу.
— Кстати, — как бы небрежно бросил Помонис, — настоящая фамилия Иштвана — Ковач, а Дьердем он стал в партизанском отряде. Так эта фамилия и прилепилась. А Ковачи — коренные обитатели города и жили всегда в том же районе, где сейчас «Сладкая жизнь».
— Вот как, — удивился и обрадовался я, — значит, и этот круг замыкается.
— Эти круги вообще не замыкаются, — задумчиво произнес Помонис, — они лишь перекрещиваются, образуя восьмерку, и в точке пересечения напряжение так велико, что развитие переходит в новую восьмерку уже в новом качестве, и так до бесконечности. Все сцеплено друг с другом, но то, что повторяется, повторяется уже на новом уровне, и ничто не пропадает бесследно.
— Любопытная у вас теория развития, — сказал я.
— Эта теория придумана не мной, — помолчав, ответил Помонис, — а одним из ваших соотечественников, человеком очень одаренным и интересным.
Но вопрос, который вертелся у меня на языке, так и не был задан. Зураб развернул машину: перед нами на склоне открылись черные прямоугольники раскопов и немногочисленные пестро одетые люди в них и возле них.
В. Савченко Недочитанный Чернышевский
Вот уж к кому история была несправедлива!
В самом деле. Много ли прошло по земле людей, которые с таким самоотвержением, так настойчиво, и преданно, и эффективно служили человеческому прогрессу, и чем же отплатила история?
В 33 года — возраст Иисуса! — в расцвете творческих сил он оказался в тюрьме, более 20 лет провел в каменных одиночках Петропавловской крепости, на каторге и в сибирской ссылке, потом еще 6 лет — под полицейским надзором в Астрахани и Саратове, так до конца своих дней и не смог уже вернуться к деятельности, к которой был призван, к публицистике, науке, политике. Всю жизнь этот человек духовно менялся, пересматривая, уточняя свои взгляды, «вырабатывая» себя, совершенствуя свою «натуру», и проповедовал в своих статьях и книгах именно самоизменение, самовыработку, а за ним по какой-то иронии судьбы (то есть, собственно, понятно, по какой, — по логике борьбы, которую вели с ним и его «реалистическим» учением его политические противники) закрепилось в литературе — первоначально, понятно, в либеральной — клише твердокаменного нигилиста-утилитариста, вечного «мальчишки», воззрения которого застыли еще в юности. В бурные пореформенные 1861–1862 годы Чернышевский много сил и времени отдал поиску путей объединения оппозиционных групп в России против главного врага социального прогресса — российского самодержавия, а его современники навесили на него ярлык политического сектатора, не признающего никаких компромиссов в политике. Впрочем, на него навешивали ярлыки и противоположного значения — отставшего от стремительного бега времени, примирившегося с действительностью кабинетного ученого.
Конечно, не одна хула сопровождала Чернышевского в жизни и преследовала после смерти, у него всегда было много восторженных почитателей, горячих и преданных последователей, учеников, пропагандировавших его учение, но голос хулителей все же долго звучал громче других голосов, внедряясь в сознание «образованного общества» так долго, что и сегодня порой дает о себе знать, проявляясь в самых неожиданных формах, стародавняя традиция либерального уничижения, созданного Чернышевским…
1
Я не собираюсь вмешиваться в споры ученых, занимающихся исследованием творческого наследия Н. Г. Чернышевского, судить-рядить о том, кто из них больше, а кто меньше прав, кто ближе к подлинному Чернышевскому, а кто дальше. Я лишь хочу поделиться с читателем своим опытом изучения наследия Чернышевского, некоторыми наблюдениями, мыслями, приходившими в голову во время работы над романом «Властью разума», вышедшим в 1982 году.
Но прежде чем пуститься в путь к истокам творчества и самой личности Чернышевского, я должен объяснить, а что же, собственно, побудило меня взяться за Чернышевского, да еще писать о нем роман?
О том, что писать о Чернышевском «художественное» — задача почти немыслимая, мне приходилось слышать не раз. Вспоминаю давний разговор со знакомым литературоведом, исследователем творчества Ф. М. Достоевского, писавшим порой, в связи с Достоевским, и о Чернышевском, не буду называть его по имени, обойдемся инициалами М. Д. В то время я работал над книгой о народовольцах-первомартовцах, людях удивительной нравственной выработки, в громадной степени обязанных ею Чернышевскому, которого они сами называли своим духовным отцом, и поэтому, естественно, мне приходилось обращаться к творчеству Чернышевского, читать то, что читали народовольцы. И вот однажды зашел у нас разговор с М. Д.
— Вот кто неблагодарная фигура для романиста, — заметил М. Д., имея в виду Чернышевского. — Просто не представляю себе его героем художественного произведения.
— Почему?
— Как почему, человек всю жизнь просидел в кабинете, о чем писать? И ладно бы только просидел, это бы полбеды. Ведь можно писать о смутах духа, о драме идей, о душевных переживаниях, наконец. Тут ничего этого нет. Каков он в двадцать лет, таков и в шестьдесят. Это еще Короленко заметил, когда увиделся с ним после его возвращения из Сибири, в восьмидесятых годах. Помните, поразился, что тот не изменился за двадцать лет? Потому, кстати, его и не печатали в те годы в журналах: статьи-то были в духе публицистики шестидесятых годов. Он весь остался в шестидесятых… Нет, писать о нем нечего. Неинтересно. И не только романисту.
— Но ведь вы о нем пишете?
— Писал. Теперь не пишу. И думаю, уже не придется. Нечего. Вот Достоевский — вечный источник мыслей, способных вызывать цепную реакцию новых мыслей во все времена, тут сама бесконечность. А Чернышевский — конечен. Он ясен и прозрачен, как солнечный осенний день. Достоевский же — сумрак, мгла, в которой и молнии полыхают, и веет угрозой всемирного потопа. Жутко. И увлекательно…
— Но как же так? О какой ясности Чернышевского вы говорите, когда никто не может даже определить толком, что же это такое — учение Чернышевского? Кто его изложил сколько-нибудь полно и непротиворечиво?
— А можно ли его изложить полно и непротиворечиво? Я, знаете, сторонник того мнения, что у Чернышевского и не было законченной концепции. Поэтому он и не изложил сам свое «учение» в системе. Были отдельные мысли по отдельным «проклятым вопросам» времени. К чему, в сущности, сводится его социология? К общине. А что такое община в сравнении, например, с вопросом: народ и правосознание? Народ и отдельная личность? Россия и Европа? И что нам сегодня какие-то тонкости об общине? Или этика. Выдвинул требование жертвенного служения общественному идеалу. Прекрасно, но идею альтруизма мало постулировать, ее надо обосновать. Ни он, ни кто из материалистов этого не сделал. Вот христианские учители свои этические принципы фундаментально обосновывали. Тот же Достоевский…
Он снова заговорил о Достоевском, и к теме Чернышевского мы уже не возвращались. Меня тогда этот разговор не особенно задел, я был поглощен народовольцами. И все-таки какой-то след он оставил, потому что, написав о народовольцах, я принялся читать Чернышевского, все сплошь, в хронологическом порядке, начиная от ранних его писем и дневниковых записей, одновременно читая и его современников, друзей и противников. Задела меня, должно быть, эта безапелляционность, с какой М. Д. заключил, что Чернышевский весь остался в шестидесятых годах. Чем же, в таком случае, объяснит факт сильнейшего влияния Чернышевского на общественное сознание не только своей эпохи, и не только ближайшей по времени и духу народнической, но и позднейших эпох? Вспомнить хотя бы ленинское: «Он меня всего глубоко перепахал». Сказано это было уже в нашем веке… В этом интересно было разобраться.
Захватил же меня Чернышевский окончательно, заставил сосредоточиться на себе, на своем творчестве, целиком, на годы отложить все прочие дела после того, как на глаза мне попалось одно его поразительное признание.
Я читал его письма — и вот дошел до 1856 года, во многих отношениях переломного для Николая Гавриловича. Год этот был переломным не для него одного — для всей России: закончилась Парижским миром Крымская война, с заменой фигур на российском престоле, по смерти царя Николая, в России повеяло реформами, новый государь Александр Николаевич в мартовской речи перед московскими дворянами прямо заявил о своем намерении отменить крепостное право («Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу»); в течение весны — лета были отменены некоторые суровые постановления николаевского времени, вроде ограничения числа обучающихся в университетах, ограничения заграничных поездок, принудительной отдачи в военную службу детей разночинцев, были введены значительные цензурные послабления, в связи с коронацией Александра Второго ожидалась амнистия политическим заключенным.
Эти перемены так или иначе отражались на судьбе Чернышевского. К тому времени он уже третий год жил постоянно в Петербурге, с женой Ольгой Сократовной и маленьким сыном Александром, утвердился в журналистике, стал одним из главных редакционных сотрудников некрасовского «Современника»; летом 1856 года Некрасов, уезжая надолго за границу, передал ему журнал в полное распоряжение и оплату установил такую же, как себе, — три тысячи рублей серебром. Имя Чернышевского стало известным в литературных кругах еще раньше, после публичной защиты им, в мае 1855 года, магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», которая наделала тогда много шума, даже породила целое направление в русской эстетике, правда отрицательное, в лице А. В. Дружинина и группировавшихся вокруг него приверженцев так называемой теории чистого искусства, посвятивших себя борьбе с «утилитаристской» эстетикой Чернышевского. Еще бóльшую популярность Чернышевскому принесли его программные, как и его диссертация, фундаментальные «Очерки гоголевского периода русской литературы», печатавшиеся в «Современнике» на протяжении чуть ли не всего 1856 года. В это время тон всех его статей, писем чрезвычайно бодрый, порой прямо-таки ликующий, Чернышевский полон надежд, ожиданий больших перемен в русской жизни, которые уже, собственно, и происходили, и главнейшая перемена — «пробудившаяся в обществе умственная деятельность». Война, точнее, военное поражение России разбудило русское общество, оживило и литературу, и теперь, писал Чернышевский, литература, успевшая приобрести «известную степень силы», будет поддерживать оживление умственной деятельности общества. Чернышевский верит в это, готов этому всецело служить… Безоблачный 1856 год!
И вот на этом безоблачном фоне — два совершенно неожиданных письма. Оба они адресованы Некрасову за границу, одно от 5 ноября 1856 года, другое от 7 февраля 1857 года.
В первом письме Чернышевский высказывает Некрасову свое мнение о его стихотворениях, только что вышедших отдельным изданием. Чернышевский очень высоко ставит Некрасова как поэта, выше Пушкина, Лермонтова, Кольцова, и именно как лирика, — его лирические стихотворения ценит больше, чем «тенденциозные», посвященные гражданской тематике. Он очень настаивает на том, что судит о достоинствах некрасовских стихотворений «не с политической, а с поэтической точки зрения», и чтобы доказать это, даже «пускается в откровенности», объясняет особенности своей «натуры», своего «сердца», — это-то объяснение и удивительно.
«Не думайте, — убеждает он Некрасова, — что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тенденциею, — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, — притом же, я вовсе не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею.
Когда из мрака заблужденья… Давно отвергнутый тобою… Я посетил твое кладбище… Ах, ты, страсть роковая, бесплодная…и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — но только затем, чтобы сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, — политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею».
Во втором письме, в явной связи с признаниями об испытанных мучениях сердца, вырвавшимися у Чернышевского в первом письме («я испытал это и знаю»), явно, чтобы как-то сгладить впечатление, которое эти признания могли оказать на Некрасова, и чтобы предупредить его возможные расспросы, чтобы привычно «закрыться» — не в правилах Чернышевского, человека чрезвычайно скрытного, было впускать кого бы то ни было в свой внутренний мир, — он сообщает Некрасову о «глупом деле», мучившем его на протяжении последних четырех-пяти месяцев, когда ему до такой степени «было скверно и в голове и на душе», что «почти не было нравственной возможности писать»: «…верите, двух слов не мог склеить по целым неделям, — раза два даже напивался пьян, что уж вовсе не в моих правилах».
Что это за «глупое дело»? Судя по письму, «мучения сердца» Чернышевского были вызваны тем, что он опасался за здоровье жены, у которой была тяжелая беременность (вторым ребенком). «Только вот в последние дни, когда все кончилось хорошо и жена уже ходит, стал я похож на человека», — успокаивает он Некрасова. И уж чтобы совсем поставить точку на этом деле, прибавляет: «Хорошо, что эта глупая история кончилась».
Принял ли такое объяснение Некрасов? Этого мы не знаем. Можно только догадываться, что едва ли. Объяснение явно неудачное. Из сострадания к мукам беременной жены, опасения за ее здоровье будешь ли подумывать о том, чтобы застрелиться или утопиться? Топятся и стреляются скорее от несчастной любви, чем от сочувствия чужому страданию, хотя бы и обожаемой жены. Совершенно очевидно, что это объяснение было придумано Чернышевским для того, чтобы скрыть от Некрасова действительную причину своих многомесячных страданий. В чем же действительная причина их?
Точно так требует объяснения и вся тирада Чернышевского о том, что для него личные его дела «имеют более значения, нежели все мировые вопросы». Вот уж, прочтя это место, не скажешь, что Чернышевский «ясен и прозрачен». Исследователи обычно проходят мимо этого «странного» признания, которое никак не согласуется с привычными, сложившимися в литературе представлениями о Чернышевском. Писатель пройти мимо не имеет права. Ведь тут, может быть, ключ к разгадке характера, личности Чернышевского, а может быть — и всего его «учения», его «антропологической» социологии?
Собственно, так оно и есть. Действительно, в этом признании содержится ключ ко многим загадкам творчества и биографии Чернышевского, которых он оставил после себя немало. Это-то и открывается, когда смотришь на его творческое наследие «целостно», сопоставляя его «ученые» тексты с письмами и дневниками, со всеми известными фактами биографии, в которых так или иначе отразился его характер, с сюжетами и основными тезисами его художественных произведений.
Но я забегаю вперед. Я заговорил о впечатлении, произведенном на меня двумя письмами Чернышевского, чтобы объяснить, почему с головой ушел в тему Чернышевского. Тут была загадка, которую интересно было разгадать. Смысл же писем открылся, конечно, не сразу. Вначале были иные обнаружения, между прочим, и такие, которые удивляли своей очевидностью, которые лежали на поверхности последовательно-хронологической «проходки» текстов и фактов биографии писателя.
2
Что сразу же бросается в глаза при взгляде на наследие Чернышевского? То, что существует целый пласт его произведений, до сих пор, можно сказать, не тронутых исследователями, мимо которых, однако, никак не может пройти писатель.
Мы со школы знаем роман «Что делать?», позднее, знакомясь с научной литературой о Чернышевском, многое узнаем и о его «Прологе», втором крупном художественном произведении Николая Гавриловича, изданном при его жизни, правда изданном нелегально, за границей, русскими политэмигрантами. А вот о других его художественных произведениях — повестях, рассказах, пьесах, написанных, как и «Что делать?» и «Пролог», в заключении и в ссылке, мы мало что знаем, о них редко пишут, по существу они до сих пор не введены в научный оборот. Хотя некоторые из них не уступают его знаменитым романам ни по глубине и оригинальности содержания, ни по художественной выразительности. Я имею в виду прежде всего повести «Алферьев» и «История одной девушки».
Почему же к ним такое отношение? Отчасти это можно объяснить инерцией читательского интереса, точнее, безразличия к произведениям подобной судьбы, произведениям, которым не удалось пробиться к читателям в свое время, как это, по счастливому стечению обстоятельств, удалось роману о «новых людях» и «Прологу». Отчасти можно объяснить фрагментарностью, выборочностью изучения наследия Чернышевского, как то издавна сложилось в «чернышевсковедении». Как бы ни было, романист обязан пропустить эти произведения через себя, проверить логикой целостной личности Чернышевского, вписать их в эту целостность.
В первой из повестей, к сожалению, неоконченной, в «Алферьеве», речь идет о вещах, о которых до Чернышевского не говорилось в литературе, во всяком случае в художественной литературе, да и после Чернышевского сколько-нибудь основательно говорилось, пожалуй, у одного Достоевского, в его «Бесах», имеется в виду проблема участия нравственно и интеллектуально недозрелых, «недоделанных» людей в революционном движении. Причем у Чернышевского эта проблема решается не с нигилистических позиций, как у Достоевского, отвергающего в принципе самую идею социальной революции, а с позиций революционера-практика, ищущего практических путей преодоления отдельных отрицательных проявлений становящегося сознания «нового человека».
Молодой чиновник Борис Алферьев выходит в отставку, чтобы посвятить себя пропаганде радикальных убеждений, сложившихся у него под воздействием «всей обстановки» русской жизни. Заниматься пропагандой, оставаясь на службе, он не может, потому что боится привыкнуть к жизненным благам, обеспечиваемым хорошо оплачиваемой должностью. Пропагандирует он в обществе своих светских знакомых, и первым объектом его пропаганды оказывается молоденькая жена статского советника Андрея Федоровича Чекмазова — Серафима Антоновна. Алферьев часами разливается перед ней на тему о том, что жизнь человека должна быть служением общественной идее, и поскольку Серафима Антоновна слушает, не возражая, он проникается убеждением, что она женщина с возвышенной душой, а значит, несчастна в браке с мужем-карьеристом, и он решает ее спасти. Он излагает ей свою теорию свободы сердца, произносит тирады о ненужности верности в супружеских отношениях, о праве супругов на сторонние увлечения, в том числе и минутные — для «освежения чувства», тирады эти также не встречают с ее стороны возражений.
Алферьев пишет Андрею Федоровичу письмо, извещая, что они с Серафимой Антоновной любят друг друга и что он, Алферьев, намерен увезти ее. К изумлению Алферьева, в доме Чекмазовых, когда он является туда, его встречают как злодея. «Вы бесчестный человек, Борис Константинович, я даже не ненавижу вас — только презираю», — говорит ему Серафима Антоновна. Оказывается, его письмо для нее — полнейшая неожиданность, она вовсе не собиралась оставлять мужа ради кого бы то ни было, напротив, ради мужа-то, которому почему-то требовалось для его карьеры привечать Алферьева, и принимала Алферьева, и кокетничала с ним, терпела его бесконечные монологи, ей совсем не интересные. Она, бедная, даже заболевает от потрясения.
Итак, попытка Алферьева, этого «нового человека», вступиться за «гонимое существо», женщину, «спасти ее», обернулась несчастьем для «спасаемой».
Какой урок извлекает из этой истории герой? Сконфужен хотя бы? Нимало! «Я ошибся (в Серафиме Антоновне и Андрее Федоровиче. — В. С.)… Я поступал честно, и потому мне не в чем раскаиваться и нечего стыдиться», — только и скажет на это Алферьев. И… начнет новую историю, тоже связанную со спасением женщины. Но — это уже история совсем в другом роде. Это история, которая, по замыслу Чернышевского, должна реабилитировать Алферьева, показать, как он «исправляет ошибки». Эта линия намечена в повести, но повесть не завершена.
Излагал Чернышевский эти истории, конечно, не ради занимательности, сквозь «бытовые» сюжеты достаточно явственно проглядывают сюжеты социологические, точно так, как это было с его романом «Что делать?», непосредственно предшествовавшим «Алферьеву». Продолжая начатый в «Что делать?» анализ «натуры» революционера нового типа, проявившего себя в России в начале 1860-х годов, Чернышевский в «Алферьеве» сосредоточил внимание на негативных чертах этого человеческого типа, в определенных условиях могущих, это и показано в повести, компрометировать этот тип. Чернышевскому важно было схватить эти черты в живом образе, тем самым как бы поставить зеркало перед своими читателями-друзьями, помочь им увидеть в себе эти черты и поспешить от них освободиться. Он нимало не снисходителен к Алферьеву в первой истории, устами рассказчика называет его фанатиком, сумасшедшим, притом слепым сумасшедшим, homo insipiens didacticus (человек глупый, но поучающий). В эпизоде «освобождения женщины» героя повести подводят прямолинейность, «формализм и педантство» в приложении общих принципов к реальной жизни, опасная самоуверенность, с какой герой берется осчастливливать других, не считаясь с тем, как сами они понимают свое счастье. Внимательный читатель легко мог уловить вопрос-предупреждение автора повести: если подобные приемы в бытовой сфере ведут к катастрофам, то какими же последствиями они могут обернуться в социальной сфере?
Запечатлев негативные черты первого поколения «новых людей», Чернышевский ставил вопрос: безнадежен ли этот тип? И отвечал на него ясно и категорично: «только дураки и юноши смеются над ошибками юношей, — на первых порах как же не ошибаться, — это натурально».
К сожалению, повторяю, в повести лишь намечена линия «исправления» Алферьева. Можно, однако, догадываться, как бы происходило это исправление. Алферьев, надо полагать, вскоре стал бы действовать в духе героев «Что делать?».
В «Истории одной девушки» Чернышевский продолжает, также начатую в «Что делать?», тему женской эмансипации, ставит такие вопросы взаимоотношений полов, которые и до сих пор не потеряли актуальности.
Героиня повести Лиза Свилина, дочь мелкого провинциального чиновника, получила лучшее воспитание, какое только можно было получить девушке ее круга. Она рано пристрастилась к чтению, читала все, что попадалось ей в руки, а благодаря брату, студенту петербургского университета, и его друзьям, приезжавшим вместе с ним на вакации, принимавшим и ее в свою компанию, в ней пробудился интерес и к тем, социальным и политическим, вопросам, которые обсуждались в этом студенческом кружке. Лиза невольно приучалась критически смотреть на окружающее. Разъезжались студенты, и жизнь в родном городе с ее однообразными и мелочными заботами, размеренная, тихая, казалась особенно пресной. Пресными казались и молодые люди, с которыми она встречалась в знакомых семействах, танцевала, играла в горелки, фанты. И когда однажды один из них явился к ней в качестве жениха, она почувствовала, что лучше ей умереть, чем выйти за него. Она отказала ему.
История повторилась со вторым женихом. А потом и с третьим. А там уж к ней и свататься перестали. Она не горевала. Думала: она еще молода, подождет, может, еще и встретится человек, который не будет так непереносимо скучен для нее. А если и не встретится — что ж, она не будет в тягость родителям, она давно уже стала для них незаменимым помощником в доме.
А потом с Лизой стали происходить странные вещи. Собственно, странные — для нее. Ее стали мучить неудовлетворенные желания, нерастраченные, безуспешно подавляемые чувства. «Пароксизмы, по временам овладевавшие организмом» Лизы, доводили ее до обмороков. Справиться с нежданным наплывом страстей она была бессильна. Пыталась: изнуряла себя работой, постом. Но только довела себя до серьезной болезни, тяжелого нервного срыва.
Лизу спас брат. Он взял ее с собою в Петербург. Она оказалась в среде людей, о которых мечтала. И случилось то, что и должно было случиться: между нею и одним из молодых друзей брата возникли близкие отношения, Лиза родила ребенка. О браке между молодыми людьми не могло быть и речи, Лиза решительно этого не желала, хотя ее молодой друг и настаивал; он был моложе ее на несколько лет, у него не могло быть глубокого чувства к ней, она это понимала, было влечение, только, — на такой основе не построишь семейные отношения. Да и не могла Лиза себе позволить «портить чужую жизнь для спасения своей». Через некоторое время они расстались.
Потом у нее были близкие отношения с другим молодым человеком, который тоже был значительно моложе ее и с которым тоже не сложились у нее, и не могли сложиться, семейные отношения, хотя и от этой связи у нее появился ребенок, — не сложились по тем же причинам, почему не сложились и с первым ее другом. Лиза этим не смущалась. Она была счастлива. И была благодарна своим молодым друзьям. Она понимала: свою потребность любить она только и могла удовлетворить таким вот путем, внебрачными отношениями с достойными молодыми людьми, пусть и значительно более молодыми, чем она…
Вот такую историю рассказывает Чернышевский. При этом он подробнейшим образом анализирует психические и физические состояния своей героини. Он откровенно на стороне Лизы, считает допустимым не церемониться с традиционными моральными устоями, которые оказываются не соответствующими требованиям жизни. В моральном плане он ставит только одно условие свободным внебрачным отношениям: чтобы при этом не страдали дети: «…тут вопрос гораздо поважнее всякой морализации, — говорит один из героев повести о случае Лизы — как прокормить детей?»
Заметим, что и в «Алферьеве» Чернышевский немало места уделяет проблемам любви, брака, герой этой повести излагает свою теорию «свободы сердца», основательно разбирает вопрос, полезная ли вещь ревность в супружеских отношениях, и приходит к выводу о необходимости признать право супругов на сторонние увлечения.
Спрашивается: а почему, собственно, Чернышевский в этих произведениях уделяет такое внимание вопросам, казалось бы, далеким от вопросов общественных, от политики — своих главных интересов? Потому ли (как полагают некоторые исследователи), что эти произведения писались в крепости и не мог Чернышевский прямо обращаться к общественно-политическим темам и сюжетам, поскольку рассчитывал на выход в печать? — рассчитывал с помощью «невинных» в цензурном отношении тем и сюжетов семейно-бытового плана провести в печать мысли политические, а сами по себе семейно-бытовые темы и сюжеты не имели в его глазах цены? Положим. Но не слишком ли они оказались самодовлеющими в повестях? Это-то отчего произошло? Оттого ли, что Чернышевский просто не сумел соблюсти меру, уравновесить в повестях важное и неважное, и важное оказалось заслонено неважным? Или оттого, что «неважное» — не так уж и неважно, не так уж и отдалено от «главных интересов» Чернышевского, — семейно-бытовые сюжеты несут на себе самостоятельную серьезную нагрузку, сами по себе обладают общественно-политическим значением?
И еще вопрос: нет ли содержательной связи между этими сюжетами и теми характерными признаниями, какие сделал Николай Гаврилович в цитировавшихся письмах к Некрасову, когда рассуждал о значении «потребностей сердца» в жизни человеческой, своей собственной в частности?
И связь, конечно, есть. И смысл семейно-бытовых сюжетов конечно же серьезен, имеет прямое отношение к социологии Чернышевского, той самой, которую можно называть «антропологической»… Но об этом ниже.
3
Откуда взялось представление о Чернышевском как об «утопическом социалисте», проповеднике или даже основоположнике (или одном из основоположников, наряду с Герценом) теории «общинного социализма» — такого социализма, который будто бы мог быть введен в России на основе сохранявшегося в крестьянском быту обычая общинного владения землей, и притом введен очень скоро, в результате ожидавшейся не сегодня завтра победоносной «социалистической крестьянской революции»?
Такое представление о Чернышевском было до недавних пор довольно широко распространено, даже среди специалистов по Чернышевскому, и шло оно конечно же от самих «общинных социалистов», от народников, веривших, что своими представлениями о социалистских возможностях общины они обязаны именно Чернышевскому. Теперь такое представление постепенно изживается в литературе, уступает место более сложному пониманию существа концепции Чернышевского. Но оно еще не изжито вполне.
Когда, уже порядочно начитавшись Чернышевского, я пришел к моему знакомому литературоведу М. Д. и спросил его, убежден ли он, что социология Чернышевского сводится к общинному социалисту, он удивился:
— А разве не так? Но ведь, кажется, так всегда считалось? А вы что-то другое вычитали у него?
— Что вы у него читали об общине?
— Когда-то, помню, читал его полемику со славянофилами. Правда, меня тогда непосредственно интересовали Аксаковы, Самарин и компания, не столько его, сколько их взгляды.
— Его «Капитал и труд» читали?
— Как сказать? Заглядывал.
— И примечания к Миллю не читали?
— Не успел. Все собирался. То есть, конечно, тоже заглядывал, листал, когда сталкивался в литературе со ссылками на его Милля. Но прочесть — не собрался. Да и как соберешься? Был бы повод… Так что же вы из него вычитали?
«Был бы повод»… В том-то и дело, что Чернышевского нельзя читать «по поводу». Не «возьмешь» его так.
Называют Чернышевского утопистом. Мол, идеализировал русскую общину, ставил ее в основание грядущего социалистического переустройства России, доказывал, что Россия благодаря общине скорее перейдет на некапиталистический путь развития, чем любая из развитых европейских стран, в которых обычай общинного владения землей не сохранился… Русскую крестьянскую общину — и в основание социализма? Это — по Чернышевскому-то? Он сам так прямо и заявлял? Да как же не замечают, что не только в позднейших статьях (1860–1861 годов), но и в статьях 1857–1858 годов, непосредственно посвященных проблеме русской общины, Чернышевский прямо заявлял как раз совсем противоположное! Именно Чернышевский писал о том, что России, отсталой России, которая только еще «вовлекалась» в сферу действия законов крупного машинного производства, надо еще догнать европейские страны в «степени цивилизации», в первую очередь в экономическом отношении, прежде чем здесь «почувствуется потребность» во введении «союзного производства и потребления», основ социалистической экономики, — пока эта потребность чувствовалась «еще не повсюду», «еще не существовала в привычках земледельца», «пока долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других». Именно Чернышевский писал о том, что даже в европейских странах, где потребность во введении новых, социалистических, основ «теперь уже чрезвычайно сильна», обеспечена экономическим развитием, для введения этих основ нужен «гигантский труд»: «надобно путем разумного убеждения перевоспитать целые народы», низы которых, «огромнейшая масса… еще погрязает в невежестве», «вселить новое убеждение, и не только вселить его, но и утвердить до такой силы, чтобы оно взяло верх над обычаями и привычками, которые чрезвычайно сроднились со всем образом жизни тех племен».
Как все это понять? Попробуем разобраться.
Да, Чернышевский много писал о русской общине. Да, он придавал большое значение общинному способу пользования землей, общинному владению, действительно ставил принцип общинного владения (общественной собственности) в основание грядущего «нового экономического порядка», социализма. Но разве только один этот принцип он ставил в основание будущего экономического порядка? Все достоинство русской общины заключалось, по Чернышевскому, в общинном владении, только. Во всем остальном она представляла собой собрание мелких и мельчайших крепостнических (или полукрепостнических) кустарных крестьянских хозяйств. Мог ли Чернышевский возлагать на эту общину какие-либо надежды, связанные с будущим?
Никаких надежд, связанных с будущим, на эту общину он не возлагал. С будущим связывал он не общину — связывал такую единицу хозяйства, какую в позднейших статьях («Капитал и труд», примечания к Миллю) и общиной-то уже не называл, предпочитая иной термин — ассоциация, промышленно-земледельческое товарищество или просто товарищество. Сходство между хозяйственной единицей будущего и общиной 1860-х годов было в одном: в Общинном владении. Но на этом их сходство кончалось. Чернышевский подчеркивал, что «между общинным владением без общинного производства и общинным владением с общинным производством разница неизмеримая».
Итак, если подробнее, «единица производительного хозяйства» будущего представляла собой, по Чернышевскому, ассоциацию, основанную не только на общинном владении, но и на общинном производстве («союзный» труд «хозяев-работников»), и общинном потреблении (продукт труда принадлежит трудящимся, распределяется по труду), притом эта ассоциация была крупным хозяйством («в каждом предприятии… сотни хозяев») и в высокой степени машинизированным. Мало того, и уровень сознания, образованности и нравственной выработанности составлявших ее членов был неизмеримо выше обыкновенного мужицкого, — «хозяева-работники» были способны не только управлять сложными машинами, в том числе, между прочим, и самоходными пахотными (паровыми плугами), и пользоваться достижениями науки — применять «различные агрономические улучшения», но и дельно, не ущемляя личного достоинства членов и не в убыток коллективному хозяйству, разрешать споры и конфликты, возникавшие в процессе коллективного труда и потребления, и даже «рассчитывать» (планировать) вместе с государством (конечно, с таким государством, правительство которого «имеет верные понятия о законах экономической жизни») перспективу деятельности на годы, успешно избегая «непроизводительных» и «напрасных» растрат труда — причин кризисных явлений, неизбежных при экономическом порядке, основанном на «соперничестве» (капиталистической конкуренции). «Хозяева-работники» выгодно отличались своими внутренними качествами и характером участия в производстве, «характером труда» (большей самостоятельностью, заинтересованностью в общем труде, более добросовестной и, соответственно, более производительной работой, большей удовлетворенностью своим положением, чувством собственного достоинства и пр.) от наемных работников современных им частнособственнических предприятий, важное обстоятельство, указывающее еще на одно (помимо «расчетливости экономии») существенное преимущество социалистического производства перед частнособственническим — в эффективности и в человечности. Все это доказывало (пока, конечно, лишь теоретически), что социалистическое общественное устройство явится правомерным преемником системы наемного труда, придет ему на смену как действительно более совершенная форма организации общества.
При этом Чернышевский не уставал повторять, что это еще не скоро будет, — будет, но «в слишком отдаленном будущем».
Ясно, что такая ассоциация не могла развиться непосредственно из патриархальной общины. Источником ее происхождения должны были быть особые причины, внешние по отношению к общине. Какие причины?
По Чернышевскому, для перехода России на некапиталистический путь развития требовалась перестройка всей жизни современного русского общества, всех его учреждений («Все вздор перед общим характером национального устройства»), требовалась перетряска и его духовных ресурсов — решительная перемена характера «умственного развития» нации («Прогресс основывается на умственном развитии… основная сила прогресса — наука, успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний») и «характера мыслей у населения» («благосостояние массы зависит от ее убеждений и не возвысится до тех пор, пока не распространятся между людьми известные убеждения»). А для того чтобы это произошло, нужно было, чтобы «общий ход жизни» привел к неотвратимости перемен. По Чернышевскому, общественные «потрясения или ниспровержения» производятся «фактами жизни, — общественными отношениями и великими историческими случайностями вроде какого-нибудь неурожая или другого бедствия», например, войны. Что в сравнении с этими грандиозными факторами мог значить сохранившийся в России обычай общинного владения землей?
Община была для Чернышевского удобным поводом говорить с читателем о вещах гораздо более важных, чем вопрос о том, нужно или не нужно содействовать сохранению в России общинного владения. Под предлогом обсуждения этого вопроса, дозволявшегося цензурой, Чернышевский обсуждал проблемы социализма и коммунизма, которые только на поверхностный взгляд цензоров казались связанными с проблемами существовавшей тогда в России общины. Вот и вся польза от общины, весь ее, в глазах Чернышевского, вклад в дело будущего, в дело прогресса, социализма.
Впрочем, какую-то практическую, хотя в какой-то мере ощутимую пользу все-таки можно было извлечь из той общины: она могла послужить если не будущему нации, не прогрессу как таковому, то — настоящему, какое-то время она могла быть некоторым противоядием против «страданий пролетариатства», могла уберечь от слишком быстрого разорения освобождаемых от крепостной зависимости крестьян. И это само по себе было неплохо, считал Чернышевский, и в 1857–1858 годах ратовал за сохранение общинного начала в крестьянстве: «…мы заботимся о настоящих потребностях, а не о том, что было нужно триста лет назад или будет нужно через триста лет вперед», — в характерной иронической манере «объяснял» он в одной из статей, почему в этой статье больше говорит о благотворности общинного владения, чем о благотворности «общинного союза для производства работ».
Что во всем этом такого, что можно назвать «утопическим»? О какой «идеализации» Чернышевским русской общины тут можно говорить? Во всех его рассуждениях о возможностях — не общины, нет, — промышленно-земледельческих товариществ проглядывает стремление нащупать конкретную социально-экономическую структуру будущего «общества трудящихся». Тут — подступы к политической экономии общества будущего, политической экономии социализма. И приходится только удивляться прозорливости писателя, в своих конкретных описаниях будущих крупных «машинизированных» сельскохозяйственных предприятий во многом угадавшего черты «коллективных хозяйств» нашего времени и даже определившего направление их совершенствования, важное и сегодня: неустанная забота о дальнейшем «совершенствовании работника» — развитии качеств «хозяев-работников». Между прочим, качества «хозяев-работников» должны, по Чернышевскому, развиваться, помимо всего прочего, и посредством совершенствования механизма «общинного потребления», чтобы при любых формах взаимоотношений с государством «хозяева-работники», производственные товарищества имели преимущественное право распоряжаться продуктом своего труда, — мы только сегодня и поняли вполне значение этого положения, когда жизнь заставила искать пути повышения хозяйственной самостоятельности производственных коллективов, расширения их экономических прав.
Все эти соображения по поводу характера социализма Чернышевского я высказал М. Д. Он выслушал, сказал:
— Ну, положим, что действительно Чернышевского трудно свести к общинному социализму. Положим, что и идеалистом не назовешь. В нем действительно есть что-то, что вызывает на память образ пророка, провидца, пользующегося при этом научной методологией. Да, в научности ему, пожалуй, не откажешь, тут я могу с вами согласиться… Но ведь этим не снимается вопрос о его концепции в целом. Или, может быть, вы и то скажете, что у него была-таки целостная концепция?
— Скажу.
— В чем же она? Можете вы ее изложить?
В самом деле, в чем суть того, что мы привычно называем «учением», «концепцией» Чернышевского, и не всегда, может быть, задумываемся над тем, а что, собственно, мы понимаем под этим? Не принимаем ли мы порой часть — за целое? Фрагмент — за всю картину?
4
Если коротко выразить то главное, что составляло суть многолетних теоретических поисков Чернышевского, — это стремление раскрыть «тайну всемирной истории», найти причины мучительно медленного и трудного, с неизбежными периодами застоя и реакции, хода исторического прогресса и способы ускорить и облегчить этот ход. Читая статьи Чернышевского из раздела «Политика» и других разделов, сопоставляя с ними его художественные произведения, труды по политической экономии, видишь, как билась мысль Чернышевского над разгадкой этой «тайны», как постепенно складывалась его социологическая концепция.
Чернышевский рано понял важнейшую роль в историческом процессе массовых движений, народных революций. Путь революционных потрясений, революционной ломки — «обыкновенный путь к изменению гражданских учреждений». Во время «кратких периодов усиленной работы», то есть во время революций, совершается «девять десятых частей того, в чем состоит прогресс». Революции, эти редкие и кратковременные состояния общественной жизни, обычно успевают так основательно потрясти здание общественных институтов и законов, что никакой реставрации потом уже не удается восстановить прежние порядки в первоначальном виде, какая-то часть наследия революции неизбежно принимается возвращающимися к власти «защитниками старины» — они вынуждаются «двигаться дальше».
Разумеется, путь революционных потрясений — не единственный путь прогресса. Оговорка Чернышевского относительно «девяти десятых частей» прогресса — не случайна. Уж по крайней мере на одну-то десятую прогресс, по Чернышевскому, может осуществляться, и осуществляется, и в «ленивое» время. За счет чего? За счет самопроизвольного развития знания, не прекращающегося вполне и в периоды общественной реакции свободного творчества человека, творчества во всех областях — в науке, в экономике, в техническом деле. «Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д.… Наконец всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране… прогресс — результат знания».
Конечно, Чернышевский не был бы Чернышевским, если бы при этом забывал связывать «умственное развитие» с «обстоятельствами экономической жизни». Он сам упрекал за это Г. Т. Бокля, автора «Истории английской цивилизации». Выделяя «коренную мысль» Бокля о том, что история движется развитием знания, и называя ее «верным понятием», он добавлял — для «полной истины» это понятие нужно дополнить политико-экономическим принципом: «развитие двигалось успехами знания, которые преимущественно обусловливались развитием трудовой жизни и средств материального существования». Обусловливались «преимущественно»…
Вот именно, что «преимущественно», не абсолютно. Чернышевский не был бы Чернышевским и в том случае, если бы не признавал способности человека к свободному, не детерминированному внешними материальными обстоятельствами творчеству. Чтобы разорвать порочный круг — успехи знания обусловливаются обстоятельствами материальной жизни, которые в свою очередь обусловливаются успехами знания, — есть только одно средство: признать такую самопроизвольную творческую способность человека. Отсюда и оговорки: «девять десятых», «преимущественно». Вообще в способности к свободному (произвольному) творчеству, в том числе и к творчеству по отношению к себе самому, в способности самовыработки, заключается, по Чернышевскому, одно из коренных определяющих начал человека. К этому мы еще вернемся.
Путь революционных потрясений, по Чернышевскому, это и не лучший способ разрешения социальных коллизий. Этот способ «слишком дорого обходится» каждому государству, и «счастлива нация, когда прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий». Вот только в жизни так, увы, почти не случается. «Совершенно хладнокровно, спокойно, обдуманно, рассудительно делаются только вещи не слишком важные», — замечает Чернышевский. При этом он ссылается на исторический опыт: «Посмотрите, каким путем уничтожался феодализм, или обращалась в ничтожество инквизиция, или получались права средним сословием, вообще уничтожалось какое-нибудь важное зло или вводилось какое-нибудь важное благо». Все сколько-нибудь значительные улучшения в жизни людей добывались тяжелой ценой борьбы, лишений, жертв. Так было до сих пор. Такова реальность, с которой нельзя не считаться.
Наблюдая за ходом событий в странах Европы, изучая недавнее прошлое этих стран, Чернышевский видел: в новой истории не было еще ни одной вполне удавшейся революции, ни одна из них непосредственно не привела к победе интересов тех, кто в ней был особенно деятельным и самоотверженным участником, — к победе народных масс. «Работа никогда не была успешна, — описывал он характерное развитие революционных событий, — на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества, и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застой». Мало того, даже в тех счастливых случаях, когда народ «приобретал самодержавие», он тут же его терял — передавал первому попавшемуся проходимцу, плуту вроде Кромвеля или Наполеона. Требовался цикл революций, прежде чем какое-либо из насущных народных требований могло осуществиться в жизни.
И требовалось время, чтобы эти перемены в народной жизни, перемены к лучшему, можно было заметить! «Исторический прогресс, — объяснял Чернышевский, — совершается медленно и тяжело — вот все, что мы хотим сказать; так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона. Чтобы убедиться в его неизменности, надобно сообразить ход событий за довольно продолжительное время…» Иногда для этого и столетия мало.
В чем же причины такой несовершенной работы «двигателя исторического развития»? И что нужно для того, чтобы сделать его работу более производительной, если не может пока история обойтись вовсе без этого дорогостоящего механизма?
Чернышевский выделял несколько причин ничтожности успехов революционного движения в Европе за два столетия. Первая и важнейшая из них — недостаточная сознательность масс, участвующих в революционном движении, отсутствие у них ясных и твердых убеждений, аполитичность. Простолюдин, писал Чернышевский, интересуется почти исключительно своим материальным положением и не понимает главного — связи своего положения с общим характером национального устройства. Он ненавидит своего непосредственного угнетателя и в этой ненависти «не доходит до отдаленнейшей и коренной виновницы бедствий — до правительственной системы». Созидательная, действительно решающая роль в истории народных масс, по Чернышевскому, — в будущем. Пока же только «самая ничтожная доля» населения каждой передовой страны участвовала в революционном движении сознательно, «а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард — среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности».
Другой важной причиной неудач европейских революций Чернышевский считал отсутствие единства антифеодальных сил, союза между революционерами и «модерантистами» — сторонниками прогрессивных реформ, либералами. На исторической сцене действуют, по Чернышевскому, три политические силы — революционеры, модерантисты, реакционеры. «Но борьба требует только двух лагерей: собственно борьбу ведут между собою только две из трех партий, более сильные, а третья должна примыкать к одной из них на то время, пока они вместе одолеют третью, чтобы уже потом разделаться между собою». При такой раскладке сил союз между революционерами и модерантистами — наиболее естествен, потому что «модерантисты и революционеры одинаково хотят прогрессивных реформ и разнятся между собою только в понятии о средствах к успешнейшему их осуществлению». И когда такой союз осуществляется, его результатом «бывает произведение изменений, одинаково нужных обоим союзникам, и спор о способе осуществления сам собою исчезает, когда дело исполнено тем или другим способом». Но беда в том, что в истории такой союз осуществлялся редко или же бывал очень непродолжителен: «В 1789 году ученики Монтескьё подавали руку ученикам Руссо и аплодировали парижским простолюдинам, штурмовавшим Бастилию. Через несколько лет они уже составляли заговоры для восстановления Бурбонов».
Существеннейшей, часто непосредственной причиной поражения народных масс в финале революций Чернышевский считал роковую роль «зла» в истории, влияние на ход событий «дурных людей», «плутов» с их интригами, иными словами — влияние на события низких нравственных качеств «вождей революции», людей, волею обстоятельств оказывавшихся на гребне событий, во главе революционных масс. Чернышевский постоянно, и в своих политических статьях, и в романах («Что делать?» и «Пролог»), подчеркивал тот факт, «что на ход исторических событий гораздо сильнейшее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные; что в истории гораздо сильнее были всегда рутина, апатия, невежество, недоразумение, ошибка, ослепление, дурные страсти, нежели здравые понятия о вещах, знание и стремление к истинным благам». В своих обзорах «Политика» он не жалеет места для характеристики государственных деятелей XIX столетия: Меттерниха, Гизо, Луи Филиппа, Луи Наполеона, Кавура, Дизраэли, Пальмерстона, людей «чрезвычайно замечательных» со стороны «уменья пользоваться обстоятельствами для своих видов [для устройства своих дел…]».
То есть тут Чернышевский вводит в историческое исследование свой антропологический принцип, изучает «натуру» конкретных исторических деятелей, пытаясь через их личностные качества объяснить ход событий, в которых они принимали непосредственное и важное участие. Это-то и позволяет ему проникнуть в «тайну всемирной истории», выявить причины трудного хода исторического прогресса, найти выход из «порочного круга» истории. В полной мере выразить это свое открытие, объяснить, в чем же заключается выход, Чернышевскому удалось в «Что делать?».
Наконец, Чернышевский выделял и такую причину поражений революций, как неумение сообразить цели и средства в борьбе. Чернышевский не отказывал революционерам в праве применять, при необходимости, «решительные меры» в борьбе с «защитниками старины». В обзоре «Политика» за октябрь 1859 года он писал: «Кто берется за дело, тот должен знать, к чему поведет оно; и если не хочет он неизбежных его принадлежностей, он не должен хотеть и самого дела. Политические перевороты никогда не совершались без фактов самоуправства, нарушившего формы той юридической справедливости, какая соблюдается в спокойные времена. Перевороты волнуют народное чувство, взволнованное чувство забывает о формах. Кто не знает этого, тот не понимает характера сил, которыми движется история, не знает человеческого сердца. Человек, который принимает участие в политическом перевороте, воображая, что не будут при нем много раз нарушаться юридические принципы спокойных времен, должен быть назван идеалистом». И далее: «Только энергия может вести к успеху, хотя бы к половинному, если полного успеха почти никогда не дает история; а энергия состоит в том, чтобы, не колеблясь, принимать такие меры, какие нужны для успеха… Кто не хочет средств, тот должен отвергать и дело, которое не может обойтись без этих средств».
Но он понимал и то, что злоупотребление «решительными мерами» неизбежно ведет к извращению смысла и целей «доброго дела», обращению его в свою противоположность. В одном из писем сыновьям из сибирской ссылки (от 15 сентября 1876 года) Чернышевский прямо писал о том, как он понимает соотношение целей и средств в революционной борьбе, выразил свое отношение к «подлому», по его выражению, иезуитскому правилу «цель оправдывает средства». «Нет, она не может оправдывать их, — писал он, — потому что они вовсе не средства для нее, хорошая цель не может быть достигаема дурными средствами. Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели, а для хорошей годятся только хорошие… они (дурные средства. — В. С.) годятся лишь для негодяев, желающих туманить ум людей и обворовывать одураченных. Средства должны быть таковы же, как цель».
Да, но вот вопрос: как решить, какие средства можно, а какие нельзя применить в борьбе, — есть ли для различения хороших и дурных средства надежный критерий? В чем он? Об этом много думал Чернышевский. «Зло и добро, — писал он в упомянутом октябрьском обзоре „Политика“ за 1859 год, — так тесно смешаны в мире, что нет доброго дела, в котором не было бы сторон дурных, нет дурного дела, в котором не было бы сторон хороших… Что ж тут остается делать? Надобно взвесить добро и зло, и если вам кажется, что в сущности дело хорошо, не смущайтесь тем, что есть в нем стороны дурные; если кажется, что в сущности дело дурно, не обольщайтесь тем, что в нем есть стороны хорошие». Условием применения революционерами «не совсем опрятных» способов действия Чернышевский считал безусловную «благотворность для людей» самого дела. Залогом же того, что революционеров не засосет разгребаемая ими грязь старого мира, были, по Чернышевскому, или по крайней мере должны были быть — должны были стать! — высокие «родовые качества» революционеров, — знание, умение довести дело до конца, нравственная чистота, полное бескорыстие.
«Родовые качества» революционеров… Вот, в сущности, тот ключ к разгадке «тайны истории», который искал Чернышевский и о котором поведал российскому читателю в 1863 году в романе «Что делать?». Внимательный, вдумчивый и подготовленный читатель, а роман предназначался прежде всего читателю, хорошо знакомому с кругом философских, политических, экономических идей, пропагандировавшихся Чернышевским в «Современнике», такой читатель легко схватывал разрешающую мысль автора: насущным требованием времени становится совершенствование «натуры» вождей и рядовых участников общественных движений, на историческую сцену должен явиться политический деятель качественно нового типа, в нравственном отношении противоположность Кромвелей и Бонапартов, иначе человеческая история так и будет совершаться своими малопроизводительными драматичными периодами. Практической заботой деятелей этого нового типа, адресовался Чернышевский уже прямо к русским революционерам, должно быть: неустанное просвещение масс, повышение сознательности простолюдинов — рядовых участников движения, увеличение своих рядов, объединение в крепко устроенное тайное общество.
Образами «новых людей» с их страстной жаждой знания и стремлением просвещать других, изображением их духовных исканий и практических действий с созданием производственных артелей социалистического типа, установлением связей с заводскими работниками и социалистической пропагандой в их среде, развитием сети подпольных революционных кружков, Чернышевский представил русскому читателю этот новый тип политического деятеля, раскрыл его правила, призвал молодежь вырабатывать в себе качества таких людей. В романе показано, как можно стать «новым» человеком, показано, что это в силах каждого человека, что это и в интересах каждого («О, сколько наслаждений развитому человеку!»), нужно только пожелать поработать над своим развитием, пожелать выйти из «преисподней трущобы» жизни на «вольный белый свет» («Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем… Желайте быть счастливыми — только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии: в нем счастье… Попробуйте — хорошо!»).
Призыв Чернышевского, как мы знаем, не остался неуслышанным.
5
Я уже говорил, что Чернышевский оставил после себя множество загадок, частью связанных с его революционными конспирациями — следствий этих конспираций, частью — с обстоятельствами его драматичной судьбы — между прочим, и с обстоятельствами его личной драмы, — вспомним его письма Некрасову за границу 1856–1857 годов.
Одна из таких загадок — история отношений Н. Г. Чернышевского с М. Н. Катковым и другими либеральными деятелями в 1861–1862 годах.
Известно, что в конце марта 1861 года Чернышевский ездил, вместе с сотрудником «Современника» Г. З. Елисеевым, в Москву к Каткову с «цензурным проектом», проектом всероссийского адреса редакторов журналов и газет с требованием отмены предварительной цензуры. Проект адреса был составлен группой петербургских редакторов. Инициаторами и непосредственными составителями проекта были, как можно предполагать, сам Николай Гаврилович и редактор «Экономического указателя» И. В. Вернадский. С 27 по 30 марта проект активно обсуждался на квартире Каткова в Москве редакторами московских изданий, которым предлагалось подписать документ. Москвичи отвергли проект петербуржцев и вместо него поручили Каткову составить подробную записку. Записка была составлена и одобрена редакторами. В сентябре было еще одно совещание редакторов у Каткова, на этом совещании, по некоторым источникам, снова присутствовал Чернышевский. Позже осенью записка — это, по существу, первое коллективное заявление русских литераторов — была представлена министру внутренних дел Валуеву.
Как писал Чернышевский Добролюбову 27 апреля 1861 года, он в то время совершил «еще несколько таких же подвигов». То есть был инициатором или участником еще некоторых общих с либералами общественных предприятий. Например, в начале апреля подал прошение о том, чтобы ему разрешили читать в Пассаже публичные лекции по политэкономии.
И эти «подвиги» совершал тот самый Николай Гаврилович Чернышевский, который был известен как решительный борец с либерализмом. Тот самый Чернышевский, который одновременно с хлопотами по поводу цензурной реформы, буквально в одни и те же дни, деятельно занимался чисто революционной работой. Накануне отъезда в Москву к Каткову, а всего вероятнее — в ночь на 26 марта, Николай Гаврилович пишет — или, как убедительно доказывает историк М. И. Перпер («Русская литература», 1975, № 1), диктует — своему молодому другу, родственнику жены А. В. Захарьину прокламацию «Барским крестьянам». 30 марта, прямо из квартиры Каткова, после очередного совещания с либералами, он идет на квартиру Вс. Костомарова, где установлен тайный типографский станок, и совещается с Костомаровым по поводу отпечатания своей прокламации, а возможно, что и читает оттиск первых страниц прокламации.
Любопытно и то, что Николай Гаврилович вступает в сотрудничество с Катковым в то время, когда Катков уже ведет свою разнузданную, в духе Булгарина, провокационную кампанию против «Современника», и прежде всего против самого Чернышевского. Осенней же встрече Чернышевского с Катковым, по-видимому, не мешает и то обстоятельство, что в июне — июле и сам Николай Гаврилович своими «Полемическими красотами» воздает должное Каткову и другим либералам.
Как объяснить эту, по видимости, непоследовательность Чернышевского? В самом ли деле это непоследовательность? А ведь именно так и расценивали его связь с либералами некоторые из его радикальных друзей-соратников, удивлявшиеся его «либеральным иллюзиям».
Дело, конечно, не в непоследовательности и не в «либеральных иллюзиях» Чернышевского. Если посмотреть на ситуацию глазами самого Чернышевского, который в обзорах «Политика» много раз писал о решающем значении политического союза между революционерами и модерантистами в их борьбе с реакционерами, если сообразить все суждения Чернышевского о специфических условиях России, об «образованных классах» и о народе, припомнить, что мы знаем об отношении Чернышевского к листку «Великорусс», выдвинувшему идею всероссийского адреса на имя царя с требованием политических реформ и конституции, и об отношении к кружку «чистого революционера» Заичневского, считавшего нужным, несмотря ни на какие перемены в стране после весеннего 1861 года военного усмирения мужицкой деревни, звать Русь к топору, — словом, если посмотреть на ситуацию с точки зрения целостной личности Чернышевского, то можно прийти к выводу, что тут мы имеем дело со сложной, неоднозначной политической линией, которая не сводилась ни к либерализму, ни, с другой стороны, к революционному экстремизму, всего меньше — к проповедничеству немедленной крестьянской революции, к призывам «в топоры» («Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее… народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию»). Можно прийти к выводу, что действиями Чернышевского и в 1861 году, как и за год, и за два года до этого, руководила мысль об объединении всех антифеодальных сил России с целью постепенной, основательной подготовки будущего движения, движения в высших — разумных — формах, сохранения и накопления сил для этого движения, предупреждения напрасной растраты сил.
Тема бесплодности несвоевременных выступлений «сторонников перемен» — важнейшая в работах Чернышевского разных лет. В романе «Пролог» его герой Волгин характерно рассуждает о «страшном уроке» нетерпения, проявленного французскими революционерами в 1839 году: «Видишь, в первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали несколько восстаний; неудачно; — рассудили: „Подождем пока будет сила“; ну, и держались несколько лет смирно; и набирали силы; но опять недостало рассудка и терпения; подняли восстание; — ну и поплатились так, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? — Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно, получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников… Ох, нетерпение! — Ох, иллюзии! — Ох, экзальтация!»
Не случайно, что и в обращении к народу, в прокламации «Барским крестьянам» Чернышевский призывает исподволь готовиться к «делу». Определив условие успеха: «надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись», — он призывает крестьян «до поры» именно этим и заниматься, не начинать дела, «покудова еще нет приготовленности». «А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит — спокойствие сохранять… Что толку, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить».
Итак, нужно готовиться и готовиться. Поэтому-то и Заичневского (прокламацию которого «Молодая Россия» Чернышевский осудил за нелепую запальчивость тона) можно не исключать из числа полезных для России деятелей, можно попытаться убедить его впредь быть осмотрительнее в заявлениях (и в Москву для переговоров с Заичневским едет от имени Чернышевского молодой революционер А. Слепцов). Поэтому же можно поддерживать и либералов, и даже участвовать в некоторых их акциях. Деятельность либералов воспитывает образованную молодежь политически, со временем молодежь пойдет дальше своих учителей. Вспомним, как похваливал Чернышевский в полемике с Катковым «Русский вестник», журнал служит приготовительным классом для будущих читателей «Современника».
6
У современников Чернышевского немало недоуменных вопросов вызывали упорство и увлеченность, с какими Николай Гаврилович, несмотря ни на что, из месяца в месяц и изо дня в день на протяжении всего 1860 года и доброй половины 1861 года переводил многотомный труд английского экономиста Д. С. Милля «Основания политической экономии» и писал обширнейшие комментарии к нему. Главное, что удивляло, — в какое горячее время занимался он этой, по видимости несвоевременной, работой! В стране отменяется крепостное право, недовольные его неполной отменой, бунтуют крестьяне, царские войска расстреливают крестьян, появляются первые революционные прокламации, а признанный глава «радикального оркестра» сидит в своем кабинете и гонит, гонит ежедневно вороха страниц убористого, трудного для понимания текста. Вместо того чтобы отдаться прямой революционной агитации, поддерживать революционный дух читателей «Современника», заполняет страницы журнала академической наукой. Зачем? Почему?
Сам Чернышевский не оставил удовлетворительных объяснений насчет своих занятий Миллем. Я попробовал реконструировать ответ в своем романе «Властью разума», мобилизовав свои знания о Чернышевском — социологе, политике, человеке. Одному из своих учеников, Мосолову, он объясняет, почему считает важным заниматься Миллем: «…Милль стоит хорошей политической программы. Впрочем, дело не в самом Милле. Нам с вами, Мосолов, надо думать не только о том, что делать сегодня, но и о том, что мы будем делать после того, как поломаем старый порядок. На каких экономических основаниях будем строить новый мир? Это мы должны хорошо себе представлять». И дальше: «Знание политической экономии ныне — это и практическая необходимость, Мосолов. Без этого знания не стоит и браться за дело будущего: ничего хорошего не построим, все жертвы будут напрасны. Пришло время смитовой политической экономии противопоставить политическую экономию будущего общества трудящихся. Милль — с определенными поправками, конечно, — дает такую возможность… то есть не Милль дает, а поправки к нему дадут, надеюсь. Милль — прекрасный повод к ним… Но этого мало. То есть теперь мало просто знать политическую экономию. Надобно уже и стараться вытягивать из будущего в настоящее все, что только можно вытянуть, что могут позволить вытянуть обстоятельства. Вот теперь некоторые господа пытаются устроить промышленные ассоциации по социалистическому принципу, устраивают коммуны. Работники приучаются к труду и жизни по-новому. Да не где-нибудь это делается, не на Маркизовых островах — здесь, в Петербурге. Это ли не дело?» — «Дело», — согласился Мосолов. — «Может быть, это теперь самое важное дело. А вы говорите — зачем Милль?»
7
Вернемся к письмам Чернышевского к Некрасову 1856–1857 годов. В чем же все-таки была действительная причина мучительных душевных переживаний Николая Гавриловича в то время, неужели и правда вызваны они были лишь опасением за жизнь жены, у которой были трудные роды? Нет, причина была более деликатного свойства. Теперь можно об этом судить вполне определенно.
Но прежде чем говорить на эту тему, нужно решить один существенный предварительный вопрос. До каких пределов можем мы, исследуя жизнь реального исторического лица, входить в его личную жизнь, жизнь сердца? Имеем ли и вообще такое право? Допустимо ли касаться глубинных, интимных сторон чужой жизни, обычно тщательно скрываемых каждым от постороннего глаза?
Мне кажется, двух ответов тут быть не может. Конечно, исследователь имеет право касаться любых сторон жизни изучаемого исторического лица, всего, что может вести к истине человеческого существования. Есть ли пределы проникновения в чужую жизнь? Нет пределов, если личный опыт человека, тем более великого человека, служит школой для потомков, если мы можем извлечь урок из этого опыта. Да великие люди и сами больше всего на свете желали, для того и трудились, и жили, чтобы обретенный ими опыт весь, без остатка, перелился, вошел в плоть и кровь потомков, человечества!
К Чернышевскому это особенно относится. Опыт его жизни выражен в образах его художественных произведений, прямо вошел в его социологию, проявившись в его концепции человека, «нового человека».
Так что же было причиной его мучительных переживаний? Переживаний, по всей видимости, не прошедших для него бесследно, если они вызвали такие его признания, которых от него, кажется, в то время никак нельзя было ожидать? Чтобы ответить на это, нужно представить себе историю отношений Николая Гавриловича и его жены Ольги Сократовны.
Нельзя сказать, что женились они по большой любви. Дневники Чернышевского начала 1853 года дают возможность судить о том, что происходило в то время в его душе. Еще до знакомства с Ольгой Сократовной он стал бывать в обществе, чего избегал прежде, прожив в Саратове после окончания университета, проучительствовав в гимназии полтора года, «начал любить волочиться», как записал он в дневнике, по обыкновению стараясь выражаться с предельной прямотой. У него были самые серьезные намерения насчет молодых девиц, которых он встречал на вечерах у знакомых, на балах. Он мечтал встретить девушку, которая могла бы стать его женой и другом, другом на всю жизнь, которую он мог бы любить всю жизнь, притом одну всю жизнь. («Пусть у меня будет одна любовь. Второй любви я не хочу».) При этом ему хотелось, чтобы это сделалось возможно скорее. Все его мысли о будущем, о своей работе были связаны с Петербургом, он собирался вернуться в Петербург, но явиться туда он хотел, предварительно устроив свои «сердечные дела», уже человеком женатым или по крайней мере женихом. «А если я явлюсь в Петербург не женихом, я буду увлекаем в женское общество своею потребностью… И любовь помешает работе». Притом ему хотелось найти невесту именно не в Петербурге. «Да и какие девицы в Петербурге? Вялые, бледные, как петербургский климат, как петербургское небо».
Его всерьез увлекла юная Катя Кобылина, дочь председателя саратовской казенной палаты. Он решился было уже и объясниться с ней, долго обдумывал, как говорить с ней, хотел бы сказать: «Вам приходит время любить; может быть, вы в опасности выбрать недостойного; выберите же меня, потому что я люблю вас искренно, и эта любовь во всяком случае не будет для вас опасна». И он уже начал объяснение, во время кадрили: «Катерина Николаевна, прежде всего, я должен сказать, что я говорю серьезно и совершенно искренно. Для меня чрезвычайно трудно сказать то, что я решился, наконец, сказать. Но я все-таки скажу…» Неизвестно, как бы сложилась судьба Николая Гавриловича, если бы ему позволено было договорить, но девушка перебила его: «С кем вы танцуете следующую кадриль? Танцуйте с Софьей Юрасовой. Полюбезничайте с нею…» Ему дали понять, что его поняли, но не желают, чтобы он продолжал. Объяснение не состоялось. Пока, решил Николай Гаврилович. Просто оно откладывалось на время. Спустя какое-то время можно будет и повторить попытку.
Между тем он стал ухаживать, «волочиться», за другой барышней, милой, доброй и умной Катей Патрикеевой.
А через несколько дней встретился, на вечере у родственников, с Ольгой Сократовной, и она показалась ему девушкой, не меньше, чем Катя Кобылина или Катя Патрикеева, достойной его внимания и «любезничания». Прошло еще несколько дней, и он сказал ей те слова, которые не успел сказать Кате Кобылиной, был выслушан со вниманием и получил право надеяться на взаимность. Во всяком случае, получил право надеяться, что, если он сделает предложение, оно не будет отвергнуто с порога. Он сделал предложение — оно было принято. Николай Гаврилович и Ольга Сократовна стали женихом и невестой. Их свадьба состоялась 29 апреля; после их первой встречи минуло всего три месяца и три дня. В начале мая они уехали в Петербург.
Любили они друг друга? Много лет спустя, в феврале 1878 года, вспоминая пору своего жениховства, Николай Гаврилович признавался в письме к Александру Пыпину: «Влюблен в Ольгу Сократовну я был несколько часов, при первом нашем разговоре. Это был разговор в гостях, длился с обеда до конца вечера; как обыкновенно в обществе, с длинными перерывами… урывками, по нескольку минут. И, в продолжение нескольких часов, я был влюбленным. Но задолго до конца вечера это исчезло. Это нимало не похоже на мое чувство к Ольге Сократовне…»
В чем же было его чувство к ней? Может быть, лучше всего отвечает на этот вопрос более раннее признание Николая Гавриловича, и как раз времени его ухаживания за Ольгой Сократовной. Размышляя о том, почему ему нужно жениться на Ольге Сократовне, и возможно скорее, он записывает в дневнике (20 февраля 1853 года): «Я чувствовал, что если я пропущу этот случай жениться, то с моим характером может быть весьма не скоро представится другой случай, и пройдет моя молодость в сухом одиночестве…» Или вот еще, через несколько дней (4 марта 1853 года): «Если не женюсь теперь, на ней, — когда же? Бог знает когда, вероятнее всего — никогда…» То же он мог бы, пожалуй, написать, имея в виду и Катю Кобылину, если бы она оказалась к нему благосклоннее, подала надежду, что не бог знает сколько времени пройдет, прежде чем он сможет сделать ей предложение и быть уверенным, что получит ее согласие. Просто в тот момент из всех саратовских невест Ольга Сократовна оказалась девушкой, которая более других отвечала его видам на скорую женитьбу. Именно это побудило Николая Гавриловича остановить свой выбор на ней. Он не мог больше ждать.
Впрочем, какую-то роль в этом выборе сыграли и личностные качества Ольги Сократовны. Или, точнее, воображаемые Николаем Гавриловичем, приписываемые им Ольге Сократовне качества. Преувеличивая значение отдельных ее высказываний, поступков (однажды, например, на каком-то вечере, как слышал он, Ольга Сократовна, поднимая бокал, сказала: «За демократию»), он делал обнадеживающие заключения, будто в ее лице получает в жены человека, оригинально думающего, лишенного предрассудков, наделенного природным чувством справедливости, правда, человека малообразованного, но жаждущего если не самой истины, то уж во всяком случае знания, стало быть, со временем могущего стать его другом, соратником в его будущей деятельности. Но ведь точно так он мог бы романтизировать и Катю Кобылину, и Катю Патрикееву, и любую другую барышню, на которой остановил бы в то время свое внимание. Оснований для этого было бы ничуть не меньше, чем для романтизирования Ольги Сократовны. Очень скоро он в этом вполне убедился.
Что касается Ольги Сократовны, то она и не скрывала, ни весной 1853 года, ни позже, что выходила за Николая Гавриловича не по любви. Во время их объяснения, в феврале 1853 года, она призналась ему: «Вы мне нравитесь; я не влюблена в вас, да разве любовь необходима? Разве ее не может заменить привязанность?» «Это меня огорчило, — записал тогда же в дневнике Николай Гаврилович. — Я теперь чувствую — т. е. когда вот теперь пишу это — что у меня на глазах навертываются слезы…» По этой же причине (отсутствия любви) еще не раз будут у него навертываться на глазах слезы — и до венчания, и после венчания; между прочим, если забежим вперед, — и три года спустя, когда он будет из Петербурга писать Некрасову за границу о значении «потребностей сердца» в жизни человека.
Почему же она выходила за него? Он был для нее недурной партией. Не лучшей, положим. Не дворянин. Не богат. Но и ей в то время нужно было возможно скорее вступить в брак. Брак был для нее выходом из домашнего рабства — ее положение в доме деспотичной матери было мучительно. Притом ей было уже 20 лет, по тем временам для невесты немало. На стороне же Николая Гавриловича были те достоинства, что он имел репутацию человека необыкновенной образованности и ума, мечтал о Петербурге, рассчитывая на «место в университете» и занятия литературой, а ей тоже хотелось в Петербург. И характером был покладист да и своими понятиями о браке, о том, как он представлял себе их будущую совместную жизнь, обещал быть хорошим мужем. Он говорил ей: «По моим понятиям, женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства».
Он говорил, что будет ей во всем уступать — ее мнения ставить выше своих. Во всем. Кроме одного: своей работы. И она верила: так и будет. И так было…
И еще он говорил ей о «праве сердца быть всегда свободным», о том, что она всегда будет вольна поступать так, как ей покажется лучшим поступать. И даже если она потом, уже став его женой, полюбит кого-то другого, она будет вольна поступить, как ей подскажет сердце. Пусть общего с ней будет у него тогда только то, что они по-прежнему будут жить в одной квартире и она по-прежнему будет располагать его доходами, — пусть будет так, он готов на это. Конечно, говорил он, он будет страдать. Но быть совершенно в распоряжении у нее не перестанет. Потом, может быть, ей «надоедят легкомысленные привязанности», она почувствует «некоторую привязанность» к нему и вернется к нему, что ж, тогда он снова будет любить ее радостно, как любит теперь.
Правда, высказывая ей это, он надеялся, что этого не будет, именно в их браке не будет, что со временем Ольга Сократовна все же полюбит его. Тем не менее он считал своим долгом высказать ей это, открыть ей свои взгляды на брак, и не только открыть взгляды, но и внушить ей, что между его взглядами и его поступками не может быть разрыва, его понятия не допускают этого. Ее свобода — свобода действительная, и не на словах — это было одно из условий воспитания Ольги Сократовны в том духе, в каком хотел ее воспитать Николай Гаврилович, чтобы выработать из нее личность, равную себе, — мечтал, что у него будет «жена M-me Staël». А случилось бы ей воспользоваться своей свободой — что ж, он был готов с достоинством принять свой жребий, выполнить свой долг «порядочного человека».
И когда это действительно случилось, он действительно принял свой жребий с достоинством, выполнил долг «порядочного человека», в самом деле, как обещал, не перестал быть «в распоряжение у нее». Правда, он не ожидал, что будет так мучиться. Оказалось, не так-то легко подавить в себе чувство ревности, как он думал. Объясняя Ольге Сократовне теорию «перегнутой палки», он доказывал, что в развитом человеке ревности не должно быть, ревность — следствие взгляда на человека как на собственность, как на вещь. Но безумно трудно оказалось эту теорию осуществить… Мучился так, что дважды напивался пьян, что с ним никогда прежде не случалось, подумывал даже о самоубийстве…
Это — уже из самого Чернышевского, из его писем к Некрасову, тех самых, в которых он описывал свои душевные переживания, испытанные им в 1856 году.
Так вот, разгадка этих писем в том и заключается, что в них Николай Гаврилович описывал переживания, вызванные именно муками ревности, муками неразделенной любви, — этими муками, а не страхами за здоровье беременной жены (кстати, вполне благополучно разрешившейся).
Думать так позволяет известная история многолетней связи Николая Гавриловича, Ольги Сократовны и офицера Генерального штаба Ивана Федоровича Савицкого, с которым Чернышевские, как свидетельствует внучка Николая Гавриловича Н. М. Чернышевская, пережили «отношения, аналогичные отношениям Веры Павловны, Лопухова и Кирсанова» из романа «Что делать?». Эти отношения завязались давно, еще до 1856 года. (Между прочим, некоторые исследователи считают, что офицером, присутствовавшим на защите Чернышевским магистерской диссертации 10 мая 1855 года и ошибочно названным в мемуарах Н. В. Шелгунова Сигизмундом Сераковским, которого в то время еще не могло быть в Петербурге, был именно И. Ф. Савицкий. Кстати, известно, что Сераковского с Чернышевским познакомил, в 1856 году, Савицкий.) Об отношениях между Чернышевским и Савицким довольно подробно рассказывает В. А. Пыпина в книге «Любовь в жизни Чернышевского» (Пг., 1923). Некоторые сведения содержатся и в письмах Ольги Сократовны разных лет.
Николай Гаврилович справился с мучительными переживаниями. Справился с чувством ревности. Это было нелегко. Зато и удовлетворение, испытанное им в результате победы над собой, победы над своим эгоизмом, над собственническим инстинктом, было глубоким. Это было освобождающее чувство. И — обнадеживающее. Его победа свидетельствовала о возможностях человека. О неисчерпаемости человека. Он гордился этой своей победой. Об этом говорят его письма к Ольге Сократовне и к родным, об этом же говорят и его художественные произведения, в которых тема разумного разрешения коллизий в любви, в браке занимает важное место. Особенно — в «Что делать?».
Размышляя о том, каким должен быть «новый человек», Чернышевский выставлял в качестве одного из важнейших условий человеческой полноценности, совершенства «натуры» борца за социальную эмансипацию, наряду с интеллектуальной и нравственной выработкой, и эмансипацию чувств, признание прав «потребностей сердца», выработку культуры чувств. Изображая в «Что делать?» «новых людей», раскрывая их жизнь, их правила, показывая, как они, практически, отвечают на традиционный общерусский вопрос: что делать в безнадежных российских условиях? — не мог Чернышевский не показать и того, как же устраиваются эти люди в одной из самых важных для человека и самых неустроенных сфер отношений — в любви, в браке? Как разрешают, например, коллизию того же треугольника? Чернышевский показывает это. Проблему треугольника его «новые люди» разрешают не только посредством самопожертвования (одних для счастья других), но и посредством расширения границ брака, в данном случае — до пределов трех (или четырех?) человек. Вспомним сцену разговора Рахметова с Верой Павловной, когда Рахметов, после «ухода со сцены» Лопухова, излагает Вере Павловне наилучший с его точки зрения способ разрешения ее с Лопуховым и Кирсановым ситуации: «Между тем как очень спокойно могли бы вы все трое жить по-прежнему, как жили за год, или как-нибудь переместиться всем на одну квартиру, или иначе переместиться, или как бы там пришлось, только совершенно без всякого расстройства…» В конце концов так герои и поступают. Лопухов, уже обручившийся с Катей Полозовой, возвращается «на сцену», снова входит в жизнь Веры Павловны и Кирсанова; обе семьи «перемещаются» на одну квартиру, при заводе, они «чрезвычайно близки», живут «как родные», «ладно и дружно»… Ревность? Ревности не следует быть — и она изгоняется «новыми людьми». Развитый человек все может с собой сделать. Главное — может, «волею разума», изменить свою «натуру».
8
Итак, с письмами к Некрасову как будто все ясно. Но тут вот какой возникает вопрос. Если и в самом деле в 1856 году Николай Гаврилович пережил мучительную душевную драму, связанную с «легкомысленными» увлечениями Ольги Сократовны, а в 1862 году положил эту драму в основание сюжета романа о «новых людях», причем «подал» эту драму совсем в иных тонах, чем тона, в какие окрашены известные нам письма его к Некрасову, то есть если в период работы над «Что делать?» он не то что уже не болезненно, но явно с чувством удовлетворения разбирался в деталях своей «истории» — удовлетворения за свою победу над собой, — то, спрашивается, когда же он впервые испытал это чувство удовлетворения, когда стал думать обо всей этой истории с удовольствием, радуясь случаю, позволившему ему испытать себя, позволившему, через себя, узнать нечто новое о натуре и возможностях человека вообще? — тогда же, еще в 1856–1857 годах? Едва ли.
В том-то и дело, что нет оснований говорить о том, будто Николай Гаврилович скоро и довольно легко справился со свалившимся на него испытанием.
Положим, что он скоро справился с чувством ревности, и уже в 1857 году, когда писал свое второе письмо Некрасову, мог без острых приступов отчаяния думать о случившемся («Стал похож на человека»); переболев — притерпелся к боли. Положим даже, что он мог и вовсе избавиться от боли, сделав, например, окончательный и грустный, но, в общем, спасительный вывод о своих вероятных перспективах в «личной жизни», вывод о том, что счастье (полное счастье, или счастье разделенной любви, или какое бы там ни было счастье) — не для него, не для таких людей, как он, и нечего, стало быть, сокрушаться по этому поводу, и нечего думать об этом; и перестал об этом думать, отстранил от себя целую сторону жизни, заключающую в себе сферу чувств, — отстранил как не могущую иметь для него значения, весь ушел в работу, чтоб было «ни до чего». Положим, что так. Но от всего этого до чувства удовлетворения еще далеко. В таком расположении духа будешь ли петь гимны любви, какие он пел в своих позднейших, художественных, произведениях, и благословлять миг, соединивший его когда-то с Ольгой Сократовной, как он благословлял, в позднейших же, письмах к ней («Если б я не встретился с тобою, мой милый друг… — писал он в 1888 году, — моя жизнь была бы тусклой и бездейственной, какою была до встречи с тобою. Если я делал что-нибудь полезное, то всею пользою, какую русское общество получило от моей деятельности, оно обязано тебе. Без твоей дружбы я не напечатал бы ни одной строки; только лежал бы и читал бы, не излагая на бумаге того, что считал честным и полезным… половиной деятельности Некрасова, почти всею деятельностью Добролюбова и всей моей деятельностью русское общество обязано тебе»)?
И вот что важно заметить. Его художественные произведения с проповедью «эмансипации чувств» и письма к Ольге Сократовне с выражениями восторженной признательности за ее «дружбу» появляются лишь после 1861–1862 годов! До этого Чернышевский в своих произведениях, в своих письмах (исключая известные нам два письма к Некрасову) вовсе не касался вопросов любви, брака, будто этой стороны жизни и в самом деле для него не существовало. Обратим внимание: эта сторона жизни, судя по его дневникам, занимала его чрезвычайно до 1853 года, до его женитьбы, а вот с этого момента и вплоть до 1861–1862 годов — перестала занимать. Кстати сказать, о том, что Чернышевский в эти годы действительно не придавал важности темам, обобщенно называвшимся «женским вопросом», прямо свидетельствует Н. В. Шелгунов в своих «Воспоминаниях». Чернышевский, по словам Шелгунова, «находил, что женский вопрос хорош тогда, когда нет других вопросов».
А в 1862 году он снова обращается к темам любви, брака, вводит их в свою социологию, придает первостепенное значение личной сфере, устроенности человека в этой сфере, — придает этой устроенности значение условия пригодности человека к участию в борьбе за лучшее общественное устройство.
Что же произошло? Был какой-то внешний толчок, событие, переживание, заставившее Николая Гавриловича посмотреть на свою «историю» новыми глазами? Толчок, который вывел его из «спасительного» заточения в работу, снова ввергнул в сферу чувств, волнений сердца, заставил ощутить их вкус, их самоценность? И отсюда — то его чувство удовлетворения? Что же это за толчок? И когда это было? В 1861–1862 годах?
Давайте пойдем к искомому от загадок художественных произведений Чернышевского и прежде всего от «Что делать?».
Если в «Что делать?» действительно прослеживается автобиографическое начало (а в этом не приходится сомневаться), и Лопухов — это сам Николай Гаврилович (кроме Н. М. Чернышевской, это же свидетельствует и О. С. Чернышевская) то невольно спрашиваешь себя: случайно или не случайно в романе изображена история второго увлечения Лопухова, его второго брака, брака с Катей Полозовой? И при каких же обстоятельствах заключается этот брак! Вера Павловна выходит замуж за Кирсанова; но ведь их с Лопуховым «добрые» отношения, какими они были в их браке, вовсе не изжиты до конца! Чтобы помочь Вере Павловне соединиться с Кирсановым, Лопухов даже и не исчезает полностью из ее жизни, лишь на время «удаляется со сцены» — только для того, чтобы устранились некоторые чисто внешние, формальные препятствия соединению Веры Павловны и Кирсанова, — и Вера Павловна это принимает: вспомним, как легко она утешается запиской, которую ей показывает Рахметов. Проходит время, и Лопухов, уже обручившийся с Катей, вновь входит в жизнь Веры Павловны. Все это, в сущности, означает, что оба они, Вера Павловна и Лопухов, оставаясь в прежних «добрых», родственных отношениях, позволяют друг другу вторую любовь.
Но что означает эта вторая любовь Лопухова с точки зрения того способа развязывать коллизии треугольников, который предлагает в романе Чернышевский? Означает ли она, что Чернышевский допускает, при определенных обстоятельствах, расширение границ брака не только до трех человек (ménage en trois — «брак втроем»), но и до четырех человек? Может быть, и больше? До каких же пределов? Должны же быть какие-то пределы брака, если, конечно, не отрицать сам по себе институт брака, — в чем они? А с другой стороны, нет ли аналога этого второго увлечения Лопухова, аналога его чувства к Кате Полозовой, — в реальной жизни, в жизни самого Николая Гавриловича?
Для того чтобы именно так поставить последний вопрос, есть основания. Нужно иметь в виду следующее. Характер отношений, сложившихся между Николаем Гавриловичем, Ольгой Сократовной и Иваном Федоровичем Савицким к весне — лету 1861 года, вовсе не был идиллическим, по летней переписке Ольги Сократовны и Николая Гавриловича можно заметить, что между ними в эти месяцы было определенное напряжение; летом 1861 года Чернышевский, впервые за годы брака, живет в Петербурге один, Ольга Сократовна с детьми и с Савицким — на даче в Павловске, Николай Гаврилович очень не часто, опять-таки на него не похоже, ездит к ним. В это время у Николая Гавриловича наступает довольно длительный перерыв в его кабинетных занятиях: в апреле — мае он часто отвлекается, а с начала июня вовсе откладывает, не кончив, перевод Милля, с конца же августа по середину сентября он — в Саратове, где, как пишет Добролюбову, «утопает в объятиях дружбы», никакой работой не занимается. Именно в 1861 году, в летние и осенние месяцы, Чернышевский особенно часто встречается с представительницами ширившегося женского движения, первыми студентками — слушательницами лекций в Петербургском университете и Медико-хирургической академии, где занимались и его двоюродные сестры Евгения и Полина Пыпины, встречается с зачинательницами разных общественных предприятий, вроде организации общежитий для бедных или швейных мастерских (известный кружок М. В. Трубниковой, дочери декабриста В. П. Ивашева). Среди близких знакомых Чернышевского — активистки женского движения Н. Корсини, Н. Суслова, М. Богданова, А. Блюммер, М. Обручева (Бокова). Эти молодые, образованные и думающие женщины, близко подходившие к идеалу женщины-друга, о котором мечтал Чернышевский и которым так и не стала для него Ольга Сократовна, не могли не вызывать его уважения и восхищения. Их общество, уж конечно, больше привлекало Николая Гавриловича в то бурное время первого пореформенного года, чем общество его жены, вовсе неинтересовавшейся общественными вопросами. Нет никакого сомнения в том, что именно этих женщин видел Чернышевский перед собой, когда писал Веру Павловну и Катю Полозову, их, а не собственно Ольгу Сократовну.
Так что же побудило его с таким энтузиазмом, решительно взяться, после 1861 года, за разработку тем женской эмансипации, брака и любви, эмансипации чувств, — головное ли решение? Или же произошло в его жизни живое событие, потрясшее его, которое и заставило его вновь обратить внимание на поразительную силу власти над человеком сферы чувств?.. Уже в самих эти вопросах слышится ответ.
Да, есть основания предположить, что весной — осенью 1861 года Чернышевский пережил сильное, глубокое чувство, вызванное в нем отнюдь не Ольгой Сократовной. Это эмоциональное переживание и наложило отпечаток на его последующее творчество. А прежде того — заставило внести коррективы в его теорию «перегнутой палки». Заставило пересмотреть весь круг громадной сложности вопросов, связанных с проблемой внутренней устроенности, личного счастья человека, осмыслить их социологически.
В романе о Чернышевском я попытался воссоздать эту историю возможного увлечения Николая Гавриловича. Это — гипотеза, и, как всякая гипотеза, она имеет право на существование постольку, поскольку опирается на весь арсенал уже добытого знания о предмете, о котором идет речь, и дерзает проложить тропку к новому знанию о нем. Для меня она важна тем, что, как мне кажется, дает ключ к пониманию некоторых идейных и сюжетных узлов «Что делать?» и других художественных произведений Чернышевского. Героиня романа Анна Аркадьевна Францева-Ремизова представляет собой попытку обратной реконструкции целой галереи героинь самого Чернышевского — и Кати Полозовой из «Что делать?», и Лизы Свилиной из «Истории одной девушки», и Полины Павловны из «Отблесков сияния», и других. А что из этой попытки вышло, судить, уж конечно, не мне — читателю.
Написал последнюю фразу и подумал: читатель, положим, составит свое суждение о высказанной гипотезе, но побудит ли это его обратиться к сочинениям самого Чернышевского? Хотелось бы, чтобы так было. А то как-то так получается, что чем больше пишется и говорится, накапливается с годами и десятилетиями высказываний о классиках, тем реже открываются страницы их собственных книг. И если читателя потянет к сочинениям Чернышевского, хочу посоветовать ему внимательно прочесть и иные из «недочитанных» произведений писателя, помимо тех, о которых речь шла выше. Прежде всего имею в виду два удивительных рассказа, «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле», написанных в форме восточной притчи и представляющих собою пророчество писателя о будущем, попытку вообразить дальнейшее развитие науки и техники и — возможную грядущую катастрофу человечества в случае, если технический прогресс будет слишком опережать прогресс социальный и нравственный. До самого последнего времени эти рассказы вовсе выпадали из поля зрения «чернышевсковедов». На них обратил внимание М. Пинаев в статье «Зоркость и предвидения художника-мыслителя» («Наш современник», 1978, № 11). Указав на провидческий смысл рассказов, на трагичность представленной в них коллизии, приводящей к использованию людьми ужасного оружия, действие которого основано на использовании энергии, подобной солнечной («сила солнца»), автор статьи замечает: «Трудно отрешиться от мысли, что эти строки писал узник далекого каторжного рудника за 75 лет до страшных атомных взрывов!»
Еще хочу посоветовать перечитать прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам», соотнести ее со статьями писателя 1861–1862 годов, и прежде всего с «Письмами без адреса». Подумать только, ведь до сих пор нет между исследователями единого мнения о том, кто написал эту прокламацию, действительно ли она принадлежит перу Чернышевского.
Еще…
Кажется, даже тему очерка невозможно «выработать» до конца, а все творчество Чернышевского неисчерпаемо, как неисчерпаема была его живая личность.
IV
И. Забелин Его космос
В середине прошлого столетия ни в Европе, ни в Северной и Южной Америке не было ни одного сколько-нибудь солидного научного общества, которое не числило бы Александра Гумбольдта своим почетным членом. И не имело значения, кого объединяло общество — ботаников или астрономов, географов или лингвистов, химиков или геологов, физиков или искусствоведов. Гумбольдт был, как говорится, «своим человеком» почти во всех областях современной ему науки, и не льстецы, а коллеги сравнивали его с древнегреческим философом Аристотелем, имя которого стало синонимом универсального научного гения… Есть ли в этом преувеличение?.. Вероятно. Но незначительное.
Во всяком случае, Александр Гумбольдт принадлежит к числу тех немногочисленных в истории человечества умов, творчество которых может быть определено как неисчерпаемое — каждое последующее поколение ученых будет открывать в его текстах новое и неожиданное.
И все же, при всей своей универсальности, Александр Гумбольдт был прежде всего географом. Его путешествие по Южной Америке при жизни стало именоваться «вторым открытием Америки». Христофор Колумб открыл Америку в прямом, физическом смысле — Александр Гумбольдт совершил научное открытие Америки, — так писали сто пятьдесят лет назад… Именем Гумбольдта названы горные хребты в Центральной Азии и Антарктиде, океаническое течение у берегов Южной Америки, реки, озера и населенные пункты в обеих Америках, кратер на Луне и трудно поддающееся учету количество видов растений, животных, минералов…
Александр Гумбольдт родился в семье отставного майора прусской армии, любителя парадов и карточной игры, который в один из периодов острого безденежья сумел покорить сердце чопорной, строгой, словно застегнутой на все мыслимые и немыслимые пуговицы, но зато богатой вдовы, у которой от первого брака был слабоумный мальчик… В новом браке случилось и по сей день биологически необъяснимое чудо: дама с всегда поджатыми губами и майор, гуляка-губошлеп, подарили человечеству двух гениев: Вильгельма, одного из величайших лингвистов и филологов (имя его присвоено Берлинскому университету в ГДР, который он же и основал), и естествоиспытателя Александра, младшего в семье, родившегося в 1769 году.
Майор довольно скоро умер, а матери не дано было угадать призвание своих сыновей. Случай обычный: мама видела своих сыновей в строгих мундирах государственных чиновников, о которых те вовсе не мечтали, и отправляла их учиться туда, где они учиться не хотели… Вторично овдовевшая, госпожа Гумбольдт хоть и направляла пути братьев умелой и жесткой рукой, но на образование денег не жалела и не мешала изучать даже совершенно ненужные государственному чиновнику предметы: зачем, например, государственному чиновнику рисование или ботаника, которыми увлекался Александр?.. Но фрау Гумбольдт не мешала ему: она не отступалась от ранее предначертанного, но материнская интуиция тоже не подводила ее, и сыновья получили великолепное образование.
А стать чиновником Александру Гумбольдту все же пришлось — горного департамента, правда, который более других департаментов соответствовал его вкусам и желаниям.
Здесь нет возможности подробно рассказывать об этом периоде в жизни Гумбольдта, но все же несколько моментов, его характеризующих, стоит выделить. В шахтах работали абсолютно неграмотные люди: передавался кое-какой опыт от старших к младшим — и все. Гумбольдт организовал первую в Европе (а вероятно, и в мире) школу для неграмотных горняков, в которой сам же и преподавал.
Беда шахт — рудничные газы, от которых гаснут свечи. Чтобы хоть немного облегчить труд своих «подопечных», Гумбольдт изобрел первую в мировой практике (англичанин Дэви сделал то же, но позднее) рудничную лампу. При испытании ее он отравился газом и потерял сознание. Его нашли еще живым, откачали, а Гумбольдт, к удивлению спасителей, крикнул: «Горит!» — и показал на свою непотухшую лампу: значит, изобретение состоялось!
Горнорудные дела свели юного Гумбольдта с таким же юным русским студентом Соймоновым, принадлежавшим к известному клану уральских мастеров горного дела, — их имя носит проезд у бассейна «Москва», — и Гумбольдт в буквальном смысле на всю оставшуюся жизнь «заболел» Россией. Он совершил большое путешествие у нас в стране, а последняя в его жизни строка оказалась посвященной Алтаю и Петербургу.
В заброшенных выработках Гумбольдт однажды обнаружил живущие почти в абсолютной темноте растения — мхи и лишайники (он их называет «тайнобрачными»). Эти блеклые, влажно-прохладные, поникшие долу стебельки Гумбольдт понял как торжество и всемогущество жизни. Мне кажется, что тогда и начался для Гумбольдта его Космос, в котором торжествует Жизнь.
Служба в горном департаменте все же тяготила Гумбольдта. Не потому, что было совсем не интересно, а потому, что Гумбольдт не умел быть подчиненным. Смерть матери и полученное довольно крупное наследство развязали ему руки, и он решил расстаться с горным департаментом, в котором занимал уже довольно видное место. В ответ на свое заявление Гумбольдт получил от старшего чиновника деликатное и весьма мудрое письмо. Письмо содержало вопрос, почему, собственно говоря, молодой человек стремится в некие дальние страны и не желает посвятить себя служению провинциям Силезии или Вестфалии?.. Да, соглашался старший чиновник, масштаб, конечно, не тот, но зато Гумбольдта ожидает ясное и обеспеченное будущее. Эти строки — тривиальны, и кому только не приходилось в молодые годы выслушивать нечто подобное! Но основной аргумент старший чиновник привел в конце письма: «Оставшись в провинциях Силезия или Вестфалия, — писал старший чиновник, — Вы не только хорошо обеспечите себя, но — самое важное! — познаете радость жнеца, собственными руками пожинающего плоды своих трудов, что крайне редко случается с учеными…» Вот это последнее высказывание и свидетельствует о мудрости старшего чиновника… Все свое состояние Гумбольдт истратил на путешествия по Южной и Центральной Америке и на издание 30-томного сочинения о природе, народах, истории посещенных стран. В последние дни своей почти 90-летней жизни Гумбольдт с некоторым удивлением обнаружил, что его банковский счет совершенно пуст, а главное свое сочинение — «Космос» — он все же не успеет довести до конца (Гумбольдт успел начать лишь пятый том, который намеревался посвятить Жизни и Человеку)… Сожалел ли Гумбольдт, что не послушался совета мудрого чиновника?
Едва ли.
Не удалась ему и личная свобода: вторую половину жизни он находился в немалой зависимости от прусского королевского двора, что особой радости ему не доставляло. Гумбольдт, правда, нашел для себя удобную личную позицию: он отождествил понятия «свобода» и «знания», а поскольку знания его были по тому времени почти безграничны, он, наверное, действительно ощущал себя свободным.
Себя, — но не все же могли таким способом обрести свободу. Он десятилетиями, систематически выступал против любых форм рабства. Гумбольдт заставил прусского короля подписать декларацию о немедленном освобождении всех чернокожих рабов, находящихся в пределах королевства. Оба прекрасно знали, что на территории Пруссии нет ни одного чернокожего раба, но Гумбольдт рассчитывал на международный политический эффект и оповестил о «благородном» жесте короля прусского всех своих друзей во всех европейских и американских столицах. После путешествия по России (научный результат — три тома под общим заголовком «Центральная Азия») Гумбольдт написал и такое: «Позор тем людям, которые продают негритянских детей. Русский царь должен также чувствовать укоры совести, так как его белые рабочие находятся не в лучших условиях, чем негритянские рабы».
В 1848 году по странам Европы прокатилась волна восстаний. Восстание охватило и Пруссию, и прусский король вынужден был пойти на удовлетворение некоторых требований восставших, — выйдя на встречу с ними, он растерянно раскланивался с балкона своего дворца перед стоявшими внизу вооруженными людьми.
А вооруженные люди потребовали, чтобы на балкон вышел Гумбольдт — они почему-то верили ему больше, чем законному монарху.
Гумбольдт вышел на балкон и сдержанно поклонился бурно приветствовавшей его толпе.
На следующий день состоялись похороны погибших во время восстания. Во главе процессии рабочих, студентов, бюргеров шел невысокий совершенно седой человек — Александр Гумбольдт, почти восьмидесятилетний старик, уже всем миром признанный одним из величайших ученых своего времени.
В огромном научном наследии Гумбольдта, как, впрочем, и в истории естествознания в целом, особое место занимает «Космос»: это итоговая книга и вершина в творчестве Гумбольдта. Но не случайно в названии своего очерка я не взял Космос в кавычки, — я хочу рассказать не только о «Космосе» как изданном сочинении, но прежде всего о Космосе как картине мира, созданной конкретным человеком. В этом смысле Космос Гумбольдта уникален, для меня нет сомнения, что о нем можно говорить как о явлении, соразмерном с Космосами Птолемея или Коперника. Ни Птолемей, ни Коперник не были поняты сразу, ничего удивительного нет и в том, что с Гумбольдтом произошло нечто подобное. «Космос» Гумбольдта увидел свет в период резко усилившейся дифференциации науки и оказался «шагающим не в ногу»: после шумных первых оваций о нем надолго забыли. Своеобразное возвращение к потомкам началось в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов нашего, разумеется, столетия.
Космические проблемы сейчас у всех на виду, у всех на слуху, но ведь мало кто знает, что в понятийном смысле, говоря о Космосе, мы, не ведая того, подразумеваем гумбольдтовский Космос, — именно он ввел это понятие в наше сознание и даже в наш быт.
Космос Гумбольдта непрост, хотя вполне доступен нашему разумению. Но некоторое усилие для его восприятия требуется, и я чисто по-человечески советую это самое некоторое усилие, приступая к чтению, сделать, ибо Космос Гумбольдта интересен.
Космос
Космос представляется Гумбольдту бесконечным. И все-таки в третьем томе «Космоса», рассуждая об этом, он как бы оставляет читателю возможность личного выбора, Гумбольдт начинает свои рассуждения с того, что с дальнейшим усовершенствованием телескопов будет оставаться все меньше неясного в окружающем нас мире, все меньше будет оставаться «туманов» (туманностей), природа которых не выяснена, но тотчас же предупреждает, что вместо «туманов» разгаданных те же телескопы выявят новые, загадочные, — и так — до бесконечности… Ежели дело будет обстоять иначе, — продолжает рассуждения Гумбольдт, — то могут быть предложены два решения:
первое — небесное пространство ограничено, замкнуто в себе, — тут невольно напрашиваются аналогии с релятивистской астрономией более позднего времени, с утверждениями физиков о конечности вселенной для логической увязки, например, со вторым принципом термодинамики (возрастание энтропии), и т. п.;
второе — вселенная образована мировыми островами (разрядка Гумбольдта), к «одному из коих и мы принадлежим»; острова удалены настолько друг от друга и от земного наблюдателя, что даже в далеком будущем ни один телескоп не достигнет «противоположного берега» вселенной; стало быть — бесконечность: Галактика, Метагалактика, иные метагалактики…
Методологически Гумбольдт придерживался принципа единства пространства и времени, и, следовательно, бесконечности пространства должна соответствовать бесконечность времени. Проявляя определенную осторожность, он явно уклонялся от проблемы возникновения вселенной (как и от проблемы возникновения жизни на Земле, о чем речь впереди). Сделать вид, что ее вообще не существует, Гумбольдт не мог. Он знал о гипотезе позднеантичного философа Прокла, жившего в пятом веке нашей эры, о возникновении вселенной из одной точки, которая содержит «все». И он читал знаменитый трактат «О свете», написанный в тринадцатом веке английским епископом, главою Оксфордского университета, Робертом Гроссетестом. Гроссетест признавал свет материальным, и уточняя Прокла, предположил, что первоначальная точка была «точкой света». Советский историк науки И. Н. Лосева так комментирует эту позицию: «По словам Гроссетеста, „свет по своей природе распространяется во все направления таким образом, что световая точка будет тотчас же создавать сферы любых размеров“… „Самодиффузия световой точки, таким образом, создает материальные сферы, доведенные до размеров Универсума“…» Красивую сказку Прокла — Гроссетеста эмпирик Гумбольдт принять за научную гипотезу не смог.
Гумбольдт в общем-то нуждался в термине, обозначающем науку о Космосе. Проблема терминотворчества в науке, честно говоря, не то чтобы запутана, но совершенно непрояснена, отчего не легче. Издревле существует арифметика — такое словообразование для определения науки никем не оспаривалось. В 1830 году великий любитель систематизации наук французский физик Андре Ампер предложил термин «кибернетика», который хоть и не сразу, да еще и в уточненном варианте век спустя завоевал мировое признание… Гумбольдт отклонил термин «космология», которым пользуется современная наука; мотивы отклонения не очень ясны; похоже, что ему не нравился упор на «логос», то есть на вторичное, а не первичное.
Думается, что по аналогии с арифметикой и кибернетикой его мог бы устроить термин косметика: в нем и космос, и этика слиты в одно, — вечное нравственное и прекрасное. Но термин этот к тому времени, когда Гумбольдт принялся за «Космос», уже навечно был освоен той половиной человечества, которую Гумбольдт лучшей не считал и которая именно по той причине, что «нелучшая», вытеснила из глубокого и емкого термина все, кроме искусства самоукрашения…
И потому Гумбольдт оставил свою науку о Космосе безымянной. Она называется просто учение о Космосе, без всяких греческих или латинских вариаций.
В истории познания Космоса Гумбольдт выделил историю понимания Космоса как целого. Не просто многообразного и безграничного, но прежде всего целостного. Гумбольдт, определяя свою задачу в предварении второго тома «Космоса», жестко ограничивает себя. «История физического миросозерцания, — пишет он, — есть история познания целостности природы, есть изображение стремления человечества понять совокупное действие сил в земных и небесных пространствах. Она, таким образом, обозначает эпохи постепенного успеха в обобщении воззрений на вселенную и составляет часть истории нашего мира мыслей…»
Итак, Космос должен быть понят как нечто целостное. Но не только целостное, а развивающееся целостное. Концепция Гумбольдта может быть определена как целостно-эволюционная концепция. Любая космогоническая гипотеза Нового времени (и у Лейбница, и у Бюффона, и у Канта) конечно же допускала превращение веществ — например, образование из туманностей звезд, планет и т. п. Гумбольдт тоже так смотрит на Космос, но Космос у него подвергнут как бы сиюминутному срезу, он сегодняшний Космос подвергает эволюционной раскладке, усматривая разное эволюционное положение туманностей, звездных скоплений, звезд, планет, жизни на планетах непосредственно сейчас, а не в бесконечном историческом далеке. Это — актуализм наоборот, — и такой целостно-эволюционный подход к природе — непреходящая заслуга Гумбольдта перед естествознанием, но прежде всего перед философией естествознания. Последнее важно подчеркнуть потому, что факты могут уточняться и даже заменяться, а принцип этот — вечен… И конечно же концепция Гумбольдта наполнена вполне реальным содержанием, которое поддается даже зрительной реконструкции.
Гумбольдт прекрасно знал, разумеется, небулярные гипотезы Иммануила Канта и француза (лично знакомого) Пьера Лапласа. Более того. Кант опубликовал свою гипотезу происхождения Солнечной системы из туманности в 1755 году анонимно и не очень любил об этом вспоминать. Через сорок один год, открыто публикуя свою небулярную гипотезу, Лаплас не упомянул Канта, ибо ничего не знал о той почти незаметно прошедшей книжке. Гумбольдт же был в числе тех, кто способствовал воскрешению забытого сочинения Канта, и во многом благодаря ему гипотеза эта известна теперь как «гипотеза Канта — Лапласа». Поэтичная гипотеза. Представьте себе бесконечный черный хаос: ничто не освещает его, это почти вечные сумерки… Впрочем, их можно увидеть и на сегодняшней нашей планете: она не очень-то скрывает свое прошлое, просто надо смотреть и видеть.
В жизни я много путешествовал.
Когда же почувствовал, что мои возможности странствовать по Земле по причинам субъективным, но, к сожалению, неизбежным, начинают заметно сокращаться, я выбрал для прощания с Арктикой мыс Шмидта и улетел туда поздним октябрем. Выбор не был случайным. В самом имени Шмидта Арктика и Космос слиты воедино, и была для меня в этом личная символика, определявшаяся работой. Тот поздний октябрь оказался странным: у берегов — ни одной льдины! Но лежали льды на воде неподалеку, и Чукотское море потому вело себя смирно. Будь льды рядом, они взорвали бы цветовую гамму, а так она получалась нерасчеленно серой: низкое, с матовым подсветом небо, серый, обнаженный холод гальки, густо-серое вязкое море; лишь у горизонта — как умело нанесенный рукою художника штрих — что-то светлело… Случайный дневной метеорит не разрушил картину: он как бы дополнил ее, сделал еще более явной, да и убедительной — ведь так могло быть и в первозданном хаосе… На мысе Шмидта огни поселка как бы организовывали, втягивали в себя серый мир, и они же выбрасывали в него, за пределы очевидности, самолеты, вертолеты, корабли…
В поэме Канта — Лапласа, да и в гипотезе О. Ю. Шмидта тоже, частицы хаоса предполагались неоднородными, и наиболее крупные из них постепенно стали собирать вокруг себя меньших братьев и вместе с ними обретать вращательное движение. Это уже не хаос, это уже некая целостность — Туманность. (Небула по-латыни — туман, отсюда и название гипотезы — небулярная.) Туманность, как целостность, уже способна к развитию. И развитие это приводит к тому, что в центре туманности образуется сгущение — звезда. Звезды зажигают себя сами: возникает астрономически быстро разогревающееся Солнце — и серый мир становится красочным. И не только красочным. Солнечные лучи все-таки отталкивают от себя окраинные туманные кольца, не расставаясь, впрочем, с ними. И кольца сгущаются в планеты. Они освещаются Солнцем и согреваются им.
Планеты и сами первоначально были не только горячими, но даже, вероятно, расплавленными. Во всяком случае, так полагал немецкий философ и математик Готфрид Лейбниц, написавший в конце семнадцатого века книгу «Протогея», «Праземля». Он излагал свои взгляды в стихах и прозе. Гумбольдт не поленился сравнить разножанровые сочинения и заключил, что проза поэтичнее стихов.
Гумбольдт с явным удовольствием переписал в «Космос» лейбницевскую картину клокочущей огненно-жидкой планеты, картину ее медленного остывания и новых вулканических взрывов, раскалывающих черный поверхностный шлак… Вулканизм был до конца дней дорог сердцу Гумбольдта… И все-таки кора твердеет, и все упрямее сдерживает напор бешеных недр и временное успокоение как бы охватывает безжизненный шлаковый шар. Гумбольдт мог его вообразить, но не мог увидеть воочию. Чтобы увидеть, надо было взлететь, и высоко взлететь над горами и долами.
Тогда это было невозможно… Теперь же, в век авиации, со взлетами проще, но все равно без везения — никуда. Однажды мне, например, повезло, что «Боинг-707», который должен был доставить нас из Браззавиля в Париж, так и остался в Африке на взлетной дорожке конголезского аэропорта Майя-Майя: удобнее, право, если моторы отказывают на земле, а не в воздухе. Но этот, в чуть шутливой форме сообщенный факт, резко изменил наше расписание, и мы вылетели уже не из Конго, а из Заира, из Киншасы, не в утренние, а в предвечерние часы. Вот это обстоятельство, как вскоре выяснилось, и оказалось «главным везением». Над Сахарой обычно летят либо ночью, либо утром, когда относительно спокоен воздух над ней. Но и утром, и ночью Сахара с воздуха кажется однообразно скучной: или серой с неясными черными вкраплениями-зигзагами, или мутно-зеленоватой, когда почти неразличимы подробности. Поломка моторов, переправа через Конго, дорога до аэропорта Нджили на другом берегу реки, — не говоря уже о формальностях, — все это задержало наш вылет до предвечернего часа. Над Сахарой мы оказались еще засветло, но в то время, когда солнечные лучи уже не вонзались в пустыню, а скользили по ней, и тогда именно Сахара явилась нам чуть ли не в лейбницевском варианте, в земной первозданности, как протогея. У южных своих пределов Сахара была песчано-палевой, и лишь инородно чернели среди песков обнаженные скалистые массивы; их инородность среди песков подчеркивалась розовыми и кирпичного цвета шлейфами, бог весть из чего сотканными; беспорядочно извивающаяся приглушенно-пестрая рябь прижимала края шлейфов к земле, но совсем придавить и совсем засыпать не могла, словно шлейфы, подобно парусам, наполнялись порою ветром и сбрасывали с себя песчаный прах… Шлейфы исчезли, когда вместо массивов появились источенные песком и ветром одиночные скалы, похожие сверху на полураскрывшиеся бутоны черных тюльпанов… Рыжая рябь беспрестанно катилась там на север, и не верилось, что есть сила, способная остановить ее наступление. Но волны песчаной ряби разбились все же о сомкнутый строй черных скал. Пустыня взъерошилась, покрылась песчаными грядами и невесть откуда взявшимися вулканическими на вид кратерами, вспорола себя руслами давно пересохших рек, обнажила лежбища давно исчезнувших озер — замытые глиной овалы с бледными извивами давних глубинных потоков…
Солнце опускалось в невидимый даже с небес Атлантический океан, и на пустыню надвигалась ночь. Сахара сначала поголубела на востоке, а потом на черный, покрытый пустынным загаром камень легли угрожающие кровавые лучи уходящего солнца, и возникло ощущение отбушевавшего огня, прорвавшегося все-таки сквозь щели остывающей коры земли, — отбушевавшего, да. Но не исчезло и не могло исчезнуть ощущение бесконечности огня и угля и в пространстве и во времени… С заходом солнца пространство и время сжались, и дымчато-синяя мгла наползла на пожарище, местами приглушая огонь, а местами обнажая обгоревшие остовы скал, еще не успевших остыть. Они, эти остовы, были остроребристыми, с извилистыми щупальцами, сплетенными в центре в тугой узел; щупальца прожигали синюю мглу над собою и были похожи и на разбросанные руки, и на смертельное оружие средневековых африканцев, которое внешне напоминало пропеллер, поднявший человека в небо…
Уже над Северной Африкой заметался на серо-синем фоне очень маленький, похожий на свечку факел; он действительно был мал на беспредельной синей панораме Сахары. Но он был рукотворен, этот факел — горел газ, добытый из недр пустыни…
Из странички, посвященной одному из перелетов над Сахарой, мне не составило бы особого труда убрать сухие русла рек, илистые озерные впадины… И конечно же газовый факел в уже почти ночной Сахаре и «Протогее» Лейбница формально несовместимы. Но именно формально. Ведь тот же Лейбниц не мог не знать, что он пишет свои сочинения на охлажденной, а не на раскаленной земле-сковородке.
Стало быть, была вода. Ни Лейбниц свою «Протогею», ни Гумбольдт свой «Космос» не смогли бы создать без воды — это не для шутки говорится. Им не хватило бы для этого сложности окружающего их мира.
Принимаем как факт: вода откуда-то, но все же взялась, и к черно-алым краскам Земли добавился голубой цвет — цвет воды. Вода бесцветна в капле, но, ох как богата она цветовой радугой, когда капель миллиарды или, лучше, мириады, ибо это строго не определенное слово предполагает сколь угодно бесконечную множественность. Собственно, и радуга — это ведь воды многоцветье… Жителей средних или экваториальных полос земного шара — потопами, в общем-то, не удивишь, — случаются они, быть может, даже слишком часто. Но штрихи к общей картине важны…
Итак, Южная Америка, Колумбия, город Медельин, в ботаническом саду которого есть аллея Гумбольдта… Нам лететь совсем недалеко, до столицы Колумбии Боготы. Ночь. В числе первых я вышел за пределы аэропорта и остановился у служебного автобуса. Мне показалось, что несколько крупных горошин ударили по металлу, но, поскольку ни одна меня не задела, я не обратил внимания на эту мелочь… Когда мои товарищи оформили документы, мы пошли к самолету («Дуглас-3», как я запомнил), и на бетонной дорожке нас застал дождик. В самолет я вошел вторым или третьим, а последний из моих товарищей вбежал к нам в темных ливневых разводах на сером костюме; в самолете уже стоял грохот от того же самого мириада капель-горошин, бьющих теперь по металлическому фюзеляжу. Мы двинулись осторожным ходом к взлетной полосе, и фары самолета не прорывали светом сплошного ливня. Теперь, когда минуло много лет, движение нашего некрупного самолета вспоминается как движение тоже некрупного жука с выставленными вперед усами-антеннами, но тогда это сравнение в голову мне не пришло. Ощущение было не из самых приятных.
Гроза накрыла аэродром, но грома — увы — мы не слышали. Слышали только грохот первозданной воды, бьющей в металлический цилиндр «Дугласа» — шедевра двадцатого века. Было бы удивительно, если бы «Дуглас» взлетел.
Он не взлетел. Первозданный потоп прижал, прибил, как ветку пальмы, к взлетному бетону нашу тяжело нагруженную птицу; впрочем, скорее это было ощущение накинутой сети, которая все равно не позволит взлететь… Сорок минут полыхало голубое пламя и продолжался струйный ливень — казалось, мы навсегда прикованы к бетону, сплетены в одно целое с небом. Ни гроза, ни ливень не кончились, но сильнее вдруг заработали моторы и сильнее натянулись золотистые нити ливня, уходящие в нижнюю темноту. И теперь уже не ливень властвовал над самолетом (я не уловил мгновения перехода), — а самолет управлял ливнем. Самолет гнул его тканые струи, то круче, то мягче уводя их под крыло или разводя в стороны… Кончилось тем, что на взлете — а мы, наконец, взлетели прямо в голубое пламя, — золотистые струны или струи, подчинившись, остались ниже плоскостей взлетевшего «Дугласа». Все угасло. Пятьдесят минут, которые мы летели до Боготы, прошли в серой дреме…
В том варианте, который с поправкой на современность описан в двух эпизодах, фигурируют три геосферы: литосфера, атмосфера и гидросфера. Позволю сказать это себе с полуулыбкой, но на ранних этапах развития нашей планеты между Плутоном и Нептуном шло отнюдь не идейное сражение — бой был встречным, бескомпромиссным, и даже в чем-то напоминал разлады, вроде человеческой проблемы «отцов и детей». Плутон выступал в роли отца, Нептун — непокорного сына. Дело в том, что океаны, гидросфера в целом возникли, как пишут в специальных работах, в результате «дегазации недр», но из атмосферы вода выпадала тоже. Два встречных ливня — снизу вверх и сверху вниз! — дали нам воду, богатство воистину бесценное и уникальное: нет ни одной планеты, столь же щедро увлажненной, как наша (кстати, вулканическая лава подчас более чем на две трети состоит из воды).
Гумбольдт — с наибольшей четкостью это сделано в незаконченном пятом томе «Космоса» — различал, как он говорил, «азоический» и «зоический» периоды в истории планеты, или «абиогенный» и «биогенный», как говорим мы теперь, понимая то же самое: до появления жизни и после появления жизни. Никаким верховным силам факт возникновения жизни на Земле Гумбольдт нигде и никогда не приписывал. Каким-то образом она возникла сама, но каким — Гумбольдт решительно отказывался обсуждать, ссылаясь на то, что в науке должен господствовать эмпирический подход к явлениям природы. Раз нельзя доказать, то не следует и обсуждать. Любопытно, что сто лет спустя также (дословно) определил свой подход к той же проблеме В. И. Вернадский, хотя в его время уже существовали логически последовательные гипотезы (А. И. Опарина, например). В этом варианте (о других речь еще впереди) Вернадский выступал прямым восприемником Гумбольдта.
Вполне закономерно, что, не ставя вопрос о том, как возникла жизнь, Гумбольдт не рассуждал и о том, где она возникла. Но Гумбольдт, конечно, не мог не видеть, что мангровые заросли Карибского моря — это связующее звено между растительностью и животным миром океана и суши.
Там, в этих особого класса ландшафтах, жизнь, как мы теперь знаем, осваивала воздушную и твердую среду, училась ползать, ходить и летать, а не только плавать. В общей картине мира Гумбольдта все эти подробности очень существенны: без них не возникли бы представления о «всеоживленности» планеты и «лебенссфере» — важнейших понятиях и в современной науке.
«Всеоживленность» Вернадский перевел как «всюдность» жизни, и оба варианта сосуществуют в современной науке. Собирательный, синтезирующий ум Гумбольдта с неизбежностью должен был выйти на проблему распространенности жизни на планете после того, как он обнаружил тайнобрачных в рудниках Германии… Он видел светящийся жизнью ночной океан… Проник в глубь населенной странными птицами пещеры Гуахаро… Видел бабочек на вершине Тенерифа… Поднимался на заоблачные вершины Южной Америки, а над ним парили кондоры… Конечно же мысль о могуществе жизни, о ее способности либо адаптироваться к сложным природным вариантам, либо как-то видоизменять их, — эта мысль должна была явиться просто, естественно. Но одно правильное заключение по самой природе логики требует своего продолжения в неизвестное.
Таким неизвестным была необходимость понять, как сосуществует все живое, и Гумбольдт определенно высказался на сей счет: все живое объединено общей связью. Иначе говоря, жизнь едина. Но если так, то она должна быть едина и по происхождению, — это мое продолжение мысли Гумбольдта, но иного варианта нет.
Если все живое взаимосвязано, то — по логике — оно не просто набор видов растений и животных, — оно единое целое. Гумбольдт это первым понял и первым ввел в мировую науку понятие «сферы жизни», разумея под оной все живое на планете. «Лебенссфера» Гумбольдта — точный переводной эквивалент всем известной теперь биосферы.
Гумбольдт обладал незаурядными лингвистическими способностями и знаниями, и на первый взгляд кажется несколько странным, что он соединил немецкое «лебенс» (жизнь) с греческим «сфера». Вероятно, это произошло потому, что лингвистически однородная «биосфера», как термин, имела широкое хождение во Французской науке (в начале 1840-х годов вошла даже в толковые словари), но подразумевалась под «биосферой» не «сфера жизни», как теперь, а некие предполагаемые «глобулы», «неделимые жизни» — ее первоатомы. Уже к концу жизни Гумбольдта стало ясно, что глобул-биосфер не существует, прежний смысл термина потерял значение, и в последней четверти девятнадцатого столетия термин «биосфера» обрел современное звучание, стал обозначать планетную сферу жизни, что и сохраняется за ним по сей день (хотя есть нюансы, важные, впрочем, лишь для специалистов). Для понимания же эволюционной концепции Гумбольдта очень важно помнить, что он в числе первых (наметки были у Бюффона, у Ламарка) выделил Жизнь — наряду с лито-, атмо- и гидросферами, — как еще один всепланетный феномен.
Для окончательного же утверждения Гумбольдта в понимании жизни как всепланетной системы решающее значение сыграли антарктические экспедиции конца 30-х — начала 40-х годов, особенно экспедиции Джона Росса. О том, что Антарктика не безжизненна, Гумбольдт конечно же знал — знал о пингвинах, тюленях, китах. Гумбольдт не мог не понимать, что зверобои — ребята деловые и просто так шастать к Южному полюсу они бы не стали. И ведомо было Гумбольдту, что киты питаются не воздухом, а мелкими живыми организмами — планктоном… Все так. Однако экспедиция Росса не только открыла море Росса и Ледяной Барьер Росса, но и впервые доставила в Европу образцы плавучего и неподвижного льда. И доставила образцы грунта с арктических глубин. Образцы эти были переданы для анализа спутнику Гумбольдта по российскому путешествию Эренбергу. Эренберг опубликовал специальную работу, в которой описал более пятидесяти видов микроорганизмов, способных жить во льдах и глубинах Антарктики. Гумбольдт с восторгом пишет о работе Эренберга в первом томе «Космоса» (несколько позднее — и в третьем издании «Картин природы») и окончательно утверждается в им же предложенных понятиях («всеоживленность» и «лебенссфера»).
К числу любимцев Гумбольдта в истории науки безусловно принадлежит Уильям Гильберт, натуралист (и врач при английском дворе), опубликовавший в 1600-м году до сих пор переиздаваемую книгу (советское издание — 1956 год) «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле». С этой книги и начинается, собственно, столь дорогое сердцу Гумбольдта учение о магнетизме, — Гумбольдт с огромной симпатией пишет о Гильберте (а мы ему обязаны таким понятием, как «электричество» — он отделил его от магнетизма). И все-таки упущена одна существенная подробность Гумбольдтом: описывая планету, Гильберт выделил особую поверхностную зону, оболочку («одеяло», «кору»), которая формируется звездами и внутренними силами Земли и в состав которой входит живое, жизнь.
Гумбольдту наука обязана воскрешением имени Бернхарда Варениуса, рыжего веснушчатого парня, прожившего всего двадцать восемь лет, но успевшего создать великую книгу «География генеральная…» По этой книге гениальный Ньютон читал свой курс географии в течение тридцати лет и дважды переиздал ее в Англии. А прозорливый Петр Первый, между прочим, выбрал книгу Варениуса для перевода на русский — она и в нашей стране выходила дважды.
Варениус был германским голодранцем, пытавшимся отвоевать место под солнцем в Голландии. Его книга вышла в свет в 1650 году в Амстердаме, и в том же году автор ее скончался от чахотки… Гумбольдт называет забытого Варениуса великим ученым, и это справедливо. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь, что Варениус четко определил предмет исследования географии: это земноводная сфера (или круг в русском переводе), причем в понятие «земля» Варениус включил и все живое, не выделяя, однако, его особо. И прибавил к земноводному шару атмосферу, — шар стал трехчленным. Вот этот момент, как и в случае с Гильбертом, Гумбольдт тоже никак не зафиксировал в своих сочинениях.
Немножко странно, но это факт. И Гильберт, и Варениус были прямыми предшественниками Гумбольдта в понимании того, что в строении планеты есть особая структура — комплексная оболочка, образованная геосферами. Гильберт вообще не связывал свое прозрение с задачами географии — география, как наука, его не интересовала. Варениус и Гильберт, как видим, не поняли (вероятно, и не могли понять в то время), что Жизнь — всепланетное явление. Гумбольдт, вводя понятие «лебенссфера» (выявляется, таким образом, четвертый сочлен структуры), дополняет своих предшественников: уточняет задачи географии и расширяет горизонты естествознания — биосфера — один из основополагающих постулатов современной науки. И биосфера — эволюционная вершина в развитии планеты до появления человека.
И часть — только часть — приповерхностной комплексной земной оболочки, которую мы сегодня называем по-разному: географическая оболочка, ландшафтная оболочка, биогеносфера (сфера возникновения и воспроизводства жизни). Термины не устоялись, но суть одна: непрерывный, миллиардолетний процесс воспроизводства жизни.
Вот на этот момент необходимо еще раз обратить внимание: литосфера и солнечная радиация, изначально бомбардировавшая беспомощную планету; атмосфера, появившаяся при уже достаточной массе планеты; гидросфера, порожденная ливнями сверху и потоками снизу; биосфера. Это достоверный эволюционный ряд, Гумбольдтом принятый, но лишь частично объясненный, — привел к образованию целостности, называемой «биогеносферой»: в этой целостности все взаимосвязано и никакие изменения природных условий на планете не остаются без последствий, они неизбежно вызывают изменения во всех геосферах, но прежде всего в биосфере, да и в бытии человека тоже.
На роковой вопрос — откуда взялся человек? — натуралисты первой половины прошлого века отвечали в общем единодушно. Карл Максимович Бэр, российский естествоиспытатель, сказал так: «человек вышел из рук природы», и, в принципе, такой же точки зрения придерживался Гумбольдт; догадок было много, обезьяний вариант (Ламарк) тоже существовал, но до Дарвина варианты решения этого сложнейшего вопроса не обрели целостности концепции. Дарвина молодого Гумбольдт прекрасно знал, он упоминает его в своих книгах, но Дарвином Дарвин стал в год смерти Гумбольдта, когда вышла его вечная (как «Космос») книга о происхождении видов. Это — за пределами биографического сочинения о Гумбольдте.
Но для понимания эволюционизма Гумбольдта необходимо сказать о продолжении только что обозначенной линии — за биосферой последовало человечество.
…Епископ англиканской церкви Джон Донн родился в 1572 году, скончался в 1631-м. Из его проповеди, почти поэмы: «Ни один человек не является островом, отделенным от других. Каждый — как бы часть континента, часть материка; если море смывает кусок прибрежного камня, вся Европа становится от этого меньше… Смерть каждого человека — потеря для меня, потому что я связан со всем человечеством. Поэтому никогда не посылай узнавать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».
Эрнест Хемингуэй возвратил эти строки всем нам названием своего романа, предварив его эпиграфом из проповеди англиканского епископа.
Проповедь Джона Донна принадлежит к числу первых речений, утверждающих единство рода человеческого. Великие мысли не рождаются стадно, но в одиночку тоже не являются. Всего через шесть лет после кончины Джона Донна ту же мысль высказал коммунист-утопист Томмазо Кампанелла, за ним — Жак Боссюэ… Но все равно, именно в «Космосе», в итоговой книге Гумбольдта, идея единства человечества приобрела наиболее законченную форму. И это вполне объяснимо исторически, — тем временем, когда писал Гумбольдт. И Кампанелла, этот колокольчик (так переводится его фамилия), который до сих пор гремит на весь мир, и благочестивый Боссюэ, — они фантазировали, свою эпоху опережая. Ибо феодализм — это «мир разделенного человечества» (Маркс). Но «восемнадцатый век был веком объединения, собирания человечества из состояния раздробленности и разъединения…» (Энгельс)[13] Гумбольдты (в данном случае не следует забывать и брата Вильгельма) и выступили со своей идеей единства человечества, когда оно уже, не став единым в буквальном смысле, сформировалось все-таки в единую систему народов… Мне же вернуться к уже в общем-то сказанному потребовалось для того, чтобы продолжить эволюционный ряд… В 1902 году Д. Н. Анучин, наш крупнейший географ, автор книги о Гумбольдте, терминологически уточняя уже наметившийся порядок, назвал человечество «антропосферой» и поместил ее следом за биосферой. В осмыслении эволюции планеты в целом все это логически бесспорно, идет в традициях Гумбольдта.
Если теперь воспользоваться термином Анучина (термин этот полноправно бытует в современной научной литературе), то можно определенно сказать, что Гумбольдт в своем творчестве не остановился на антропосфере и сделал два удивительных шага вперед, раскрывающих происходящее на планете.
Первый этот шаг или, точнее, обобщение Гумбольдта, касается техники, технических средств, созданных человеком.
Конечно же в начале 30-х годов прошлого столетия не было среди мало-мальски образованных людей таких, которые не слышали бы о пароходах, паровозах, о машинах, заменяющих человеческий труд, но и выбрасывающих людей за пределы фабричности, фабричных предприятий. Гумбольдт, безусловно, знал о социальном противоречии между машиной и человеком, знал, разумеется, о луддитах, уничтожавших машины, о речи Байрона в их защиту в палате лордов…
Движение луддитов, если понимать его в широком смысле, не изжило себя и до сих пор: тогда — станки, теперь — автоматика и роботы.
Суть, в общем, одна — противоречия противоречивого общества.
Наверное, не грех назвать высочайшим достижением гумбольдтовской мысли тот факт, что сумел он в этом луддитском (оправданном социально!) движении обнаружить не только столкновение человека с техникой (это понималось многими), но и единство человека и техники… Мне не удалось найти работу, в которой Гумбольдт впервые излагает эти свои идеи. Но Карл Риттер подробно пишет о них в статье, помеченной 1833 годом, — пишет и присоединяется к взглядам своего коллеги.
Дело же вот в чем. В молодые годы Гумбольдт размышлял о сородственности минеральной и органической жизни. На седьмом десятке своих лет он сформулировал и постарался утвердить «сородственность» человека и техники, он определил развитие техники как «создание новых органов, орудий наблюдения», которые «умножают духовное, а вместе с тем и физическое могущество человека». И Гумбольдт, и Риттер согласны были с таким — как продолжение человеческих органов в природе — пониманием техники. А некоторое время спустя не очень тогда известным человеком было записано такое суждение: «Природа не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа, ни сельфакторов и т. д. Все это — продукты человеческого труда, природный материал, превращенный в органы человеческой воли, властвующей над природой, или человеческой деятельности в природе. Все это — созданные человеческой рукой органы человеческого мозга; овеществленная сила знания.»[14] Человеком, написавшим столь схожие с гумбольдтовскими строки, был Карл Маркс. Но эти соображения Маркса о технике стали известны, к сожалению, только в 1939 году, когда их перевели и опубликовали у нас в журнале «Большевик».
А гумбольдтовская традиция (плюс Риттер) продолжалась и после его смерти. Два момента необходимо выделить специально. Первое — это развитие представления о технотворчестве как создании все большего количества искусственных органов человека, проникающих во внешний мир. Это так называемая «органопроекция». Один из современных специалистов в этой области, Л. Б. Переверзев, писал, между прочим, следующее: «Мысль о том, что создаваемые человеком орудия, инструменты, приборы, механизмы, машины и вообще любые технические устройства и сооружения суть его искусственные органы, наружные продолжения или материализованные вовне частичные проекции его внутренне-физиологического или внешне-телесного строения, отнюдь не нова. Согласно сформулированной еще в XIX в. идеи органопроекции, теоретически развитой в 20-х годах нашего столетия П. А. Флоренским и ныне блестяще подтверждаемой экспериментально достижениями бионики, техника есть сколок с живого тела или, точнее, с жизненного телообразующего начала… Возьмем ли мы механические орудия, оптические приборы или музыкальные инструменты, мы в конце концов найдем в них „органопроекции“ руки, глаза, уха, горла и т. д.».
В книгах Гумбольдта нет термина «органопроекция», хотя понятие выявляется отчетливо.
Второе направление — это медленно, но все же определенно возникающее представление о технике как о новой планетной системе: биосфера, антропосфера, техносфера… Мысль о «второй» природе, о природе, созданной человеком, введена в наше миросозерцание Гумбольдтом. Почти столетие спустя, в 1923 году, Вернадский уже определенно выявил (и выделил) Мировую технику как новую планетную систему… (Термином «техносфера» ни тот, ни другой не пользовались, но понятийная последовательность очевидна.)
Итак, Гумбольдт ввел в науку не только понятие «сфера жизни», но и положил начало тем представлениям о технике, которые впоследствии привели к понятию «сфера техники», «техносфера», как явлению, объективно продолжающему антропосферу во внешнем мире.
Но и этим Гумбольдт не ограничился. Заканчивая первый том «Космоса», буквально в последних трех строчках, Гумбольдт вводит еще одно планетарное понятие: «сфера интеллекта» или «сфера разума», как это обозначено в переводе Фролова. Н. Г. Фролов (это 1848 год) дал и отличную расшифровку «сферы интеллекта»: «Здесь открывается новая сфера, сфера человеческой духовности, свободных созданий мысли».
Если сейчас все свести воедино, то следует признать, что Гумбольдтом были выявлены на планете лебенссфера-биосфера, антропосфера, техногенный компонент (будущая техносфера) и интеллектосфера.
Лебенссфера-биосфера — результат миллиардолетней эволюции планеты. Три прежние геосферы возникли взрывоподобно — они результат геологической революции, происшедшей на планете.
Так Гумбольдт, несмотря на свою приверженность к вулканизму, не сказал, вероятно — так и не думал. Но каждое поколение ученых по-своему пересматривает историю науки и просвечивает ее по-своему.
Такое просвечивание и позволяет понять величие Гумбольдта, сказать о нем то, что до сих пор не говорилось.
А это значит — сказать о Космосе Гумбольдта уже в обобщенной форме, — обобщенной и обостренной.
Было бы наивно не заметить, что и до Гумбольдта существовали разные «космосы», разные «мировые системы», как существуют они и теперь. Но…
«Но» конечно же не случайно. У меня лично нет достаточных знаний, чтобы кратко и точно охарактеризовать натурфилософские системы великих философов конца восемнадцатого — первой трети девятнадцатого века, — такой способности, чтобы логически достоверно включить их в свой рассказ о Гумбольдте. Но не случаен конечно же и тот ряд — от звездной туманности до интеллектосферы.
Гумбольдт не был оригинален в своем (думается, первоначальном) замысле охватить (именно — охватить) космос как единую систему. Работая, он пришел к гениальной мысли, что Космос с необходимостью должен быть понят не как все расширяющееся от Земли множество, объединенное, как и жизнесфера, единой связью, но и как общность, имеющая единый эволюционный стержень. Если кое-что обобщить в литературе первой половины прошлого века, то можно реконструировать концепцию Гумбольдта, памятуя, правда, что и он не завершил ее.
Я имею в виду эволюционное учение о вселенной, в котором Гумбольдт совершенно четко противостоит авторам натурфилософских систем природы и прошлого, и настоящего.
Несмотря на всякого рода очевидные перемещения, изменения и превращения в природе, Гумбольдт представлял себе вселенную, говоря современным языком, стационарной. При бесконечности во времени и пространстве, для вселенной с любых точек зрения исключалось единое развитие: как целое бесконечность не развивается. Но развитие во вселенной все же происходит, и в методологическом отношении Гумбольдт принял вариант локальности процессов развития, — они в принципе повсеместны, но могут быть и разнонаправленными, протекают в разном темпе, и т. п.
Для известной части мироздания Гумбольдт предложил конусообразную схему космической эволюции, создал модель четырехмерного (геометрические параметры плюс время) эволюционного конуса. Основание конуса образует некая туманность, через звезды и планеты эволюционные линии сходятся на жизнесфере (биосфере), которая является основанием вершины конуса, образованной человечеством и продуктами его творчества (техносфера, интеллектосфера). Стало быть, на острие физического эволюционного конуса — человек. Но человек — познающий космический субъект, и потому является отправной точкой вторичного по происхождению, обратно направленного также эволюционного конуса познания; сфокусированный в человеке, конус этот, стремительно расширяясь в четырехмерном пространстве-времени, для нас размывается в бесконечности — границы его не видны и едва ли вообще существуют.
Вот в таком понимании космоса, в такой картине космоса Гумбольдт был уникален, он пошел дальше своих предшественников и современников в создании эволюционной картины мироздания, не потерявшей своего значения и для нас. И, если иметь в виду картину космоса, запечатленную в сочинении «Космос», если попытаться представить себе космос таким, каким он был в воображении Гумбольдта, можно изобразить его все же в виде двух конусов, соединенных остриями и связанных в единстве человеком; они сходятся на человеке и расходятся в разные стороны от человека. Первый конус реальной физической и психической эволюции дает начало совершенствованию сознания и, следовательно, расширению познания (второму конусу), которые увеличивают реальные физические возможности человека во взаимодействиях с окружающим миром и, в конечном итоге, тоже становятся осязаемой, зримой эволюцией (так называемое «овеществление знания», «материализация знания»).
Первый эволюционный конус — он как бы в прошлом, он история, чрезвычайно важная для понимания настоящего, но все же история. Второй конус — олицетворение будущего человечества и окружающего мира, и потому ось эволюции, напряжение эволюционного процесса исторически переместились сейчас именно во второй конус.
И, разумеется, «узел сцепления» конусов не мог при этом не испытать односторонней перегрузки, — отсюда и появление того феномена, который принято теперь называть «напряженной экологической ситуацией».
Вернемся к сказанному ранее и попробуем теперь через структуру эволюционного «узла сцепления» еще раз оценить напряженную — в геологическом масштабе! — обстановку на планете. За какие-то 300 лет «возникают» три новые геосферы. Антропосфера, корнями уходящая в прошлое, но социально уже ориентированная в будущее; техносфера и интеллектосфера, недвусмысленно прокладывающие дорогу в будущее. Они — результат и олицетворение планетной революции; ими же вызвана напряженность, в определенном смысле — перекос в эволюционном «узле сцепления»; «узел» не разрушится, но структурно он должен перестроиться.
Эту перестройку принято называть научно-технической революцией (НТР), а издержки перестройки — экологическим кризисом и т. п. Таким образом, в моем представлении нынешняя экологическая ситуация и НТР — все это следствия более глубокого и обширного общего процесса, объективно протекающего на планете и ближнем космосе и независимого в прямом смысле от волеизъявления человека. Не НТР породила напряженную ситуацию на Земле, а сама она является порождением планетной революции, ее внешним проявлением.
Но Александр Гумбольдт находится у истоков такого понимания хода событий на планете, из его «Космоса» можно вывести понимание НТР как отражения в нашем сознании неизмеримо более глубоких планетно-космических процессов, — и потому Гумбольдт вполне может быть отнесен к числу революционеров мысли.
Он преданный солдат науки, но он и революционер. Он был зорче многих своих современников.
Да, пятый том «Космоса» Гумбольдт не успел завершить — так это принято констатировать в книгах и статьях о нем.
Но действительно ли не успел? Не успел рассказать, что знал о мире живых и человеческом мире?.. Нет — что знал — в общем-то сказал, а чего не знал, сказать не мог. И не смог бы, продлись его мафусаиловы годы еще на десятки лет.
В девятнадцатом веке и в том плане, в котором ведется речь в этом очерке, величайшими революционерами в сфере мышления, в сфере миропонимания и преобразования стиля мышления можно поставить в хронологическом порядке по меньшей мере пятерых: Гегель, Гумбольдт, Дарвин, Маркс, Менделеев. Непридуманная последовательность эта и выразительна, и точна. И планетная революция, и социальный прогноз на будущее, и НТР — это ими (и близкими по дерзости ума учеными и инженерами) осознанная действительность. Отсчет феномена научно-технической революции вести надо, как минимум, с начала прошлого столетия, и, следовательно, Гумбольдта тут не минуешь.
Хотя бы потому, что «узел сцепления» в эволюционном смысле организует и перестраивает человек, космос Гумбольдта не может быть достроен или дописан без — пусть краткого — разговора о влиянии человека на природу.
Это тем более необходимо, что при жизни Гумбольдта — и при его самом активном участии — произошел резкий поворот в понимании человеком своего места и роли в природе: в этой сфере человеческого мышления также обнаружились два встречных направления, исторически, видимо, дополняющие друг друга, но и противоборствующие тоже. Первое — это традиционный геодетерминизм, зародившийся вместе с философией и наукой в античности; его направленность — влияние природы на человека. Интересно, что в середине 70-х годов прошлого столетия, работая над «Диалектикой природы», Энгельс специально упомянул ученых, которые признавали только влияние природы на человека, а обратного влияния не признавали[15]. Во времена Энгельса это были уже далеко не первоклассные ученые… Второе направление было и многограннее, и объективнее, но главное в нем — влияние человека на природу. Отдельные суждения об этом конечно же имелись в многочисленных натурфилософских сочинениях, еще в восемнадцатом веке обнаружился «экофоб», ненавистник всего естественного в природе, Ж. Бюффон, предлагавший естественное заменить искусственным… Но как научное направление исследование влияния человека на природу сложилось только в девятнадцатом веке. В данном случае как раз и важно подчеркнуть разницу между констатацией факта воздействия человека на природу (этого разве что незрячий не видел) и теоретическим, методологическим осмыслением этой стороны взаимоотношений человека с природой.
Используя в молодости как учебный полигон Европу, Гумбольдт видел, что даже самые добрые намерения (чаще всего прямолинейно не осознанные) — разжечь костер, согреть жилище, выпасти скот, расплавить руду, — эти действия вели к тому, что уничтожался лес. Гумбольдт, как и многие другие (включая и античных авторов), это обстоятельство констатировал, а в некоторых случаях, в Южной Америке, например, исследовал последствия сведения лесов. Но, в отличие от других, Гумбольдт не ограничился констатацией фактов, а постарался сформулировать закон: развитие цивилизации (промышленности, прежде всего, а также рост населения и сельского хозяйства) ведет к уничтожению лесов. Соразмерного по убедительности возражения нельзя привести Гумбольдту: леса стремительно исчезают с лика планеты — такова реальность. Нависла гроза над Амазонкой, ее уже рассекает международная автострада и в самом центре оказавшегося в опасности первобытного тропического леса возник поселок имени Гумбольдта… Что произойдет дальше, достоверно станет известно только будущим поколениям.
Самое неожиданное и оригинальное, что внесли в мировую науку географы того времени, Гумбольдт и Риттер, это, наверное, понятие единства земного пространства-времени, во-первых, а во-вторых, именно они выдвинули идею об изменяемости земного пространства-времени под влиянием человеческой деятельности. Это — революционный шаг в развитии человеческой мысли.
Важно подчеркнуть — именно мысли, хотя мысль в данном случае непосредственно зависела от развития технических средств. Гумбольдт писал, например, что с развитием судоходства Атлантический океан — сузился (на современном американском жаргоне Атлантический океан — «Большая лужа»). В то же время он ставил развитие мысли — и научной, и общественной в широком ее варианте — в прямую зависимость от пространственного горизонта человечества, а пространство бесконечно увеличилось даже в глазах первооткрывателей (не говоря уже про растерянных обывателей) в эпоху Великих географических открытий. И расширение пространства было, очевидно, впервые в истории социальных идей напрямую соотнесено с «взрывом» научного знания или, как писал Гумбольдт, с «внезапным умножением совокупной массы идей»[16], которая взбудоражила и общественный дух самых различных социальных прослоек той эпохи.
Произошла научная революция — так бы сказали мы теперь. Первая явная и громкая научная революция, совпадающая с эпохой Возрождения, величие и противоречия которой в памяти человечества останутся навсегда.
И возник в истории человечества еще один парадокс, которым оно вновь обязано географии. «Терра инкогнита, терра инкогнита — то ли опущена то ли приподнята…» Предмет возвышающийся, и это знают все путешественники, кажется приближенным, доступным; иллюзорно пространство до него сжимается, сокращается… Множество открытий за серым плоским горизонтом инстинктивно сокращало путь к желанному Острову Сокровищ или Эльдорадо, и горизонт ложно прояснялся, укрощался и укорачивался, хотя опытные кормчие знали цену этому.
Гумбольдт — уже более чем умудренный прожитым, во вступительных размышлениях к первому тому «Космоса», — писал, что безнадежное это дело — пытаться человеку завладеть какой-либо силой природы, если он не знает и не умеет измерять ее и вычислять.
Измерять и вычислять пространство человек учился — да и научился — по нашим меркам, давно, с Эрастосфена, скажем, если иметь в виду научный вариант, а это все-таки третий — второй век до нашей эры. Но пространство неразрывно связано со временем, а пространство и время — они не сами по себе, они пространство-время чего-то или для кого-то. Для гусеницы и бабочки одного и того же вида пространство и время различны, хотя речь идет всего лишь о разных формах бытия одного и того же организма; у гусеницы больше видового времени, но меньше видового пространства, чем у бабочки; бабочка отложит яички, и время потечет по-особому, а пространство будет пока свернуто, «выключено» и «включится», объявится на стадии гусеницы, а потом снова пространство-время свернутся вместе с гусеницей на стадии кокона и раскроются бабочкой — во всей ее красе и с собственным пространством-временем… Пример этот не очень хорош в общем контексте очерка, но привлекателен наглядностью. Сравните мысленно средневековый феод — регламентированную темницу, где даже право первой ночи с крепостной, с согласия супруги феодала, — принадлежало феодалу, а не жениху, только что ставшему мужем (это теперь смешно — «Фигаро здесь, Фигаро там», а тогда было либо привычно, либо трагично). Нивелировалось ведь самое интимное, даже самое первое любовное ощущение, и не одного, а двоих… И все это благословению высшему подвергалось. Стянутый внутрь мир…
А Христофор Колумб не взял в свое первое путешествие ни одного священника: лишний груз ему не требовался. И солдат не взял. Миротворец?.. Да нет, коль скоро шел присваивать чужое во имя и во благо…
Но феодальное пространство он — как и португальские капитаны — взорвал.
Мир изменил свой облик.
Вот об этом и размышляли Гумбольдт и Риттер.
И в этом вопросе взгляды их были весьма сходны, причем Риттер (тогда приоритетные дуэли случались реже, чем теперь, хотя, к сожалению, случались) шел за Гумбольдтом.
К чести этих очень разных ученых надо сказать, что, взаимно дополняя друг друга в рассуждениях об изменяемости земного пространства, каждый из них самую проблему вымыслил через время, а время зависело от техники: чем совершеннее техника, тем меньше времени требуется на преодоление конкретного пространства. Стало быть, с позиций человека мыслящего, в симбиозе земного времени-пространства, «лидер» все-таки время. Любопытно, как в лебенссфере-биосфере Гумбольдта изобретались способы перестройки — или усовершенствования — лидера: отростки у простейших, плавники у рыб, ноги у донных жителей и у сухопутноходящих, плавучесть и летучесть, а потом перекати-поле как прообраз колеса и крылья как прообраз паруса и крыла Икара… Развитие биосферы и техносферы не повторяют друг друга, но эволюционно продолжаются. И все больше техносфера находит полезного для себя в биосфере. Не заимствовано разве что колесо, но биосфере колесо ни к чему: упавшее колесо никто бы не поднял. Иное дело — катящийся шар. И теперь техническая мысль не отрицает возможность замены в сложных условиях проходимости колеса — шаром. Меньше скорость?.. Меньше. Но, может быть, есть смысл не только все увеличивать, но кое в чем и уменьшать скорости преодоления времени-пространства?.. Вероятно, только ум, способный вычислить скорость убегания от нас галактик, может сравнить скорость движения виноградной улитки и полета стрижа, рост коралла и пикирование сокола на добычу… Если бы все люди двигались в темпе рекордсменов мира на стометровке, то человечество погибло бы… Мудрость лебенссферы-биосферы и в том, что она усредняет быстроту ускоряющегося по экспоненте эволюционного взрыва. К сведению должен быть принят и ее запас медленности движения, медленности роста, как резерв, который может пригодиться. Пригодиться для той самой планетной революции, которой никак нельзя оторваться от своих биосферных корней, хотя при застратосферных взлетах может возникнуть и ложное ощущение подобной возможности, — не только как ощущения, но и как мысли тоже. «Спешите медленно», — это предупреждение римский мудрец изрек уже после того, как были изобретены парус и колесо… И легенда об Икаре — тоже… Не о нашем ли времени размышлял тогда этот безымянный мудрец?.. Нам, во всяком случае, о нем следует помнить. И следует помнить, что в единый узел земное время-пространство плюс техника были логически завязаны Гумбольдтом при участии Риттера.
Но вот в чем Гумбольдт и Риттер, — я имею в виду все ту же проблему воздействия человека на природу, — существенно (если не принципиально) разошлись…
Когда Гумбольдт формулировал задачи географии растений, подразумевая всеобъемлющую науку о природе и человеке, организующее начало этой проблематичной науки усматривалось им в признании активной роли человека в изменении природы вообще, перераспределении растений по земному шару в частности.
Но Гумбольдт не стал отличать измененную человеком природу от неизмененной в понятийном смысле.
А Риттер, используя, в частности, и описания американской природы Гумбольдтом, это сделал: он ввел в науку понятие «культурная сфера», подразумевая под ней природу, в той или иной степени измененную человеком. Иначе говоря, в той комплексной оболочке, которую очертил (не назвав) Гумбольдт, Риттер выделил «слой», человеком измененный. Вытекало ли это из текстов Гумбольдта? Конечно, ибо какая же единая наука может получиться из географии растений без учета перетасовки и растений, и животных, да и людей тоже?.. И все-таки Гумбольдт почему-то не развил свою собственную логическую посылку, как бы предоставив это Риттеру. Интересен дальнейший ход этого историками науки не замеченного расхождения: мысль стала развиваться по риттерианскому, а не гумбольдтовскому пути.
Надо, впрочем, отметить, что у Риттера имелись предшественники: Бюффон и (в повторе) Георг Форстер. Резко отвергая естественное в природе, Бюффон писал: «Новая природа выйдет из наших рук. Как прекрасна эта культурная природа! Как она блестяща, как роскошен наряд ее, благодаря заботам человека!» А Форстер вторит: «Новая омоложенная природа выйдет из наших рук! Как прекрасна эта обработанная природа! Как блестяще и великолепно украсил ее труд человека!». Это еще не «культурная сфера», это общие (и второстепенные) суждения о возможности создать трудом нечто новое по сравнению с существующим.
Дальнейшие события разворачивались следующим образом. Близким учеником и последователем Риттера был немецкий географ Эрнст Капп, в 1844 году опубликовавший книгу «Философское землеведение». В этой книге Капп, явно используя и традиции Бюффона, и традиции Риттера, выделил облагороженную трудом человека часть окружающей нас природы. Четырьмя десятилетиями позже русский ученый, боец «тысяч» Гарибальди, Лев Ильич Мечников, живший и умерший в эмиграции, в книге «Цивилизация и великие исторические реки», как бы расширяя понятие «географическая среда», которое они вместе с французским географом и революционером Элизе Реклю ввели в науку, предложил понятие «культурная географическая среда», что едва ли нуждается в особой расшифровке… Уже в советское время, в 30-х годах, Вернадский стал называть «культурную сферу» Риттера и «культурную географическую среду» Мечникова «ноосферой», что ставится ему в особую заслугу (обычно без упоминания предшественников; он и сам их не упоминал; названные же Вернадским Леруа и Тейяр де Шарден под «ноосферой» подразумевали и не то, что Риттер, и не то, что сам Вернадский).
Но в историко-научном плане, в общем понимании Космоса возникла неурядица (явно не научный термин, а лучше мне подобрать не удалось).
Гумбольдт формально оказывается в проигрыше, — очень уж хороша линия, поддержанная и большинством советских ученых, казалось бы, с безупречной разумностью настаивающих на необходимости отличать измененную (разумно измененную!) человеком природу от не тронутой человеком природы… Сразу же после второй мировой войны в географической литературе стали с особой настойчивостью публиковаться суждения о «культурных ландшафтах», «измененных ландшафтах», «антропогенных ландшафтах» и даже «социалистических преобразованных ландшафтах»… В суждениях подобного рода были некоторые социологические издержки, но разве можно всерьез не усматривать разницы между нетронутой тайгой и пшеничным полем у южной окраины тайги?.. В одном случае — «природный ландшафт», в другом — «культурный». Различия между ними бесспорны, и практически необходимо их размежевать: здравый смысл, многократно осмеянный, в данном случает не противоречит самой строгой теории. Но Риттер и его единомышленники в этом, — Капп, Лев Мечников, Вернадский, — распространили понятие «культурный ландшафт» на всю планету, до «культурной географической среды» или «культурной сферы».
Почему же то же самое не проделал Гумбольдт, автор «манифестов», в которых природа и человечество едины не как крестьянин и поле («культурный ландшафт»), а планетарно едины?
Вероятно, исчерпывающе точный ответ на этот вопрос просто невозможен. Но поскольку мне понятнее сдержанность Гумбольдта, чем свободный полет мысли Риттера, поразмыслить об этом стоит.
У Гумбольдта не было — и не могло быть — представлений, адекватных современным знаниям о круговороте веществ в природе вообще и биогенном круговороте в частности. Но важнейшей чертой строения поверхности Земли была ее всеоживленность, повсеместность лебенссферы-биосферы. Вносил ли человек изменения в лебенссферу? Повторяю: разумеется! Иначе откуда же взяться географии растений в его, гумбольдтовском, понимании?.. Да, человек производил определенную перетасовку внутри лебенссферы, но структура поверхности планеты, суть важнейших процессов, оставались неизмененными — и всеоживленность, и повсеместность жизнесферы… Видимо, Гумбольдт не усматривал в деятельности человека фактора, изменяющего сущность бытия окружающего мира, не усматривал в ней сущностной перестройки, хотя учет изменений, конечно, должен был вестись той же географией растений… Сущность окружающей человека природы — непрерывное воспроизводство жизни, как сказали бы мы теперь, а человек ли разбрасывает семена, или ветер их разносит, или птицы, — это уже вторично, это в рамках той же — прежней — сущности. Поэтому и не требовались Гумбольдту (как и некоторым современным натуралистам) такие понятия, как «культурная сфера» (синоним — «измененная природа»), но необходимы были единое человечество, органотехника, интеллектосфера…
Этот ряд — прямое выражение планетной революции. А культурная сфера — ее побочный продукт. Отнюдь не безразличный для человека, тем более в эпоху современных экологических проблем, но эволюционно все же побочный, не выражающий сути развития нашей части мироздания, а в чем-то — пусть временно — противостоящий, мешающий естественному развитию.
…Незадолго до смерти, в незаконченном пятом томе «Космоса», Гумбольдт, в известном смысле полемизируя с самим собою и с собственным пониманием географии растений, как комплексной науки о природе и человеке, написал следующее: «В более строгом смысле слова и в наибольшем обобщении понятия „мироописание есть история природы и человечества“». Гумбольдт ссылается при этом на Фрэнсиса Бэкона, барона Веруламского, но мысль эта — выношена им более чем кем-либо.
Уходя из жизни, в свои самые последние часы, Александр Гумбольдт думал о Гарце, своем первом научном полигоне, и об Алтае — одном из последних: «…Я по аналогии с Гарцем, считал бы глинистый сланец восточного Алтая за девонский, различно прорезаемый гранитными и кварцпорфировыми жилами. Соприкосновение различных пород привело к их своеобразной окраске. Для шлифовки камней были учреждены заводы. Там обрабатывают превосходный гранит и белый мрамор, полосатый яшмовидный авгит-порфир Чариша, зеленый порфир Ревенской сопки, Белорецкий авентурин, Коргонский красный крапчатый порфир, похожий на древний Эльфдальский порфир, и украшающий собою Петербургские дворцы…» (Смерть великого автора прекратила сочинение на этом месте.)
Безразличный Гумбольдту и потому, очевидно, не упоминаемый в его сочинениях, великий музыкант и композитор Вольфганг Амадей Моцарт умирал зимней ночью 5 декабря 1791 года. Переходят из поколения в поколение легенды-близнецы о таинственном посетителе в черной маске, будто бы заказавшем Моцарту «Реквием». Моцарт умер, не успев полностью осуществить оплаченный заказ. Бог весть, грозили или нет финансовые неприятности немногочисленным родственникам композитора (в легендах «черные маски» бывают и добрыми). Но в ночь смерти рядом с Моцартом находился его ученик Зюсмайер — юноша доброй души и скромных способностей. И этот скромных способностей и, очевидно, огромной души юноша совершил и для себя, и для нас невероятное: он дописал «Реквием». На несколько часов Зюсмайер сравнялся с умершим гением; впрочем — «на несколько часов» — для себя, а для потомков навсегда.
Зюсмайеру не удалось ни разу в жизни повторить свой ночной взлет, и эта загадка — позагадочнее посетителя в черной маске.
У Гумбольдта не было учеников в буквальном смысле слова, но все позднее жившие географы мира имели и имеют основание считать его своим Учителем, — вот так, с большой буквы… Все же своего Зюсмайера не оказалось рядом с Гумбольдтом в день смерти… И после смерти — тоже.
Гумбольдтовский «Космос» остался все-таки незавершенным. С известной долей условности можно утверждать, что последующие поколения ученых воплотили в своих конкретных исследованиях гумбольдтовское научное завещание. Но только — с немалой «долей условности». «Космос» Гумбольдта лишен заключительного мазка или аккорда.
Эпилог. Личное счастье
…Я уже говорил: не может быть гения без длительно воздействующей продуктивной силы, и дело здесь не в том, чем занимается человек: искусством или ремеслом — это значения не имеет. Сказался его гений в науке, как у Окена и Гумбольдта, в войне или управлении государством, как у Фридриха, Петра Великого и Наполеона, писал ли он песни, как Беранже, — это безразлично, все сводится к тому, жива ли его мысль, деяния и дарована ли им долгая жизнь…
Вот такие соображения однажды, во вторник 11 марта 1828 года, уже под вечер Иоганн Вольфганг Гёте высказал своему секретарю и летописцу Иоганну Петеру Эккерману… Итак, Гумбольдт прижизненно назван гением, и назван не каким-либо придворным или научным подхалимом, а человеком действительно великим. Не последний штрих: про себя Гёте знал, что он гений. Он вполне сознательно наблюдал за своею гениальностью, изучал ее, если так позволительно сказать, и, стало быть, имел эталон для сравнения: компания, как видим, весьма незаурядная.
А Гумбольдт? Полагал ли он себя гением?
Насколько облегчился бы ответ на этот вопрос, будь героем моего повествования Жорж Луи Леклер Бюффон, действительно замечательный естествоиспытатель и мыслитель, который все разъяснил посетившему его в старости юристу и журналисту Эро де Сешелю: «Гениев (правда, он употребил выражение „больших гениев“) известно совсем немного, а если точнее — всего пять: это Ньютон, Бэкон, Лейбниц, Монтескье и я». Тут, как говорится, никаких сомнений, все совершенно ясно.
С Гумбольдтом сложнее: он пережил Бюффона на девять лет, но столь определенно высказаться не успел.
Или не захотел.
Гумбольдт суше в своем творчестве и точнее в знании истории творческих судеб. Он вполне мог знать о рассуждениях Гёте, но едва ли они могли его устроить. Велик Колумб, о котором Гумбольдт пишет с рассчитанной долей восторга, — кто станет спорить. Но позволительно ли связывать открытие (или переоткрытие) им Америки, значение этого открытия для судеб человечества, непосредственно с гением Колумба?..
По Гёте — и позволительно, и можно. Но вообще-то — сомнительно. Иначе равных Колумбу и найти-то почти невозможно.
Второй том «Космоса» в главном посвящен волнам времени, то опускающим, то поднимающим имена ученых, поэтов, художников… Сколько их сотен среди сотен миллиардов скользнувших без следа по Земле?.. И сколько десятков из них угадали судьбу своих книг?.. Платон, Аристотель?.. Как ни далеки они от нас, но можно утверждать, что они просто не располагали подходящим масштабом времени, чтобы вообразить себя живыми, читаемыми через два с половиной тысячелетия после своей кончины… Шекспир?.. Тот свободно странствовал по векам и странам, но не предугадал сегодняшней судьбы ни Гамлета, ни Фальстафа или Отелло…
Петрарка изматывал себя работой над поэмой «Африка», — еще бы, Древний Рим, великий Публий Сципион! — а нам дороги его стихи к никому не известной Лауре, девушке из Авиньона… Гёте, пожалуй, точнее многих рассчитал свои силы и успел закончить вторую часть «Фауста» в канун смерти. Но предполагал ли он, что лучший его переводчик на русский язык, Борис Пастернак, будет говорить, что терпеть не может этой самой второй части и переводить ее — мука?.. Вильгельм Гумбольдт, уходя из жизни, горевал о незаконченном труде «О языке кави на острове Ява», совершенно не подозревая, что ждет его редкостная по тем временам литературная слава — ровно через двенадцать лет после кончины.
А сам Александр?..
Мог ли Гумбольдт всерьез предполагать, что его миникнижки «Идеи о географии растений» или «Картины природы» в наших глазах окажутся весомее тридцати томов американских материалов? Кого они, кроме трех томов, посвященных непосредственно путешествию (четвертый том Гумбольдт велел рассыпать — оформление не понравилось), могут привлечь сегодня иначе как справка о некоторых фактах?.. А мини-книжки переиздаются и читаются.
Теоретически Александр Гумбольдт и Анри Бейль, более известный как Стендаль, могли встречаться в салонах Парижа, но факт их знакомства не установлен. Тем не менее Гумбольдт определенно следовал одному совету Стендаля: «Писать надо много, ибо неизвестно, что останется»; кстати, «ни дня без строчки» — это из его собрания сочинений.
Гумбольдт отнюдь не страдал отсутствием самоуверенности, но границ разумного эта самоуверенность в основном, наверное, не переступала. На протяжении долгой жизни и такое качество, как самоуверенность, могло если не эволюционировать, то видоизменяться. Классификация самоуверенности — не самая разработанная из классификаций, но я все же рискну выделить в биографии Гумбольдта три стадии этого далеко не бесполезного человеческого свойства. Первая — в обычных житейских вариантах часто граничащая с глупостью, — это абсолютная самоуверенность. У Гумбольдта она полностью совпадает с американским путешествием: пойти на столь грандиозное свершение со столь малыми силами мог только человек не просто наивно полагающий, что ему сам черт не брат и море по колено, а убежденный, что именно он и именно это совершить сможет.
Второй этап — это время работы над сочинениями, посвященными главным образом американскому путешествию. В этом варианте Гумбольдт по-прежнему самоуверен, но самоуверенность его становится как-то мягче, глинистее — она мнется, она нуждается в умелых гончарах. Гумбольдт знает, что любое гончарное изделие подвластно его рукам, но рук — увы — не хватает. Он понимает — и это уступка в ущерб самоуверенности, — что нуждается в мастеровых. Не простых — великолепных. И он не забывает о них напоминать читателям в своих сочинениях. И хотя обычно принято причислять американские сочинения Гумбольдта к списку его работ без особых оговорок, — это неточно, и Гумбольдт подобного себе не позволял: у него были соавторы, которые выполняли ту работу, которую он мог выполнить и сам, но на которую у него физически не хватало времени и сил. Это не пошатнувшаяся самоуверенность, а разумный учет всех «за» и «против».
И самое сложное, конечно, финал — работа над «Космосом». Уже в самом факте столь позднего начала работы над грандиозным сочинением проявлена гигантская самоуверенность. И все же… Это была самоуверенность солиста, знающего, что ему необходим и хор, и оркестр и что они вовремя придут на помощь, если он вдруг сфальшивит. И, уверенный в себе как в солисте, Гумбольдт все же звал на помощь. На помощь приходили мастера не те, которые выполняли работу, посильную и ему, а мастера, которые помогали ему в том, чего он сам уже сделать не мог. Он оставался солистом, но со сцены звучали и неподвластные ему инструменты… Самоуверенность с подпорками?.. Пожалуй. Но самоуверенность солиста и организатора, знающего и видящего цель. Это главное.
Что творческий процесс — не линия, проведенная умелой ровной рукой, а нечто, похожее на кардиограмму возбужденного человека, — известно давно. Провалы неизбежны. Но творчества нет и без взлетов. Творчество Гумбольдта внешне выглядит удивительно ровным. Возникает такое ощущение, что, однажды взяв предельную для себя высоту, Гумбольдт в дальнейшем развивался на этой же самой высоте, более количественно, чем качественно (хотя не следует забывать закона диалектики). Нет достоверных сведений о творческих кризисах Гумбольдта, о заметном снижении его научного потенциала даже в преклонные годы (в истории русской науки то же самое, наверное, можно сказать о Вернадском). И все-таки творчество Гумбольдта, как и всякого ученого большого диапазона, имеет неизбежно изменяющуюся инфраструктуру, оно не моноформно, а полиформно… у Гумбольдта были периоды повышенного интереса к обработке фактического материала, к фактуре (Южная и Центральная Америка прежде всего), к методике (геопрофили, изометрические построения), колебания между гуманитарными и чисто естественноисторическими сюжетами. Специализированный историк науки, заботясь прежде всего о своем интересе, конечно же обнаружит и пики, и впадины. Обнаруживаются они и в плане мировоззренческом. Если иметь в виду подъемы, то это первое десятилетие девятнадцатого столетия, канун двадцатых годов, конец двадцатых годов, сороковые и пятидесятые годы… Но, взятое в целом, творчество Гумбольдта равномерно до удивления.
Гумбольдт едва ли сомневался в вечности своих деяний, своих книг — «Космоса» прежде всего (иначе зачем ему было до последнего дня этот «Космос» сотворять?). Но в целом и тем более поэтапно предвидеть судьбу своих книг никому, конечно, не дано.
Но не предполагал Гумбольдт, конечно, что когорта свободомыслящих и смело действующих в России людей — революционные демократы — будут читать его и писать о нем. В общем, это укладывается в жизненную концепцию самоуверенности Гумбольдта, и все же трудно представить себе единомышленником Гумбольдта — Чернышевского. И Писарева тоже. Единомышленниками они и не были, но Чернышевскому Гумбольдт требовался: это один из его любимых натуралистов, многократно им упоминаемый.
Так, в статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» (она опубликована в 1858 году) Чернышевский счел нужным посвятить несколько страниц изложению взглядов Гумбольдта на развитие природы…
Писарев, революционность которого имела явный уклон в просветительство, в просвещение, в статье «Наша университетская наука» (опубликована в 1863 году) в гумбольдтовском и риттеровском плане излагал задачи географии. В интерпретации (довольно точной) они выглядят так: география должна показывать, как размещены на земном шаре минералы, растения, животные и люди (это более Риттер, чем Гумбольдт), и в то же время должна объяснять связь, существующую между разными явлениями природы. «Словом, дело географии — показать общую связь отдельных частей; ее дело нарисовать общие картины природы… География может и должна опираться на все естественные науки, но заменять их собою она не может, потому что в таком случае ей пришлось бы обратиться в необъятную энциклопедию», — в такой писаревской трактовке это больше Гумбольдт, чем Риттер.
Но жизнь гумбольдтовских идей отнюдь не была безоблачной, о чем коротко уже говорилось. Очень скоро после отпразднованного столетия со дня его рождения Гумбольдт действительно стал фигурой почти забытой.
Вот этого он не предвидел.
Хотя мог бы предчувствовать.
Исключить распад целостности на частности, на компоненты смогли бы конгениальные ему люди. Они реально существовали тогда в Европе, но гений их был направлен в иные сферы.
Восторжествовало иное — не соединение, а разобщение в общей судьбе наук о Земле.
Этого Гумбольдт тоже не предвидел, неосознанно полагаясь на гётевскую продуктивную силу гения, которая позволит ему (даже в посмертном варианте) направлять развитие научной мысли.
Так не получилось. И не могло получиться, ибо географическое естествознание миновать кризиса не могло: он неизбежно должен был наступить при переходе от описаний к причинности и объяснению. Гумбольдт воплотил этот переход в своей деятельности, но его одного на всю науку не хватило, да и не могло хватить.
Профессиональным писателям даже самые любопытные люди редко задают вопрос «Кто ваш любимый писатель?». Редко — не означает «никогда», бывает, задают. Желтая лихорадка, изменившая экспедиционную судьбу Александра Гумбольдта, — вместо Кубы он попал в Куману, — была специально исследована американским писателем Полем де Крюи, автором замечательной книги «Охотники за микробами», — именно его я считаю одним из интереснейших писателей двадцатого столетия. И одним из создателей жанра научно-художественной литературы, о чем говорится и в нашей Литературной энциклопедии. Энциклопедия вспомнила не только де Крюи, но даже древнеримского поэта Лукреция и декларативные стихи Ломоносова, благо в человеческой истории они соседи: их жизни разделяют всего-навсего две тысячи лет. А Гумбольдт даже не вспоминается. Поль де Крюи не возводил теоретического здания над собственными сочинениями, — он был практик. Но историки литературы по логике событий должны были бы обратить внимание на книгу, которую читают уже более полутораста лет, хотя она и лишена завлекательного сюжета, — я имею в виду «Картины природы». При всей моей глубочайшей симпатии к де Крюи, я все же историю новейшей научно-художественной литературы начинал бы с «Картин природы» Гумбольдта. Место в истории найдется каждому, благо и писали эти два мастера в разном ключе. Но образ вошел в научную литературу, сделав ее научно-художественной, почти за сто двадцать лет до того, как Поль де Крюи взялся за перо. Эта грань таланта Гумбольдта хотя и признается, но остается почти неизученной — и между тем это одна их тех ступеней, которые позволили Гумбольдту войти в наше сегодня, остаться читаемым, живым.
Как всякий уважающий себя материалист, я не верю в переселение душ. Но сходство умов в истории науки все же наблюдается. В науках о Земле такое сходство очевидно между Александром Гумбольдтом и Владимиром Вернадским. Обошлось, разумеется, без всяких переселений… Но разное время потребовало появления однотипных и соразмерных по мощи умов.
Чрезвычайно сложна краткая оценка всего сделанного Гумбольдтом. И все-таки рискну предположить, что он завершил своими путешествиями описательный период в развитии географии (прежде всего путешествиями американскими), предельно насытив описания разного рода количественными показателями, а в общетеоретическом плане Гумбольдт предпринял попытку отстоять универсальность, как научный принцип, в естествознании, опираясь на опыт замечательнейших предшественников… Если воспользоваться спортивной терминологией, то можно сказать, что в личном зачете он вышел победителем, а в командном — проиграл; команды, собственно говоря, и не получилось, хотя кандидатов в сборную он привлек немало. Гумбольдт был Дон Кихотом в том смысле, что субъективно пытался идти против потока времени, веря при этом в грядущее торжество новых идей. Противоречивость эта, очевидно, и способствовала тому, что Гумбольдт первым уловил факт наступления планетной революции и понятийно обозначил ее главные составляющие.
В первой половине восьмидесятых годов прошлого столетия, двадцати с небольшим лет от роду, Вернадский составил для себя научную программу. Она рассеяна по страницам дневников, по письмам к друзьям, к невесте, но в хронологическом смысле очень компактна (примерно два года). В программе, рассчитанной на всю жизнь, Вернадским названы все проблемы, которыми занимался Гумбольдт в области философии естествознания… Вернадский не спешил, к реализации программы он приступил лишь четверть века спустя. И все равно поторопился, — в субъективном отношении, разумеется. Продолжив дело Гумбольдта, он выступил все же раньше времени: идеи Гумбольдта — Вернадского стали нам понятны только теперь, и в сегодняшнюю науку Гумбольдт и Вернадский входят вместе.
Гумбольдт и Вернадский были сомыслителями, ближайшими научными сподвижниками, и Вернадский (интереснейший историк науки!) досконально изучал творчество Гумбольдта.
Теперь всеми признанная классической книга «Биосфера» никем по достоинству оценена не была. Если всерьез, то ведь и «Космос» поняли немногие.
Не человеческое, а историческое различие между Гумбольдтом и Вернадским в том, что Гумбольдт олицетворял прошлую универсальность естествознания, а Вернадский — ее новую универсальность. Но Гумбольдт старался не допускать распада, роковой для целостного мировоззрения дифференциации естественных наук. А Вернадский собирал распавшееся естествознание и при жизни своего не добился: он был признан в отраслевых направлениях (геохимия, биохимия…), но не в комплексном, всеобъемлющем своем миропонимании. Книги его были подвергнуты несправедливой, как мы теперь знаем, критике со стороны представителей философии.
Вернадский сейчас — одна из самых популярных фигур в отечественной науке.
Вернадский способствовал возвращению Гумбольдта к потомкам, но партнеры они равные и в том смысле, что и тому, и другому выпало посмертное счастье вернуться.
К нам, потомкам.
Когда в наши дни в западноевропейской литературе пишут о «неогумбольдтианстве», то имеют в виду Вильгельма Гумбольдта. Вне зависимости от объективной ценности этого направления в лингвистике, сам факт такого хода развития науки свидетельствует, что Вильгельм был ученым далеко не заурядным. Он не стал великим дипломатом, но и неудачником его назвать нельзя — средний уровень, соответствующий тогдашнему уровню государства, которое он представлял. Не с божьей отметкой поэт, но отнюдь не бездарный писатель. Счастливый в любви семьянин, имевший опору и на стороне…
Александр в этот ряд — не такой уж простой, кстати, — не укладывается. Многое сходится, но не все, и меньше всего интересны для нас сейчас бытовые подробности, хотя без них тоже не обойтись.
Личное счастье Александра Гумбольдта не соотнесешь (так и хочется сказать — «к сожалению») с женщиной или женщинами. Его выбор жизненного варианта не исключителен, примеров подобных много, и поскольку на творческой судьбе Гумбольдта его личное одиночество, друзьями не заполнимое, вроде бы не сказалось, можно было бы в эпилоге и опустить смутный сюжет.
Но оно все-таки сказалось — сказалось в выработке кодекса личного счастья, — уникального кодекса.
…Жителям тропиков природа сама раскрывается во всем своем великолепии, могуществе, многоцветии. «Народы Европы не пользуются этими преимуществами, — сожалеет Гумбольдт. — Болезненные растения, которых роскошь или любознательность держат в неволе в наших оранжереях, только напоминают то, чего мы лишены: они лишь сколок, неполный образ роскоши тропической растительности…» Безвыходных положений, однако, нет: «Но в богатстве и культуре языка, в живой фантазии поэта и художника европейцы находят удовлетворительную замену. Магия искусства переносит их в отдаленнейшие части земли.
Тот, чье чувство реагирует на эту магию, чей ум достаточно развит, чтобы объять природу во всех ее проявлениях, тот создает в своем одиночестве свой внутренний мир».
Внутреннего мира не лишен ни один человек, но внутренний мир Гумбольдта — это знание всего, что открыли естествоиспытатели, пересекая океаны и джунгли, поднимаясь на вершины гор и проникая в пещеры. В этом варианте «культура народов и наука несомненно оказывают влияние на индивидуальное счастье. Благодаря им мы живем одновременно в прошедших и настоящем столетиях. Собирая вокруг себя все то, что человеческими стараниями было найдено в отдаленнейших местах земного шара, народы сближаются между собой…
Так создает познание мирового организма духовное наслаждение и внутреннюю свободу, которые под ударами судьбы никакими силами уничтожены быть не могут».
Понятно, что Новый Свет навсегда остался в жизни Гумбольдта самым ярким для него «светом», в лучах которого конечно же меркли «живая фантазия поэта и художника», и в этом смысле он скорее всего выдавал желаемое за действительное. Ностальгия по тропикам терзала Гумбольдта всю жизнь. Но вот что чрезвычайно интересно: в многочисленных его сочинениях не встретишь призыва «все в тропики!» или более широко — «вернитесь к природе!..». Он не призывал к упрощению жизни, к бегству из городов в некую заповедную глушь. Иначе говоря, он не противопоставлял современную ему, с уже стремительно развивавшейся индустриализацией жизнь некоей сельской — в тропиках или не в тропиках — идиллии.
И все-таки, вопреки только что сказанному, к возвращению в природу он призывал через знание, понимание природы. Это, пожалуй, чисто гумбольдтовское оригинальное направление в науке и этике, да и в мировоззрении девятнадцатого столетия вообще. Знание природы возвращает человека в природу. Кроме того, оно дает ему ощущение внутренней свободы и способствует личному счастью. Но личное счастье зависит и от того, как человек воспринимает природу — анатомированной или цельной. Видимо, по Гумбольдту, только при способности «объять природу во всех ее проявлениях» можно стать по-настоящему счастливым. Во всяком случае, для него самого это было безусловным и, главное, осуществленным, реализованным всей прожитой жизнью.
Великий — и беспримерный! — опыт Гумбольдта, сознательно поставленный им над своей собственной жизнью, своей судьбой, — этот опыт особенно примечательным кажется сегодня, когда мы вполне можем оценить этическое, нравственное, научное, эстетическое его, наконец, значение. Да и практическое — в смысле общественно-исторической практики. В наше время этически-нравственным может быть только научно-целостное восприятие природы, — свободной природы, и потому не терпящей волюнтаризма, произвола, насилия. Во всяком случае, об этом следует помнить, учитывая опыт Гумбольдта.
И еще одно. Опыт Гумбольдта не был трагичным по своему существу. Наоборот, это был опыт обретения всеохватывающего счастья; личного, на всю жизнь, счастья. «Продуктивная сила» его гения жива.
Вполне вероятно, что она и бессмертна.
Н. Эйдельман 99 лет и один день
Памяти П. А. Зайончковского
18 февраля 1762 года закон о вольности дворянской… На другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет.
В. О. КлючевскийК нам, 18-летним студентам истфака МГУ, пришел седой профессор. Было ему чуть больше сорока (куда меньше, чем нам всем теперь); была выправка, сохранившаяся с детских лет, проведенных в кадетском корпусе, седина же налетела совсем недавно, — вместе с тяжелой контузией, которой Курская дуга наградила майора Петра Андреевича Зайончковского.
Профессор быстро понял, что мы горазды болтать и ничего не знаем. Поэтому он уподобился прославленному адмиралу и академику Крылову, радовавшемуся, что первые его послереволюционные слушатели отнюдь не испорчены преждевременным знанием интегралов, корней и даже дробей…
Для начала Зайончковский терпеливо объяснил нам — что такое исторический источник и как ссылаться на использованную литературу (позже, читая труды даже весьма именитых авторов, — нередко жалею, что они хоть часок не провели на тех семинарах Петра Андреевича).
Догадавшись, что мы освоили азы, Зайончковский однажды, между делом, показал нам подлинный герценовский «Колокол», в другой раз — сводил в Отдел рукописей Ленинской библиотеки и предложил взять в руки, самим прочесть рукопись декабриста Никиты Муравьева, черновик актера Щепкина…
В ту пору наш профессор готовил книгу об отмене крепостного права в России и предлагал нам соответствующие темы для курсовых работ. Вскоре — вроде бы недурно разбирались, что крепостничество жесткая форма земельной и личной зависимости крестьянина; что в России оно окончательно оформилось в 1649 году («Соборное уложение» — свод законов царя Алексея Михайловича); что, в то время как во Франции, Англии и ряде других европейских стран крестьянина, с XV–XVI века, уже нельзя было продать или купить, — на востоке Европы, наоборот, еще в XVIII столетии крепостнические винты продолжали закручиваться (Зайончковский как-то спросил, отчего же такие различия? — и мы наговорили массу чуши, но были похвалены за «отдельные крупицы разума»).
Припоминаю зимний, сумрачный не то день, не то вечер, когда на втором этаже панинского особняка, принадлежавшего истфаку (нового здания МГУ еще не существовало), разбирался доклад бойкой девицы: …18 февраля 1762 года был издан Манифест о вольности дворянской, которая, казалось, так и рифмуется с вольностью крестьянской. Миллионы крепостных были уверены, что Петр III им тоже дал свободу, но помещики и министры спрятали. Три года спустя, в трудах Вольного экономического общества было уже неопровержимо доказано, что крепостной труд невыгоден, а свободный куда выгоднее…
— Ну и почему же? — спросил профессор. — Почему же крестьян не освободили в XVIII веке, а ждали еще сто лет: подумайте, — целое столетие, четыре поколения!
Подобные вопросы нам были ясны до безразличия: «все крестьяне мечтали о свободе, но помещики были против: вот и не вышло».
— Так уж и все крестьяне? — усомнился Зайончковский.
— Все, все! — дружно заверили мы. — Ну разве что какие-нибудь рабские души вроде Фирса из «Вишневого сада»…
— Так уж и все помещики были за рабство?
— Нет, нет! — утешили мы преподавателя. — Некоторые были против; даже царица Екатерина II подумывала, не дать ли крестьянам вольность, но раздумала.
— Отчего же раздумала?
— Классовый интерес.
— Да откуда вы знаете, что за интерес у них был? Как это вы, люди середины XX века, узнали точные мысли и чувства далеких предков?..
Мы, люди 1940–1950-х годов, были столь изумлены, что даже умолкли. В аудитории стало совсем темно — и даже страшно: по вечерам прошлое ощущается непосредственнее…
Зайончковский же терпеливо в тот раз (и позже, и много-много лет спустя) все нам втолковывал и втолковывал: «Не подобает серьезному историку просто приклеивать ярлык — „классовый интерес“; выходит, еще не начав решать задачу, вы уже знаете ответ и к нему подгоняете факты. Простите меня, но это безнравственно! Надо не от выводов пятиться к фактам, а от фактов подниматься к выводам; надо, между прочим, приглядеться к предкам, попытаться им „в душу заглянуть“, а для того существуют источники — дневники, мемуары, письма…»
«Личность, личностная история!» — повторял наш профессор и затем помещал подобные рассуждения в свои книги; он не упускал случая напомнить, что общая, классовая закономерность всегда преломляется в разнообразных мнениях, намерениях, поступках отдельных людей: «Отчего старых историков куда интереснее читать, чем наших? Да потому, что они пусть наивно, но рассказывали об исторических личностях, характерах, поступках, — у нас же часто встречается скучная схема; нет, социологию, экономическую науку необходимо приветствовать, и при этом дополнять, обогащать личностным подходом!» (Любопытно, что сам Зайончковский писал научным языком, строго, порой даже суховато, — но постоянно стремился к реализации своих идей.)
В ту пору, когда мы числились людьми середины, даже второй трети XX столетия, подобные рассуждения еще не были слишком привычными. По мнению самых твердокаменных, тут даже попахивало «буржуазным объективизмом»…
Спор решался делом; и тогда-то заработала с большой творческой силой «школа Зайончковского». Сам профессор и десятки воспитанных им исследователей, продолжателей… Зайончковский работал постоянно, каждый день, даже в периоды недуга; он и смерть (30 сентября 1983 года) встретил, вчитываясь в необходимый для работы том старинных мемуаров… Тут пора напомнить, что за послевоенные годы он опубликовал девять насыщенных архивными открытиями монографий и множество статей об истории крестьянского дела, о внутренней политике самодержавия, государственном аппарате и армии XIX — начала XX столетия; и почти всегда, трудясь над очередной книгой, профессор готовил к печати исторические материалы, на которых его исследования основывались. Так появились четыре тома дневников военного министра Д. А. Милютина, двухтомное издание дневников министра внутренних дел П. А. Валуева, дневники государственного секретаря А. А. Половцева…
Зайончковский любил повторять: «Кто знает, сколько лет проживут, будут полезными для потомков наши исследования, — а вот за будущее опубликованных нами исторических документов, дневников, мемуаров и особенно справочников волноваться не приходится…»
По замыслу ученого и под его руководством вышли два издания (дай бог, не последние!) бесценной книги «Справочники по истории дореволюционной России»; продолжается выпуск другого замечательного многотомника «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях»…
Как скромную дань памяти крупного, честного историка, автор этого очерка хотел бы снова, вслед за лучшими специалистами, пройти по тому столетию, о котором шла речь в давние годы, на семинарах Зайончковского; сквозь время, которое отделяло «дворянское освобождение» от крестьянского, с 1762-го по 1861-й. Пройти отнюдь не для того, чтоб рассказать о новых принципиальных архивных находках, неизвестных фактах: наоборот, большинство событий и лиц, о которых в дальнейшем пойдет речь, довольно хорошо известны. Однако, вспоминая Учителя (разумеется, не его одного, но сегодня — о нем!) — вспоминая, попробуем в событиях отыскать «побольше личности»; попытаемся за суммой не забыть слагаемых; результатом — не отменить намерения. Проследим, в меру наших знаний и возможностей, как пересекается общее с личным в российском крестьянине и помещике, революционере и министре, поэте и царе…
Вспомним, наконец, что Дюма-отец прибегал к литературному приему «внедрения» своих вымышленных героев в реальную историческую ситуацию: казнь английского короля Карла I действительно произошла 30 января 1649 года, но, согласно роману «Двадцать лет спустя», его чуть не спасли четыре француза; более того, один из них находился в роковую минуту под эшафотом…
Мы же, не выдумывая героев, тоже попытаемся за несколькими событиями рассмотреть потаенные «личностные механизмы» — намерения, мотивы.
Нечто вроде заметок на полях воображаемой книги о последнем столетии российского крепостничества…
1762 год. Петр III подписывает Вольность дворянскую.
Конец 1760-х. Первые мнения «образованного общества» о вреде рабства.
1773. Крестьянский Петр III, Емельян Пугачев…
I. 17 сентября 1773 года
…С каким-то диким вдохновением…
Пушкин«Мужицкий бунт — начало русской прозы…» — строка из стихотворения Давида Самойлова соединяет миры, казалось бы несоединимые, помогает лучше разглядеть фантастически обыденное пересечение культур, судеб, событий; то, что и есть История!
17 сентября 1773 года Петербург готовился к многодневному празднику: ожидали бесплатную раздачу вина и снеди, позже потребуется специальная брошюра для перечня всего, что составляло церемонию бракосочетания наследника престола Павла Петровича (будущего Павла I) с гессенской принцессой Вильгельминой, переименованной в Наталью Алексеевну. Екатерина II жалует по этому случаю чины, деньги, ордена, тысячи крепостных душ, чтобы запечатлеть в памяти подданных событие.
Однако воспоминания — коварная сфера, «мозг не знает стыда». Вместо того чтобы сохранить хотя бы главные контуры торжественного происшествия, историческая память современников вдруг соединяет его совсем с другим — страшным, нежелательным, с тем, что официально приказано было «предать вечному забвению».
В мемуарах поэта и государственного деятеля Гаврилы Романовича Державина, написанных около 1812 года, рисуется картина, напоминающая появление тени отца Гамлета… На свадебном пиру, где Екатерина II поздравляет нелюбимого сына, вдруг появляется, «садится за стол» оживший отец Петр III, свергнутый, задавленный, похороненный 11 лет назад…
Рассказ Державина не совсем точен, страшное известие достигло Петербурга несколько позже, 14 октября, но дело не в буквальных совпадениях. Важно, что именно такой представлялась современникам роковая связь событий.
Тридцать три года
17 сентября 1773 года за две тысячи верст от столицы, по уральским горам, степям, дорогам, крепостям разлетелись листки с неслыханными словами:
«Самодержавного амператора, нашего великого государя Петра Федаравича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая.
Во имянном моем указе изображено яицкому войску: Как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и отцы ваши, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых. Будити мною, великим государем, жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне, государю амператорскому величеству Петру Федаравичу винныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех виных прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершин и до устья и землею, и травами, и денижным жалованьем, и свиньцом, и прахам, и хлебным правиянтам.
Я, великий государь амператор, жалую вас, Петр Федаравич».
Эти строки 60 лет спустя прочтет нехудший ценитель, Александр Сергеевич Пушкин: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов».
Иначе говоря, губернатор писал «германскими конструкциями» («немец ныряет в начале фразы, в конце же ее выныривает с глаголом в зубах»).
Мужиций бунт — начало русской прозы…
Предыстория же великого бунта, приключения главного действующего лица, «великого государя амператора», стоят любого самого искусного, захватывающего повествования. Основные факты, правда, давно известны, но не слишком ли мы к ним привыкли и уж не удивляемся, — а не удивляясь, можем ли понять?
Итак, уходя и возвращаясь к 17 сентября 1773 года, припомним необыкновенную жизнь Емельяна Ивановича Пугачева, а «на полях» той биографии кратко зафиксируем свое размышление и изумление.
На допросе в Тайной экспедиции 4 ноября 1774 года (то есть за 67 дней до казни) Пугачев рассказал (а писарь за неграмотным записал), что родился — в донской станице Зимовейской; «отец его, Иван Михайлов сын Пугачев, был Донского войска Зимовейской станицы казак, от коего он слыхал, что ево отец, а ему, Емельке, дед Михайла… был Донского же войска Зимовейской же станицы казак, и прозвище было ему Пугач. Мать его, Емелькина, была Донского же войска казака Михайлы дочь… и звали ее Анна Михайловна…»
Емельян был четвертым ребенком и родился, как видно, в 1742-м, так как показал себе на допросе 32 года…
Тут время поразмыслить.
Выходит, Пугачев не прожил и тридцати трех лет; если и ошибался в возрасте (счет времени у простых людей был приблизительный, некалендарный), тогда выходит, по другим сведениям, что лег на плаху 34-летним. Так и так — немного: мало прожил, но — «дел наделал», погулял…
Пушкин, который был ровесником Пугачева, когда о нем писал, — Пушкин, кажется, был из числа немногих, кто заметил молодость, краткость жизни крестьянского вождя: «Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года?»
Царь, впрочем, «возраста не имел», и даже престарелые сановники обязаны были склоняться перед безусым монархом: «император Петр Федорович» сразу, титулом, отменял сомнения казацких старейшин, будто им, бывалым, этот молодец не указ.
Настоящий Петр III был, правда, на 14 лет старше своего двойника, но кто же станет разбираться?
Задумаемся и о другом: как сумел 30-летний неграмотный казак, небогатый, младший в семье, обыкновенный внешности («лицом смугловат, волосы стриженные, борода небольшая, обкладистая, черная; росту среднего…»), как сумел он зажечь пламя на пространстве более 600 тысяч квадратных километров (три Англии или полторы Германии), как мог поднять, всколыхнуть, повлиять на жизнь нескольких миллионов человек, поколебать «государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов»? (Пушкин).
В учебниках, трудах научных и художественных, разумеется, не раз писалось, что для того имелась почва, что крепостная Россия была подобна пороховому складу, готовому взорваться от искры… Но многим ли дано ту искру высечь? Пушкин знал о четырех самозванцах, действовавших до Пугачева; сейчас известны уже десятки крестьянских «Петров Третьих». Случалось, что удалой солдат, отчаянный мужик или мещанин вдруг объявлял себя настоящим императором, сулил волю, поднимал сотни или десятки крестьян, но тут же пропадал — в кандалах, под кнутом; Пугачев же, как видно, слово знал — был в своем роде одарен, талантлив необыкновенно. Иначе не сумел бы…
Как решился?
Снова перечитаем биографические сведения, с трудом и понемногу добытые в течение полутора веков из секретных допросов, донесений, приговоров екатерининского царствования.
В 14 лет Пугачев теряет отца, делается самостоятельным казаком со своим участком земли; в 17 лет женится на казачьей дочери Софье Недюжевой, затем — призван и около 3 лет участвует во многих сражениях Семилетней войны; «за отличную проворность» взят в ординарцы к полковнику…
Рано тогда выходили в люди: и казак, и дворянин в 14–17 лет уже обычно отвечали за себя, хозяйствовали, воевали, заводили семью… Между прочим, многое помогает нам понять о Пугачеве его земляк (тоже смуглый «как турка») Григорий Мелехов: хозяйство, женитьба, военная служба в тех же летах; посланные «воевать немца» — увидят, поймут, запомнят много больше, чем однополчане и земляки…
Пугачев цел и невредим возвращается с Семилетней войны — ему нет и двадцати. Потом пожил дома полтора года, дождался рождения сына, снова призван, на этот раз усмирять беглых раскольников; опять домой, затем — против турок, оставив в Зимовейской уже троих детей… В турецкой кампании — два года; участвует в осаде крепости Бендеры под верховным началом того самого генерала Панина, который несколько лет спустя будет командовать подавлением пугачевцев, а у пленного их вождя в ярости выдерет клок бороды. Между прочим, Пугачев в походе выдавал себя за крестника Петра Великого, и казаки посмеивались…
Вернулся из турок, и все у него вроде бы благополучно, «как у людей»: выжил, получил чин хорунжего.
Царская служба, однако, надоела — захотелось воли, да еще тут «весьма заболел — гнили грудь и ноги», чуть не помер. Если б Пугачева одолела болезнь, как знать, нашелся бы в ту же пору равный ему «зажигальщик»? А если б сразу не объявился, — хоть несколькими годами позже, — неизвестно, что произошло бы за этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы или вообще не вспыхнуло в 1770-х…
Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака. Тем более что с этого как бы «все и началось!»
1771 год. Пугачев отправляется в Черкасск, просит у начальства отставки, но не получает. Между тем удачно лечится, узнает, что казачьи вольности поприжаты, что «ротмистры и полковники совсем уже не так с казаками поступают». Впервые приходит мысль — бежать.
Скрылся один раз, недалеко — «шатался по Дону, по степям, две недели»; узнал, что из-за него арестовали мать, поехал выручать, самого арестовали — второй раз бежал, «лежал в камышах и болотах», а затем вернулся домой. «В доме же его не сыскивали, потому что не могли старшины думать, чтоб, наделав столько побегов, осмелился жить в доме же своем» (из допроса Пугачева).
Повадка, удаль уже видны хорошо — Пугачев же еще весной цены себе не знает…
1772 год. Предчувствуя, что все же скоро арестуют, прощается с семьей и бежит третий раз, на Терек. Там «старики согласно просили его, Пугачева, чтобы он взял на себя ходатайство за них»; ему собирают 20 рублей, вручают письма и отправляют в Петербург просить об увеличении провианта и жалованья. Как быстро, выйдя из тех мест, где его размах не очень ценят (может быть, потому, что знали и мальчонкой, и юнцом), — как быстро он выходит в лидеры! Еще понятно, если бы знал грамоте, но нет, ему дают письма, которые он и прочесть не умеет…
Как видно, брал умом, быстротою и, конечно, разговором: Пушкин заметил, что Пугачев частенько говорил загадками, притчами. Уже плененный и скованный, вот как отвечает на вопросы: «Кто ты таков?» — спросил он (Панин) у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», — отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» — продолжал Панин. «Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает».
Сцена очень характерная: из слова «вор» Пугачев иронически извлекает «ворона», складывает загадку-притчу, одновременно понятную и таинственную, сильно действующую на психологию простого казака, крестьянина, заводского рабочего. Пушкин знал, что притча о вороне «поразила народ, столпившийся около двора…» Талант: и это свойство Пугача через толщу лет, сквозь туман предания и забвения, первым тонко почувствует поэт…
Осаждая крепость, где комендантом был отец будущего баснописца Крылова, Пугачев в случае успеха, конечно, мог бы расправиться с семьей этого офицера, и не было бы басен Крылова, а пугачевские отряды, заходившие в пушкинское Болдино, конечно, могли бы истребить и любого Пушкина… Но притом — разве Пугачев в «Капитанской дочке» не вызывает симпатии, сочувствия? (Марина Цветаева находила, что «как Пугачевым „Капитанской дочки“ нельзя не зачароваться — так от Пугачева „пугачевского бунта“ нельзя не отвратиться».)
Разве Пушкин, хоть и шутил, — не сохранил той симпатии, надписывая экземпляр своего «Пугачева» другому поэту, знаменитому герою-партизану Денису Давыдову:
Вот мой Пугач: при первом взгляде Он виден — плут, казак прямой! В передовом твоем отряде Урядник был бы он лихой.Пушкин в начале 1830-х годов обратился к пугачевским делам прежде всего, чтобы понять дух и стремление большинства, чтобы увидеть «крестьянский бунт»; но к тому же поэта притягивали лихость, безумная отвага, талантливость Пугачева, в чем-то родственные пушкинскому духу и дару.
Мы, однако, далековато вышли из наших 1770-х…
Февраль 1772-го. Власти перехватывают Пугачева в начале пути с Терека в Петербург, и царица Екатерина лишилась шанса принять казацкое прошение от своего (в скором времени) «беглого супруга», «амператора Петра Федаравича»…
Второй арест — и тут же четвертый побег: Пугачев сговорился с караульным солдатом — слово знал… Он является в родную станицу, близкие доносят; и вот уже следует третий арест, а там и пятый побег: опять Пугачев сагитировал казачков!
Затем до конца 1772 года странствия: под Белгород, по Украине, в Польшу, снова на Дон, через Волгу — на Урал.
В раскольничьих скитах Пугачев представляется старообрядцем, страдающим за веру; возвращаясь из Польши, удачно прикидывается впервые пришедшим в Россию; старого казака убеждает, что «он заграничный торговый человек и жил двенадцать лет в Царьграде, и там построил русский монастырь, и много русских выкупал из-под турецкого ига и на Русь отпускал. На границе у меня много оставлено товару запечатанного».
Тип российского скитальца, которым столь интересовались лучшие писатели… Пушкин позже писал о российской истории, полной «кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов».
В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и сверх того — артистический дар, склонность к игре, авантюре.
Известный филолог М. М. Бахтин в своей теории народного «карнавального сознания» прекрасно проанализировал законы перехода игры в реальность и обратно.
Пугачев играл великую, отчаянную, трагическую игру, где ставка была простая — жизнь…
Перед 1773-м
Приближается год, с сентября которого начинался наш рассказ. Пугачев по-прежнему еще и знать не знает о главной своей роли, которую начнет играть очень и очень скоро. Не ведает, но, возможно, уже предчувствует: в Заволжье и на Урале он многое узнает о восстаниях крестьян и яицких казаков, о «Петре III», являющемся то в одном, то в другом самозваном образе.
Все это (мы можем только угадывать подробности) однажды сходится в уме отчаянного, свободного казака.
И тут опять нельзя удержаться от комментариев.
Свобода! То, о чем мечтали миллионы крепостных… Казаки, однако, имеют ее несравненно больше, чем мужики, которые могут лишь вздыхать о донских или яицких вольностях и постоянно реализуют мечту уходом, побегом на край империи, в казаки.
Но взглянем на карты главных крестьянских движений, народных войн XVII–XVIII столетий. Восстание Болотникова начинается на юго-западной окраине, среди казаков и беглых; Разин и Булавин — на Дону; Пугачев сам с Дона, но поднимет недовольных на Яике, Урале — юго-восточной казачьей окраине.
Таким образом, главные народные войны зажигаются не в самых задавленных, угнетенных краях, таких, скажем, как Черноземный центр, Среднее Поволжье; нет, они возникают в зонах относительно свободных, и уж потом с казачьих мест пожар переносится в мужицкие, закрепощенные губернии!
Оказывается, для того, чтобы восстать, чтобы начать, уже нужна известная свобода, которой не хватает помещичьему рабу…
Итак, на пороге 1773 года Емельян Пугачев на Южном Урале, где хочет возглавить уход яицких казаков за Кубань, в турецкую сторону.
Два века спустя, задним числом, иногда представляется, будто какая-то таинственная, неведомая сила поправляла казака, готового «сбиться с пути», и посылала его туда, где он сотворит нечто самое важное, страшное и фантастическое…
За Кубань не ушел.
Близ рождества 1773 года следует четвертый арест (опять донес один из своих!), на этот раз дело пахнет кнутом и Сибирью. Однако арестанта снова выручает блестящий артистизм, мастерское умение овладеть душами. В Казани (тюрьма и цепи) Пугачев успевает завоевать уважение и любовь других арестантов, влиятельных старообрядцев, купцов, наконец, солдат. К тому же сам слух об арестованной «важной персоне» создавал атмосферу тайны и возможных будущих откровений. Любопытно, что это ощущают тысячи жителей Казани и округи, но совершенно не замечает губернатор Брандт; он не понимает, сколь эффектно может выглядеть в глазах затаившихся подданных некий арестант. Губернатор уверен, что идеи Пугачева (увести уральских казаков и прочее) — «больше презрения, нежели уважения достойны».
И вот шестой побег — опять узник и охранник вместе: 29 мая 1773 года, за четыре месяца до главных дел.
Летом 1773 года Пугачев исчезает — появляется Петр III.
Отчего же выбран именно этот, слабый — по-видимому, ничтожный — царь, не просидевший на троне и полугода? А вот именно потому, что Петр III не успел «примелькаться», остался как бы абстрактной алгебраической величиной, которой можно при желании дать любое конкретное значение.
За последние годы в работах К. В. Чистова, Н. Н. Покровского, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Р. В. Овчинникова и ряде других народное «царистское» сознание было тщательно изучено.
Царь, по исторически сложившимся народным понятиям, «всегда прав и благ», если же он не прав и не благ, значит, — не настоящий, подмененный, самозваный; настоящему же — самое время появиться в гуще народа, в виде царевича Дмитрия, Петра III, царя Константина. Петр III, всем известно, дал вольность дворянству в 1762 году, потом его свергли, говорят, — будто убили: разве непонятно, что свергли за то, что после вольности дворянской приготовил вольность крестьянскую, — но министры и неверная жена все скрыли! «Хорошего царя» они, конечно, не хотели — и тот скрылся, а вот теперь объявился на Урале!
Правда, еще за год до того один беглый гренадер сказал Пугачеву, что он — «точно как Петр Третий», а Пугачев (по его собственному признанию) воскликнул: «Врешь, дурак!» — но «в тот час подрало на нем, Емельке, кожу»…
Предчувствие главного дела, «дикое вдохновение»…
Сентябрь
В ночь на 17 сентября в ста верстах от Яицкого городка Пугачев входит в казачий круг из шестидесяти человек и говорит: «Я точно государь… Я знаю, что вы все обижены и лишают вас всей вашей привилегии и всю вашу вольность истребляют, а напротив того, бог вручает мне царство по-прежнему, то я намерен вашу вольность восстановить и дать вам благоденствие».
В подкрепление этих слов грамотный казак Почиталин громко читает тот «именной указ», который был приведен в начале нашего повествования.
«Теперь, детушки, — объявляет царь, — поезжайте по домам и разошлите от себя по форпостам и объявите, што вы давеча слышали, как читали, да и што я здесь… а завтра рано, севши на кони, приезжайте все сюда ко мне». «Слышим, батюшка, и все исполним и пошлем как к казакам, так и к калмыкам», — отвечали казаки.
Вот каково было 17 сентября 1773 года на Южном Урале. Вот как выглядело начало дела согласно позднейшим записям следователей. И все очень просто: «Я точно государь…» — «Слышим, батюшка, и все исполним».
А на самом деле — какое напряжение между двумя половинами фразы: сказал — поверили!
Что же, — сразу, не сомневаясь, увидели в Пугачеве Петра III? И после не усомнились?
Вопрос не простой: если б не поверили, разве пошли бы на смерть?
Но неужели смышленым казакам не видно за версту, что это — свой брат, такой же, как они, пусть умнее, речистее, быстрее?.. И разве мог Пугачев долго скрывать от всех приближенных, например, свою неграмотность? Царям, правда, не положено самим читать и писать — для того и слуги, но все же нужно уметь хоть имя поставить под указом.
Пугачев, мы знаем, несколько раз чертил своею рукою «тарабарские грамотки»: первые пришедшие в голову черточки и загогулины. (Имя же «Петр» или «Питер» за него вставлял Шванвич: тот самый, что сделался Швабриным в «Капитанской дочке»). Для большинства его окружающих вроде бы достаточно; тем более что крестьянский император объявлял, будто это он «пишет по-немецки»; однако пугачевская «военная коллегия», созданная при государе, его министры — Зарубин, Почиталин, Шигаев, Хлопуша, Белобородов, Перфильев, Творогов — уж так они сразу и поверили, будто служат Петру III? Ведь по городам и весям царские гонцы объявляют, что государевым именем называет себя «вор и разбойник Емелька Пугачев»…
В сложных случаях всегда полезно посоветоваться с Пушкиным. В «Капитанской дочке» мы не находим никаких «маскарадных сцен», где Пугачев боится разоблачения или размышляет о способах маскировки. Да и ближайшие казаки, «генералы», кланяются, величают великим государем и вроде бы совсем не мучаются сомнениями, — самозванец над ними или нет. Принимают, каков есть!
Впрочем, в «Истории Пугачева» Пушкин рассказывает о двух удачных приемах, которыми Пугачев многих убедил.
Во-первых, показал на груди «царские знаки». Память о болезни и «гнилости» двухлетней давности… Пугачев хорошо знал наивную народную веру, будто царя можно отличить по каким-то особым приметам на теле (в форме креста или иначе).
Вторая же сентябрьская история такова: «Утром Пугачев показался перед крепостию. Он ехал впереди своего войска. „Берегись, государь, — сказал ему старый казак: — неравно из пушки убьют“. „Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?“»
Странствуя, в 1833-м по оренбургским степям, Пушкин еще застал восьмидесяти-девяностолетних свидетелей, содрогался от страшных, кровавых дел, слышал давно умолкнувшие удалые речи: «Разве пушки льются на царей?»
У Пугачева был в запасе еще добрый десяток подобных же, часто интуитивных, актерских ходов, иносказаний. Прибавим к тому и обаяние самой удачи: начал всего с несколькими десятками сподвижников, и вот — сдаются крепости, отступают екатерининские генералы: явные признаки присутствия царской персоны!
Все это особенно действовало на тех, кто был подальше от самой ставки самозванца, — на рядовых повстанцев. «Они верили, хотели верить», — запишет Пушкин.
Вот важнейшие слова: хотели верить!
За 168 лет до того Лжедмитрий, въехавший в Москву, был при всем честном народе узнан царицей — матерью убиенного отрока. Притом самозванец вовсе не боялся встречи: еле живая, почти слепая седьмая жена Ивана Грозного хотела чуда; ее, конечно, подготовили, соответствующим образом настроили — вот она и узнала в пришельце своего мальчика, которого считала погибшим целых 14 лет (кстати, Пугачев в «Капитанской дочке» вспоминает про удачливого предшественника: «Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою»).
Итак, верили, хотели верить… Большинство повстанцев мечтало о царе-освободителе еще задолго до того, как узнали о Пугачеве; они всегда хотели земли и свободы; всегда для бунта была почва, где удачливый сеятель мог многое посеять. Общее число лжецарей с 1600 по 1850 год приближается к сотне.
В других странах в разные эпохи тоже действовали самозванцы, например, Лже-Нерон в Древнем Риме; после исчезновения в 1578 году на поле брани португальского короля Себастьяна явилось несколько Лже-Себастьянов, и т. п.
Однако российские лжецари имеют по меньшей мере два отличительных признака. Во-первых, их, пожалуй, больше, чем во всех других краях, вместе взятых. Во-вторых, основной тип российского самозванца — это человек из народа, выступающий в интересах «низов», от их имени… Независимо от успеха или провала удалого молодца, он представляет, так сказать, «нижнее» самозванчество, крестьянское.
Но почему же мужиков может поднять только царское имя?
Пожалуй, ни один, даже самый популярный король средневековой Англии или Франции не играл в народном сознании той роли, какую играли на Руси Александр Невский, Дмитрий Донской, а также Иван Грозный (позже почти слившийся в памяти народной со своим дедом Иваном Третьим).
В течение нескольких веков; когда происходило объединение раздробленной Руси и ее освобождение от чужестранного ига, монарх (сначала великий князь, потом царь) возглавлял общенародное дело и становился не только вождем феодальным, но и героем национальным. Идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн, присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался, в общем, однозначно: царь «все равно прав». Если же от царя исходит явная, очевидная неправота, значит, его истинное слово искажено министрами, дворянами или же — сам монарх неправильный: его срочно нужно заменить настоящим! И как тут не явиться самозванцу, особенно если имеется для того удобный случай (например, народные слухи, будто царевича Дмитрия хотели извести, но произошло «чудесное спасение»)?
На Западе было иначе: влияние католической церкви, несколько иная роль королевской власти — все это вело к тому, что не самозванчество (как на Руси), но ересь становится идеей многих народных движений; не лучшего царя, а «правильную церковь» требовали повстанцы.
В России же относительно слабую церковь во многом подменяла сильная верховная власть. Сразу заметим, что и в русской истории известны различные ереси, а с XVII века существовало такое сильное религиозное движение, как старообрядчество; однако подобные формы протеста все же не достигли той всеохватывающей силы, как это было во время народных движений в Германии, Франции, Италии… Только «справедливый, народный царь» угоден богу — или (то же самое, но с обратным знаком) неправильный царь равен дьяволу, антихристу…
К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) извели. «Особенно замечательно, — заметил Н. А. Добролюбов, — как сильно привилось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер».
Притом почти каждому монарху приписывали не того родителя (например, Екатерине II — Ивана Бецкого), и, таким образом, умершие цари «самозванно» оживали, а живых «самозванно» усыновляли, удочеряли или убивали, а царь, считавший самозванцами крестьянских «Петров III», сам был в их глазах правителем «самозваным-незваным».
В общем, так все запутывалось, что в правительственных декларациях однажды Пугачева нарекли «лжесамозванцем», что, как легко догадаться, было уж чуть ли не крамольным признанием казака царем!
Однако снова поинтересуемся теми, кто догадывался или даже точно знал, что Пугачев — простой казак.
Во-первых, они уже связаны кровью и должны других уговаривать, себя убеждать, что здесь Петр Федорович. Психология самоубеждения очень любопытна: даже некоторые проныры и скептики из пугачевского окружения тоже хотели верить и, вступив в игру, далее уже не играли, но жили и умирали всерьез.
Как известно, министры Пугачева принимали титулы «графа Чернышева» и «графа Воронцова»: это отнюдь не означало, будто они себя считают Воронцовым или Чернышевым, — фамилия сливается с титулом, произносится и пишется как бы в одно слово «Графчернышев», «Графворонцов». Однако, постоянно повторяя фамилию-титул, носитель ее, как и окружающие, все больше верит, что слово само в себе несет некоторую силу, магию…
Пусть Пугачев не царь, но мы должны верить, а поверив, назвав царем, уже присягнули — и одним звуком царского титула передали ему нечто таинственное. А он сам, понимая, что соратники не очень-то верят, ведет себя так, будто они верят безоговорочно, и этим себя еще сильнее заряжает, убеждает, а его убеждение к ним, «генералам», возвращается! К тому же старшие видят магическое влияние государева слова на десятки тысяч людей, и после этого уж самый упорный привыкнет, самому себе шепнет: «А кто ж его знает? Конечно, не царь, но все же не простой человек; может быть, царский дух в мужика воплотился?»
Пушкин: «Расскажи мне, — говорил я Д. Пьянову, — как Пугачев был у тебя посаженым отцом? — Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович».
Калмыцкую сказку об орле и вороне Пугачев рассказывает Гриневу «с каким-то диким вдохновением»…
И уж сам «Петр III» наверняка порою не мог отличить свой реальный образ от им же выдуманного: создавал, так сказать, вторую действительность — точно так, как бывает в искусстве…
Две свадьбы
С 17 сентября 1773 года — кровавый пир. Летучие листки, написанные под диктовку самозванца или по разумению его канцеляристов, разносятся по горам и степям русскою и татарскою речью.
«Великий государь и над цари царь и достойный император Петр Федорович, разсудя своим мнением ко всем моим верноподданным послать сей имянной указ и прочая, и прочая, и прочая.
Да будет вам известно всем, что действительно я сам великий. И веря о том без сумнения, знайте, мне подданные во всяких сторонах и находящиеся в здешних местах: мухаметанцы и калмыки, сколько вас есть и протчие все! Будучи в готовности, имеете выезжать ко мне встречю и образ моего светлого лица смотрите, не чиня к тому никакой противности, и пожалуйте, преступя свои присяги, чините ко мне склонность…
И как ваши предки, отцы и деды, служили деду моему блаженному богатырю государю Петру Алексеевичу, и как вы от него жалованы, так и я ныне и впредь вас жаловать буду. И пожаловал вас землею, водою, солью, верою и молитвою, пажитью и денежным жалованьем, за что должны вы служить мне до последней погибели. И буду вас за то против сего моего увещевательного указа отец и жалователь, и не будет от меня лжи: многа будет милости, в чем я дал мою пред богом заповедь. И будет кто против меня противник и невероятен, таковым не будет от меня милости: голова будет рублена и пажить ограблена. Для чего сей мой указ со учреждением и написал».
В настоящее время известно около шестисот документов «ставки Пугачева», недавно изданных отдельным томом.
Буквально в те самые дни, когда на петербургских пирах провозглашалась здравица великому князю Павлу Петровичу и великой княгине Наталье Алексеевне, за них, «за детей своих», пил и Пугачев, рассылая по округе бумаги не только от собственного имени, Петра III, но и от наследника.
Ведь если Пугачев — Петр III, то его «сын и наследник» — естественно, Павел. Этот агитационный прием используется повстанцами не раз.
Емельян Пугачев постоянно провозглашал, глядя на портрет великого князя: «Здравствуй, наследник и государь Павел Петрович!» — и частенько сквозь слезы приговаривал: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». В другой раз самозванец говорит: «Сам я царствовать уже не желаю, а восстановлю на царствие государя цесаревича».
Сподвижник Пугачева Перфильев повсюду объявлял, что послан из Петербурга «от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его величеству».
В пугачевской агитации важное место занимала повсеместная присяга «Павлу Петровичу и Наталье Алексеевне» (первой жене наследника), а также известие о том, будто граф Орлов «хочет похитить наследника, а великий князь с 72 000 донских казаков приближается». И оренбургский крестьянин Котельников рассказывает, как генерал Бибиков, увидя в Оренбурге «точную персону» Павла Петровича, его супругу и графа Чернышева, «весьма устрашился, принял из пуговицы крепкое зелье и умер».
Как же реальный принц, сам Павел Петрович, отнесся к своей самозваной тени? Что думал после пышных свадебных торжеств 19-летний впечатлительный юноша, вдруг услышавший почти запретное имя отца, да еще ожившего, восставшего!
Откровеннейшие документы, относящиеся к гибели своего отца, сын Петра III, Павел Петрович, увидит лишь 42-летним, когда взойдет на трон. По сведениям Пушкина (этим сведениям должно верить, так как поэт имел ряд очень осведомленных собеседников), — «не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, будто князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: „Жив ли мой отец?“»
Насколько все неверно, зыбко, что даже наследник престола допускает, что отец его жив! И спрашивает о том не случайного человека, но Андрея Гудовича: близкий к Петру III, тот выдержал длительную опалу при Екатерине, но в 1796 году был вызван и обласкан Павлом.
Самозванцы, подмененные, двоящиеся…
Смешно, конечно, предполагать, будто Павел допускал свое родство с Пугачевым, хотя и не был уверен, что его отец действительно погиб. О характере, о целях народного восстания он имел, в общем, ясное понятие, но все же — не остался равнодушен.
Вздрогнули при появлении в пугачевском лагере «тени Павла» и тайные сторонники принца, те, кто мечтали о возведении его на престол, и притом — об ограничении самодержавия: братья Панины, Денис Фонвизин, Александр Бибиков. Разумеется, между ними и Пугачевым — пропасть; пусть «крестьянский амператор» называет своих приближенных графом Чернышевым, графом Воронцовым, — ясно, что настоящих графов он бы тотчас повесил…
Пропасть между реальным Павлом и самозваной тенью: но подозрительная Екатерина даже этому не очень верит. И — устраивает суровый экзамен «нелюбезным любимцам»: именно их посылает на Пугачева, на Петра III. Если победят — не так уж много славы! Если проиграют или изменят — значит «себя обнаружили».
Пугачев желает вольности по-своему, по-крестьянски. Партия Фонвизина — Панина — Бибикова строит свои планы освобождения; и Пугачев и придворные заговорщики клянутся именем Павла… Но нет и не может быть у них общего языка.
Сроки
Теперь же вот над чем задумаемся: огромное восстание было, в сущности, недолгим, его темпы не очень характерны для того медленного века.
За полгода до взрыва сам Пугачев еще не видел в себе Петра III.
17 сентября 1773 года у него семьдесят человек, 18-го к вечеру — уже двести сторонников, на другой день — четыреста.
5 октября он начинает осаду Оренбурга с двумя с половиной тысячами.
Зима с 1773-го на 1774-й: разгром нескольких правительственных отрядов; Пугачев во главе десяти, потом — двадцати пяти тысяч.
22 марта 1774 года — первое поражение под Татищевой; в Петербурге торжествуют — конец самозванцу!
Весна — начало лета 1774-го: «Петр III» снова в силе, на уральских заводах.
Июль 1774 года — врывается в Казань.
Июль — август: переход на правый берег Волги, устрашающий рейд от Казани до Царицына, через главные закрепощенные области.
Сентябрь 1774-го: спасаясь от наседающих правительственных войск, поредевшие отряды Пугачева возвращаются туда, откуда начали, — на Южный Урал.
Сообщники решают выдать Пугачева. Он кричит: «Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой, Павел Петрович, ни одного человека из вас живым не оставит». При этих словах изменники испугались, замешкались: они вроде бы хорошо понимают, что настоящий Павел Петрович не будет мстить за Пугачева; понимают, но все-таки допускают: а вдруг мужик царское слово знает!.. Потом все же схватили своего царя: пятый и уж последний его арест.
А всего, от того дня, как громко объявил казакам: «Я точно государь!» — от 17 сентября 1773 года, до того дня, как соратники сдали его властям, до 15 сентября 1774 года, прошло 363 дня.
Пока шли победы, вера в крестьянского императора укреплялась, с поражениями — слабела, но, как известно, совсем никогда не выветрилась. Правительственные объявления сообщали, что пойман «злодей Пугачев», и крестьяне, радостно крестясь, переговаривались, что, слава богу, какого-то Пугача поймали, а государь Петр Федорович где-то на воле («ворон, а не вороненок»).
Прежде чем мы простимся с рассуждениями о вере или неверии народа в своего Петра III, припомним, что Пугачев именно на нисходящей ветви движения допустил большую ошибку, сразу ослабившую доверие к нему очень многих: поскольку царственная супруга Екатерина II — изменница и «желала убить мужа», с нею «Петр III» уж не считал себя связанным (в его лагере обсуждался вопрос, не казнить ли ее, но супруг снисходителен и согласен на заточение в монастырь). И вот, высмотрев прекрасную казачку Устинью Кузнецову, император устраивает пышную, по всем царским правилам свадьбу. Через пять месяцев после женитьбы настоящего Павла во второй раз женится Лже-Петр.) Родители невесты не очень-то радовались, но испугались перечить. Однако провозглашение императрицы Устиньи Петровны в глазах народа оказалось нецарским поступком — тут Пугачев изменил своей роли.
Во-первых, царь Петр Федорович все же не разведен с женой — императрицей Екатериной: слишком торопится и нарушает церковный закон, обычай. А во-вторых, кто же не знает, что царям не пристало жениться на простых девицах; и напрасно Пугачев думает, будто народу лестно, что на престол посажена неграмотная казачка.
Царь, несомненно, больше выиграл бы в глазах мужиков, если бы взял за себя графиню или княгиню… А тут еще во время штурма Казани в руки Пугачева попала его настоящая, первая жена, Софья Недюжева, с тремя их детьми. Пугачев, впрочем, здесь сыграл уверенно и восклицал в казачьем кругу: «Вот какое злодейство! Сказывают мне, что это жена моя, однако же это неправда. Она подлинно жена, да друга моего, Емельяна Пугачева, который замучен за меня в тюрьме под розыском. Однако ж я, помня мужа ее, Пугачева, к себе одолжение, — не оставлю и возьму с собою».
С тех пор до конца возил он первую жену с тремя детьми за собою — и они плакали, видя, как хватали и вязали их мужа, отца (не велевшего признавать себя мужем и отцом), и все они, один за другим, окончили свои дни в заточении (последняя дочь Пугачева умерла как раз тогда, когда Пушкин отыскивал следы ее отца, — и об этом сообщил поэту сам царь Николай I). Вместе же с законной первой семьей Пугачева (в одной камере!) зачахла в крепости и «императрица Устинья», которую после разгрома восстания некоторое время держал в наложницах один из царских генералов, Павел Потемкин.
Уж коли мы взялись перечислять трагические личные обстоятельства, следует сказать, что и пышная столичная свадьба в сентябре 1773 года также не принесла счастья: царевна через три года погибнет в родах; Екатерина II убедит Павла в неверности умершей жены…
Меж двух несчастных судеб — народная война, тот пир, где «кровавого вина не достало». Все быстро, стремительно. Все вдруг, как лавина, началось — стоило умному удальцу сказать нужные слова. И так же вдруг все гибнет, оканчивается. Пугачев схвачен, его в клетке везут в Москву. И так же вдруг — может начаться снова…
Два полюса
Несколько лет назад художница Татьяна Назаренко выставила интересную, прекрасно выполненную картину: Пугачева, запертого в клетке, везут равнодушные, на одно лицо, солдатики, а во главе их — спокойный Суворов.
Некоторым зрителям, рецензентам ситуация не понравилась: как же так, восклицали они, славный герой Суворов везет в клетке вождя крестьянской войны Емельяна Пугачева!
Увы, наше недовольство не может переменить задним числом того, что сбылось: скажем, заставить Суворова перейти в мужицкую армию. Да, действительно, сорокачетырехлетний генерал Суворов, срочно отозванный с турецкого театра войны, хоть и не был главнокомандующим против Пугачева, но участвовал в финале правительственных операций; да, солдаты, служивые — они пока что не рассуждают: велено поймать «злодея» — ловят, не думая, не желая помнить, что он сулил им всем волю.
И в отношении Суворова мы обязаны рассуждать исторически, а не «опрокидывать» чувства XX века в позапрошлое столетие. Прогрессивность, народность полководца не в сочувствии Пугачу, но в том, что эти вот его солдатики все же легче живут, лучше едят, чем у других генералов; Суворов им больше доверяет, не смотрит на них как на механизм, как на крепостных и оттого с ними всегда побеждает.
Прогрессивная линия дворянской культуры и народное сопротивление — им очень непросто пересечься, слиться.
Через шестнадцать лет страданиями народа будет «уязвлена» душа Радищева, позже — декабристы, Пушкин…
Нет, великий поэт не принимал «бунта бессмысленного и беспощадного», но пытался понять, глубоко чувствовал, что у мужицкого восстания своя правда; мечтал о сближении, соединении двух столь разнородных начал, — может быть, в дальнем будущем.
Невозможная возможность
Пугачева везут в Москву — судить, казнить. Он не малодушничает, но и не геройствует: подробно отвечает на вопросы, признается во всех делах — «умел грешить, умей ответ держать».
Отчего же забыл прежнюю роль, не отстаивал своего царского достоинства?
Да оттого, во-первых, что был умным, талантливым и не хотел умереть смешным.
Во-вторых, прежде была война, была вера в него крестьян, желание верить… Зачем же теперь играть без нужды, только для себя, при недоброжелательных зрителях?
Поэтому, «низложив» Петра III в самом себе, он снова стал беглым хорунжим Емельяном Пугачевым и ведет себя сообразно; например, просит прощения у Петра Панина, когда тот начинает его избивать, но, с другой стороны, и на цепи острословит так, что московские дворяне «между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу»; мы цитируем рассказ престарелого писателя и государственного деятеля И. И. Дмитриева, записанный Пушкиным 6 октября 1834 года; в той же записи сообщается об уродливом, безносом сибирском дворянине, который ругал закованного Пугачева: «Пугачев, на него посмотрев, сказал: „Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал“».
По стране идут казни, расправы. Много позже, в учебниках, научных исследованиях будет не раз повторено, что крестьянские восстания не могли победить, ибо во главе их не было пролетариата или буржуазии — классов, способных в разных исторических обстоятельствах возглавить крестьянское сопротивление.
Восстание не могло победить, было обречено. Все так… Но разве не было в мире народных мятежей, восстаний рабов и крепостных, которые, хоть на короткое время, побеждали сами, одни?
Да, были такие. Восставшие против Рима сицилийские рабы в 136 году до новой эры создали свое царство. Великая крестьянская война 1630–1640-х годов в Китае привела к полному поражению императорских войск: вождь повстанцев Ли Цзы-Чен вступил в столицу, то есть добился того, что было бы равносильно в России занятию Петербурга или Москвы Пугачевым. Есть и еще примеры подобных успехов угнетенного большинства в разных частях мира.
Но что же дальше? Удержаться народные царства не смогли: относительное равенство восставших сменялось быстрым расслоением среди победителей.
Сицилийские рабы избрали себе царя Евна, вчерашнего раба, который завел двор, собственных слуг и рабов. Смуты между разными группами освободившихся, разочарование во многих плодах успеха — все это привело к расколу, распаду, и через несколько лет после начала восстания Рим вернул Сицилию, раздавил царство Евна.
Китайские же крестьяне-победители быстро выделили новых феодалов, отчего ослабело единство, подняли голову прежние хозяева, гражданская война разгорелась сызнова, но тогда в страну вторглись маньчжуры и подавили всех…
Если бы Пугачев не застрял у Оренбурга и вдруг смело двинулся бы к Москве, где его ждали, — мало ли как мог повернуться великий бунт? Но все равно бы не удержались. Уже в ходе восстания крестьянские министры друг с другом враждовали, случались кровавые расправы со своими.
Недолго бы продержалась крестьянская вольница, даже если бы скинула с престола Романовых… Лились бы потоки крови, возможно, были бы перебиты многие замечательные люди, а также потенциальные предки других замечательных людей…
…Россия вспрянет ото сна.
Но отличит ли Салтычиху
от Салтыкова-Шедрина?
Стихи Ю. РяшенцеваНевеселое рассуждение: так что же, Пугачеву не следовало восставать? Выходит, бунт действительно был бессмысленным?
Нет, не выходит; да, впрочем, к чему рассуждения «следовало — не следовало», когда последовало! Когда на огромном пространстве поднялись сотни тысяч людей.
Восстание страшное, жестокое, взявшее много крови — и неправедной, и праведной, — бунт, своего не достигший…
Но историки, экономисты вычислили, что, между прочим, заработная плата на уральских заводах после восстания выросла, даны некоторые льготы разным категориям крестьян.
Это не мелочь, приглядимся получше: пугачевцев победили, переказнили, но победители испугались и все же повысили плату или уменьшили оброк! Если бы не 1773–1774-й, то, конечно, не стали бы повышать… Скажем иначе: вообще в России с крестьян «драли три шкуры», но если бы не Болотников, Разин, Булавин, Пугачев, то содрали бы все десять…
И мог бы наступить момент, когда чрезмерное высасывание соков загубило бы все дерево, когда в конце концов не нашлось бы ни «прибавочного продукта», ни сил, ни духа у огромной страны, чтобы развиваться и идти вперед, накапливать средства для капитализма и более далеких горизонтов прогресса…
Так бывало в мире: некоторые древнейшие цивилизации замирали, засыхали, истощенные ненасытным, безграничным аппетитом землевладельцев и государства; засыхали настолько, что, по замечанию Герцена, принадлежали уже не столько истории, сколько географии.
России хватало географии, огромного пространства; но страна, народ желали истории.
Она двигалась вперед, как огромными дворянскими реформами Петра, так и вулканическими вспышками народных войн.
«Низы» ограничивали всевластие и гнев «верхов», не давая им съесть народ (и в конце концов — самих себя!).
Так что восстание дало плоды.
К тому же великая, страшная энергия неграмотного бунта эхом понимания отзовется позже в России грамотной, в стране Радищева и Пушкина… Пугачев, ненавидевший, уничтожавший островки дворянской цивилизации, парадоксальным образом помогал появлению там высочайших форм культуры, гуманизма. Он ускорял освобождение России — пусть и не так, как мыслил крестьянский амператор, и не так, как мечтали дворянские мудрецы…
Мужицкий бунт — начало русской прозы. Не Свифтов смех, не Вертеровы слезы, А заячий тулупчик Пугача, Насильно снятый с барского плеча…II. Четыре царствования
Цари! Я мнил, вы Боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я…
Г. Р. ДержавинЕкатерина II, Павел I, Александр I, Николай I предают Пугачева «вечному забвению»: крестьянские волнения при них постоянны, но великой войны, вроде пугачевской, больше не происходит («отчего же?» — спрашивал нас Зайончковский).
Второго Пугачева нет — и нет воли.
1790 год. Радищев шлет проклятие крепостному праву.
Начало XIX века. Царь Александр I не раз говорит о своем желании освободить крестьян, издает кое-какие законы в этом направлении; государственный секретарь Сперанский разрабатывает подробные проекты освобождения, — но ничего не осуществилось.
1825 год. Попытка декабристов освободить крестьян своим способом. Неудача.
1825–1855. Николай I, царь-крепостник; однако в течение всего царствования работают один за другим одиннадцать секретных комитетов, император громогласно объявляет, что «крепостное право — зло», и по крайней мере трижды делаются серьезные попытки серьезных реформ. Пушкин 19 октября 1836 года записывает, что «правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания».
Тем не менее и в николаевское тридцатилетие крепостное право незыблемо; в 1849 году оно могло бы отметить свое 200-летие.
Отчего же несколько царей, понимавших невыгодность рабства, опасавшихся новой пугачевщины, временами даже желавших самого умеренного освобождения, — отчего же они не освободили? Ведь царю стоит приказать — кто ослушается?
Советские историки после революции, естественно, с особой энергией взялись за темы, прежде недоступные или «малопопулярные»: вышли сотни работ о революционном движении, от Радищева до 1917 года; многое было сделано в социально-экономической истории, благодаря чему открывалась жизнь народа, крестьян и рабочих, выявлялись глубинные пружины исторических событий; немного уступая «социальным сюжетам», тем не менее довольно обильно выходили в свет работы по истории войн, по внешней политике России…
Куда хуже обстояло дело с внутренней политикой XVIII–XX столетий: наши знания, скажем, о положении пензенских крестьян в 1800-х годах или о деятельности небольших студенческих кружков 1840-х постепенно брали верх над сведениями о тайной полиции, царской фамилии, механизме государственного управления России. Одни исследователи считали, что здесь все или почти все уже ясно, и ссылались на добротные, но постепенно старевшие дореволюционные труды; другие не желали заниматься «отрицательными героями», о которых к тому же было куда труднее защитить диссертации, опубликовать монографии…
В результате в нашей науке получился известный перекос, а недостаток работ о властях, «царях», внутренней политике стал уже довольно серьезно мешать другим «историческим отраслям».
И опять — доброе слово Зайончковскому, немало сделавшему, чтобы восстановить упущенное.
«Нам ненавистны тиранов короны», — пелось в старинной революционной песне; ну что же поделаешь, если они, тираны, были, да еще и «роль играли». Даже заговаривали о крестьянской воле, но — не дали…
Проще всего сослаться на «дурные качества» императора; но, во-первых, за 99 лет царей сменилось немало, а во-вторых, это было бы уж слишком примитивным, домашним объяснением.
Другая версия: цари плоть от плоти феодалы, крепостники; желание дворянства — их желание…
Это, конечно, верно, но недостаточно: центральная власть часто мыслит шире отдельных помещиков, порою действует в их интересах, преодолевая их же сопротивление (вспомним Петра Великого). Как было только что замечено, несколько раз «наверху» все же пытались взяться за дело, полагая, что освобождение крестьян (проведенное, разумеется, с учетом интересов помещиков) — вещь необходимая, даже спасительная.
И тем не менее отступились.
Тут настала пора напомнить, что царское правительство в своих попытках как-то решить проблему крепостничества, — пусть и предпринимавшихся в интересах господствующего класса, — постоянно встречало сопротивление справа, сопротивление десятков тысяч помещиков и могучего бюрократического аппарата. Этот слой составлял не более 1–2 процентов населения России, но — слой влиятельный, страшный и для царей. Дворяне, чиновники, разумеется, не могли прекословить их величествам, молчали, кланялись; однако в свое время — свергли с престола, лишили жизни нескольких неугодных им правителей; свергли, правда, не из-за крестьянского вопроса, но тем не менее показали силу. Это они, дворяне и «аппарат», съели в начале XIX века Сперанского и запугали Александра I сопротивлением «невидимым», однако весьма ощутимым. Это они топили в течение десятилетий в разных комиссиях и подкомиссиях все мало-мальски существенные проекты крестьянского освобождения; даже те, — о которых точно было известно, что их одобряет сам император.
Как это делалось, как можно было оспоривать царскую волю?
Имелось несколько простых, надежных способов. Например, предложить немедленное освобождение крестьян, но — без земли: царское желание — получить проект «эмансипации» — тем самым выполнено, но — не выполнимо. Миллионы мужиков, узнав, что лишились земли, — возьмутся за топоры, и заиграет пугачевщина…
А вот другой бюрократический ход: когда однажды Николай I потребовал — можно сказать, приказал — издать закон в пользу дворовых мужиков, высшие сановники не только не возразили (да и нельзя возражать!) — они восхитились царским великодушием, но лишь заметили, что невежественные помещики, не доросшие до понимания «благороднейшей царской воли», чего доброго, будут недовольны, и тогда нарушится спокойствие: не лучше ли приготовить большой, из многих пунктов, закон, который расширит некоторые дворянские права (увеличение пенсии, расширение специальных пансионов для дворянских детей и т. п.); и вот в этот большой закон, которым помещики будут довольны, можно вставить один-два пункта в пользу дворовых — тогда все легко пройдет… Николай I согласился, хотя ясно понимал, что, пока изготовят новый обширный закон, пройдет еще несколько лет.
Срок прошел — и вот после долгих проволочек все готово, новый «Закон о состояниях» ждет только царской подписи. Однако опять промедление: оказывается, влиятельные царедворцы посоветовали Николаю обсудить еще раз столь важное дело со старшим, влиятельным братом Константином; последний же решительно против послабления дворовым, причем аргументирует свою позицию не лишенным остроумия парадоксом: если брат Николай готов сейчас же освободить всех крестьян — тогда и дворовые получат свободу; если же он намерен облегчить положение только одной категории крепостных, — то лучше не надо: помещики обозлятся и тем же дворовым хуже будет. Или все, или ничего…
И Николай I опять «проглотил», отступил: всегда столь решительный, зычный — тут промолчал, испугался.
А затем вспыхивают революции в разных странах Европы: в 1830–1831-м, 1848-м везде мятежи, в России же сравнительно тихо — и царю говорят, что ничего не стоит менять там, где народ не бунтует. Один сравнительно прогрессивный сановник с горечью воскликнул, что иногда ему кажется, будто революции во Франции, Италии, Германии, Венгрии специально устраивают русские крепостники: хотят помешать освобождению своих крестьян…
Страшен народный бунт, но опасен и дворцовый заговор. Пугачев грозит потрясти основы; граф Пален (организатор убийства Павла I) или другой лидер дворянского переворота, сохраняя основы, грозит личности «зарвавшегося» монарха.
В нашей научной литературе больше писали о подавлении царями «левой опасности»; однако не следует забывать и другой стороны…
Правительство могло бы «стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания» (Пушкин), но если б вдруг сделалось «лучше», — ему от дворян несдобровать…
Разумеется, само по себе успешное сопротивление крепостников было возможно лишь потому, что кризис крепостной системы хозяйства нарастал и углублялся постепенно; сравнительно медленно складывалась ситуация, в которой «верхи» уже не могли сохранять старые способы управления крестьянством.
К середине XIX века (расцвет европейского капитализма!) Россия пришла с половиною населения, которую можно заложить, продать, волею помещика без суда сослать в Сибирь, отдать в рекруты.
Дело освобождения казалось в ту пору безнадежным: наследник престола, будущий Александр II, было точно известно, еще меньше хотел раскрепощения, чем даже отец, Николай I; конечно, во дворце знали, что экономическое развитие страны явно замедляется, техника отстает: с 1800-го по 1850-й объем российской продукции увеличился в полтора — два раза, английской — в десятки раз. Однако при всем при том замкнутая, патриархальная система в огромной отсталой стране могла бы, возможно, держаться еще очень долго, десятки лет; во всяком случае, огромное большинство крепостных крестьян были середняками, кое-как сводили концы с концами (иначе помещику они невыгодны!); а если бы посмели силою доискиваться воли, — то столкнулись бы с мощной государственной машиной.
Дело безнадежное; но, как известно, крот истории роет глубоко…
Еще одно 18 февраля
18 февраля 1855 года умирал Николай I. Перед смертью он сказал наследнику, что сдает ему команду не в порядке; есть версия, что именно тогда были произнесены слова, которые вскоре Александр II провозгласит публично: «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».
Что случилось? Отчего новый царь, еще более консервативный, чем старый, вдруг переменился?
Распространился шутливый рассказ об известном славянофиле Хомякове, который, узнав о кончине Николая I, объявил друзьям, что новый царь будет «непременно хороший». Друзья, кое-что знавшие о наследнике, усомнились, но Хомяков привел следующий, по его мнению, неоспоримый аргумент: «В России — через одного: Петр III плохой, Екатерина II хорошая, Павел I плох, Александр I хорош, Николай I плох — значит Александр II будет хорош».
Хомяковские характеристики разных монархов, понятно, более чем спорны; но вопрос — почему наследник, вовсе не думавший о крестьянской свободе, вдруг сделался «царем-освободителем», поднимался в литературе неоднократно: вспоминали, как учитель юного наследника, Василий Андреевич Жуковский, по обычаю отпуская вместе с ним птичек из клетки на Благовещенье, приговаривал: «Вот когда-нибудь и Вы, государь, так же освободите крестьян…»
«Какая же сила заставила их взяться за реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. „Крестьянские бунты“, возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу»[17].
Огромная, незыблемая с виду система зашаталась, к величайшему испугу правящего меньшинства. Новой пугачевщины еще нет, но сопротивление крепостных грозно растет, и как знать, — что больше пугает верховную власть, прямой ли деревенский бунт или, скажем, «трезвенное движение», когда сотни тысяч крестьян ряда губерний дали зарок не пить, протестуя против налогов и крепостничества.
Система потрясена, и там, в Зимнем дворце, кто-то должен объяснить не очень умному, не очень решительному императору: если быстро не освободить крестьян, — все рухнет; если же начать освобождение, то противники его, — хоть и будут роптать, но все же не решатся при нынешних обстоятельствах на заговор, открытое сопротивление.
Как произошла эта перемена «наверху», внутренняя ее механика, — здесь много неясного еще и до сей поры, неясного и очень интересного, ибо в истории нас занимают не только причины и результаты, но и подробности, изгибы, потаенные пружины важнейших происшествий.
Мы углубляемся в один из любимых «зайончковских сюжетов». Ряд наблюдений и почти все выдержки из документов, здесь приведенные или подразумеваемые, заимствованы из трудов и публикаций П. А. Зайончковского, а также его учеников (более всего из книг и статей Л. Г. Захаровой).
Хронологическая канва, которая сейчас будет представлена, краткий очерк важнейших событий (и, разумеется, — мотивы, намерения, личности) — все это также опирается на достижения покойного ученого, его школы…
Горячие годы
30 марта 1856 года. Речь Александра II перед московским дворянством насчет «освобождения сверху»; однако царь еще не уверен: в той же самой речи говорит: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево… Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому придти».
Как видим, срок крайне неопределенный: «рано или поздно».
Осень 1856 года. Товарищ министра внутренних дел Левшин пытается, явно по поручению царя, уговорить предводителей дворянства, чтобы они сами ходатайствовали насчет начала крестьянского освобождения: «большая часть… при первом намеке о том изъявила удивление, а иногда непритворный страх» (из записок А. И. Левшина).
Весна 1857 года. В новом Секретном комитете под председательством царя обсуждаются три записки: одна — князя П. П. Гагарина, предлагала освобождение крестьян совершенно без земли (старый прием!). Другой член комитета, Я. И. Ростовцев, писал о необходимости освобождения с землей, но — в неблизком будущем; наконец, М. А. Корф считал, что в течение полугода нужно, нажав на дворянство, добиться, чтобы оно само попросило: лицейский однокашник Пушкина никогда не отличался «левыми взглядами», но в делах разбирался неплохо, возможно — угадывал направление политического ветра…
Лето 1857 года. Председатель Государственного совета, влиятельнейший вельможа граф Орлов и ряд других чрезвычайно важных лиц решительно противятся быстрой реформе, стараясь отложить дело на несколько лет, а может быть, и больше. Опять, как в прошлые царствования — оппозиция справа. Снова царь колеблется, и дело, кажется, откладывается надолго… Но вдруг в беседе с доверенным сановником графом Киселевым Александр II произносит: «Вопрос о крестьянах не перестает меня беспокоить. Он должен быть завершен. Я полон решимости более, чем когда-либо; у меня нет никого, кто мне помог бы в этом важном деле. Вы знаете, как я люблю Орлова, но вам также известны его привычки и особенно его лень, которая с годами все более ощущается в делах и так далее».
Важным толчком было, по-видимому, мнение известного немецкого экономиста. Царь записывает (июль 1857 года): «Гакстгаузен отгадал мои главные опасения, чтобы дело не началось само собой снизу».
То, что в устах соотечественников казалось сомнительным, вдруг убедительно зазвучало по-немецки! Зато после того, как «Гакстгаузен отгадал», — в пользу освобождения крестьян стали сильнее действовать несколько высших придворных особ.
Здесь, по-видимому, особую роль сыграл престарелый министр внутренних дел Сергей Степанович Ланской. Это он, располагая секретными отчетами губернаторов о состоянии народа, постоянно извещал царя об опасности бунта, топора… Самое удивительное заключалось в том, что никто от Ланского этого не ожидал: в молодости он, правда, был членом раннего декабристского Союза благоденствия, но затем много десятилетий занимал разные высокие посты (губернаторские, сенатские, министерские) и никогда не демонстрировал широты взглядов. В повести Лескова «Однодум», имеющей реальную историческую основу, рассказывается о трепете Костромской губернии, которую едет ревизовать новый начальник, страшный и строгий Ланской. Именно крепостник Орлов предложил царю Ланского как надежного министра внутренних дел.
Большой знаток тайной придворной жизни, ярый (впрочем, часто односторонне пристрастный) критик официальной бюрократии, князь-эмигрант Петр Долгоруков писал: «Орлов… упустил из виду, что намерения государя могут перемениться и что тогда Ланской, при Николае бывший приверженцем крепостного состояния, явится эмансипатором, точно так, как при Иоанне Грозном он отправился бы на Красную площадь варить людей в котлах и своею рукою подгребал бы уголья под котлы, не из жестокости — он вовсе не жесток — а единственно руководимый теми чувствами, которые со времени татарского ига и до наших дней увлекали большую часть русских сановников творить всякие мерзости. Чувства эти: глупость, трусость и желание сохранить свое место».
Долгоруков, несомненно, упрощает образ министра: действительно, царь захотел освободить, Ланской тут же согласился; но, с другой стороны, согласие царя во многом подогревалось информацией и поддержкой Ланского…
Позже главнейшим «двигателем» реформы станет также Яков Ростовцев, только что предлагавший ее отложить. Человек, сделавший карьеру на том, что предупредил в декабре 1825 года Николая I о намерениях декабристов (среди которых имел немало друзей); потом — генерал, насаждавший очень суровый, палочный режим в русских военно-учебных заведениях — и вдруг один из деятелей освобождения! Много лет спустя известный либеральный профессор К. Д. Кавелин с удивлением восклицал: «Вспомните, что Яшка Ростовцев освободил крестьян, Яшка — косноязычный негодяй, политический шулер дурного тона!»
Положим, Кавелин сгущает краски, но ведь в самом деле, Ростовцев отнюдь не идеальный тип освободителя. История зачастую выбирает далеко не самых чистых, морально безупречных для реализации того, что должно непременно быть…
Можно, конечно, рассуждать о совести, которая мучила Ростовцева за донос 1825 года (позже два его сына отправятся к Герцену в Лондон, чтобы передать предсмертное покаяние отца; за это путешествие они подвергнутся репрессиям); разумеется, сановником двигало и желание угодить Александру II. Все это любопытно, но главное заключалось, по-видимому, в том, что несколько опытных бюрократов, так же как и царь, почувствовали пора! Личные их качества сложно сплелись с политической интуицией, классовым чувством. Именно эти люди, вместе с рядом других (здесь должно выделить нескольких помощников Ланского, в первую очередь, Н. А. Милютина и, разумеется, брата царя, великого князя Константина Николаевича) — именно они сумели доказать недалекому Александру II, вчерашнему крепостнику, что крестьянский топор теперь много опаснее «дворянского ножа».
Тем не менее партия крепостников, группировка крупнейших сановников, включавшая, кроме Орлова, также Гагарина, министра государственных имуществ Муравьева (в юности декабриста, позже — «Муравьева-вешателя») и ряд других лиц, оставалась в большой силе и зорко следила за событиями.
Осень 1857 года. Под большим давлением Ланского, преодолевая сильное неудовольствие дворян, удалось получить письма к царю от виленского генерал-губернатора Назимова и петербургского — Игнатьева. Из Литвы осторожно писали о желательности только личного освобождения крепостных, без земли. Петербургское дворянство и того не просило — речь шла лишь о «некоторых вопросах» крестьянского устройства. Однако в Зимнем дворце пожелали истолковать эти документы как первые, давно ожидаемые прошения с мест насчет начала крестьянского дела, освобождения крепостных с землею.
20 ноября 1857 года. Изумленному дворянству литовских губерний дан высочайший рескрипт, где «в ответ на их просьбу» — разрешается приступить к составлению проектов об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян.
5 декабря. Подобный же рескрипт — петербургскому генерал-губернатору.
Оба рескрипта напечатаны в газетах, известие о них молниеносно облетает Россию и Европу. Впервые в русской истории крестьянское дело из секретного состояния выходит наружу. Теперь — обратно хода нет, реформа начата. Дворянам, вовсе не желавшим обсуждать этот вопрос, приказано обсуждать. В сорока шести губерниях должны открыться комитеты, даже в таких, как, например, Тамбовская, где обитает самое ярое и темное крепостничество (по словам Герцена, «родные волки великороссийские»).
Большая часть дворянства не согласна, значительная часть бюрократического аппарата — тоже. Однако им уже приказали, и они, ворча, сопротивляясь, вынуждены выполнять.
1858–1860. Горячие годы — воздух, по словам современника, «насыщен революцией». Сначала в губернских комитетах, а затем в Петербурге, в так называемых «Редакционных комиссиях» и «Главном комитете», решается важнейший вопрос. Подробности острых споров, борьба за большее или меньшее число крестьянских свобод — все это очень любопытно, но, к сожалению, «не помещается» в нашей работе, и мы снова (в который раз!) отсылаем читателя к трудам П. А. Зайончковского и его учеников.
В спорах 1850–1860-х годов, собственно говоря, участвует три стороны, две непосредственно, а одна — заочно.
Заочно — не приглашенная ни на какие обсуждения — высказывается самая могучая «партия», без которой ничего бы не началось. Это народ, волнующаяся многомиллионная масса, тот самый топор, который столь страшен хозяевам. От имени этой многомиллионной, неграмотной, безгласной силы регулярно, с пугающей силой, бьет, (сначала два раза в месяц, потом еженедельно) герценовский «Колокол» из Лондона; в России — «Современник», журнал Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, обращенный к десяткам тысяч сочувствующих интеллигентных читателей… Нет сомнений, что немалую долю уступок вырывали у власти именно статьи, намеки, откровенные обзоры, публикации и другие действия революционных демократов.
Так или иначе, но второй участник главного спора, власть, верховная бюрократия, все эти три года, в общем, отступала. Время от времени — «контратаковала», кое-кого арестовывала, кое-что закрывала, огрызалась, подавляла, — но все же отступала. Губернские комитеты хотели сохранить как можно больше для дворянства, однако примерно с середины 1859 года Александр II, великий князь Константин, Ланской, Ростовцев, Милютин и другие активные деятели правительственной партии настойчиво приглашают дворян — уступить. Правительство стоит на том, чтобы освободить крепостных с землей (отвергая многие «безземельные проекты»); чтоб земли дать побольше, чем предполагалось сначала, наконец, чтобы соглашение между помещиками и крестьянами было не «добровольным», как многие настаивали, но жестким и обязательным: власть хорошо знала своих помещиков и догадывалась, чем кончится «добровольность».
Разумеется, и в моменты максимального либерализма царь, министры постоянно заботились о судьбе помещиков, об их землях, о выкупе и т. п. Мы хорошо знаем, что в конце концов крестьяне были изрядно ограблены, что примерно половина земли осталась у помещиков; но при том нельзя все же забывать одного обстоятельства: крестьянская реформа могла быть еще хуже!
«Третья сила», крепостники, делали что могли, сильно давили справа, временами угрожали. Вот запись в дневнике либерального великого князя Константина: «30 ноября 1860 г. От 1 часа до 6 опять Крестьянский комитет… Повели речь о наделах. Муравьев был отвратителен как всегда. Панин[18] еще кобенится, но уже делает уступки».
В этот период «волки великороссийские» стали требовать между прочим политической компенсации за свои грядущие потери: дворянство нескольких губерний рассудило, что если власть отбирает у них крепостных, — значит, должна за то допустить помещиков к управлению. Они желали нечто вроде дворянской думы, права на больший контроль, чтобы самодержавие впредь не распоряжалось уж столь самостоятельно. Любопытный парадокс! Требования об ограничении самодержавия, о контроле «снизу», не раз громко звучали в русской истории; они выставлялись декабристами, Герценом… Но здесь, у начала 1860-х годов, крепостники требуют некоторых свобод, чтобы остановить реформу, ограничить самодержца справа!
Не поддержанные никем, эти претензии вызвали царский гнев: дворянам отказали, кое-кого даже сослали; «правые поползновения» этим не были остановлены, но изменили форму, ушли вглубь.
Январь — февраль
И вот — 1861-й. 28 января — секретное, можно сказать, секретнейшее заседание Государственного совета. Царь разрешает «высказываться свободно»; последний шанс крепостников. В начале заседания вдруг страшный грохот: упала корона с одного из многочисленных губернских гербов, находящихся в зале. В этом, разумеется, увидели предзнаменование…
Царь согласился с «большинством», когда оно говорило в его духе, и принимал сторону «меньшинства» в тех случаях, когда одолевали крепостники.
Глубочайший секрет. Но через 20 дней в Лондоне выйдет 93-й номер «Колокола», где будет опубликован самый подробный отчет о том, что говорилось и кто говорил в Государственном совете.
1 марта (17 февраля) Герцен извещал Тургенева: «Завтра ты получишь „Колокол“ с довольно подробным описанием двух заседаний в Петербурге… Источник верен».
Только век спустя удалось выяснить, каким тайным каналом пользовался Герцен: по всей видимости, сам министр внутренних дел Ланской, выйдя с заседания, куда допускались только наиважнейшие персоны, подробно поведал о том, как крепостники пытались отстоять свое и как царь сердился, торопил; министр открылся одному из близких людей, статскому советнику Владимиру Петровичу Перцову; Перцов же воспользовался каким-то быстрым, одному ему известным посредником, через которого уже не раз в «Колоколе» появлялись сенсационно-секретные материалы, — иногда даже царские резолюции со всеми особенностями их не всегда идеального правописания.
Читая 93-й номер «Колокола», царь, возможно, не очень уж расстраивался, ибо выглядел борцом за справедливое дело; отчаянные же попытки крепостников были представлены столь ярко, что к этому, казалось, уж нечего прибавить… И все же — «волки» не сдаются, ясно понимая, что спорят со своими, что даже рассерженный монарх не сошлет их в каторгу, не зачислит в «красные».
Муравьев-вешатель пытается затянуть дело, предлагая еще раз «все проверить». Управляющий делами Комитета министров (в недалеком будущем министр внутренних дел) Петр Александрович Валуев заносит в дневник: «Государь жестко остановил Муравьева, сказав, что нечего рассматривать и что он так хочет».
Через несколько дней все придворные уж знают, что царь с Муравьевым холоден — «при вчерашнем докладе он ему не дал руки».
Царь получает анонимные письма; десятки дворян из разных губерний заранее жалуются на ужасные убытки. Глава крепостников князь Гагарин придумывает еще и еще дополнения, уточнения в пользу своих. Во время заседания Государственного совета ему тоже подают анонимное письмо, где некий дворянин называет Гагарина «защитником прав собственности», а решение Александра II об освобождении с землей — «бредом деспотизма».
Оскорбление величества!
Все навыворот: крепостник — за демократию; он недоволен тем, что царь принимает решения совершенно независимо от количества голосов в Государственном совете; и нет сомнения, что уважение к голосованию вело бы к самым черным, крепостническим результатам!
Необычность ситуации отразилась и в разговоре, который начался вокруг последнего анонимного послания. Граф Блудов пригрозил Гагарину, напомнил, «что в другие времена… он подвергся бы ответственности за получение подобного письма». Валуев находит, что Блудов сказал глупость и напрасно вспомнил о грозном Николае I, который не любил никакой критики… Наперекор Блудову Гагарин, наоборот, стал действовать «демократически» и показал письмо еще многим членам совета…
Вообще Ланской, Милютин, Ростовцев (к этому времени уже умерший) и другие царедворцы оказались правы: при тех обстоятельствах крепостники поворчат, но не решатся на что-либо более сильное. Другое дело, что власть все равно должна с ними считаться. Когда крестьянская реформа станет свершившимся фактом, старика Ланского «принесут в жертву», отправят в отставку, чтобы хоть так ублажить недовольных душевладельцев, а на его место сядет Валуев (сочинивший в 1860 году вполне крепостнический «контрпроект», не принятый тогда царем); отставленного же прежде Муравьева, наоборот, вскоре привлекут к разным важнейшим делам по усмирению и подавлению…
Однако это произойдет позже, а в середине февраля 1861 года власть лучше понимает помещичий интерес, нежели Гагарин, Муравьев.
В Лондоне же всезнающий Герцен получает свои сведения о последних крепостнических интригах и припечатывает: «Иностранные журналы говорят уже об плантаторской оппозиции инвалидов. Тяжела будет могила этим седым скопцам, если им удастся изуродовать нарождающуюся Русь. Ведь это не просто взятки, не просто грабеж, это нож, воткнутый в будущее. Смотрите, Муравьевы и Гагарины, двойные изменники народа — который грабите, и царя — которого обираете, если вы и успеете перебраться на болотистые петербургские кладбища, род ваш будет отвечать перед русским народом».
Снова — «дворянский нож»…
16 февраля. Обсуждения окончены. Крепостникам удалось в последнюю минуту протащить пару поправок; пытались даже, но без удачи, сохранить право помещика разрешать и не разрешать бывшим крепостным вступление в брак.
Дело сделано. Можно подписывать хоть сегодня, но царь откладывает на три дня, до годовщины.
18 февраля. Шесть лет, как умер Николай I, ровно 99 лет вольности дворянской. Памятник Николаю I впервые изукрашен цветами! Валуев замечает, что «многие склонны видеть в них демонстрацию против нынешнего царствования. Говорят, что и на сегодняшней панихиде в Петропавловском соборе была тьма народа также в виде демонстрации. Цветы, впрочем, искусственные; такова же и демонстрация».
III. 1861 года, 19 февраля (марта 3)
Теперь или никогда!
ГерценВечером этого дня Петр Александрович Валуев записывает: «Сегодня, вместо ожидаемых демонстраций и даже волнений, ничего кроме грязи и ям на улицах. Эти ямы не помешали, впрочем, блистательному петербургскому свету собраться на раут кн. Юсуповой (матери), которая при этом случае показывала новое устройство своего великолепного дома на Литейной. Она, говорят, и вероподобно, вышла или выходит замуж за какого-то Шво или Шве. Но между тем, признала не лишним появиться здесь на короткое время. Весною она опять отправится в Париж проживать там русские полуимпериалы вместе с разными другими русскими дамами и кавалерами».
За несколько же тысяч верст, в Лондоне, изгнанник Герцен пишет: «Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствия. Но выбора нет!.. мы не можем без смены оставить нами самими избранный пост и желали бы только, чтоб помянул нас кто-нибудь в день великого народного воскресения.
Зачем русские, которые могут ехать и живут без дела, скучая и зевая в Париже, в Италии, в Лондоне… не едут? Что за умеренность и воздержанность! Англичане ездили ватагами взглянуть на Гарибальди, на свободный Неаполь; а наши туристы — тянут канитель за границей, как будто обыкновенное, будничное время! Что это — эгоизм, неразвитие общих интересов, разобщенность с народом, недостаток сочувствия?»
В воскресенье, 19 февраля, столичные газеты сообщают: «Государь император изволил найти лейб-гвардии уланский полк в отличном состоянии и объявил монаршее благоволение всем начальствующим лицам полка. Нижним чинам Его Величество жалует по три рубля, по рублю и по 50 копеек на человека».
«В Северной Америке свершилось событие, долженствующее иметь влияние на всю дальнейшую судьбу ее. Соединенные Штаты окончательно распались на две самостоятельные республики».
«В Тюльерийском дворце выставлены драгоценности китайского богдыхана».
«19 февраля в 2 часа в Мариинском театре большое драматическое и музыкальное утро с участием госпожи Ристори».
«5½ часов на Михайловском театре бенефис м-ль Стелла-Кола. В программе водевиль „Я съедаю мою тетушку“».
Погода: «Полтора градуса тепла. От таяния снега санная дорога, особенно на главных улицах, совершенно затруднена».
Зима, масленица. В ожидании замерла Россия, ждут Толстой, Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Некрасов, Менделеев, Чайковский, Крамской… Ждут несколько сот тысяч помещиков, двадцать три миллиона помещичьих крестьян; ждут все семьдесят миллионов подданных.
19 февраля — ровно шесть лет царствованию Александра II: начинается седьмой год, столь важный в легендах и сказках.
Этот царский день отмечался так: войскам секретно розданы боевые патроны, приготовлена артиллерия; четырем батальонам пехоты, шести с половиной эскадронам кавалерии — подтянуться к Зимнему дворцу; заготовлено шестнадцать приказов главнейшим лицам империи, пока еще не подписанных. Начинаются одинаково: «По случаю происшедшего в столице беспорядка, к прекращению коего принять должно меры, государь император высочайше повелеть соизволил…»
Давно уже не было подобного тревожного передвижения войск, дислокации на Дворцовой и других площадях. Не было с начала другого царствования, 14 декабря 1825 года…
Александр II обычно ложится поздно, во втором часу ночи. Вечером 18-го во дворец явились, чтобы дежурить поблизости от царя, несколько особо доверенных министров и шеф жандармов князь Долгоруков. Уступая их уговорам, царь переходит на ночь из своей спальни на другую половину дворца: если будет нападение, — главу государства будет найти непросто. У Салтыковского подъезда Зимнего дворца приказано иметь наготове двух лошадей, если монарху придется бежать. В секретный приказ попадают даже конские имена: «верховые лошади, для него назначенные, суть Баязет серый и Адрас бурый».
Можно, конечно, посмеяться: такие меры приняты, и ничего почти не произошло… Но лучше — задуматься: власть хорошо знает, чувствует опасность и всегда создает некий «запас прочности». Законы же возникновения бунта столь непредвидимы, как начало лавины в горах: толчок — и понеслось, или вдруг — ничего…
Ученик VI класса третьей Петербургской гимназии, будущий известный врач Владимир Чемезов, как очень водилось в ту пору, ведет дневник. В начале февраля он бесхитростно записывал:
«Теперь все поговаривают о крестьянском деле. Говорят, что к 19 февраля будет объявлено. Послужит ли это к пользе? Не знаю. Теперь и знать-то нельзя, а то сейчас в крепость. Однако пора заняться и делом, а не болтать пустяки…
18 февраля. Суббота. Все что-то поговаривают об воле. Разнесся слух, будто бы объявят волю 19-го, в воскресенье… Сегодня утром, часу в 3-м, один пьяный мужик закричал на улице: „Воля, ребята, воля!“ Его тотчас схватили. Созвали всех дворников. Влепили мужику 900 розог, а дворникам объявили, чтоб они при первом удобном случае доносили полиции, а в противном случае будет с ними поступлено, как с виновными».
Когда же один из дворников, не удержавшись, похвастался, что при объявлении свободы он первый закричит «ура», — обер-полицмейстер Паткуль вместо благодарности за верноподданнические чувства, — велит «влепить 250 розог»…
Все знают, — весь Петербург, Москва, вся Россия, что 19-го объявят. Знает Герцен в Лондоне, сообщает Тургеневу в Париж, ошибаясь всего на один день (4 марта вместо 3-го по новому стилю): «В Петербурге везде толпится народ — в кабаках, церквах, банях, на торгу, в театре, — все говорит об освобождении»…
Меж тем позавчера столичный генерал-губернатор Игнатьев объявил в газетах: «19 февраля никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу обнародовано не будет»; прочитав эти строки, некоторые сановники испугались: можно было бы вставить спасительное словечко «еще»: «еще обнародовано не будет»… А то вдруг толпа решит, будто свободы вообще не будет, и тогда — в топоры!
Толпа, однако, на удивление спокойна, ибо точно знает, что 19-го — будет!
Откуда знает?
Во-первых, догадываются, что важный закон царь захочет подписать в свой день.
Во-вторых, типографии. В секрете, под строжайшей охраной, там печатают день и ночь Манифест и «Положение». 280 тысяч экземпляров; заранее рассчитано, какие листы где набирать, чтобы никакой наборщик не сумел соединить и пустить на волю хотя бы один законченный текст. Типографы, однако, люди сообразительные…
Текст Манифеста составляет главный златоуст империи 78-летний московский митрополит Филарет; 22 закона, изложенных тяжелым, малопонятным языком: митрополит с успехом выполнял известное в бюрократическом мире правило — «законы надлежит писать неясно, чтобы народ чувствовал необходимость прибегать к власти для их истолкования».
Текст неясен, но найдется немало грамотных, понятливых противников власти, которые после растолкуют остальным…
Наконец, 19-го и следующие дни во дворце принимают инструкции сорок флигель-адъютантов и генералов свиты; вскоре они помчатся в губернии — руководить, наблюдать. Валуев находит, что «великие дела не лишены некоторой доли комизма. Каждого из этих господ государственный секретарь Бутков снабдил особым официальным чемоданом с официальным ключом и за печатью. В этих чемоданах везутся новые крестьянские Положения, которые везущими должны быть сданы губернаторам».
Секрет… Но и адъютанты люди; у каждого язык, у всякой стены уши.
Итак, всем велено не подозревать…
19-го утром Александр II проснется как обычно часов в восемь (от ночных беспокойств и переходов, правда, не очень удалось выспаться). В целях безопасности обычной утренней прогулки не будет. После кофию, часов в 11, царь отправляется в кабинет, куда Бутков должен принести журналы Государственного совета и другие главнейшие бумаги по главнейшему делу. Брат царя Константин Николаевич (согласно дневнику Валуева) «желал быть при этом и условился с Бутковым быть в одно время во дворце. Но когда Бутков был позван в кабинет государя и доложил ему, что вел. князь желал присутствовать при утверждении журналов, то государь отвечал: „Зачем? Я один могу дело покончить“».
Младший брат, генерал-адмирал, в последние годы был заодно со старшим, многим ему помог. Несколько дней назад возмущенный царь прочитал еще одно анонимное послание, где Александра II «укоряют в нарушении своего обета, в пренебрежении к закону, в грабительстве чужой собственности и, говоря о ножах, которые точат на него и на все его семейство, указывают на вредное влияние, представляемое им вел. кн. Константину Николаевичу, и упоминают даже о том, что в народе будто бы считают ген.-адмирала настоящим преемником престола» (Дневник Валуева).
Все смешалось, все угрожает: и таинственная масса за окнами, и ликующий дворник, и брат Константин, и помещик-аноним.
Там мужицкие топоры, тут — дворянские ножи…
Царь пишет на поднесенных ему бумагах «Быть по сему. Александр. 1861 года февраля 19-го».
Через 99 лет и один день после Манифеста Петра III о вольности дворянской.
19-го вечером
В городе тихо. По тающему снегу разъезжают патрули; весь день прогуливаются по столице студенты политехнического института; один из них, Сажин (в будущем участник Парижской коммуны Арман Росс), много лет спустя, в 1920-х годах, расскажет известному историку Б. П. Козьмину, что они ожидали восстания и собирались тут же к нему примкнуть.
Власть ждет восстания, революционеры ждут восстания, — но «Русь не шелóхнется, Русь как убитая…» Поднимется позже, вспыхнут бунты в Бездне, Кандеевке; около половины «уставных грамот», оформлявших новое устройство, крестьяне подписать откажутся. Зашумят позже, а сейчас — ожидают и сами не знают, как дело пойдет…
Тишина в столице; в ближайшие дни состоятся последние зимние бега по невскому льду; избранным лицам (в том числе Писемскому, Майкову, Плетневу, Бенедиктову, Погодину) рассылаются билеты на торжества по случаю пятидесятилетия литературной деятельности пушкинского друга, ныне крупного сановника Петра Андреевича Вяземского… При этом не раз вспоминают и самого Пушкина, воображают, сколь интересны были бы ему столь важные события в жизни народа; но Пушкина уж 24 года как нет на свете…
Адъютанты же несутся в губернские города; подготавливаются разные утешительные церковные послания к прихожанам, для чтения до и после опубликования Манифеста: «Одни только люди недобрые, т. е. возмутительные, могут сеять злые слухи, что-де пришла воля царская, да не сказывают… Ждите его воли, а когда придет, то с благодарностью примите все его распоряжения об вас. Не нам уставы писать, сами знаете, нам господь бог велел повиноваться царю, как божией воле над нами, тогда мы и православные, тогда и христиане, тогда и церковь — наша мать, и бог — наш отец».
Историк и литератор Погодин нечто подобное приготовил и для грамотных читателей «Санктпетербургских ведомостей»: «Посетил нас бог, други мои сердечные, святою своей милостью, наградил нас царь-батюшка за наше долготерпение: принесли для нас жертву помещики, за верную нашу многолетнюю для них работу… Боже упаси заводить какой-нибудь спор, ослушание… огорчить батюшку-царя-благодетеля вашего до глубины сердца».
Газеты сообщают: в Курской губернии повесился крепостной мальчик девяти лет; в Пензенской — отец ранил сына, чтобы тому не идти в рекруты.
В книжных магазинах — «Кровавая рука» Ксавье де Монтепена, «Записки Иосифа Гарибальди в двух частях с портретом», «Космос. Образование Вселенной и развитие человечества от первого начала до нашего времени (с немецкого)».
19 февраля 1861 года окончилось крепостное право, о чем в этот день приказано еще не знать.
Эпилог
В Петербурге объявили волю 5 марта, две недели спустя; в провинциях — несколько позже, в великий пост, когда народ спокойнее, — больше молится и кается. Грамотные читают, неграмотные слушают: отныне крепостные крестьяне — «свободные сельские обыватели»; со множеством затруднений, оговорок, они все же вольные люди. Они получают землю: в среднем по России — свой старый надел, урезанный примерно на одну пятую. Помещичья земля — за помещиками, крестьяне же за свободу будут уплачивать выкуп, проценты на выкуп, проценты на проценты.
Крестьянам мало — помещикам мало: «порвалась цепь великая, порвалась — расскочилася: одним концом по барину, другим по мужику!»
Все это не сразу понято и осмыслено: 5 марта самое сильное впечатление произвела подробность, которая сегодня, на расстоянии более чем столетия, кажется совершенно второстепенной: «Воображение слышавших и читавших преимущественно остановилось на двухгодичном сроке, определенном для окончательного введения в действие уставных грамот и окончательного освобождения дворовых. „Так еще два года!“ или „Так только через два года!“ — слышалось большею частью и в церквах, и на улицах».
Валуев, тот, кому скоро придется сменить старика Ланского, 5 марта занесет в дневник: «Государь на разводе собрал офицеров и сказал им речь по поводу совершившегося события. При выходе из манежа народ приветствовал его криком „ура!“, но без особого энтузиазма. В театрах пели „Боже, царя храни!“, но также без надлежащего подъема. Вечером никто не подумал об иллюминации. Иностранцы говорили сегодня: „Как ваш народ апатичен!“ …Правительство почти все сделало, что только могло сделать, чтобы подготовить сегодняшнему Манифесту бесприветную встречу».
Важнейший день — ни для кого не праздник.
Утром 5 марта Николай Гаврилович Чернышевский зашел к Николаю Алексеевичу Некрасову: «Он лежит на подушке головой… В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали… „Так вот что такое эта воля…“ — А что же ждали? Давно было ясно, что будет именно это».
Издатели журнала «Современник» понимают то, что несколько позже выскажет в Лондоне «Колокол»: «Народ… обманут, ограблен».
Герцен и Огарев уверены, что настоящее освобождение крестьян — без выкупа, со всею или большею частью земли.
Спору нет — воля могла быть много и много лучше.
Но могла быть и хуже: еще меньше земли, не обязательное, а «добровольное» соглашение крестьян и помещиков; не два года, а больший срок оттяжки…
Могло быть и хуже. Чернышевский неоднократно намекал в своих статьях, и наверняка сказал Некрасову в том разговоре, который только что цитировался, что «чем хуже, тем лучше»; что если бы верх взяли не правительственные либералы, а крепостники, Гагарин, Муравьевы, то было бы лучше; то есть тогда бы непременно произошел взрыв, бунт, революция, и все решилось бы «самым лучшим образом»!
Так думал Чернышевский, но обсуждение этой непростой мысли — уж тема совсем особая. П. А. Зайончковский осторожно предлагал нам поспорить и с Чернышевским, но мы были морально не готовы: «Как это спорить с таким корифеем!..»
В конце февраля — начале марта 1861 года, на масленицу, в великий пост, Россия вступила в новый период своей истории. Вступила без иллюминаций, с войсками, приготовленными к подавлению, с вялыми криками «ура!» и розгами тому, кто крикнул чуть раньше.
Историческое начало этого дня было, можно сказать, на столетие раньше, завершается же 19-е февраля много и много позже: 1861-й — 1905-й — 1917-й… Присоединим сюда, наконец, и сегодняшние революционные годы, начиная с 1985-го. Очень жаль, что наш профессор не дожил…
В. Полищук Он может стать знаменитым
Знание незыблемо, и нет места случайностям в нашем высокоорганизованном мире. Усердно работай — и найдет тебя слава: каждому — по делам его… Если так — то почему же гений нередко чахнет в безвестности, а миры рушатся от какой-нибудь пустяковины, от хвостика невзначай пробежавшей мышки? Не потому ли, что и возникать они могут как бы на пустом месте, из хаоса, обретающего стройность под воздействием столь же маломощной, но вовремя набежавшей флуктуации?
Флуктуацией, или зыблением, сто лет назад называли совсем другое — перетекание подкожной жидкости под пальцами врача, ощупывающего человеческое тело. Для лекаря тех времен зыбление служило признаком скрытых нарывов, опухолей и прочих неприятностей. Теперь же зыбкость стала обнаруживаться в любых явлениях — да не только зловредная, гнойная, но и благодетельная, созидающая.
Эта история — о человеке, который, разглядев ее сначала в захолустном, мало кому интересном уголке физического мира, сумел возвыситься, ни много ни мало, до нового понятия о происхождении всей нашей земной жизни.
…Леонид Леонидович, русский, беспартийный, женатый (детей нет), родился в 1946 году в Москве. В 1963-м закончил там же с золотой медалью среднюю школу, а в 1968-м — физический факультет университета. С 1971-го, после службы в армии, работал младшим научным сотрудником в крупном химическом институте. Подготовил кандидатскую диссертацию «Поведение асимметричных систем в симметричной среде», каковую и защитил в 1975-м. Тогда же перешел служить в другое учреждение, призванное содействовать развитию транспортной техники. Возглавляя там лабораторию теории гидропривода, продолжал изучать происхождение жизни и подготовил докторскую диссертацию «Химическая физика асимметричных систем». Защитил ее в 1979-м, когда ему сравнялось 33 года. Потом заведовал группой лабораторий — целым отделом в институте, озабоченном поиском новых лечебных препаратов. Автор 76 печатных трудов, докладчик на многих всесоюзных и международных конференциях…
Почему обстоятельства повернулись так, а не иначе? Излагая все по строгости, без домыслов — голую информацию — рано или поздно упираешься в глухую, абсурдную беспричинность событий. И никак с нею не можешь сладить, пока не примешь к сведению неудобную для науки главенствующую роль разных там частностей, не фиксируемых в документах мелких подробностей. Да не научишься проникаться ими так, будто увесистые колеса бытия проезжались не по какой-нибудь неодушевленной материи, а по твоим собственным драгоценным косточкам.
Начнем же снова.
Спектральные причуды
…Институт искал специалиста для обслуживания только что купленного прибора, записывающего сверхточные спектры. А Леня, неделю назад сбросивший лейтенантский мундир, искал работу. Он смотрел иноземное, подмигивающее разноцветными лампочками диво (оно занимало половину комнаты, в которой пришлось устроить невиданную роскошь — кондиционер; не для людей, а для капризного магнита весом в пять тонн с гаком) — и нашел его подходящим. Благодаря чему очутился в компании, подобных которой, вероятно, не было и уж наверняка больше не будет нигде на свете.
Хозяева Института, химики, не без опаски опускались в подвал, где размещалось это сообщество, нанятое вроде бы для того, чтобы служить им… Вещество, изготовленное по надежнейшей рецептуре, свеженькая теория, подхваченная в солидном заграничном журнале, а заодно и самодельные лычки апломба, которыми так любят украшать себя искатели скорой научной карьеры, — все это могло здесь обесцениться в одну секунду. Молодой бородатый лаборант совал благоговейно поднесенную ампулку в таинственную щель, прикрытую утепленной крышкой, накручивал какие-то ручки, заодно уличая гостя в незнакомстве с книгами Пруста, а потом, блестя зубами, мог внезапно весело бухнуть: «Что за грязь вы сварили? А ведь жалованье, небось, неплохое получаете!» И у пострадавшего ничего за душой не оставалось: ни заемного теоретического базиса, ни даже скороспелого самовосхищения. «Дети подземелья, или В дурном обществе», — острили самые отважные из жителей верхних этажей.
Не все в Институте, понятно, любили посещать это ядовитое место…
Леня легко освоился и здесь. Пожалуй, полегче, чем в воинской части. Хотя и оказалось вскоре, что как обслуживающая единица он не очень-то одарен.
Накручивание ручек, которым зубастый лаборант занимался как бы невзначай, между двумя анекдотами, как выяснилось, было тончайшей, почти интуитивной процедурой настройки разрешения, без которой самописец прибора рисовал взамен стройного частокола пиков нечто вроде расплывчатого горного пейзажа. И вот эта самая настройка давалась Лене туго — у него оказалась, как здесь говорили, грубая рука («Настраивать разрешение — это вам, извините, не на скрипочке играть, дело тонкое», — язвили коллеги, стараясь в то же время, каждый по-своему, как можно доходчивее втолковать новичку наилучшие приемы этой магии).
Нового сотрудника вскоре узнают и на верхних этажах. Ведь не каждый день удается помучиться у нового прибора, как бы не так! Импортный шедевр — один на всех, есть железный график, отводящий на долю Леонида Леонидовича и подшефных ему химиков полтора дня в неделю, ни минуты более. В остальное время полагается обдумывать и обсчитывать результаты, творчески расти в библиотеке. Библиотека же помещается наверху, и всевидящий глаз институтских (а среди них, как в большинстве химических учреждений, немалую долю составляли дамы) вскоре отмечает, что Леня почти не берет книг или журналов, касающихся химии или сопряженных с нею разделов физики, а налегает на не относящуюся к делу чистую математику.
Да и налегает без особой страсти. Возьмет с утра кучу литературы, посидит над нею полчасика — и тут кто-нибудь зовет его покурить или выпить кофе. Только этого субъекта и видели… Явится к концу дня, сгребет книжки в портфель — и правит к выходу, где его дожидается «Москвич» самого древнего образца. На колымаге же этой, случается, катит не домой, а с компанией подвальных куда-нибудь купаться…
Окончательный приговор выносят спустя несколько месяцев, когда на институтском первенстве по теннису он не занимает призового места из-за очевидного нежелания добивать уступающего ему по классу игры противника. Об этом тут же узнают даже те, кто отродясь не держал в руках ракетку. Не рваться к первенству? Не стремиться к победе? Это непонятно, оскорбительно… Неписаный вердикт суров и обжалованию не подлежит: сибарит с ленцой, для Института мало полезен.
А через неделю-другую Леня, шагая подвальным коридором, натыкается на знакомого химика, уныло глазеющего на раскатанный прямо по полу рулон диаграммной бумаги с какими-то спектрами. Подходит, заглядывает через плечо.
Мог бы, между прочим, и не заглянуть. В первые свои институтские дни даже наверняка не заглянул бы: там, где он служил раньше, размышлять в коридорах было не принято.
Так вот, заглянув в бумаги через плечо их хозяина — химика по имени Боря, — наш герой спрашивает о причинах печали.
— Те самые проклятые два сигнала, — отвечает тот. — Помнишь? Они то появляются, то исчезают. Михал Ильич грозится меня выгнать, говорит, грязно работаешь…
У Михаила Ильича, Бориного начальника, слово с делом не расходилось. В Институте знали: сантиментов он не разводит. В данном же случае, когда нерадение было налицо, ждать пощады не приходилось. Кому же не известно, что всякое чистое вещество обязано иметь строго постоянные характеристики — и спектры тоже?
— …Я эту дрянь перегонял двенадцать раз, она кипит в точке, — канючит между тем Боря, апеллируя к веками проверенному признаку чистоты. — И другие образцы раз по восемь. Они тоже в точке. Но он нахватался этой вашей физики и твердит свое: грязь. А на хроматограмме — всего одно пятно.
Леня, смутно припоминая, что такое хроматограмма, упирается глазом в хорошо знакомую формулу, изображенную над спектром.
Некая догадка, забрезжившая было в уме, но впоследствии оказавшаяся неверной, заставляет его свернуть с намеченного маршрута к обеденному столу и приводит к прибору, около которого страдает над очередным Бориным изделием лично Э. И. — Эрнест Иванович, предводитель шумного подвального братства. Перед ним — таблица, в которой он, отчаявшись что-нибудь понять, пытается хотя бы свести в систему причуды этих злосчастных веществ.
— Матрица, — бормочет Леня, снова заглядывая через плечо.
— Не в том дело, что матрица, — огрызается руководство, не поворачиваясь, — здесь какая-то упорядоченность чувствуется.
Уловив это длинное, мало благозвучное слово, Леня ведет себя так, будто ненароком схватился за оголенные провода. Утратив привычную безмятежность, мечется по тесной комнатке, подбегая то к измазанной мелом доске, то снова к таблице. Потом, выпросив копию этого документа, внятного не более, чем письмена древнего Крита, в нарушение всех норм трудовой дисциплины уезжает домой.
Нарушение затянулось. Он отсутствовал два дня. На третий же, около полуночи, позвонил в подвал. Э. И., тоже не очень-то педантичный по части распорядка, нередко сиживал там в неурочное время, когда в здании тихо и нет помех, сбивающих настройку приборов (лучшее из этих сатанински чутких сооружений откликалось и на пробегавшие по улице трамваи, и даже на приближение какого-нибудь здоровяка, прогибающего своей тяжестью половицы; оно вполне могло при случае заменить сейсмограф).
Бодрствовал он и в ту ночь. Леня сообщил, что по поводу загадочных спектров тревожиться больше не надо, с матрицей все более или менее ясно. Изображенное на ней есть не что иное, как упорядоченное множество. Подробности, мол, он разъяснит утром, когда отоспится за эти трое суток, а пока, повторил, волноваться не надо.
Экспериментатор Э. И., разумеется, слышал о таких множествах, но лишь краем уха: раздел математики, посвященный этим делам, был чересчур новым, его разработали в 30-е годы XX века.
Не стоит удивляться: для многих кандидатов и даже докторов физико-математических наук — ведь каждый из них пашет свою, узко специализированную делянку — математика кончается теориями, изобретенными в самом начале нашего столетия. Дальнейшие же изыски языкотворцев точного знания пока почти не переварены университетским курсом, который тем не менее продвинут по этой части куда сильнее, чем, скажем, наука, преподносимая инженерам. Для большинства инженеров последнее слово математики — дифференциалы и интегралы, изобретением коих был увенчан XVII век. Вот и гадайте — трудно ли слыть человеком, достигшим вершин современной культуры? Математика притом, еще не самый залежный слой в противоречивом напластовании, обозначаемом этими словами. По части этики, к примеру, не все дотягивают и до того, что было постигнуто в первые годы нашей эры… Если же припомнить те ненужные для исполнения служебных обязанностей книги, всевозможные «Бурбаки», которыми обременял свой библиотечный стол отставной лейтенант, то как раз об упорядоченных множествах и прочих не нашедших места в университетском курсе премудростях в них и толковалось. Наблюдательные сотрудники замечали лишь то, что он за тем столом не засиживается, увозя в конце концов объекты своего незаконного увлечения домой.
Книги возвращались в библиотеку несколько дней спустя, и откуда бы наблюдателям знать, что они возвращались проштудированные насквозь — дома, в тишине, вечером или ночью. Вот почему Леня так засуетился, когда его шеф произнес это мало для него, шефа, работоспособное словечко — упорядоченность…
Наутро, как и было обещано, выспавшийся, восстановивший свою невозмутимость Леонид Леонидович является к Эрнесту Ивановичу и кладет перед ним пачку листов. В них ошалевший от бессонницы Э. И. обнаруживает не только математическое описание спектральных причуд, свалившихся на голову злосчастного Бори, но и программу серии экспериментов, направленных на изучение новооткрытого физического явления — умножения числа линий в спектре под влиянием асимметрии молекул.
Отправляются на прием в кабинет к Михаилу Ильичу, начальствующему, кстати, не только над Борей, но и над Леней, который получает зарплату из фондов его отдела. Разъясняют, что увольнять бедного химика не за что. Завотделом перелистывает выкладки, ухватывает далеко идущие выводы, которые проглядывают сразу, до всяких опытов — и изрекает, адресуясь к Эрнесту Ивановичу: «Голова у вашего парня варит». Парень сидит тут же, рядом, но Михаил Ильич не имеет обычая напрямую обращаться к рядовым исполнителям.
С этого момента день в подвале окончательно меняется местами с ночью. Почти еженощно у прибора колдует Эрнест Иванович, а с ним Павел Васильевич, лучший в лаборатории мастер по части настройки, и механик Илюша, умеющий мгновенно устранять неполадки в чем угодно, от табуреток до электронных схем. Леня же незаметно становится в этом маленьком оркестре кем-то вроде дирижера. Сидя дома, он сопоставляет измеренные по ночам величины — и выводит уравнения, из которых проглядывает трасса дальнейших опытов.
…Различия в положении сигналов, измерявшиеся в тех опытах, были, по выражению Илюши, с комариный хобот, поэтому из прибора приходилось выжимать предельную точность. За ночь удавалось измерить не более двух-трех точек — терпение Павла Васильевича было бездонно, он мог невозмутимо, нежнейшими движениями по миллиметру подгонять ручки к идеальному положению и час, и два, сколько угодно. Между тем, чтобы построить всего один график, требовались десятки точек. Да и графиков нужны десятки — обстоятельный Михаил Ильич требовал опытной проверки всей этой маловразумительной математики на множестве объектов.
И снова получалась чертовщина. Вместо двух прямых, пересекающихся косым крестом, как на старинном российском флаге, вырисовывалось нечто похожее на крылья бабочек.
В одну прекрасную ночь Э. И., пресытившись этими художествами, разбудил Леню телефонным звонком и повелел немедленно явиться. Тот примчался на своем дребезжащем экипаже, проговорил с Эрнестом Ивановичем до того часа, когда в Институт потянулись сотрудники, начинавшие рабочий день по нормальному расписанию, — и они расстались, мало довольные друг другом.
На прощание Леня объявил, что так дальше дело не пойдет, он берет отпуск. У него есть отгулы за работу в колхозе.
Письма до востребования
Тысячу с лишним верст от Москвы до намеченного прибалтийского городка дряхлый «москвичок», вопреки всем опасениям, одолевает без единого сбоя, и через два дня после свары в подвале босоногий плотный блондин в брезентовой штормовке уже шагает по прохладной деревянной дорожке между дюн, опутанных ради закрепления песка изящными низенькими плетнями. Не замечая черного шара на вышке, означающего запрет на купание, он раздевается и кидается в недобрый мутный прибой, норовящий опрокинуть, растереть о песок, исторгнуть инородное тело; отплывает на полсотни метров, забывая ощутить холод, а потом возвращается к притихшей машине. И через минуту уже не помнит, плавал он только что или слонялся по безлюдному пляжу.
Память, действующая все же под корой неприятного оцепенения, подсказывает, что к вечеру надо быть в местной столице, встречать поезд, на котором подъедет жена. Превратить этот сигнал в действие трудно, но Лене все же удается натянуть ботинки и запустить мотор, который (это он удивленно отмечает уголком сознания) снова врубается безотказно.
Езды до столицы — час с небольшим, дальних концов в этих замечательных краях не бывает. Доехав, он некоторое время кружит по древним извилистым улочкам, потом причаливает на углу к тротуару — и ловит себя на том, что остановился не случайно. Притягивает его что-то, какой-то не сразу различимый знак. Леня разглядывает с пристрастием небольшую, в полметра ростом, статую, заключенную неведомо когда жившим резчиком в угóльную нишу, — и ощущает, как начинает рассеиваться пелена оцепенения. Этот каменный парень, стерегущий старинный дом, должен натолкнуть на какую-то существенную мысль. Такое же предчувствие, похожее на беспокойство, которое будто бы испытывают перед землетрясением кошки, уже посещало его — в тот момент когда Э. И. обронил слово «упорядоченность». И теперь, быстро обогащаясь внутренним опытом, наш герой понимает, что сейчас мысль явится, всплывет из подсознания — и упускать ее нельзя…
С внезапной легкостью он осознал: улыбчивый страж в долгополой асимметричной хламиде (местные жители небось его давно в упор не видят) поставлен здесь специально для него, Леонида Леонидовича. Он ждет двести или триста лет, чтобы поверх барьеров времени, через головы бургомистров, советников, ценсоров и прочего крапивного семени, живущего надзором и недоверием, передать ему озороватую мудрость своего создателя. Ведь что все мы, в сущности, пишем, вырезаем, ваяем, как не письма до востребования, которые ждут своего адреса когда годами, когда и веками, и лишь малая часть посланий дожидается его, неведомого…
Под этой всплывшей откуда-то ясностью прорезается другой — конкретный, деловой пласт. Замаячил в памяти некий текст, который — ну как же! — довелось когда-то читать по-французски, не особенно вникая, потому что он был задан для упражнения в языке. История об остроглазом, веселом храбреце чуть ли не студенческого возраста, который поставил один или два несложных опыта — и с истинно галльским озорством перевернул ими мировую науку. Слова этого человека следовало отыскать немедленно, восстановить в точности.
Леня снова ныряет в кабину и, теперь уже твердо зная, чего ищет, правит к ближайшему милиционеру. Обстоятельно выспрашивает дорогу… Откуда здесь, в рядовой читальне, это не очень-то распространенное ученое издание, да вдобавок в русском переводе? Кто его знает. В библиотечном деле случаются свои флуктуации.
«Если мы будем рассматривать форму и повторение идентичных частей в каких-либо материальных предметах, то мы сразу же увидим, что все эти предметы можно разделить на два больших класса, характеризующиеся следующими свойствами: одни, расположенные перед зеркалом, дают изображение, которое может быть с ними совмещено; изображение других же не может быть совмещено, несмотря на то, что оно в точности воспроизводит все их детали».
Человеку, который писал, а вернее, произносил эти слова, было 38 лет, но речь шла о делах давно исполненных. В 1860 году Луи Пастер, профессор, признанное светило, выступал перед любознательными парижанами с публичной лекцией — не гнушаясь низкого жанра, рассказывал о мыслях, впервые посетивших его еще в юности. Тогда он, никому не ведомый сын отставного солдата, прилежно слушал лекции в «Эколь нормаль», прихватывая иные еще и в Сорбонне, да вдобавок находил время для самостоятельных опытов.
Кто разрешил ему эти опыты? Кто стоял за спиной, надзирая, как бы новичок чего не накуролесил?
Никто.
Кому адресовались его речи, на первый взгляд незатейливые, а на самом деле изысканно отточенные, как то издавна принято в его отечестве (это проглядывало сквозь все шероховатости неискусного перевода)?
Любому, кто не откажется слушать, — и все же, может быть, тому, кто родится в другом столетии.
«…Было бы весьма удивительно, если бы природа, столь многообразная в своих проявлениях, не позволила нам обнаружить в группах атомов сложных молекул эти два типа, на которые распадаются все материальные предметы…»
Что это — максима, сочиненная задним числом, или изначальная точка, предвзятая идея? Юный фантазер ухитрился замесить в одной квашне кристаллографию с физикой, химию с биологией — и выпечь новое знание, которое не мог предугадать никто.
Одни специалисты разглядывали кристаллы кварца и обнаруживали, что некоторые из них гемиэдричны — отличаются ненормальной, скошенной когда влево, когда вправо гранью.
Другие, не менее глубокие, но занятые совсем иными делами знатоки пропускали свет сквозь разные, в том числе и кварцевые, пластинки — и наблюдали раздвоение луча, говорившее о поляризации света.
Третьи же, так и этак примерявшиеся к повадкам органических веществ, выделяемых из творений живой природы, с удивлением замечали, что жидкие растворы многих подобных субстанций взаимодействуют с таким вот необычным, поляризованным светом тоже необычно: ведут себя подобно гемиэдрическим кристаллам — поворачивают плоскости поляризации влево или вправо…
«У меня возникла предвзятая идея (в действительности это было не что иное, как предвзятая идея) о возможной связи между гемиэдрией и вращением плоскости поляризации солями винной кислоты».
Леня торопливо, с нарастающим напряжением впитывает безыскусный рассказ о том, как глазастый юноша вырастил кристаллы одной из таких солей, незадолго до того обследованной знаменитейшим кристаллографом, повертел их под увеличительным стеклышком — и углядел то самое важное, что ускользнуло от ока именитого коллеги: небольшие, но четко видимые грани, скошенные (точь-в-точь как у кварца!) то вправо, то влево. Почему это не ускользнуло от него? Ясно: у него же была предвзятая идея.
То, что последовало далее, было легко и радостно, как детский сон. Пастер взял пинцет и отодвинул из общей кучи кристаллы с левым скосом влево, а с правым — вправо. Растворил их по отдельности. Поместив растворы в поляриметр, он «с удивлением и с не меньшим удовлетворением» увидел, как неактивное, неживое вещество ожило. Раствор левых кристаллов вращал плоскость влево, правых же — вправо, точно так же, как это делает соль винной кислоты, оседающей на стенках винных бочек.
Одного-единственного опыта скорому на выдумки галлу хватило, чтобы вывести глубочайший закон природы. Что за легкомыслие! Солидный человек с многолетним исследовательским стажем никогда бы на такое не решился…
«Не является ли необходимым и достаточным предположение, что в момент образования в растительном организме различных соединений в наличии имеется дисимметрическая сила? В самом деле, правые молекулы отличаются от левых лишь в одном случае, а именно когда они подвергаются воздействию дисимметрического характера…»
Последнее было совершенно безошибочно, век спустя — ни слова не поправишь, и Леня почувствовал, что именно от этого надо отталкиваться сейчас, во второй половине XX столетия. То же, что он прочел дальше, казалось непостижимым провиденьем, программой, которой, зачастую сами того не зная, следовали десятки новейших экспериментаторов, твердо уверенных в своем первородстве:
«Эти воздействия, может быть, находятся под космическим влиянием, обусловленным светом, электричеством, магнитными силами или теплотою. Находятся ли они в зависимости от движений Земли или электричества, с помощью которых физики объясняют существование магнитных полюсов Земли?
В настоящее время мы не можем высказать по этому поводу ни малейших догадок.
Но я считаю необходимым сделать вывод о наличии дисимметрических сил в момент образования органических натуральных соединений, сил, которые отсутствуют или не оказывают никакого влияния на реакции, происходящие в наших лабораториях, или благодаря кратковременности этих реакций, или же вследствие каких-то других неизвестных нам причин».
Ну, что касается причин, то какой разговор о них мог быть тогда — даже строения молекул никто еще не знал. Не знали, понятно, и того, какими рычагами управляются превращения, происходящие за мембраной, которая ограждает живую клетку. Дисимметрические силы действительно тут налицо, они заложены в конструкции управляющих всеми этими делами ферментов, и Леня, не дочитав еще лекцию, начинает понимать, в какую сторону следует поворачивать их спектроскопические изыскания. На асимметричную молекулу влияют молекулы же. Значит (прочтем наконец то, что упрятано между строк этого давнего послания до востребования), не надо проливать кровь над длиннющими сериями многоатомных специй Михаила Ильича! Возьмем по старинке простейший случай, молекулу с одним-разъединым асимметрическим центром, как в природных аминокислотах. С атомом углерода, у которого все четыре привязанные к нему группы — разные. Это даже проще, чем винная кислота, у которой таких атомов два. Ведь чтобы получить пару зеркально-одинаковых, но несовместимых друг с другом, как правая рука с левой, энантиомеров, довольно и одного. Такое незатейливое, химическое понимание дела даст куда больше, чем головоломная математика.
Леня набрасывает на клочке бумаги схему того, что может приключиться, ухватывает, каких результатов следует ждать — и с торопливой благодарностью возвращает девушке бесценную книгу, кидается к машине. Треклятая жестянка, разумеется, заводиться не желает, и он, поймав такси, поспевает все же на вокзал к московскому поезду в последнюю минуту.
…Поздним вечером он объявил не успевшей даже окунуться в море жене, что утром придется возвращаться.
Наташа, уже привыкшая в таких случаях не спорить, молча кивнула.
О трудностях профориентации
Михаил Ильич, доктор наук, лауреат, заведующий отделом, все реже засыпает без снотворного. Это оскорбляет его алгебраически четкий разум. С девяти до семнадцати тридцати мозг обязан углубляться в научные и служебные проблемы, занимать его в это время другими мыслями преступно, ибо с девяти до семнадцати тридцати, с перерывом на обед, его серое вещество есть государственная собственность (Михаил Ильич не устает втолковывать это своим подчиненным). С семнадцати тридцати до двадцати трех надлежит решать вопросы быта, семьи и отдыха, а с двадцати трех до семи — спать, чтобы после зарядки и завтрака снова трудиться в полную силу.
График, неукоснительно соблюдаемый смолоду, почти каждый вечер приходится подпирать неприятным, непредусмотренным снадобьем, после которого просыпаешься в недостаточно рабочем настроении. Так получается не потому, что железный организм зава отделом допускает какие-то возрастные сбои. О нет, внутренняя его среда отрегулирована безупречно. Несовершенства — вокруг, вне ее. В мечтах, посещавших Михаила Ильича в радостные дни, когда он впервые возглавил крупное научное подразделение, ему виделось нечто похожее на идеально отлаженный конвейер: ровно подстриженные головы, размещенные в шахматном порядке, производят высококачественную информацию планомерно и точно, независимо от стихий природы…
Чем дальше катятся годы, тем чаще этот неулыбчивый человек тайно усмехается наивности того идеала. И хотя страх перед препятствиями ему по-прежнему неведом, постоянное напряжение, необходимость ежеминутно проверять, уточнять, поправлять кого-то повергает его в бессонницу. А на разных совещаниях (в чем тут дело?) ему все чаще деликатно дают понять, что отдача от вверенного ему отдела с годами падает.
Михаил Ильич между тем добился немалого. Отучил своих сотрудников тревожить его вечерними звонками по поводу внезапно накативших на них идей (это, кстати, не числилось их заботой и в урочные часы — идей у него самого в достатке). Расстался с несколькими разгильдяями, упорствовавшими в самодеятельной возне с какими-то незапланированными объектами. Наконец — и это далось тяжелее всего — урезонил своевольных физиков, пытавшихся вовлечь его в некие глобальные и якобы сулящие славу, а на самом деле весьма сомнительные затеи. Это увело бы в сторону от систематической работы по детализации пусть не такой броской, но строгой теории, предложенной Михаилом Ильичем лет пятнадцать назад, да и договорные исследования забывать не след…
Михаил Ильич сказал им коротко: «Этим мы заниматься не будем», что означало: в дальнейшем он отказывается свидетельствовать своей подписью и соавторством доброкачественность их изысканий.
Незадолго до того, как эти слова были произнесены вслух, в подвале, под окошком, за которым виднелась тачка и сапоги развозящего баллоны рабочего, состоялся разговор между Эрнестом Ивановичем, Леней и несколькими сочувствующими, посвященными в их эксперименты. Посторонний мало что понял бы в этих репликах: когда компания годами погружена в общее дело, у нее появляется свой внутренний язык. Что-то вроде упрощенного трехзначного кода, по которому может дозвониться только свой, местный человек.
— Похоже, Эм и наши игры прикроет.
— Это сейчас-то, когда прорезалась тэ-критическая?
— А что ему тэ-критическая? Он же сделан из правых изомеров.
— Обольщаешься. Из таких же, как ты. И скушать тебя может, как трепетную лань.
— А разве он не вегетарианец?
Почти три года миновало после кратковременного выезда к балтийским дюнам. Пастер стал у них настольной книгой, упоминания о его опытах и суждениях витали постоянно, не нуждаясь в пояснениях. Над прибором (около него теперь красовался невиданный хромированный стул на колесиках, и так славно было, наладив разрешение, оттолкнуться обеими ногами да катить на нем, не вставая, влево, к вычислительной машине), рядом с шаловливым рисунком, изображавшим троицу добродетельных гангстеров, пылится листок со словами, выписанными все из той же публичной лекции:
«Если бы таинственные силы, обуславливающие дисимметрию естественных соединений, изменили свое значение или направление, то дисимметрия составляющих элементов всех живых существ приняла бы противоположное значение. Перед нами, может быть, возник бы новый мир».
Написано по-французски, но слова давно знают и те, кто не обучен этому языку. Столь же общеизвестны подробности знаменитого опыта, в котором Пастер, взяв раствор винной кислоты, содержащий поровну правую и левую форму, подпустил в него дрожжей. Кислота забродила, на дно стал выпадать осадок биомассы, а жидкость, остающаяся наверху, понемногу начала вращать плоскость поляризации света влево. И длилось это до тех пор, пока клетки не выели из раствора всю без остатка правую разновидность, оставив в нем чистейшую, не съедобную для них левую. Очень популярен в подвале и анекдот о лютом тигре, издохшем с голоду посреди стада антилоп, — его занесло на планету, населенную зверьем из «антимолекул»… Мрачноватая шутка насчет трепетной лани тоже не нуждается в разъяснениях.
— …Может и скушать, — нагнетал между тем атмосферу один из сочувствующих. — А ты думал? Явишься к доброму дядюшке, покажешь свои фокусы, а он пустит слезу да заключит тебя в объятия.
(Снова — эпизод из пастеровского рассказа: знаменитый старый физик Био, прослышав о ручной сортировке кристаллов, призвал юного храбреца к себе, приказал проделать в своем присутствии все заново, да притом с образцом винной кислоты, взятым из его собственного шкафа. Когда же Пастер приготовил растворы, схватил одну из колб, прошествовал к поляриметру — а этот прибор, надо сказать, был его собственным изобретением — и, убедившись, что его не разыгрывают, расцеловал молодого коллегу…)
События, которые завершились многозначительной беседой в подвале, разворачивались так.
Примчавшись из Прибалтики, Леня застал Эрнеста Ивановича конечно же у прибора. На ленте, лежавшей под дергающимся пером самописца, было изображено нечто лаконичное, но крайне выразительное. Одинокий узкий пик на фоне монотонной нулевой линии. Под ним — еще один, расположенный в точности так же. А вот еще ниже (перо как раз дорисовывало этот спектр) — два. Симметрично раздвинутых относительно этих первых и притом не равных по высоте.
— Три к одному, — оценил их размеры Леня, забыв поздороваться.
— Семьдесят на тридцать, — уточнил довольный Э. И., подмигивая в сторону обозначенной на листе формулы.
Это было соединение с одним асимметричным атомом, в точности такое, о каком Леня только собирался заговорить. Тут же выяснилось, что пока он отсутствовал, его начальник тоже побывал в библиотеке, но читал не Пастера, а другого знаменитого человека, Кельвина. И в одной из лекций (снова — лекций) патриарха классической физики наткнулся на блистательное рассуждение о природе хиральности — так произносили химики придуманное Кельвином название этого самого свойства молекул иногда не совмещаться со своими зеркальными отражениями. Убедившись заодно, что произносят они неверно — древнегреческому «кейр» (рука) точнее соответствовала бы «киральность», Эрнест Иванович подумал, что еще бы лучше назвать явление как-нибудь повеселее, «лапностью», что ли. А потом немедленно изобрел тот же простой эксперимент, замысел которого осенил Леню в здании под острой крышей. Шутки ради стали сличать время — получилось, что осенило их чуть ли не в одну и ту же минуту, как сострил кто-то, с телепатической синхронностью. И пока Леня добирался до Москвы, обитатели подвала раздобыли оба антипода задуманного вещества да, сами не ведая, как удачно они невзначай его выбрали, стали записывать спектры сначала по отдельности, а потом и в смеси.
Сигналы чистых антиподов, естественно, получились совершенно одинаковые — прибор не обладал никакой дисимметрической силой. А вот когда растворы смешали, да притом не поровну, сигналов стало два. И стало ясно, что даже в этом тривиальном случае молекулы, тождественные сами себе, и другие, зазеркальные, антиподные, влияют друг на дружку по-разному. Не случайно же сигнал раздвоился в пропорции, точно отвечавшей количествам слитых в ампулу растворов.
…Отныне, с первой минуты после его возвращения, подтверждается все, что они только ни придумывают то вместе, то порознь, нисколько не торгуясь о приоритете.
Месяцы спустя, когда в подвале накапливаются десятки графиков, показывающих, как зависит положение сигналов от параметра, который здесь стали называть хиральной поляризацией (он показывает, насколько одного антипода в смеси больше, чем другого), среди этих графиков выделяются некоторые особенно интригующие. На них вырисовываются змеино изогнутые кривые, пересекающие горизонтальную ось сразу в трех точках.
Происхождение всех до единой линий в спектрах веществ, изготовленных добросовестным Борей, становится между тем совершенно ясным. На взгляд Михаила Ильича, с этими изысканиями вполне можно бы кончать да возвращаться к серийной обслуге химиков. Но, родившись на свет, новое физическое явление не знает угомону, протягивает щупальца во все новые глубины.
Математика, к которой приходится прибегать для его описания, остается весьма изощренной, однако суть дела начинает сводиться к нескольким словам, доступным школьнику. Молекулы, одинаковые по хиральности, на очень краткое время приливают друг к другу, образуя эфемерные, зыбкие комплексы, рои, домены. Это им дается чуть легче, чем тем, у которых архитектура различна, что и улавливается, но лишь в среднем, после суммирования колоссального количества таких микрособытий. Вот и появляются в спектрах подвижные, ползучие, как барханы в пустыне, сигналы, откликающиеся и на состав смеси, и на свойства растворителя…
За этой прозрачной, школьной ясностью таилась, однако, другая, рискованная сторона дела. Выходило, что раствор смеси антиподов нельзя считать полностью однородным, идеальным. А это уж противоречило устоям (какой же честный физик признает неоднородность там, где ее быть не должно?), однако подкопаться под эти закачавшиеся было устои трудно, потому что, увы, это самое роение молекул проявлялось далеко не всегда. Чем больше берут в работу разных веществ, тем чаще попадаются такие, у которых никакого раздвоения сигналов нет. С этой неоднозначностью надо бы разбираться и разбираться — а в Институте между тем начинают поговаривать, что кое-кто в подвале, видимо, тронулся умом и загружает драгоценную технику чем-то вроде поиска нечистой силы. Поначалу над ними лишь подтрунивают, ловя случай отыграться за извечную насмешливость «детей подземелья». Однако постепенно слух доходит и до людей серьезных, не расположенных к шуткам.
В подвале тем временем переключаются на новые, особенно канительные из-за капризов аппаратуры опыты: смотрят, как меняются все эти туманные картины с температурой. К концу второго года экспериментов дело начинает проясняться. Размножение сигналов, оказывается, можно наблюдать лишь при температуре не выше некой критической, характерной для каждого вещества. У одних эта самая тэ-критическая лежит в доступной области, и они порождают змееобразные графики. У других же — в иной, недосягаемой для прибора, может быть, где-нибудь около минус двухсот. Такие-то «другие» и дают повод порассуждать о нечистой силе…
В одну из бессонных ночей, созерцая гору графиков, под которой уже прогибался стол, Эрнест Иванович меланхолически произнес: «А у аминокислот, я думаю, тэ-критическая — где-нибудь около плюс сорока — пятидесяти». Леня, как раз тогда явившийся, чтобы поговорить о диссертации (он ее уже готовил), беззвучно снялся с места и исчез.
Спустя несколько дней он снова вынырнул из своего дачного убежища (дело было в начале осени) и заявил, что хочет сделать доклад на общеинститутском коллоквиуме. Младшему научному сотруднику без степени такое не подобало, да и название, придуманное им — «Физические механизмы возникновения жизни», — показалось несколько претенциозным. Однако просьбу уважили. Доклад, начинавшийся, естественно, цитатой из Пастера («Почему лишь только левые или правые изомеры? Почему не соединения, лишенные дисимметрии, подобные соединениям неживой природы?»), битком набитый высказываниями древних мудрецов и непостижимыми уравнениями, был вскоре прочитан при полупустом зале. Мнение публики выразил невзначай забежавший туда аспирант в драном халате: «Мозги пудрит»…
Экспериментаторы, населяющие Институт, понимают толк в вещах осязаемых, конкретных, поддающихся перегонке или перекристаллизации. Таинственные же эффекты, при которых с молекулами ничего не происходит, разглагольствования о вселенских проблемах, вычитанных в ветхозаветных книжонках, числят по ведомству вертящихся столов и летающих тарелок. Вот почему нелестный приговор, вынесенный Лене давным-давно, дополняется еще одним словечком, звучащим в этой губернии похлеще, чем обвинение в конокрадстве: «чайник»…
Не все, конечно, оценили его инициативу столь сурово. Эрнест Иванович, к примеру, поздравил его, признался в том, что он и раньше подозревал: такая возвышенная математика не могла появиться на свет только для того, чтобы выразить в формулах копеечную возню мертворожденных материй, состряпанных в колбе. О нет, назревает игра куда более серьезная, такая, ради какой, может быть, только и стоит иссушать мозг физикой. Когда же Леня в ответ предложил начать эту игру в четыре руки, Эрнест Иванович внезапно погрустнел и напомнил суждение Хемингуэя о старом тореадоре: в его работе, мол, еще мелькают проблески прежнего величия, но они не имеют цены, потому что учтены им заранее… Нет, дорогой Леонид Леонидович, этот бык — твой, гонять его будешь самостоятельно. Хотя даже тогда, когда ты научишься (тут он не льстил) преподносить свои идеи менее цветисто и более внятно, трудно будет предвидеть, кто в этой корриде останется жив. Помни, однако: быть знаменитым — некрасиво…
Несколько дней спустя завотделом Михаил Ильич произносит слова, уже известные читателям: этим самым происхождением живности — мы заниматься не будем. Подробности разъясняет его заместитель: сказанное, мол, не означает, что Леониду Леонидовичу не позволено защищать диссертацию на честном экспериментальном материале, которого у него в достатке. И уж ни в коей мере — что кто-то не уважает его глубочайшую начитанность. Однако что касается дальнейшего направления работы, надлежит поразмыслить. У Института есть свой профиль, есть план исследований, отменить который никто не властен. Заниматься же самодеятельностью за казенный счет не позволено никому…
У Михаила Ильича в конце концов все устроилось хорошо. Оставив свою разрушительную для нервной системы должность, он стал директором крупного химкомбината, и очень хорошим директором. Мгновенно забыв тягостный полушепот, каким принято изъясняться в высокоученом кругу, он всласть кричит на совещаниях, ворочает миллионами, казнит и милует (разумеется, рублем) тысячи подчиненных, а не жалкие шестьдесят восемь строптивцев, с которыми приходилось возиться в Институте.
Михаил Ильич забывает вкус снотворного, и когда добирается до подушки, то мгновенно засыпает, да так, что телефон над самым ухом не слышит. Ну, а покинутый им отдел потихоньку восстанавливает то, без чего не может обходиться ни один живой организм, — способность к самоорганизации. Однако Леонида Леонидовича, кандидата физико-математических наук, в списке этого подразделения уже нет. Он уволился по собственному желанию.
Курица или яйцо?
Любой белок, из какого бы растительного или животного источника его ни добыли, как бы хитроумно он ни был устроен, всегда сооружен из небольшого набора аминокислот. И все эти кислоты — левые.
Почти каждый природный углевод, в просторечье сахар, откуда бы его ни извлекли: из древесного ствола или зеленого листа, из резервного склада горючего, каковым служит у млекопитающих печень, наконец из состава передающих наследственную информацию нуклеиновых кислот, — правый.
Почему левые — почему правые?
Вопрос, заданный в 1860 году, не получил окончательного ответа до сих пор, хотя начертанную тогда же программу выполняли долгие годы с великим усердием. Органические вещества и их смеси томили в жаре и в сильном магнитном поле, их помещали в электрический разряд и в поток убийственных излучений, источаемых ускорителями…
Другие люди тем временем ломали головы над вопросом — как получилось, что весь ведомый нам мир сложен из атомов с положительно заряженными протонами в ядре, окруженном отрицательными электронами; именно таких, а не антиподных: положительные позитроны снаружи — отрицательные антипротоны внутри. Ведь всякой частице — это доказано — отвечает античастица, ничем не хуже ее, подобная ей во всех отношениях, кроме заряда. Где прячется демон, оптом скупивший у частиц их тени? И не сродни ли он другому — тому, который подобным же манером обобрал молекулы живой клетки?
…Одно время возлагали надежды на пучки электронов. У них, мол, обнаружена хоть и крошечная, но несомненная «дисимметрия». Появились даже сенсационные сообщения о том, что левые аминокислоты-де распадаются под таким пучком чуть медленнее, чем правые, вот вам и фактор преимущества! Однако более строгие измерения, а за ними и расчеты были безжалостны: даже если такой фактор существует, то он сатанински мал, превращение смесей в чистые изомеры он мог вытянуть только при содействии каких-нибудь мощных, но пока неведомых механизмов, усиливающих его действие.
Впрочем, далеко не все, кто исследовал добиологическую эволюцию, считали пастеровский вопрос самоважнейшим: разве обязательно, чтобы правое отделялось от левого еще на неживой стадии? Может быть, сначала возникли организмы без асимметрии, которые уж потом, потихоньку, каким-то образом «полевели»… Куда важнее, полагали многие, установить, в какой последовательности сцеплены друг с другом аминокислоты, составляющие белок; нуклеотиды, из которых построена ДНК. Ведь очередность звеньев — это прямой носитель информации, текст.
Давным-давно подсчитано мыслимое число вариантов сборки всех этих полимеров из простых молекул; живой клетки — из полимеров; организма — из клеток. Всюду получены числа, украшенные двадцатью с гаком нулями. Они отражают колоссальный объем информации, заключенный в уникальности каждого из этих видов монтажа, единственности любого из их сочетаний, приводящих к появлению на свет гражданина М или гражданки К.
Особенной ценности эти грубоватые расчеты не представляют, ибо для оценки биологической информации не придумана пока универсальная валюта. Разве можно сопоставить бит — единицу, коей измеряется двоичный выбор «чихнуть — не чихнуть», с битом же, за которым укрыты варианты «быть или не быть»? А по какому курсу разменивать жизнь на чихи? Пожалуй, ни по какому. Уместнее, видимо, говорить о вещах несоизмеримых, но одинаково именуемых (так в старину на Руси всякую длину мерили в саженях, однако царская сажень была куда длиннее купеческой или мужицкой)…
Расчеты, повторяю, были самые грубые — но почему с их помощью дозволено оценивать лишь последовательность монтажа молекулярных блоков? Разве не несет информацию и асимметрия каждого блока?
Такое соображение — вкупе с еще одной, уже сформировавшейся у него предвзятой идеей — заставило Леню оставить на время возвышенную математику и прибегнуть к вот такой, приблизительной.
Белки человеческого организма содержат (суммарно) до десяти в двадцать пятой степени аминокислотных остатков. Каждый остаток, в принципе, мог бы быть представлен левой или правой формой. Количество же информации, создаваемой при выборе левых, и только левых форм, равно той же десятке в двадцать пятой степени. Величине ничуть не меньшей, чем рассчитанная сходным манером информация, записанная в виде последовательности монтажа.
«Таким образом, на молекулярном уровне организации биосистем существует еще один информационный резервуар».
Эти слова — из статьи, которую они сочинили еще вместе с Эрнестом Ивановичем, последней их совместной работы. В другом информационном резервуаре — его надлежало заполнить доверху, чтобы разобраться что к чему, — по-прежнему виднелось дно. Худо пришлось бы тому, кто вознамерился бы забивать оставшееся пространство умозрительными выкладками вроде этих, с неконвертируемой вероятностью. На таком пути нетрудно сокрушить необходимейшие барьеры внутреннего контроля, да и впрямь влиться в неустрашимый легион «чайников», самодельных мыслителей, росчерком пера отменяющих законы природы и учреждающих свои, персональные. Была ведь и своя правота в крутом приговоре институтского сообщества: предвзятые идеи немногого стоят без проверки опытом. Но как его прикажете ставить, этот опыт, если доступ к шедеврам приборостроения для тебя закрыт, да и к не шедеврам тоже, ибо заведение, где ты служишь, не владеет физико-химическим оборудованием, поскольку в нем не нуждается?
На таком, грубо материальном упоре ломались и по сей день ломаются многие блистательные замыслы, однако Леня успел вовремя обучиться некой спасительной повадке — осмыслил, что не во всякой среде можно плавать вольно, без трения. Даже в такой, как институтская: в сущности, очень здоровая и плодоносная, но неоднородная, состоящая из химиков и физиков вперемежку. И виноватых, на предмет побиения камнями, искать в таком деле вряд ли стоит: резон ли обижаться на силы молекулярного сцепления да отталкивания? Однако если таковое отталкивание уже налицо, то да будет оно направлено вверх, вот какой урок он извлек из своего житейского эксперимента. Отныне все необходимое для работы Леня станет по мере сил добывать и «пробивать» самостоятельно, как бы ни чуждо ему было такое ремесло. От почтенных же лиц, готовых взять на себя труд удостоверять его добросовестность подписью и соавторством, — убегать со всех ног. Да не под горку, куда полегче, а с полным напряжением сил — вверх. Самая же простая мысль — а не бросить ли все это к черту? — его почему-то не осенит.
Ну а что до приборов, то не утратили пока, слава богу, силу закона две чудесные истины: мир не без добрых людей, голь же на выдумку — хитра.
Кое-какое оборудование нашлось. В одном вузе разрешили попользоваться поляриметром, тем самым старозаветным устройством, которое еще в 1815 году изобрел Жан Батист Био. Объявились и добровольные помощники, когда же без них обходилось?
Вещество, выбранное для первой серии опытов, было не чем иным, как доброй старой винной кислотой, превращенной (ну конечно же!) в двойную соль. Только не натрий-аммонийную, как у великого предшественника, а медно-калиевую.
Доброволец, ставший впоследствии законным соавтором Лени, добывал новые десятки и сотни точек, которые тот укладывал на прихотливо вьющиеся кривые, временами прибегая к помощи электронной машины (она-то в его учреждении имелась, и очень неплохая). Ход кривых явным образом менялся в зависимости и от количества добавляемой щелочи, и от температуры.
Когда хиральная поляризация росла (в смеси начинала преобладать левая форма) и достигала некоего критического значения, плавно восходящие кривые, вырастающие из нулевой точки, внезапно замедляли подъем, а потом иногда шли на спад. Порой за вершиной такого пологого бугра появлялась даже ямка, углубление, проваливавшееся ниже нуля.
Из этих кривых выводились вторичные, и они очень напоминали те, что получались после опытов на спектрометре, — оказывались то прямолинейными, то украшенными изящным изгибом, а в иных случаях и двумя, говорившими о нелинейной, кубической природе отвечавшего им уравнения.
Такой поворот событий, страшно подумать, противоречил выводу самого Пастера, утверждавшего, что вращение плоскости поляризации смесью антиподов всегда есть результат простого вычитания углов, левого и правого, отмеренных поляриметром сообразно количеству каждой из форм. Так оно и получилось бы, будь раствор всегда идеальным…
Кривые, вычерченные по окончании монотонных измерений, помогали Лене утвердиться в предвзятой идее насчет того, что было раньше — курица или яйцо? Извечный этот вопрос перешел в категорию актуальных для самой что ни на есть серьезной науки. Ответ на него теперь следовало искать с учетом наличия в природе простых механизмов, которые были способны отделить левое от правого задолго до того, как кто-то на этой планете зашевелился, пополз или взлетел. Но была ли их сила решающей?
…Новые опыты, совсем уж нехитрые, для них не требовалась даже оптика. Прибор — простая трубочка с оттянутым концом, из которого время от времени падают капли. Измеряя средний их вес и давление столба жидкости, вычисляют силу, именуемую поверхностным натяжением… Эксперимент, который обычно предлагается студентам третьего курса, и они проделывают его без особой натуги. Методику, однако, пришлось усовершенствовать, она обернулась каторжными затратами труда…
К жидкости, представлявшей собою крепкий раствор серной кислоты, добавляли крошечные количества вещества, состоящего из двух антиподов, и следили, как меняется то, что называют поверхностным давлением. Ход изменения снова зависел от хиральной поляризации, да притом так, что на кривой опять появлялись изгибы, изломы.
Эти замеры, как то нередко бывает с детски простыми опытами образца прошлого века, отличались особой наглядностью. Добавляемое вещество, вытесняясь из глубины инородной для него материи, выстраивалось на поверхности пленкой, толщина которой равнялась длине одной-единственной молекулы (на большее его просто не хватало). Количество добавки от опыта к опыту не менялось — менялась лишь пропорция антиподов. И эти самые изломы нельзя было объяснить ничем другим, кроме зарождения на пленке доменов, пятен из чистых антиподов. Пленки покрывались как бы леопардовой шкурой. Немного фантазии — и, пожалуй, вообразишь поворот событий, при котором пятно, флуктуация разрастется до полного завоевания поверхности.
Не из такой ли капельки, как из золотого яичка, в незапамятные времена вылупилась земная жизнь? Вот на какой масштаб предстояло замахнуться, а это как раз то, что в наше строгое время дается исследователям труднее всего…
Когда была завершена и вторая серия опытов, он засел писать статью. Да не в какой-нибудь узкоспециальный журнал, а в научно-популярный, издаваемый трехсоттысячным тиражом. Решение, на взгляд вдумчивого строителя ученой карьеры, более чем неосторожное. Но, по сути-то дела: разве такие проблемы — для узких специалистов?
Леня не мог предвидеть, насколько тонкое это дело — популярная статья. Ни тогда, когда за нее брался, ни даже после, когда наконец ее написал. Косноязычием он не страдал и был уверен, что задуманные пятнадцать — двадцать страничек натюкает на машинке дня за три. Однако лишь к концу второй недели терзаний за кухонным столом (такими делами Леня любил заниматься по ночам, сидя на кухне) ему стало ясно, что для такого вот облегченного, несерьезного изложения своих идей у него попросту не хватает сведений. Пришлось отложить рукопись, снова взяться за чтение, да притом сочинений не только физических или биологических…
Редактор, к которому Леня явился месяц спустя, относил ученую братию к придуманному им отряду гомункулусов бессловесных. Это был остроумец, славившийся среди коллег искусством, едва взглянув на незнакомого человека, безошибочно определять, какими словами тот начнет свое сочинение. Завидев Леню в дверях редакции и поднимаясь, чтобы поздороваться (встреча была заранее назначена по телефону), он загнусавил про себя по-дьячковски: «Как установлено нами в экспериментах, осуществленных совместно с профессором Мозговоевым…» Однако усевшись на место и разложив перед собой врученные ему листки, он мгновенно стал серьезным.
…Два начала правят нашим миром — «инь» и «янь». Противоборство между ними вечно, так учили древние восточные мудрецы. Они считали эмблемой Вселенной круг, разделенный волнистой линией, границей этих самых начал, так, что половинки равны, но зеркально несовместимы. Не заключена ли в этом изящном символе догадка о всеобщей асимметрии?
Печальный многовековой опыт учил человека: все неровности на этом свете сглаживаются, горы — и те истираются в песок, подлаживаясь под окружающую пустыню; всякий порядок беспощадное время преобразует в хаос… Но всегда ли нужно верить тому, что стоит перед глазами?
Кусок железа, помещенный в магнитное поле, превращается в скопище двуполюсных, неоднородных микромагнитиков-доменов — и сам становится магнитом. Смесь антиподов оптически активного вещества, если ее раствор содержится при подходящей температуре, может постоять, постоять — да и выделить сама собою кристаллы, состоящие лишь из одной, абсолютно чистой формы.
Нашему миру, значит, действительно свойственны два противоположных начала, две линии развития. Одна — безнадежная, стригущая всех под одну гребенку, разрушающая любую гармонию. И другая — формообразующая, животворящая. Полная уравниловка, идеальная симметрия всех составных частей далеко не всегда оказывается наивыгоднейшим состоянием природных объектов. Их развитием иногда могут управлять небольшие спонтанные нарушения симметрии, флуктуации, счастливо миновавшие паровой каток всеобщего выравнивания. Тогда объект может переродиться, обрести закономерно сложную структуру не только на уровне атомов и молекул. Не с того ли началась и жизнь на Земле — со случайного нарушения симметрии, закрепленного в результате отбора наиболее деятельных структур?
Полная однородность далеко не всегда выгодна и с точки зрения энергетики. Возможны условия, при которых энергетическая яма, соответствующая наиболее устойчивому состоянию, как бы раздваивается. В результате такого благодетельного катаклизма на ее месте — там, где подразумевается уравниловка, — вырастает гора. По бокам же, где на координатной оси помещаются чистые антиподные формы, противоборствующие начала, появляются два новых провала, означающие выгодность раздельного проживания «овец» и «козлищ». Это еще в 50-е годы нашего века обосновал теоретик по фамилии Франк, но его работа тогда прошла незамеченной.
Какое из начал предпочтительно? Пока сказать трудно — глубина обоих провалов, по предварительной оценке, одинакова, так что выбор левого или правого, вероятно, дело случая, он зависит от прихоти той самой первоначальной флуктуации. Между тем, видимо, только так, в результате непостижимой пока для нас молекулярной катастрофы, и могли сложиться условия для передачи сквозь века незыблемого генетического завета; передачи настолько безошибочной, что возникает соблазн применить для ее описания уравнения сверхпроводимости. Может быть, так и следовало бы это называть: информационная сверхпроводимость…
Редактор поймал себя на том, что впитывает эти непричесанные мысли с каким-то личным, неслужебным удовлетворением. Он понимал: с таким сырым материалом придется немало повозиться, пока он не будет приведен к стандарту, именуемому в их учреждении хорошим стилем. И привести-то будет трудно, ибо всякая вещь имеет свою природой заданную форму, далеко не всегда совпадающую с установками великосветского тона. «Поганая у нас служба», — подумал он внезапно. Вслух же сказал весомо и важно:
— Над этим можно работать. Будем работать.
Статья увидела свет не скоро. Канители с ней оказалось еще больше, чем предвидел многоопытный редактор. Другой на месте нашего героя, может быть, вообще сошел бы с дистанции, хлопнул бы дверью. Потребовались нескончаемые переделки, сокращения, «снятие вопросов», иные из которых казались порождением шизофренической фантазии. Лене до тех пор доводилось печататься только в литературно не придирчивых научных изданиях, и он не понимал, что такая въедливость означает лишь одно: сочинение нравится, из него хотят вылепить шедевр. Однако перетерпел все. А когда журнал со статьей наконец вышел, — был вознагражден сполна.
В его квартире раздался телефонный звонок, и послышался медлительный, очень отчетливый голос:
— Леонид Леонидович, я с удовольствием прочитал вашу статью. Хотелось бы с вами побеседовать. Позвольте представиться: Александр Иванович…
Далее последовала фамилия, известная всему миру. Это был академик, который задолго до того, как Леня родился на свет, разработал знаменитую теорию происхождения жизни.
Крестики-нолики
Последствиями звонка стали и множество приятных знакомств, заведенных в короткий срок, и даже — если забежать вперед — защита докторской диссертации. Но не будем забегать…
Направляясь впервые в лабораторию Александра Ивановича, Леня чувствует себя не очень-то уверенно. Не то чтобы трепещет перед величием — этому не обучен, но опасается, как бы сказать, искривлений пространства, которые нередки вокруг личностей слишком уж прославленных. Однако едва он стучится в облупленную дверь, да слышит: «Входите, не заперто», да усаживается за старенький стол, на котором тут же появляются стаканы с чаем, как становится ему ясно: никакими выдуманными нашим издерганным веком искривлениями тут и не пахнет. Этот человек с бородкой, родившийся еще в девятнадцатом столетии, для него более свой, чем тысячи сверстников…
— Видимо, это была неизбежность, — отвечает Леня на вопрос, что он думает о возникновении жизни. На том они сразу же столковались: академик такого же мнения. Гостю предлагается написать серию статей — Александр Иванович готов представить их в самый уважаемый научный журнал.
Это весьма кстати: результатов накопилось изрядно, да не только для популяризации. Леня заново обдумал давнюю теорию Александра Ивановича и сообразил, на какие этапы, с учетом его предвзятой идеи, можно расчленить вошедшую в учебники схему, ранее изображавшуюся лишь в самом общем виде. На подходе и совсем новые опыты. На этот раз не в колбочках или трубочках, а прямо в вычислительной машине.
…Органические молекулы, накапливаясь в водах первобытного океана, усложняясь под действием облучения и нагрева, постепенно стали объединяться, обособляться в виде нерастворимых, как капельки масла, коацерватов. Вещество, находившееся в них, не было полностью изолировано, оно продолжало совершенствоваться, обмениваться с окружающей средой молекулами и энергией. Постепенно зародились устойчивые, постоянно повторяющиеся циклы реакций, приводящие к одному и тому же составу капелек. А потом сотворился и каталитический аппарат, ферменты, помогающие этим реакциям совершаться с наивозможной быстротой, и аппарат наследственности, закрепивший способность молекул-потомков в точности копировать прихотливое строение молекул-родителей.
Так было дело или нет, в точности не известно, поскольку в нашем распоряжении результаты лишь одного-единственного опыта, который длится уже почти четыре миллиарда лет. Поставить второй опыт пока не удается, в лабораторных же условиях можно проиграть лишь некоторые, очень упрощенные варианты реальных событий. То же самое, порой даже более обстоятельно, можно проделать и в машине…
Леня задается начальными условиями: левые изомеры идеально перемешаны с правыми. На экране перед ним послушно вспыхивает поле, расчерченное квадратами, как при игре в крестики-нолики, которой они когда-то скрашивали однообразие университетских лекций. Каждый квадратик занят — в нем стоит буква: L или D, причем одноименные клеточки нигде не соприкасаются иначе как углами.
Он нажимает кнопку. Вместо крестиков-ноликов загорается кривая распределения: узкий пик, торчащий посередине, там, где хиральная поляризация — нулевая. Заставив машину отпечатать на бумаге и квадратики, и исходную кривую, Леня запускает программу, заготовленную на магнитной ленте. Предоставляет этой машинной жизни, состоящей из неправдоподобно малого, но зато бессмертного набора грубых знаковых фантомов, похожих на молекулы лишь своей асимметрией, развиваться сообразно уравнениям, сочетающим описание классической модели с зависимостями, выведенными из его собственных наблюдений. В окошечке счетчика начинается пляска цифр, отражающая смену этих эфемерных поколений.
Выждав самое малое время, Леня тычет в клавишу — и видит новую кривую. Острый пик сгинул, взамен него по горизонтальной оси будто растекся студень, вздымающийся невысокими холмиками в самых непредсказуемых точках.
«Донт би ин сач э харри, сэр, горячку не порите», — мурлычет он под нос, довольный и тем, что безжизненный пик растекся. Возвращает машину в режим счета. На этот раз следует потерпеть подольше, и у него находится время на перекур, даже на чашечку кофе. Он не прикасается к клавише, пока на счетчике не выскакивает «100».
Сто поколений… В человеческой истории это дистанция от нас до древних греков. Бесшумное же нутро машины прокрутило два с половиною тысячелетия менее чем за полчаса. Клетчатое поле, вызванное на экран по мановению его пальца, вряд ли порадовало бы ценителей мертвой симметрии: вместо строгого шахматного чередования букв появились островки из нерегулярных скоплений, похожих на пятна тающего снега. И распределение выглядит опять по-новому. Холмики сгладились, а около левого края экрана, где располагался символ чистой L-формы, появился небольшой, но хорошо заметный пичок. Справа — тоже пичок, поменьше. Леня приказывает машине распечатать на бумаге и это, а потом снова пускает счет.
Двести циклов… Шестьсот…
На клетчатом поле прорастает некое единообразие, скопления букв «D» сползают в углы, словно сдуваемые неким очистительным вихрем. И наконец, когда выскочили цифры «900», поле стало чистым, будто добросовестно прополотым судьбою. А кривая распределения, собственно, и кривой-то быть перестала, переродилась в гладкую нулевую линию, на левом конце которой, упираясь макушкой в указатель «100 %», высится острый, прямой, победоносный пик «L». Он мог, конечно, вырасти и справа, ходом событий управлял генератор случайных чисел, однако то, что итог все же получился именно такой, как в жизни земных белков, почему-то радует.
«Когда я работал господом богом», — напевает Леня, за время общения с популяризаторами заразившийся привычкой сочинять пародийные заголовки. За окном светает. Он выключает пульт и отправляется домой, чтобы немного вздремнуть, а потом доставить эти впечатляющие распечатки Александру Ивановичу.
В то самое утро он и услышал: «Готовьте статью, а потом, пожалуй, и диссертацию».
А вскоре произошло событие, показавшееся Лене еще более отрадным. Пришлось ему выступать на некой конференции, на которой собрались физики вместе с биологами, и после доклада ему задавали вопросы. А насколько это бывает приятно, знает только тот, кому случалось сходить с трибуны в гробовой тишине и в полной уверенности, что никому, кроме тебя самого, произнесенные слова не нужны. На конференции же его не только допрашивали — высказывали суждения. В большинстве далеко не лестные, но, черт подери, отнюдь не равнодушные. Что же это выходит? Не впустую, что ли, хлопочем?
С того дня что-то переключилось в механике его сознания. Новые догадки и замыслы более не предупреждали о своем появлении тревожными толчками, а самовластно врывались в поток обыденных мыслей или сновидений в любое время суток, отключая его так же, как бесцеремонные телефонистки междугородной станции прерывают необязательную домашнюю болтовню. В этом незнакомом состоянии события житейской реальности губительно теряли присущие им связи, превращаясь в разрозненные островки, затерянные в волнах разлившейся фантазии. Он, правда, научился по мере надобности быстро припоминать координаты каждого такого островка («позвонить домой», «подать заявку снабженцам», «съездить за картошкой»), но любое действие, ранее совершавшееся автоматически, теперь требовало отдельных усилий. Зато несказанно облегчилось то, что он считал своей единственной настоящей работой.
Взялся писать статью в авторитетный международный журнал — решил свести воедино все существенное, что накопилось в мировой литературе за и против его главной идеи, — и поймал себя на том, что по-английски пишет почти так же свободно, как на родном языке, сразу, не переводя. В новом состоянии, от которого неопасно кружилась голова, а мелкие предметы, лежавшие под рукой на столе, казались неизмеримо далекими, для его мышления больше не оставалось барьеров. Испугавшись такого отклонения от нормы, Леня не стал рассказывать о нем даже жене, тем более что его инглиш был все-таки несовершенен, текст пришлось потом отдать на доработку опытному переводчику.
Громадную статью, занявшую в журнале добрых тридцать страниц, он написал за неделю. Докторскую диссертацию, том весом килограмма в три, — за полтора месяца. Такое быстродействие приходилось даже держать в секрете. Однако, когда он, выждав некоторый срок, принес бумаги на биологический факультет (защиту решено было устроить там), то выяснилось: содержание его работы доступно немногим.
Нашелся добрый, но придирчивый человек, который согласился разобраться в его сочинении. Начались затяжные, по многу часов беседы. Порой они переходили в шумливый спор, порой, позабыв о грядущем официальном акте, оба пускались фантазировать о том, в каком приборе можно было бы заново проиграть эволюцию в лабораторных условиях. Спустя месяца три Леня твердо сказал партнеру: если у вас нет ко мне личной неприязни, я вас скоро уговорю. Тот признался, что неприязни не испытывает. А еще через месяц-другой (встречи были не частыми, времени у обоих было мало) спорщик поднял руки и воскликнул: есть! понял! сдаюсь!
Потом же, отшутившись, наставительно произнес:
— А почему вы, дорогой Леонид Леонидыч, вот так, человеческими словами все и не изложили? Надо же хоть немного снисходить к слабостям своих читателей.
Леня заново переписал автореферат, стараясь, однако же, не впадать в «популярщину», которой его, с другого бока, не переставали корить те, кому не потрафила нашумевшая статья в общедоступном журнале. Тем не менее и потом, на защите, которая прошла с полным успехом — единственным препятствием кое-кому теперь казалась лишь неприличная молодость докторанта, — поднялся маститый профессор, славившийся своим беспощадным юмором, и поднес ему такой комплимент:
— Хотелось бы отметить неординарное значение работы Леонида Леонидовича. В особенности — потому, что из представленной диссертации или из прослушанного нами доклада оное значение извлечь почти невозможно.
Но это уже были не побои, а так, беззлобное домашнее ворчание. На самом деле профессор почему-то обращался с Леней как с хрупкой драгоценностью (куда девался его прославленный сарказм?). Официальные же оппоненты обошлись с ним еще мягче. Один из них — его звали Виталий Иосифович — потом, в кулуарах, признался даже, что не возражал бы, если бы такой парень с ним сотрудничал. А подобной чести от него удостаивались уж и вовсе немногие…
Места прямые, места косвенные
— Не обижайтесь, Леонид Леонидович, скажу вам как старший товарищ. Обстоятельности в вас маловато. Руководите лабораторией, а приличного кабинета себе не обеспечили, с сотрудниками — запанибрата. Трудненько вам придется.
— Да я не насчет кабинета пришел.
— Нет, вы уж послушайте. Здесь у нас — не академия наук, люди работать приходят, а не диссертации себе сочинять. Надо, чтобы все было как полагается: дисциплина, кабинет, вход только по вызову.
— Френч раздобыть, сапоги, да?
— Во-во, так и думал, смешки начнете строить. Легко вам все досталось, вот что. Папаша, небось, профессор, институт с детского садика гарантирован, в музыкальную школу ходили, верно? Что-то вроде наследственного бессмертия души. А сейчас статьи в журнальчики кропаете, в историю войти рассчитываете. И думаете, что все на свете понимаете. А я вам скажу — никакого бессмертия не бывает. Отработал, сколько положено, поел-попил, ну на охоту пару раз съездил. Потом гражданская панихида сообразно должности — и все. Через неделю родной сын не вспомянет.
Все чаще об этом думаю. Что мы такое? Флуктуации, случайные сгущения мирового эфира…
— Скажите, Геннадий Данилович, есть у вас совесть? Я вас два часа дожидался, мне работать надо. Что будет с Фейгиным?
— Так вопрос ставишь? Ладно, хватит байки травить. Не будет тебе Фейгина. Сам соображать должен, если такой умный. Ставка от твоей лаборатории переходит к технологам, ясно? От них толку больше. Что же до совести, то можешь считать, у меня ее нет. На таких, как ты — нет. Я из своей Нахаловки до этого кресла тридцать лет карабкался, где только не вкалывал, чего не нахлебался… На фортепианах бренчать меня не учили, булками не откармливали. Сам себе все выгрыз.
Многослойное сооружение — человеческая душа, думает Леня, с запозданием включаясь в этот немаловажный для его судьбы диалог со своим новым директором. И каждый слой не смешивается с другими, кричит свое, своими отдельными словами, отдельным голосом… Как тут отвечать? А только так — без дрожи в коленках:
— Вот и умница, герой. Выгрыз… А я не из Нахаловки — из Марьиной рощи. И отец у меня не профессор, а железнодорожник… Давайте-ка в дальнейшем разговаривать на «вы».
За несколько месяцев приземистый, скуластый директор обосновался в обретенном им кресле так, будто корни в него пустил. И взялся по своему разумению наводить порядок в доставшемся ему фантастическом хозяйстве. Появилось же оно на свет так.
Еще в те дни, когда Леня заканчивал кандидатскую диссертацию, один в высшей степени оборотистый руководитель выбил в своем министерстве средства на устройство того, что он называл «бюро дальней перспективы». Было решено организовать институт для разработки технических систем нового поколения, в подмосковном райцентре выделена площадка под его строительство — и начался набор кадров. Сведения об этих самых системах директор нового учреждения имел довольно приблизительные, однако надеялся, что если ему удастся набрать побольше толковых людей, то они наверняка что-нибудь да изобретут. Здесь-то и подвернулся Леня, после бесед с Михаилом Ильичом озабоченный своим трудоустройством. Ему было немедленно предложено возглавить лабораторию теории гидропривода (кандидат физматнаук, рассудило начальство, — это солидно).
Так и получилось, что наш герой со скромной должности мэнээса вскочил прямо в завлабы. А ровно через две недели после его зачисления родоначальник новой фирмы был уволен — за какие грехи, так никто и не узнал. Однако упразднить институт с утвержденным штатным расписанием, с составленным уже планом работ оказалось невозможно. Административная сказка продолжала раскручиваться в соответствии с законами жанра. Нашелся другой, тоже очень деловой директор. Здание в райцентре хоть и росло, но как-то неторопливо. Зато очень скоро взбодрился корпус московского филиала, в котором обосновались лаборатории, отделы, группы. А в отдельной пристройке — и превосходная электронная машина, закупленная на валюту, выбитую уже новым главой учреждения.
Из этого корпуса вскоре стали исправно поступать отчеты — месячные, квартальные, годовые, по отдельным договорным темам. Начались и защиты диссертаций. А самое удивительное, хотя, может быть, и до некоторой степени закономерное, — то, что сотрудники этого самовольно вздувшегося на ведомственной равнине заведения действительно сделали несколько капитальных изобретений. Не так уж, пожалуй, прост был его легкомысленный учредитель…
О служащих толстых и тоненьких у классика сказано так. Существование тоненького легко, воздушно и ненадежно, Толстые же косвенных мест не занимают, а все больше прямые. И уж если сядут где, так (помните?) место скорее затрещит и угнется, чем они слезут.
Новый, третий директор оказался из породы толстых. Он начал обстоятельно вникать в дела, неаккуратности, допущенные его лихими предшественниками, — искоренять. И очень скоро держатели косвенных мест стали вылетать из учреждения, как пух из распоротой перины.
Леню, в общем-то, никто не трогал. Сначала к нему приглядывались, потом косяком пошли авторские свидетельства (исполняя одну из договорных тем, он со своими приятелями-подчиненными по ходу дела изобрел некое весьма перспективное устройство). Потом, когда и бумаги были оформлены, и директор поговорил с ним отечески, и дела в учреждении пошли так, что стало ясно: вскоре придется подавать «по собственному», он все-таки еще немного поканителил — больно хороша была тамошняя счетная машина. Надеялся, что уж Александр-то Иванович возьмет его к себе в любую минуту. Так оно, наверно, и было бы, но развернул как-то Леня утреннюю газету — а там некролог…
Остался еще один резерв: неиспользованные отпускные дни. Отпуск ему полагался долгий — полтора месяца в год, отгулять его полностью никогда не удавалось. Леня написал заявление и получил волю на тридцать пять суток. Однако вместо того, чтобы начать беготню в поисках нового места, отправился на дачу, которую они с женой снимали в деревне Шульгино. Там же, в тишине и прохладе, положил перед собой пачку чистой бумаги и на верхнем листе начертал: «Физика для семиклассников».
Наташа, приехавшая как-то с работы раньше обычного, — из-за этого он не встретил ее на станции, — заглянула в окно и увидела над спинкой дивана две кудлатые головы, Лени и пуделихи Топки, которую им подарили еще ко дню свадьбы. Леня, держа в левой руке подтаявшее мороженое в вафельном стаканчике, правой делал какие-то пометки в рукописи. Временами он отвлекался, откусывал лакомство или давал его лизнуть влюбленно глазевшей на него собачонке. Потом снова чертил на листе какие-то знаки. Наташа вдруг увидела, что Топка стара и беспомощна, даже хозяйку за окном не чует, а Леня (раньше не было заметно) обрюзг и обзавелся нездоровой бледностью. «Переживет ли он Топку?» — подумала она и тут же испугалась этого невесть откуда взявшегося прозрения.
Занятия физикой приучили ее докапываться до материальных причин любого события.
Соваться с вопросами бесполезно — это она знала. Да и в дом заходить пока не стоит. Перебьешь, неровен час, какую-нибудь трудно давшуюся фразу, может и накричать, все чаще срывается… Наташа постаралась самостоятельно разложить по полочкам переживания последних дней, но это далось ей не без труда.
Работу он не ищет и, похоже, искать не собирается. Почему?
Она знала Леню, можно считать, с детства, учились в одной группе. До самой дипломной поры их компания славилась на факультете не столько рвением к наукам, сколько безобидным студенческим разбоем, розыгрышами, не щадившими и самых почтенных преподавателей. Терпеливые наставники верили: если этим горластым, безоглядно дружным ребятам достанется настоящее, не игрушечное дело, о фейерверках будет позабыто. Что и оправдалось.
Дипломные работы их группы все до одной вышли пятерочными. О Лене же заговорили как о восходящей звезде. Здесь-то и приключился эпизод, который сейчас, под окошком дачи, принес Наташе новое понимание того, о ком (так ей казалось) она знала все без остатка.
После защиты дипломных работ им поднесли сюрприз, какой-то экзамен, по оплошности деканата своевременно не включенный в одну из сессий. Эту новость никто не принял всерьез: только что отстрелялись с блеском, Новый год все вместе отпраздновали… Ну кто же станет их тиранить теперь, когда они уже, собственно, и не студенты? В таком вот эйфорическом настроении компания явилась к назначенной аудитории — и застала там толпу перепуганных собратьев. Им сказали: экзаменуют по всей строгости, десяток душ уже вылетел с двойками, и объявлено, что вместо дипломов им выдадут справки. Особенно лютует некий доцент.
С разгона они еще влетели все-таки в помещение, взяли билеты — и с ужасом обнаружили, что предмет-то им мало знаком…
Наташе припомнился леденящий страх, который она испытала, увидев, как рука беспощадного доцента тянется к ее зачетке, — и торопливый, перебивающий это движение вскрик Лени: «Я готов!»
Незадолго до того он начал за ней ухаживать. Нешуточно, старомодно, с букетами и неумелыми стихами. Будто и не было до того долгого бесполого товарищества, не знающего церемоний и снисхождений. И вот благодушный Винни-Пух — так звали Леню приятели — отважно бросился, чтобы прикрыть ее собой. Будто ошалелый, утративший резонные ориентиры кит, выбрасывающийся на берег.
Кит на мели…
Это-то и было — Наташа поняла — самым существенным. Не пустяковая, благополучно для всех завершившаяся школярская история, а сравнение. Ее добрый Винни-Пух, которого посторонние числят чем-то вроде безошибочной, беспроигрышной мыслящей машины, нуждается в помощи, о которой никогда не попросит.
Наташа тут же, в быстро остывающем после нежаркого августовского дня палисаднике, стала изобретать меры помощи.
Назавтра, явившись на службу, она долго не могла приняться за намеченное. «Не требуется ли вам доктор наук, очень способный?», — невесело посмеивалась она над запланированными звонками. Потом все же включилась в эту непривычную работу. Набрала номер Эрнеста Ивановича, затем Виталия Иосифовича, недавнего официального оппонента, за ним Михаила Ильича, директора комбината. Все трое ее поняли, обещали содействие.
Вскоре Лене позвонил директор еще одного вновь организуемого, совсем уж невиданного института, пригласил потолковать. В кабинете же, после получасовой беседы, предложил переходить к нему заведовать отделом. Это снова было косвенное место, тяжкий воз запутанных обязанностей, почти не связанных с главными заботами нашего героя. Но одновременно — и немалая, тут же оговоренная самостоятельность.
Тогда это показалось спасением. Что же поделаешь, если никто пока не додумался учредить институт, для которого изучение истоков жизни было бы прямым делом…
Рукопись книжки для школьников была упрятана в недра стола.
Свернутые координаты
Около пяти миллиардов лет назад облако газа и пыли, занимавшее окрестности небольшой звездочки в захолустье одной из галактик, сгустилось в комья, тут же раскалившиеся из-за радиоактивного распада. На одном из этих безвидных сгустков, третьем по счету, когда он поостыл после отделения света от тьмы, расселились живые существа.
Это совершилось изрядно быстро: найденные не так давно остатки древнейших одноклеточных дожидались нас то ли 3,8, то ли даже 4 миллиарда лет. Списывать тайну их происхождения на некую непостижимо долгую и потому неописуемо извилистую эволюцию вещества, как то делала благодушная наука прошлого, теперь уже невозможно. Стало очевидно, что первые семена жизни появились на нашей планете в результате какой-то скорой и решительной метаморфозы. То ли залетели готовенькими из космоса, то ли все же зародились здесь, на месте событий.
Леню не привлекал первый вариант, возрождающий древнюю теорию панспермии и лишь помогающий задвинуть решение загадки в утешительно долгий, бездонный галактический ящик. Однако отвергнуть его значило тут же очутиться в вязкой пучине запутаннейших противоречий.
Математические оценки того, насколько вероятна стихийная самосборка биополимеров и, тем более, живых организмов из простых молекул, дают самые неблагоприятные цифры. Получается единица, деленная на число, много превышающее количество атомов во Вселенной. Отличить эту вероятность от нуля может только неисправимый оптимист. Цена таких подсчетов, правда, тоже не сильно превышает нуль. Если, к примеру, оценивать сходным манером вероятность возникновения из хаоса звуков человеческой речи, получается дробь с еще более устрашающим знаменателем. Однако это-то мы знаем достоверно: все многообразие наших наречий сложилось максимум за несколько сот тысячелетий. И вовсе не путем случайного комбинирования выкриков, а в результате закономерного, самоускоряющегося развития. Так почему же генетический код — первичный язык живых систем — должен был складываться хаотически? Сопоставление его с нашей речью все чаще мелькает в рассуждениях тех, кто докапывается до корней жизни. И хотя не очень-то оно строго, отмахнуться от него трудно — должны же быть у сходных явлений сходные свойства…
Леня добросовестно исполнял новые косвенные обязанности. Служба, которую ему приходилось нести, была полна невидимой миру фантастики. Директор без устали его нахваливал, часто брал с собой на совещания неведомого назначения и выпускал на трибуну по самым неожиданным поводам. У Лени открылся дар с ходу, не задумываясь, отвечать на такие вопросы, которые поставили бы в тупик самого Ходжу Насреддина (сколько гвоздей понадобится, чтобы сколотить ящик для такого-то изделия? Как с помощью машины Тьюринга вычислить скорость распространения гриппа? Можно ли сделать пластмассовый сверхпроводник и когда это станет технически реальным?).
По вечерам, после изнурительной административной суетни, тягостной из-за неизбежных при ней ежеминутных переключений мозга, из-за необходимости постоянно не доверять, решать за других, спорить по очевидным пустякам, он все же находил час-другой, чтобы повозиться со своими уравнениями. Это давалось трудно. Поток несущественных внешних событий — на каждое он был обязан реагировать быстро и безошибочно, никто не спрашивал, по силам это или нет, — не то чтобы захлестывал русло его мыслей, прочно занятое более значительным, но как бы затягивал его цепкой тиной. Приходилось раздваиваться, постоянно встряхивать память, чтобы не утерять самовольно вспыхивающие в самое неподходящее время сравнения и догадки, даже записывать их скорыми крючками поверх каких-то служебных черновиков.
…Теперь-то наш герой осознает, насколько блажен тот, у кого есть надежный, умудренный годами наставник, пытается прибиться к одному прославленному метру, потом к другому. Это оказывается нелегко — упущен, видно, возраст, когда контакт со старшим, привычным к безоговорочному превосходству, партнером устанавливается просто и естественно.
Один из прославленных узнает через третьих лиц о его вольнодумных суждениях касательно «генералов от науки», принимает их на свой счет и, далеко не обделенный самолюбием, передает через тех же третьих, что генералом себя не считает, а в благодеяниях пока не нуждается.
Другой, восхитившись Лениными фантазиями, ухлопав на разговоры с ним целый рабочий день, под вечер невзначай произносит свое привычное полушутливое присловье: «Превосходно, согласен возглавить». Знай Леня этого человека поближе, он, пожалуй, оценил бы свойственный ему тихий юмор. Но таковым знанием он, увы, не наделен и на следующее свидание не является.
Что, в сущности, требуется взрослому, самостоятельному исследователю от шефа? Подпорка в разных присутственных местах? Спина, прикрывающая на случай конфликтов или неуспехов? Вывеска, «фирма»?
Не только, пожалуй, даже не столько это. Шеф ведь может быть бессильным, по возрастной ли немощи, по старомодной ли интеллигентности, которую несмотря на все превратности века до сих пор сохраняет немалое число ученых людей, — он все равно незаменим. Своей оценкой, когда ругательной, когда и похвальной (творцы наук чувствительны к этому, как первоклашки), своим здравомыслием, настоянным на многолетних горестях, наконец, возможностью напрямую, минуя бумагу, подключаться к многоопытному мозгу. Кора мозга, работающего в одиночку, скоро каменеет, давит на бурлящую магму интуиции — и все тяжелее прорываются сквозь логический бетон самокритики новые замыслы. Такую хворобу трудно одолеть без помощи бывалого, проходившего этот трудный перевал товарища…
— Представь себе: ты — на сцене. Ведь это тоже сцена, и от того, как размещен твой реквизит, то бишь плакаты, зависит очень многое. Пройдись сначала безмолвно, гоголем, выдержи паузу. Пусть они поймут: тебе есть что сказать…
Давний друг Лени, готовясь к запоздалой кандидатской защите, призвал его в консультанты, а тот — нет бы ему заняться натаскиванием по части возможных заковыристых вопросов «из теории» — увлекся режиссурой.
— Пусть на тебе даже будет галстук бабочкой. Непременно бабочкой. Ты таких никогда не носил? Тем лучше. Они поймут, что еще многого о тебе не знают, что ты не одномерен. Подумал ли ты о том, как работать указкой? О, указка для тебя важна не менее, чем шпага для Гамлета. Не моги держать ее праздно, не смей опираться на нее, как на костыль. Она должна таиться, держаться в тени — а появляться лишь как последний, убийственный аргумент в ту самую секунду, когда нужно насмерть поразить врага, то бишь цифру. Перед этим драматическим моментом тоже очень желательна пауза. Можно даже снять на мгновенье очки… Впрочем, ты их не носишь. Жаль…
Друг слушал эти импровизации сначала с недоумением, потом — с нарастающим сопереживанием, сам не замечая, как наполняется тем самым, чего ему тогда не хватало: веселой уверенностью. Он думал о бесчисленных свернутых координатах, дремлющих в каждом из нас так же, как в окружающем пространстве, кажущемся поверхностному наблюдателю незатейливо линейным.
Вот он перед ним, человек, не несущий никаких признаков величия, просто человек без опознавательных знаков — домашний, изрядно уже пополневший, с капризной нижней губой и по-студенчески взлохмаченной шевелюрой. Ему повезло: сохранив детскую цельность сознания, он сумел стать ученым не только по внутреннему содержанию, но и по должности. Но если бы не повезло — кто знает? — с таким же успехом стал бы музыкантом, скульптором, режиссером… Сколько их, этих ипостасей, скрытых в нас, как скатанные пожарные шланги?
Каждый несется по координате, которая кажется ему главной, свысока посматривая на тех, кто движется по другим, и невдомек ему, одномерному, что и эти другие тоже могли бы стать линиями его жизни, да только еще в детстве свернулись, засохли. Почему? Из-за школьной зубрежки? Из-за безразличия окружающих?
Леня между тем хохотал и кашлял, мучаясь одышкой и застарелым табачным зудом в горле.
Левый марш жизни
Долго тяготила его неустроенность, а разрешилось все внезапно и скоро. Леня позвонил Виталию Иосифовичу — потребовалась консультация по какому-то мелкому вопросу. Приехал. И вместо намеченных пятнадцати минут проговорил с ним часа три. Под конец оба напрочь забыли повод, из-за которого собрались, и бурно обсуждали Биологический Большой Взрыв. Таким новым, тут же придуманным термином — по ассоциации с Большим Взрывом, который, начавшись с некой флуктуации, породил всю нашу Вселенную с ее четырьмя развернутыми и неведомым числом свернутых координат, с ее положительными протонами и отрицательными электронами, — нарекли скорый скачок, результатом коего стала наша земная жизнь.
Термины — великая сила, далеко не пустословы те, кто их измышляет. Вещь не может обрести форму и место в нашем сознании, пока ей не дано имя. Биологический же Большой Взрыв, что немаловажно, в английской аббревиатуре выглядел преизящно: ВВВ, три «бэ».
С того и началась их общая работа. К ней был привлечен Володя, сверстник и сослуживец нашего героя, которого тот церемонно величал Владим Владимычем, получая в ответ Леонид Леонидыча. Обоим очень нравилось такое совпадение двойных имен-отчеств, ВВ и ЛЛ.
Изыскания, о которых еще не так давно случилось докладывать на конференциях при полном безразличии слушателей, попали тем временем в самый фарватер мировой биофизической науки. Зародилось в ней новое направление, получившее звучное название синергетика, — и в нем работы нашего героя оказались, что называется, на переднем крае. Большая статья в международном журнале вызвала изрядный шум, открыток из-за границы с просьбами прислать ее оттиск (обычная между учеными любезность) набежало куда больше, чем было у него этих самых оттисков. Но там-то речь шла о делах завершенных, до конца додуманных — теперь же новое, только что самоорганизовавшееся объединение умов выходило на совершенно девственную дистанцию, по которой не ступал еще никто…
Переход беспорядка в порядок, с которого начался «ВВВ», — они вдруг увидели это с веселой ясностью — был, видимо, похож на внезапную кристаллизацию, фазовый переход. Будто стоял раствор смеси антиподов, стоял — и внезапно выпала из него чистая левая форма. Долго ли пришлось этого дожидаться?
Задавшись таким удачным сравнением, они увидели, что можно пустить в ход и математический аппарат, разработанный для теории образования кристаллов-зародышей. Добавили к нему ранее выведенное Леней кубическое уравнение, задались еще кое-какими допущениями, совершили несколько преобразований — и пришли к новому уравнению. Оно связывало время ожидания — тут же введенный параметр, названный по его буквальному смыслу, — с величинами, описывающими физические свойства среды: давлением, температурой и пр. Это далось довольно легко, но содержание уравнения оказалось весьма богатым.
Ждать пришлось бы тем дольше, чем реже случаются флуктуации (это-то ясно), однако для того, чтобы некая, особо крупная, «сверхкритическая» флуктуация решила исход событий в пользу одной из антиподных форм, нужно, чтобы она смогла закрепиться, выжить. Математически это выразилось так: среднее время между флуктуациями надо умножить на величину, которую стали называть функцией победы. Тут же был найден способ расчета и этой сказочной функции.
Такого рода уравнения, изображающие лишь приближенный, карикатурно обобщенный абрис реальности, в последние годы изобретаются все чаще. Теоретики-пуристы порой воротят от них нос, но разве не полезны выкладки, помогающие сразу, без долгих розысков, угадать, на какой из бесчисленных полок, составляющих необъятную библиотеку природы, должна помещаться истина? На большее изобретатели таких уравнений, как правило, и не претендуют. Фантазии же, изощренной, почти художнической интуиции в понимании единства законов, управляющих самыми, казалось бы, несопоставимыми явлениями, здесь требуется очень много.
Время ожидания, введенное поначалу лишь в условном, выражаемом через другие величины виде, попытались оценить и в привычных, обыденных единицах. В самом деле, велика ли цена вероятностным выкладкам, переводящим все на свете глаголы в сослагательное наклонение, если оракул не в силах сказать, скоро ли сбудется обещанное?
Снова пришлось пустить в ход громоздкие преобразования, задаться еще некоторыми дополнительными ограничениями — и результат получился ошеломительный: время ожидания в земных условиях не должно было превышать нескольких миллионов лет с момента, когда накопится достаточно «сырья».
Даже в сухой, испещренной формулами статье для академического журнала, которую они тут же сочинили, не удалось скрыть кое-какие эмоции: «Учитывая грубость сделанных предположений, совпадение оценок (…) с реальными характеристиками биосферы представляется удивительным». Эмоции были вызваны проверкой, которой немедленно подвергли новую модель: подсчитали размеры молекул, пригодных для такого превращения, энергию связей между ними — и получили числа, поразительно совпадающие с теми, что характерны для обыкновенных аминокислот. Потом еще прикинули, не могла ли возникнуть такая вот хирально чистая среда на других этапах развития Вселенной — когда в ней преобладали элементарные частицы или потоки излучения. И для той, и для другой эпохи получилось время ожидания, значительно превосходящее возраст Вселенной. Нет, ни в какую другую эру жизнь не могла возникнуть так быстро, так естественно, как в нашу, планетную.
…За какие-то миллионы лет — мгновение по космическим меркам — на третьем, если считать от материнской звезды, безвидном и пустом сгустке, только что остывшем от радиоактивного разогрева, возникла неживая, но содержащая только левые аминокислоты благодатная среда, в которой начался скорый и победоносный марш жизни.
Левый марш!
Ради такого результата, пожалуй, и в самом деле стоило иссушать мозг физикой, математикой, биологией и прочими премудростями.
И кабы нашелся у него месяц-другой, чтобы написать давно, еще вместе с Эрнестом Ивановичем задуманную книгу «Левый марш жизни»…
Мышка пробежала, хвостиком махнула…
Я знал Леонида Леонидовича Морозова (такова фамилия человека, о котором здесь рассказано), когда он еще не был ни доктором наук, ни даже кандидатом. В изложенной здесь версии, легенде жизнеописания вымышлены многие обстоятельства и часть персонажей: не пришло пока время для строгого историка, который когда-нибудь, надеюсь, опишет эти, сегодня еще горячие, дела с подобающей дотошностью. Я же не гнался за скрупулезной документальностью ни в чем, кроме главного из того, что было у моего героя за душой: исследований.
Не могу, однако, умолчать о том, что в нем действительно просматривалась немалая литературная одаренность. Свои идеи Морозов любил — и умел — излагать внятно, живописно (многие ученые мужи, как это ни парадоксально, считают такое умение признаком дурного тона).
Что было известно точно: этот парень не из тех, у кого может быть хоть что-нибудь не в порядке. Больно уж независимо он всегда держался, а внешний, доступный стороннему наблюдателю ход событий не давал повода сомневаться в его незыблемом благополучии.
Последний раз я видел Морозова в подмосковном Пущино, на международном симпозиуме, где он выступал с докладом, как всегда успешным. Люди, съехавшиеся туда, — а среди них были и всем миром признанные светила — с немалым энтузиазмом восприняли весть о скором марш-броске, которым, возможно, началась когда-то эволюция живого вещества.
Потом, в течение нескольких месяцев, мы время от времени перезванивались, и проскользнули слова о том, что он прихворнул, но поскольку на работе положение сложное, институт обследует строгая комиссия, его часто вызывают, невзирая на болезнь.
Дело было в начале июня 1984 года.
Решив встряхнуться, отвлечься от разных тягостей, Морозов отправился играть в теннис. Увлекся, прогонял мяч — после нескольких месяцев перерыва — три часа кряду. Вечером у него слегка прихватило сердце. Жена все же вызвала «скорую». Когда та доехала (они жили на даче), на дворе уже стало смеркаться. Врачи, такие же молодые ребята, увидев, что пациент — человек цветущего возраста, трезвый, в сознании, успокоили Морозовых, сделали укол и удалились. Леня еще бодро помахал им на дорожку с дивана. Однако через полчаса ему стало значительно хуже. Наташа побежала к соседям, у которых был телефон. По дороге она заметила, как вдруг сделалось не по-летнему сумрачно, поднялся лютый ветер…
Это была та самая ночь, когда на российскую равнину обрушилась редкостной силы буря, в Ивановской области даже бушевали невиданные в наших краях смерчи. Многие сердечники чувствовали в ту ночь недомогание, санитарным машинам не было покоя, и не ко всем они поспевали.
…Телефон, как назло, забарахлил, и пока Наташа докричалась до «неотложки» да пока машина пробилась к их домику, тело Лени успело остыть.
Такой исход воспринимался как чудовищная нелепость. Может ли в конце XX века полный сил человек ни с того ни с сего скончаться, не дотянув двух дней до тридцати восьми лет?
Лишь задним числом стало известно, что сердечные приступы случались у Морозова еще со времен армейской службы, что последние год-два он работал на пределе сил, безостановочно курил, бывал замечен в том, что ест — и не может остановиться. Когда родные начинали ему выговаривать, Леня смущался и отпирался беспомощно: «Ну что вам, жалко?» И видно было, что он думает о чем-то другом. Тут, конечно, все наложилось: переутомление, боль из-за смерти отца, переживания, связанные со служебными неприятностями, в которых Морозов вовсе не был повинен (вскоре после его кончины был отстранен от должности директор и того последнего института, где ему довелось трудиться), да вдобавок злосчастная буря, взмахнувшая своим пыльным хвостом в самый неподходящий момент…
Эрлен Ильич Федин, доктор физико-математических наук, с которым Морозов когда-то начинал свои работы, рассказывал: каждая беседа с Леней была для него радостью, пожалуй, даже небольшим чудом. Получалось так, что о чем бы ни говорили, ни спорили — в результате проблема хоть частично, но прояснялась. За три дня до смерти Леня звонил ему, говорил, что надо повидаться — у него появились новые соображения, касающиеся уникальной земной жизни.
Федин мог бы стать главным героем большой, хотя и не очень веселой книги. Так уж сложилась у этого человека судьба, что трудно ему было вырасти благодушным оптимистом.
Эрлен Ильич — сторонник единичности, исключительности той великолепной импровизации природы, результатом которой стало наше существование. Жизнь закономерна, но крайне маловероятна; множественностью обитаемых миров, пожалуй, обольщаться не стоит… Какие аргументы, за или против этого его суждения, подыскал тогда Морозов, мы уже не узнаем.
Академик Виталий Иосифович Гольданский — с ним Морозов сотрудничал последние годы — считает, что жизнь возможна не только на Земле. Если ее зарождение в каких-то физических условиях неизбежно, полагает он, то трудно допустить, чтобы такие условия могли возникнуть на одной-единственной планете. Да и флуктуация — не единственный возможный для нее стартовый механизм. Пока еще нельзя считать нереальными некие факторы преимущества, которыми могли воспользоваться одни оптические изомеры при конкуренции с другими. Правда, те факторы, что выявлены до сих пор, очень малы, но если будут открыты какие-нибудь механизмы, усиливающие их действие, то и такая, плавно эволюционная модель получит права на существование. Последняя из работ, опубликованных Морозовым, Кузьминым (Владимиром Владимировичем) и Гольданским, как раз об этом и толковала — о минимальной массе органической материи, потребной для того, чтобы обнаружить так называемые нейтральные токи, различия в энергии, с которой взаимодействуют электроны и атомные ядра в молекулах-антиподах. Величины у них получились громадные, космические, однако кто знает: может быть, со временем экспериментаторы доберутся и до таких масштабов.
Впрочем, сам Морозов, уточнил Виталий Иосифович, был горячим сторонником флуктуационной модели. Ну, а поскольку это был человек необычайного кругозора и увлеченности, то его сценарий сохраняет за собой некоторый фактор превосходства. Работать с ним было увлекательно — Морозов был из редкостной породы первооткрывателей, и несмотря на безвременную кончину, он еще может стать знаменитым.
Отсюда, из разговора с Гольданским, и выросло название этого сочинения. То, что Морозов действительно может прославиться, подтверждают и некоторые публикации, появившиеся уже после его смерти. Группа Гольданского — в нее входят ученики, наследники Лени — получила свидетельства в пользу того, что в симметричной, рацемической среде жизнь появиться не могла. Выведены уравнения, из которых следует: без предварительного очищения от инородных изомеров даже при достатке исходных простых молекул сами собою могли соорудиться хирально чистые «полимеры» лишь ничтожной длины, не более чем в десяток звеньев. Иное дело — когда и окружение чистое. Если оно налицо, то даже с учетом неизбежности гибельного обратного процесса — разборки полимеров на исходные фрагменты — за разумно недолгое время вполне могли соорудиться физиологически активные полимеры из сотен «кирпичиков», например, небольшие белки.
Подобный самострой должен был происходить чем дальше, тем быстрее. К такому выводу одновременно, и притом совершенно иным маршрутом, подошли исследователи из Института биофизики в Пущино. Они разрабатывали «лингвистическую» идею родства между генетическим языком и разговорной речью. Опираясь на данные как старых, так и совсем недавних опытов, построили математическую модель закономерного усложнения белков, на каждой ступени подвергающихся суровому отбору на кинетическое совершенство — способность вступать в характерные реакции с наибольшей скоростью. Пущинцы получили уравнения, доказывающие неизбежность самоускорения такой «крупноблочной» эволюции. Чтобы из белков в десяток мономерных звеньев каждый соорудить полимер в тысячу остатков, потребуется примерно 27, а в миллион — всего 50 таких этапов усложнения. Самоускорение налицо! Этот результат мог бы перекинуть мост между темной, добиологической стадией эволюции и классическими законами дарвинизма: при переходе от отдельных молекул к клеткам отбор на кинетическое совершенство преобразуется в старозаветный, знакомый каждому биологу естественный отбор, движимый наследственностью вкупе с изменчивостью.
Это было опубликовано летом 1985 года. Осенью группа Гольданского сообщила об еще одном следствии из сообщенного ранее: прогрессирующее загрязнение среды обитания, а в особенности бездумная гонка ядерных вооружений угрожают нарушить хиральную чистоту природного вещества. Последствиями чего могут оказаться и непредсказуемые заболевания, и даже самое страшное: полный коллапс биосферы, возврат планеты к состоянию мертвой, первобытной симметрии.
В начале 1986 года в журнале «Коммунист» появилась статья Гольданского — призыв к миру, к человеческому разуму.
Разъясняя значение исследований, о которых здесь рассказано, ученый пишет: «Проблема возникновения жизни на Земле вступает в эпоху нового синтеза идей, который затрагивает практически всю науку — от молекулярной биологии до космологии».
Окончательных экспериментальных доказательств того, что поражающая воображение спираль самосовершенствования вещества начала раскручиваться в результате флуктуации, сегодня еще нет. Но если они появятся, то может оказаться, что предвзятая идея, десятки лет назад посетившая молодого физика, который начитался Пастера, действительно соответствует ходу событий, разыгравшихся при полном отсутствии свидетелей четыре миллиарда лет назад. И физик сможет стать знаменитым, несмотря на то, что хлопотал он, в общем-то, не об этом. Впрочем, бездумная машина славы, которая время от времени выдергивает листки из необъятной колоды писем до востребования, сочиненных разными лицами в разные эпохи, может ухватить и другую бумажку. Не думаю, однако же, что ее выбор действительно можно как в том искренне уверены многие, подтолкнуть, организовать — наподобие того, как организуют распродажу несезонных товаров. «Fluctuat nec mergitur» — «зыблема, но не потопима»; девиз, вырезанный в гербе одного вечного города под ладьей, его эмблемой, тоже полезно помнить, рассуждая о научной истине и флуктуациях.
И все же не хочется верить, что треклятая мышка, все чаще пробегающая там, где ее не ждут, не может придержать свой роковой хвостик…
Недавно мне довелось прочитать слова Констанции Моцарт, вдовы бессмертного музыканта:
«Он очень любил играть на бильярде, но даже когда держал в руках кий, сочинял; сочинял даже тогда, когда беседовал с друзьями, коллегами. Мозг его не прекращал своей работы. Нужда и взятые им на себя обязательства развили в нем эту пагубную привычку, которая, вероятно, окончательно подорвала бы его здоровье и привела бы к смерти, даже если бы он не заболел лихорадкой, которая внезапно свела его в могилу».
Вера в неотвратимость событий, которой утоляли свои печали наши прадеды и прабабки, помочь нам бессильна. Однако, когда я услышал другое суждение, высказанное человеком весьма информированным: не совался бы, мол, Морозов в эти дебри, дожил бы, как все, до законной пенсии, да и доктором наук все равно стал бы неизбежно, — тоскливо стало, как в царстве теней.
…Бывает ли так, чтобы хоть кому-нибудь не безразличный человек умер своевременно?
А если бывает — то не дай же мне бог дожить до такого.
Я. Голованов Кометы и люди
В записях о комете Галлея мне хочется рассказать вам не только о всей этой небесной механике, чересчур сложной для одних читателей и до скуки простой для других. Мне хочется рассказать о людях, причастных к этой многовековой трагикомедии, которая разыгрывалась на подмостках астрономии. Президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов говорил: «История науки не может ограничиться развитием идей — в равной мере она должна касаться живых людей, с их особенностями, талантами, зависимостью от социальных условий, страны и эпох. В развитии культуры отдельные люди имели и продолжают сохранять несравненно большее значение, чем в общей социально-экономической и политической истории человечества…»
Брайен Марсден — один из крупнейших в мире специалистов по кометной астрономии — сказал как-то с грустной улыбкой: «Для человека с улицы Солнечная система состоит из Марса, колец Сатурна и кометы Галлея». Ирония этой фразы объяснима: действительно, вселенная переполнена необыкновенными чудесами — квазары, пульсары, белые карлики и черные дыры, рождающиеся и умирающие гигантские миры, — а землян интересует какая-то комета, астрономическое ничтожество. Ну так уж устроены «люди с улицы»: идет по этой улице мудрец, и никому до него дела нет, решительно никто им не интересуется. А следом идет просто франт со страусиными перьями на шляпе, и все на него оборачиваются, шепчутся и обсуждают, что бы это значило.
Кометы — шляпы с перьями на улице Астрономии, — нельзя не оглянуться!
1
Ты нам грозишь последним часом,
Из синей вечности звезда!
Александр БлокПоэт и ученый француз Камиль Фламмарион писал в русском журнале «Природа и люди» в 1910 году: «С тех пор как на земле стали наблюдать небесные явления, кометы среди всех небесных тел всегда наиболее поражали воображение смертных, наиболее привлекали их внимание. Внезапное появление этих „небесных странниц“, их таинственное исчезновение, белесоватый свет их лучезарного хвоста, часто достигающего положительно фантастических размеров, словом, весь их страшный вид искони действовал на воображение людей, подобно какой-то таинственной силе. Отсюда и произошли сотни суеверий и легенд».
И суеверия тоже вполне объяснимы и оправданы. В самом деле, свод небесный, звездный купол, — олицетворение вечной неизменности, стабильности, покоя. И вдруг появляется ни с того ни с сего нечто из ряда вон выходящее, яркое, хвостатое, ни на что не похожее. Проносится, исчезает. Почему? Зачем? Ведь явный сигнал, предупреждение, явно нечто, как писал Шекспир, — «вещающее о переменах времен и состояний». Надо только правильно истолковать небесное знамение, угадать божий промысел. И гадали. Тысячелетия. Гадали на всех континентах, наделяя хвостатое чудо званием небесного гонца именно своего бога, не задумываясь над тем, что иные племена и народы рассуждают точно так же, и комета, получается, служит разным, иногда враждебным друг другу богам. Прекрасный тому пример — события XV века в Европе, когда в 1453 году турки захватили Константинополь, вырезали иноверцев и надругались над храмом Святой Софии, превратив его в мечеть. Христианский мир клокотал от гнева и жажды мщения, когда три года спустя в небе появилась комета Галлея. Папа Каликст III разглядел в ней подобие креста, в то время как турки видели на небе ярчайший занесенный над Европой ятаган. Объективно, на ятаган хвост кометы похож был больше, чем на крест. Папа понял, что пропагандистский трюк с крестом не проходит, и, видя, что паника охватывает деревни, города и целые государства, попытался успокоить свою паству специальной «антикометной» молитвой «Ангелус»: «Господи всемогущий, от турок и от кометы избави нас…» Кстати сказать, молитва дожила до XX века и читалась в некоторых церквах в 1910 году, когда комета Галлея вновь явилась во всей своей красе.
Сама идея связи комет с земными делами не была данью лишь человеческого невежества. Как ни парадоксально, корни этой идеи уходят в античную науку и мы обнаруживаем их в трудах такого непререкаемого авторитета, каким сотни лет был Аристотель. Один из величайших гениев в истории человечества, он ошибался, быть может, реже других гениев, но ошибки его принесли несравненно больше зла. На некоторых примерах заблуждений Аристотеля видно, что происходит с наукой, когда она становится «неприкасаемой», объявляется «единственно верной». Пробивая дорогу человеческого знания сквозь чащи невежества и суеверий, Аристотель оставлял на этой дороге огромные валуны роковых заблуждений, и потребовался небывалый по смелости и упорству труд ученых многих поколений, чтобы сбросить эти валуны на обочину истории. Достаточно вспомнить, что Аристотель отрицал вращение Земли, допускал самозарождение живых организмов, благословил алхимию своей убежденностью в том, что различные вещества могут превращаться друг в друга. Какая бездна сил ушла на сокрушение этих ложных истин, канонизированных поповщиной, которая, по словам В. И. Ленина, «убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое»[19].
Учение Стагирита (так звали Аристотеля при жизни, сообщая этим прозвищем место его рождения — греческая колония Стагир во Фракии) о кометах было как раз одним из его мертвых учений, мертвых и тем не менее очень долго не погребенных. Аристотель считал, что кометы, подобно радуге (природу которой он объяснял абсолютно верно), имеют сугубо земное происхождение: различные испарения, поднимающиеся с поверхности планеты, образуют сгустки, которые при определенных условиях самовозгораются, превращаясь в кометы. Во время своих полулекций-полубесед в афинском Ликее, Стагирит неоднократно подчеркивал, что кометы принадлежат «подлунному миру», иными словами, находятся где-то недалеко от нас, где-то между Землей и Луной.
Церкви не составляло большого труда в течение многих веков канонизировать эти Аристотелевы откровения. Огромные размеры кометных хвостов в сравнении с крохотными точками звезд действительно создавали иллюзию чего-то близкого — глаза обманывали мозг. А молва людская окончательно его туманила: ведь каждой комете непременно находилось объяснение: то засуха в Германии, то холода во Франции, то наводнение в Нидерландах, — значит, действительно, пары земные всему виной, значит, связь человеческих деяний с хвостатыми чудовищами небес не только возможна, но весьма вероятна. А значит… И далее идет бесконечный список, вполне достаточный для целой книги о кометных суевериях. Говорят, на ошибках учатся. Кометные мифы не могли ничему научить, потому что каждое появление любой кометы действительно соответствовало какому-то земному событию, и убедить, что событий этих в человеческой истории куда больше, чем комет, что сплошь и рядом подобные же события происходят безо всяких небесных предзнаменований, — было невозможно: люди прежде всего верят в то, во что они хотят поверить.
Еще задолго до Аристотеля древние китайские астрономы составляли кометные гороскопы. Надо сказать, что эти ученые находились тогда в положении весьма сложном, очень напоминающем положение наших современников, которых мы называем людьми засекреченными. Императорский указ совершенно категорически требовал: «астрономам возбраняется всякое общение с прочими чиновниками и с простым людом». Да и как же можно допустить какое-либо общение, если людям этим известны были не только все события, в данное время происходящие, но и дела будущие! Ведь в древнем Китае небо — некое отражение земного миропорядка. Созвездия — это провинции, в которых можно разглядеть особенно яркие светила, символизирующие высшую власть, и менее яркие — власть, так сказать, областного и районного масштаба. Провинции эти общаются между собой, как и на земле, посредством курьеров, кои и есть кометы, и наблюдать их движение следует особенно внимательно, поскольку все, происходящее там, в небесах, непременно повторится на Земле. Теперь ясно, что тот астроном наиболее искусен и полезен власть предержащим, который точнее сумеет прочесть будущее, анонсированное на небесах.
Первая запись о кометах, обнаруженная в китайских хрониках, сделана 4282 года тому назад, — это Древняя Греция эпохи бронзы и Египет эпохи великих пирамид. Что касается кометы Галлея, то установить, какая из хроник впервые ее описывает, довольно трудно: нынешняя периодичность появления кометы могла за прошедшие тысячелетия измениться (и наверняка изменилась! Об этом разговор впереди). Так что отождествить древние записи с конкретными, нам сегодня известными кометами нелегко. В 1978 году китайский астроном Чан, вооружившись компьютером, проделал колоссальные по трудоемкости расчеты и пришел к выводу, что император By видел комету Галлея в 1057 году до нашей эры и посчитал это добрым предзнаменованием накануне схватки с Чжоу — главным своим соперником. Не всех астрономов удовлетворили расчеты Чана, и до последнего времени считается, что первое достоверное описание кометы Галлея сделано китайцами в 240 году до нашей эры.
«Это было, — повествует летописец Ма-Дуаньлинь, — в седьмом году правления Жэн-Вана — властителя царства Цинь. На востоке появилась комета, которая потом была видна на севере. В пятом лунном месяце (май. — Я. Г.) она блистала в течение шестнадцати суток на западе».
Седьмой год царствования Жэн-Вана — это время, когда шла первая из Пунических войн, Рим воевал с Карфагеном, в Спарте казнили царя Агиса IV, в горах Северной Африки шла гражданская война, — опять, как видите, одни несчастья…
Итак, 240 год до нашей эры чаще всего и является той «печкой», от которой «пляшут», описывая историю Галлеевой кометы. А история действительно под стать детективу. Ведь, по сути, большой разницы между хвостатыми курьерами древних китайцев и аристотелевыми самовозгорающимися сгустками земных испарений нет: и там и тут в основе лежит взаимная связь небесного и земного. Только в Азии она была облечена в довольно добродушные формы псевдонаучного предсказания будущего, а в Европе (впрочем, в Египте тоже) получила зловещую окраску символического предупреждения о неминуемой каре. А кого, за что и как карать — это уже детали, определяемые текущей политикой, насущными потребностями сегодняшнего дня, выражаясь современным языком.
Плиний Старший, один из столпов античной истории, признается откровенно: «Комета есть, в общем говоря, звезда ужасная; она предвещает немалое кровопролитие, чему мы видели примеры в событиях, которые были во время консульства Октавия…» И снова: «Мы видели в войне Цезаря с Помпеем примеры страшных последствий появления кометы…»
Великий врач эпохи Возрождения Парацельс, один из образованнейших людей своего времени, считал, что кометы посылаются к Земле ангелами, чтобы предупредить людей о близкой смерти.
Через века Плинию и Парацельсу вторит человек мудрый, много на своем веку повидавший, казалось бы, к суевериям не расположенный — Даниель Дефо. Автор бессмертного «Робинзона Крузо» был убежден, что появление кометы предвещало «…тяжкую кару, медленную, но суровую, ужасную и жуткую…»
Коли уж такие люди, как Плиний, Парацельс, Дефо так считают, что же с других-то требовать?! И что бы ни говорили всякие реалисты-материалисты, год от года в серых мозгах человеческих укреплялась вера: летит комета — жди беды. Ведь комета предсказала смерть императору Нерону. Историк Тацит пишет в связи с появлением кометы в 66 году нашей эры: «Начали говорить о том, кого избрать в преемники Нерону, как будто его уже свергли!» Другое дело, что Нерон сообразил: если комета требует именитой жертвы, то вовсе не обязательно погибать самому! Можно ведь в честь такого события пожертвовать кое-кем из своих подданных, тем более что и придворный астролог Бальбилл считает вполне правомочной подобную замену, коли уж без жертв так и сяк не обойтись. А как Бальбилл мог по-другому считать? Как мог не поддакнуть? Ведь астролог — опаснейшая профессия! Скольких их приказал утопить в Тибре император Тиберий за печальные вести с неба, а ведь он в сравнении с Нероном просто добродушный либерал и деликатный вегетарианец…
Однако звезда горит, хвост сияет и требует действия. Нерон, убивший свою мать, двух жен и большинство ближайших родственников, т. е. в вопросах кардинальных мероприятий по укреплению собственного благополучия человек опытный, принялся за дело с надлежащим размахом. Другой историк — Светоний — считал, что страх перед кометой избавил Нерона от всяких мук раскаяния, благо и раньше они ему не очень докучали. Светоний свидетельствует: «Нерон решил полностью истребить знать… Все дети осужденных были сосланы, а затем уморены голодом или отравлены». И Нерон спасся! Комета не сожгла его! А он через пять лет, быть может, на радостях, Рим — сжег, но это уже к астрономии отношения не имеет… И другой пример: император Веспасиан, когда через десять лет после самоубийства Нерона снова появилась комета, опытом предшественника пренебрег, отшучивался: «Эта волосатая звезда угрожает скорее не мне, а царю Парфянскому, он волосатый, а я совсем облысел». И дошутился: умер. Как считает греческий историк Дион Кассий, скончался исключительно от кометы. И император Константин — тоже. Да кто же, как не кометы, предсказали смерть и бича господнего Аттилы, и великого Магомета, и князя Олега, того самого, который мстил неразумным хазарам и для которого змея была лишь инструментом рокового приговора небес; и русского царя Ивана IV, и короля польского Болеслава I, и королей французских Людовика Благочестивого и Генриха I? И вовсе не удар в спину виконта Гидомара Лиможского, а именно комета погубила отважного Ричарда Львиное Сердце. Комета прервала жизнь просвещенного Фридриха II, а заодно и его главного врага — папы Иннокентия IV, который не мог простить ему, внуку великого Барбароссы, доверчивости к ересям ученых евреев и арабов, которыми окружил себя германский император.
Как было не встревожиться королю Гарольду II в 1066 году, когда в английском небе появилась комета, а все его шпионы в Нормандии слали депеши, что огромный флот Вильгельма Завоевателя готовится к походу. Комета предсказала: вторжение неминуемо. Хвостатую звезду везде считали покровительницей норманнов, и не зря ведь считали: Гарольд II пал в битве при Гастингсе, положившей начало новой эпохе английской истории. Через несколько лет жена победителя Матильда Фландрская в честь этого эпохального события выткала эпохальный 70-метровый холщовый гобелен — реликвию английского двора, который сумел не рассыпаться за почти тысячу лет, дожил до наших дней и известен всем любителям средневекового искусства, как «гобелен из Байё». Есть на нем и ликующий Вильгельм, и вконец подавленный, бессильно сползающий с трона Гарольд, и толпа народа, указующего перстами в небо, по которому летит, похожая на растрепанный веник, комета. Историки астрономии считают, что это — первое известное нам изображение кометы Галлея, — большой кометы 1066 года.
Замечена она была тогда повсеместно, запечатлена и в гобелене, и во многих хрониках. Тревоги английского короля разделял и киевский летописец Нестор, который так описывает божий бич 1066 года: «…было знамение на западе, звезда превеликая лучи имела, как будто кровавые, восходила с вечера после солнцезаката и была 7 дней; потом были междуусобные войны и нашествия половцев на Рускую землю; когда бывает кровавая звезда, она всегда предвещает кровопролитие». Комета Галлея описана и в Лаврентьевской летописи 1222 года; правда, без ссылок на кровопролития и с довольно дельными указаниями, где и как долго наблюдалась «звезда с лучом».
А вот как «Золотая Легенда» повествует нам о событиях 1274 года: «За три дня до смерти Фомы Аквинского звезда с огромным хвостом появилась над доминиканским монастырем в Кёльне. В то время когда Альберт Великий, окруженный монахами, ужинал, комета мгновенно побледнела и затмилась. Это быстрое ее исчезновение поразило Альберта. Он предчувствовал грядущую потерю и вскричал со слезами: „Мой брат Фома Аквинский, мой сын во Христе, отозван на лоно вечности!“»
Как видите, горит комета — плохо, и гаснет — тоже нехорошо…
Разумеется, во времена более милосердные и просвещенные в сравнении с годами Неронового разгула и Альбертова мистицизма, монархи пытались отыскать иные ответные действия при появлении божьих гонцов с дурными вестями. В 1664 году большая комета испугала Париж. Заговорили о всемирном потопе. Монахи рекомендовали не медлить с передачей имущества монастырям, дабы столь богоугодное деяние зачлось на том свете. Казалось очевидным, что дни Людовика XIV сочтены, но насмерть перепуганный король нашел в себе силы призвать ученых мужей из разных стран, чтобы выяснить, что же конкретно грозит французскому престолу, чего ждать и как обороняться. Ведь не поносить же эту комету отборной бранью, не грозить же ей пистолетом, как это делает его венценосный собрат Альфонс VI португальский. Людовика несколько успокаивали слова мудрейшего из ученых мужей Пьера Гассенди, который писал: «Кометы, действительно страшны, но только вследствие нашей глупости. Мы самым бескорыстным образом выдумываем предметы безотчетного страха и, не довольствуясь действительными своими бедствиями, прибавляем к ним еще воображаемые». Но Гассенди хорошо, — он умер десять лет назад, и еще неизвестно, что бы теперь сказал сей философ, когда огромный светящийся хвост завис над Лувром…
Астрономы съехались со всей Европы и, как могли, успокаивали короля. Комета вроде бы действительно пригасла, отлетела к немцам, и его величество обретал душевное равновесие, приличествующее монарху. Но надо ведь случиться: кометы словно преследовали Людовика XIV: в 1680 году снова явилась хвостатая предвестница несчастий, а с нею, — новая волна слухов и кривотолков… Двор сильно занят вопросом о том, не предвещает ли это блуждающее светило смерти какой-нибудь великой личности, — читаем мы в придворной хронике, — подобно тому как, по словам историков, была возвещена таким образом смерть римского диктатора (Юлий Цезарь был заколот в год появления кометы. — Я. Г.). Некоторые из храбрых придворных смеялись вчера над этим явлением, а брат Людовика XIV, видимо боявшийся, как бы не сделаться вдруг Цезарем, довольно холодно возразил на это: «Хорошо вам, господа, шутить; вы не принцы!»
Но если теперь, вдоволь натешившись над коронованным невежеством, мы обратимся к нашему времени, озаренному светом атомных электростанций и озвученному громами космических ракет, то обнаружим, что скромная комета Перейры в 1963 году, по мнению некоторых наших современников, возвестила, что Джону Кеннеди не уйти от далласской пули, а маленькая комета Когоутека через десять лет обратила взоры всего мира к скандалу в отеле «Уотергейт».
2
Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечеркивает сама себя. Плодотворное зачеркивание…
Виктор ГюгоИстина о кометах напоминает какую-то пещерную речку, которая то течет где-то в глубинах веков, то вдруг куда-то вовсе исчезает, то снова выныривает из небытия, пока наконец не выходит на поверхность и не разливается спокойно, принимая в себя новые притоки и ручьи.
Я говорил о заблуждениях Аристотеля, но справедливость требует сказать о прозрениях если не современников его, то мыслителей, исторически ему близких. Многие из них не принимали Аристотелеву гипотезу о самовозгорающихся в «подлунном мире» испарениях. Анаксагор и Демокрит считали, что кометы возникают при сближении планет и происходит это в мире «залунном». Пифагор тоже причислял кометы к семейству планет, как и Гиппократ, который полагал, что их не всегда можно разглядеть только потому, что они вращаются очень близко от Солнца. Ближе всех к истине подошел Сенека. Авторитет великого Стагирита, лишь укрепившийся за прошедшие после его смерти почти четыреста лет, не испугал его. «Я не могу согласиться, что комета — это только зажженный огонь, это, скорее, одно из вечных творений природы, — писал Сенека. — Комета имеет собственное место между небесными телами, она описывает свой путь и не гаснет, а только удаляется. Не будем удивляться, что законы движения комет еще не разгаданы… придет время, когда упорный труд откроет нам скрытую сейчас правду… Только после долгого ряда поколений постигнут то, чего мы не знаем. Придет время, когда потомки будут удивляться нашему незнанию простых, ясных и естественных истин».
Как хорошо сказано! И как верно написал Сенека о кометах! Вот вам прекрасный пример прозорливости древней науки! И сколько таких примеров! Левкипп и Демокрит писали об атомах. Но потом люди забыли о них, чтобы вновь открыть через многие века. Платон призывал искать в частных явлениях общие математические законы, — этот совет тоже был потерян. Аль-Бируни говорил о системе мира с Солнцем в центре и планетами, обращающимися вокруг него. Коперник пришел к этому через 500 лет. То же и с кометами: поняли, знали, а потом забыли. Поняли, очевидно, очень давно, задолго до Сенеки. И знали, очевидно, больше, чем он знал. Есть убедительные доказательства того, что древние евреи понимали, что кометы периодически возвращаются к Земле. В Талмуде есть такие слова о комете Галлея: «Раз в 70 лет комета появляется и сбивает с толку корабельщиков». И арабы тоже что-то знали. Во всяком случае, они утверждали, что «кометы принадлежат не воздуху, а небесам». Эти знания пришли, очевидно, из Вавилона. И кто теперь скажет, откуда они пришли в Вавилон…
Знали и забыли. Словно проспали полтора тысячелетия. Проснулись и снова задумались: откуда же все-таки берутся эти самые кометы?
Талантливый немецкий астроном Иоганн Мюллер первый описал траекторию большой кометы 1472 года. Больше известно другое его имя, перекроенное на латинский лад — Региомонтан, — так он значится в энциклопедиях. Отличный был наблюдатель и прилежный математик, но свои астрономические таблицы составлял он, исходя из системы мира Птолемея, где в центре была Земля, а не Солнце. Это были первые печатные астрономические таблицы, они лежали на столах в каютах Васко де Гама, Христофора Колумба, Америго Веспуччи — Региомонтан помог людям открыть свою планету.
День за днем наблюдал он комету, рисовал положение хвоста, соотносил яркую бегущую звездочку с положением неподвижных звезд, пробовал вычислить траекторию ее движения, но не успел: папа Сикст IV оторвал его от работы, вызвал из Нюрнберга в Рим, хотел посоветоваться о реформе календаря. Едва поселившись в вечном городе, Региомонтан заболел и умер. Было ему 40 лет. Вычисления траектории кометы остались незаконченными.
Но дух сомнений в правоте Аристотеля уже витал в воздухе. Через сто один год после смерти Региомонтана, когда над Европой появилась новая яркая комета, вычислить ее путь в небе решил Тихо Браге, — самый известный тогда астроном…
Колоритнейшая была личность. Сын влиятельного датского судьи, он по воле отца должен был стать юристом, но в четырнадцать лет, когда учился в Копенгагене, в судьбу его вмешались силы небесные — затмение Солнца. Юноша был потрясен не столько самим явлением, сколько той точностью, с которой предсказали его астрономы. Среди войн и бунтов, мелкого дорожного разбоя и крупного придворного воровства, среди коварств союзов и измен, среди дипломатических предательств и супружеских обманов, среди всей зыбкости и непрочности жизни, временности, неточности, условности бытия, существовало нечто вечное, незыблемое, прочное, не подвластное ничьим земным приказам и даже монаршей воле. В астрономии его пленила надежность. И он стал астрономом.
Жизнь Тихо Браге поначалу была трудной. Богатые родственники от него отвернулись: дворянину не пристало снисходить до плебейских занятий звездочетов. Со всеми он переругался, да и то сказать, характер был — не сахар, вздорный, вспыльчивый. Однажды в Ростоке за трактирным столом карточная колода выбила искры ссоры из подогретой вином компании, и первым вспыхнул Тихо: дуэль! В тот вечер ему отрубили саблей часть носа. Всю жизнь носил он металлический протез, — в одних книгах пишут — золотой, в других — серебряный, но наверняка уродующий, придающий лицу дурацкий клоунский вид, — и нос этот сделал Тихо еще более нервным и нелюдимым. Он путешествовал по Германии с маленькой походной обсерваторией, пока не прибило его ко двору датского короля Фридриха II, которого убедили, что способствовать чтению божьего промысла, начертанного звездами на своде небесном, есть деяние, украшающее монарха. На маленьком острове Вэн в проливе Зунд построили для Тихо Браге по современной терминологии целый научный городок — Ураниборг — город Урании, музы астрономии, с блестяще оборудованной обсерваторией, наблюдательными площадками, лабораториями, библиотекой, залами для приемов, садом для прогулок. Здесь, осыпанный королевскими милостями, и обосновался он на долгие годы. Женившись на простой крестьянке (новый вопль родственников!), он был плохим мужем, поскольку целиком поглощен был своими наблюдениями, отвлекаясь лишь на составление гороскопов, за которыми приезжали сюда со всей Европы люди, чье богатство было соизмеримо лишь с их невежеством. Здесь, в Ураниборге, и решил он заняться кометами.
Мысль Тихо Браге была проста: если Аристотель прав и комета находится действительно в «подлунном мире», ее положение среди звезд, наблюдаемое из разных точек, разнесенных на сотни километров, будет отличаться, как отличается положение Луны среди других небесных светил, наблюдаемой в одно и то же время в разных европейских обсерваториях. Но если разница эта будет малой или ее вообще не будет, значит комета летит где-то очень далеко от Земли, наверняка дальше, чем Луна. Тихо проинструктировал своих учеников и оставил их в Ураниборге, а сам со своей походной обсерваторией отправился в Гельсинбург. Когда сравнили результаты наблюдений, оказалось, что Тихо Браге сокрушил Аристотеля. Эти данные, подкрепленные сведениями других европейских астрономов, убедительно доказывали: кометы не могут быть порождением Земли или других планет, это самостоятельные небесные тела, движущиеся независимо от них.
Независимо, но как? Подобно ракетам с подожженным огненным хвостом, они летят по прямым линиям, пересекая орбиты планет. Летят и улетают навсегда. Так утверждал Иоганн Кеплер.
Кеплер читал лекции по математике и астрономии в Граце, пока новая волна католической нетерпимости не заставила его уехать в Прагу к Тихо Браге.
Дело в том, что после смерти своего доброго гения и покровителя Фридриха II в 1588 году, хозяину Ураниборга пришлось туго. Придворные, окружавшие малолетнего наследника датского престола, измученные своенравием и дерзостями человека с металлическим носом, потихоньку настраивали всемогущего мальчика против Тихо. Несколько лет он пытался расположить к себе молодого короля Христиана IV, преподнес ему красивый глобус из позолоченной меди, но глобус не помог: специальная комиссия запретила наблюдения Тихо, как «полные опасной любознательности». Теперь ему уже не до комет. Браге уезжает сначала в Германию, а к 1600 году обосновывается в Праге. Пути Кеплера и Браге пересеклись ненадолго: вместе они работали около года. Осенью 1601 года на многолюдном приеме у своего нового покровителя императора Рудольфа II Тихо, который больше всего боялся насмешливых взглядов и шепотков в спину, терпел за праздничным столом из последних сил и поплатился разрывом мочевого пузыря. Его могила в Праге, в Тыньском соборе.
Да, Кеплер и Браге были вместе только год, но этот год видится сегодня необыкновенным узлом, в котором накрепко переплелись истина и заблуждения. Этот год стоит не просто на границе нового века, но на границе мрачных средневековых астрономических фантазий и радостных реалий мира Коперника.
Коперник умер за пять лет до рождения Браге. Вся научная работа датчанина шла, таким образом, под влиянием идей великого поляка, не мог он о них ничего не знать! Знал, конечно, но знал и другое: как встретила церковь гелиоцентрическую систему мира Коперника. Ведь сначала на эту работу особого внимания не обратили. Так, критиковали, возражали, высмеивали в балаганных комедиях. Лютер мрачно ворчал: «Этот дурак хочет перевернуть все астрономическое искусство…» Коперника проглядели, не заметили, как его великая «ересь» расползлась по всему миру. Книгу Коперника «Об обращении небесных сфер» внесли в список запрещенных книг «впредь до исправления» уже после смерти Тихо Браге. Но Тихо Браге чувствовал, что эта книга неудобная, слишком круто все меняющая, ломающая весь замечательно спокойный, умиротворенно созерцательный мир его Ураниборга. Он наверняка понимал, что неподвижная Земля в центре мира, — лишь красивая выдумка Птолемея, но признать Коперника, признать, что наша планета — рядовое небесное тело, а не избранный богом мир, значит поссорить Ватикан с Фридрихом, лишиться королевских милостей. Он не сможет работать. Да, да, он не сможет закончить свои наблюдения, а, следовательно, учение Коперника, — прав он или не прав, — тормозит развитие науки! Надо спасать… Нет, не себя, конечно. Науку надо спасать…
Так легко было уговорить себя в роскошном замке на острове Вэн…
Он создал свою ущербную модель мира, давно заросший, никуда не ведущий научный тупичок.
Коперник хотел, чтобы планеты вращались вокруг Солнца? Пусть вращаются. Но само Солнце со всем хороводом других планет будет у него вращаться вокруг Земли. Вот так лучше, так спокойнее…
Кеплер, когда они встретились в Праге, — 28-летний Кеплер и 54-летний Браге, — знал, что система датчанина уязвима, ибо она противоречит его собственным многолетним наблюдениям!
Кеплер прожил тягчайшую жизнь, полную нищеты, болезней, никчемных обвинений, разрушающего душу убогого быта. Браге счастливо всю жизнь находил себе богатых покровителей, Кеплер всю жизнь не видел поддержки ни в каких своих начинаниях. О системе мира Коперника он узнал юношей, когда учился в Тюбингенском университете, от своего учителя Местлина. Не с кафедры, разумеется. Из личных доверительных бесед. И в первом своем большом сочинении «Тайны Вселенной» 25-летний Кеплер смотрит уже на мир глазами Коперника.
Как же прожили они этот год: желчный капризный метр и его заморенный, нищий коллега, изгнанный католиками, как говорят, сын колдуньи? Один создал мифическую систему мира и хочет, чтобы ему поверили, ибо доверие это, пусть даже неискреннее, позволит ему оправдаться за содеянное им. Нет, не перед Ватиканом, не перед императором, — перед самим собой! Второй — нищий и зависимый — принять эту игру не может, ибо принять — значит перечеркнуть все, что он сам написал, о чем сам думает! Вот она «драма идей», о которой говорил великий физик Нильс Бор, драма воистину достойная пера Шекспира, — он жил как раз в те годы…
Браге умер. Кеплер занял его место придворного астронома, и через несколько лет открылись ему великие истины, — законы движения планет вокруг Солнца, — три закона Кеплера, которые учат сегодня во всех школах мира. Он понимал значение того, что он сделал. Он писал: «Жребий брошен. Я написал книгу, мне безразлично, прочитают ли ее современники или потомки, я подожду, ведь ожидала же природа тысячу лет созерцателя своих творений».
В прямолинейный бег комет Кеплер уверовал отчасти еще и потому, что ему казалось оскорбительным даже в законах движения приравнять величественные миры Марса, Венеры, Юпитера и эти хвостатые космические ничтожества, которых, по его выражению, «в небе столько же, сколько рыб в океане». Но презрение Кеплера к кометам не могло перечеркнуть того факта, что наблюдения этих светил, сделанные в 1607 и 1618 годах, опровергали его утверждение об их прямолинейном движении. Казалось бы, уже прижатый к стенке фактами, Кеплер, однако, сумел придумать остроумное тому объяснение. Кометы летят конечно же по прямой, утверждал он, но поскольку Земля сама движется по кривой орбите вокруг Солнца, нам кажется, что кометы летят по кривой. Под своих оппонентов Кеплер подвел мину замедленного действия: если они начнут спорить с ним, они как бы будут отвергать идею движения Земли. Это уже спор не с ним, а с Коперником, проклятым Ватиканом, но уже властно владеющим умами астрономов. Получалось, что спорящий с Кеплером о кометах, — заведомо ретроград и консерватор, — ах, сколько примеров подобных ловушек можно найти в истории науки, и не только науки! А тут еще Пьер Гассенди, философ, человек светлого ума, тот самый, который уговаривал Людовика XIV не бояться хвостатых звезд, тоже с упорством стал утверждать, что кометы конечно же летят только по прямой и никогда не возвращаются.
Мы теперь знаем, что это не так, и нас невольно несколько раздражает примитивизм мышления людей, столь щедро наделенных природой гениальными способностями. Но ведь, строго говоря, ничего такого уж дикого в утверждениях Кеплера и Гассенди нет. Почему бы кометам и не лететь по прямой? Разве в небе обязательно должно происходить некое «коловращение»? Тогда почему мы сегодня принимаем, что по прямой летят к нам космические лучи, что по прямой прошивает земной шар всепроникающее нейтрино, что, наконец, галактики «по прямой» разбегаются от нас во все стороны? В общем, ничего возмутительно неправдоподобного в идее прямолинейного движения комет не было. И сокрушить эту идею было нелегко. И все-таки оппоненты у Кеплера были. Уже после его смерти («он умер от истомления, печали и бедности 58 лет…» — писал один из биографов Кеплера) польский астроном Ян Гевелий издал книгу «Кометография», в которой выдвинул свою гипотезу движения комет. По его мнению, линии их движения «никогда не бывают столь безупречно прямыми, как настаивает Кеплер и другие». Гевелий считал, что кометы — куски планет, вырванные из их тел. Поэтому форму они имеют необычную. Скорее всего, это не шары, а диски (наподобие некоторых видов гипотетических «летающих тарелочек» наших дней) и, в зависимости от положения этого диска в пространстве, прямые линии, по которым летят кометы, могут несколько загибаться к Солнцу. Гевелий много считал и чертил, и чем больше считал и чертил, тем больше запутывал весь этот вопрос. Астроном Георг Дерффель утверждал, что не правы оба: и Кеплер и Гевелий, а на самом деле кометы летают по параболическим кривым, в фокусе которых находится Солнце, но доказать это не мог…
Вот в таком запутанном и запущенном состоянии оказалось кометное хозяйство в конце XVII века, когда в него пришел Эдмунд Галлей.
Тихо Браге показал, что Аристотель заблуждался. Иоганн Кеплер показал, что Тихо Браге заблуждался. Теперь потребовался Эдмунд Галлей, чтобы показать, что Кеплер заблуждался тоже.
3
Чудесное пророчество есть сказка. Но научное пророчество есть факт.
В. И. ЛенинГаллея называют прежде всего астрономом, а был он, старомодно выражаясь, естествоиспытателем, — тем счастливцем, который мог себе позволить интересоваться тем, что его интересовало, и каких немало было в XVII и в XVIII веках, и даже в XIX веке они еще были, но в наше время — время плодотворной узкой специализации — уже перевелись.
Эдмунд Галлей родился в семье лондонского мыловара, человека зажиточного и довольно образованного. Во всяком случае, английский мыловар был просвещеннее датского судьи и понимал, что заниматься наукой не зазорно. Он поощрял юношеское увлечение сына астрономией, а когда тот в 17 лет поступил в Оксфорд, подарил ему семиметровую астрономическую трубу, доставившую Эдмунду много счастливых минут. В 19 лет студент уже публикует первую серьезную астрономическую работу. Он уже исправляет и дополняет звездный каталог самого Тихо Браге, о нем уже говорят, как о зрелом исследователе. Северное небо к тому времени было изучено европейскими наблюдателями довольно хорошо, и молодой Галлей просит короля Карла II об организации экспедиции за экватор, чтобы наблюдать южные созвездия. И вот он уже морской офицер, он уже командует небольшим военным кораблем «Парамор», и новые незнакомые звезды горят над его головой, когда высаживается он на острове Святой Елены, ничем не знаменитом острове, печальная слава которого — впереди…
Научную биографию Галлея, наверное, было бы правильно разделить на две неравные части. Первая, меньшая часть, — время молодое, веселое, когда ищет он сам себя, и за то берется и за это, — и все как-то легко, словно играючи у него получается. И приливы в Ла-Манше изучает, карту мировых ветров со всеми муссонами и пассонами составляет, и чертит таблицы продолжительности жизни, и всякий раз в любой работе проявляет не только любознательное рвение, но, что того дороже, — выдумку, находчивость, остроумие. Надо измерить площадь английских графств. Как? Фигуры на карте донельзя причудливые. Измерил одно, самое простое. Потом подумал и решил пожертвовать картой: все графства аккуратно вырезал, узорные эти бумажки взвесил на точных весах и сравнил с измеренной…
Ни влиятельных врагов у него нет, ни тайных завистников. Никто излишне демонстративно ему не протежирует, но и палок в колеса тоже вроде бы никто не сует. За два свои путешествия за экватор, где он 18 месяцев изучал южное небо, Оксфорд присудил ему ученую степень Магистра Искусств (какое замечательное время: астрономия еще причислялась к искусству!), — достойнейшее начало научной карьеры, и вот в 24 года вся эта его удачливая жизнь приостанавливается: на ровном и благополучном пути своем Эдмунд Галлей споткнулся о комету.
В 1680 году молодой англичанин оказывается в Париже как раз в то время, когда над французской столицей горит большая комета, та самая, которая, как вы помните, заставила брата Людовика XIV пожалеть о том, что он принц крови. Столь эффектное явление природы не могло не заинтересовать Галлея. Много вечеров проводит он на улице Риволи, где не столько смотрит в телескоп, сколько спорит с сеньором Джованни Доменико Кассини, директором и основателем Парижской обсерватории, ради которой покинул он родину, оставил кафедру в Болонье и лишился расположения щедрейшего мецената маркиза Мальвазиа в Панцано. Кассини — авторитет. Изучение Солнца, а затем Марса, Юпитера и его спутников и, наконец, Сатурна с его загадочным кольцом снискали ему заслуженное уважение коллег. К моменту встречи с Галлеем он уже выдвинул гипотезу о строении этого кольца и открыл два спутника Сатурна, а через несколько лет откроет два других. Кассини на 31 год старше Галлея, но дело не в возрасте, — они представители не только разных поколений, но разных научных эпох. Зоркий и опытный наблюдатель, Кассини по всему своему складу был ученым эпохи Тихо Браге. Правда, он не очень верил в астрологию, но и Ньютону он тоже не очень верил, и Коперника принимал с оговорками, и Кеплера пытался поправлять. Он сделал много, но и ошибался предостаточно…
Эдмунд понравился ему неуемной своей энергией, он отдал ему все свои измерения хвостатой небесной гостьи, но убедить Галлея, что комета эта летит не по прямой, а по по орбите близкой к Солнцу, никак не мог: молодой англичанин стоял на своем.
Парадокс этого спора заключается в том, что ошибались оба. Убежденный в правоте Кеплера, Галлей отстаивал идею прямолинейного движения комет, старался подогнать в своих расчетах цифры Кассини, у него ничего не получалось, он окончательно запутывался, но неудачи только пуще разжигали его азарт. — он решил не отступать, пока не разберется с этими дьявольскими хвостатыми звездами.
Галлей, как теперь говорят, зациклился. Кометы овладели его мозгом. Он непрестанно думает о них, — и в Париже, и дома, когда вернулся в Айлингтон. В сентябре 1682 года над Англией снова видна яркая комета. Эдмунд только что женился, так не хочется ранним зябким утром вылезать из-под пуховика, подниматься в стылую обсерваторию, все инструменты такие холодные, что надо заставить себя прикасаться к ним, но он встает и идет, и день за днем измеряет путь кометы. Он еще не знает, что эта — ЕГО комета, та, которую назовут его именем, которая обессмертит его…
Став в 1685 году помощником секретаря Лондонского королевского общества, Галлей знакомится с многими известными учеными, в том числе с самым замечательным членом этого общества Исааком Ньютоном и его заклятым врагом Робертом Гуком. Истинные причины их предельной неприязни понять Галлею было нелегко. Ньютон, по своему обыкновению, считал, что Гук его «обкрадывает». У Гука было много оригинальных работ. Он, например, открыл, что живые организмы состоят из клеток. Ему принадлежит и знаменитый закон Гука — закон упругости твердых тел, — зерно, из которого проклюнулся сопромат. Все это вроде бы к Ньютону никакого отношения не имеет, но именно в то время, когда молодой Галлей спорил на улице Риволи с Джованни Кассини, Роберт Гук пришел к выводу, что сила тяжести убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, — можно сказать, что он «наполовину» открыл закон всемирного тяготения Ньютона. Этого Ньютон Гуку простить уже был не в состоянии, допекал, где только мог, используя подчас приемы недозволенные: злословил относительно роста Гука. Кстати, хрестоматийная фраза Ньютона о том, что он видел так далеко, потому что стоял на плечах гигантов, — это тоже камешек в огород Гука.
Галлей обсуждал с Гуком вопрос о кометных траекториях. И в беседе этой даже промелькнула мысль о том, что именно силы тяготения определяют в небесах пути комет. Знаменитый архитектор Кристофер Рен пообещал даже премию тому, кто докажет, что это действительно так. А как доказать? Галлей решил поговорить с Ньютоном. Поговорить с Ньютоном после дружеских бесед с Гуком! Да возможно ли это?!
Человек угрюмый, замкнутый, как теперь говорят, некоммуникабельный, Ньютон был до предела издерган спорами по отстаиванию своего приоритета, в которых более всего повинен был сам, поскольку испытывал какую-то непонятную неприязнь к публикациям, тянул время, стремился, чтобы открытия его «отлежались». Невольно создается впечатление, что Ньютон, очень высоко (и справедливо!) ставивший свою репутацию ученого, боялся конфуза. «Гипотез не измышляю» — таков был девиз Ньютона, который подчеркивал неоспоримость всех открывшихся ему истин мироздания. Неприязнь к гипотезам, ко всему, в чем можно хоть на миг усомниться, приводила к тому, что он словно ждал, чтобы кто-то другой пришел к тем же выводам, подтверждая его правоту. Но одновременно он требовал признания своего первенства. Совместить уединенное молчание с неоспоримым приоритетом было трудно, — в этом корень всех его конфликтов и пререканий и с Гуком, и с Лейбницем, и с Гюйгенсом, и с Лукасом, — с кем он только не конфликтовал! Сам Ньютон от всей этой околонаучной возни мучился, писал с горечью: «Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия…»
Вот к такому трудному человеку и пришел измученный кометами Галлей. Судя по всему, Эдмунд понравился Ньютону, как в свое время он понравился Кассини. Наверное, сын мыловара был при всех своих талантах еще и просто обаятельным, располагающим к себе молодым человеком. Во всяком случае, когда он робко задал вопрос о том, что, возможно, существует некий закон, определяющий взаимодействие тел за счет тяготения, ответ был ошеломительный. Кисло улыбаясь, Ньютон сказал, что закон такой действительно существует, он его открыл и уже сделал все необходимые расчеты, да вот не помнит, куда эту бумажку засунул…
Галлей вцепился в Ньютона мертвой хваткой: он понял, что этот странный угрюмый человек уже решил все мучившие его вопросы. И он был прав. Действительно, размышляя над своим великим универсальным законом, Ньютон, вновь являя миру прозорливость гения, записал о кометах: «Я склонен заключить, что они могут быть своего рода планетами, обращающимися по орбитам, которые в непрерывном движении повторяются вновь и вновь». Но об этом он не сразу сказал Галлею. Они встречались регулярно, раз за разом туман в голове Галлея рассеивался. Оказывается, в 1680 году Ньютон в Кембридже тоже наблюдал ту «парижскую» комету и тогда уже понял, что та комета, которая в ноябре приближалась к Солнцу, и та, которая в декабре удалялась от него, — одно и то же небесное тело.
С трепетным восторгом слушал Галлей признания знаменитого ученого. Он понимал, что в этой скромной комнате Тринити-колледжа рождаются великие, всемирные истины. Он оглядывал беспорядочные нагромождения книг, бумаг, каких-то приборов, инструментов, линз, и понимал, что это, быть может, самые большие сокровища, существующие сегодня на Земле. Сокровища хрупкие, почти бестелесные, которые может погубить проголодавшаяся мышь, опрокинутая чернильница, промокший потолок, пламя канделябра. И случалось — они погибали! В 1692 году любимый песик Ньютона Алмаз опрокинул свечу на кипу рукописей, и все сгорело дотла. Ньютон тогда был на грани психического расстройства, не мог работать…
Галлей умолял Ньютона привести в порядок и систематизировать свои записи по закону всемирного тяготения. Тот нехотя соглашался. Активность Ньютона несколько возросла, когда Галлей сказал ему, что «Математические начала натуральной философии» — так назвал Ньютон свой классический труд — он, Галлей, собирается издать на собственные деньги. Доходы Ньютона тогда значительно превосходили доходы Галлея, но что делать? Ко многим качествам, не украшающим гения, приходится, увы, добавить еще и скаредность…
Участие Галлея в делах Ньютона еще больше их сближает. Сегодня в некоторых книгах Галлея называют даже учеником Ньютона, но если верить тому, что мы знаем о характере великого ученого, вряд ли допустимо предположить, что у него могли быть ученики. Так или иначе, воодушевленный долгожданными откровениями Ньютона, Галлей решает проверить идею метра. Ведь если кометы летают по неким очень вытянутым орбитам, то они время от времени должны приближаться к Солнцу и к Земле, орбита которой в сравнении с кометной, не столь уж далека от нашего дневного светила. А раз так, надо посмотреть, нет ли какой-нибудь временной закономерности в появлении комет.
И Галлей приступает к титаническому труду, — начинает вычислять орбиты комет, согласуясь с данными астрономических летописей. Астроном превращается в историка. Он анализирует хроники, начиная с 1337 года, и, затратив уйму времени, отбирает достоверные, по его мнению, сведения о кометах. «Следуя по стопам великого ума, я приступил к приспособлению его геометрического метода к арифметическим вычислениям орбит комет, — писал Галлей, — и труды мои были не напрасны. Собрав отовсюду наблюдения комет, я составил таблицу, — плод обширного и утомительного труда, небольшую, но небесполезную для астрономов».
Для того чтобы вычислить хотя бы одну орбиту, необходимо знать не менее трех положений кометы среди звезд и точное время этих положений. В его «небольшой, но небесполезной» таблице — 24 кометы. Сначала показалось, что он нашел ту самую, «парижскую», которую они с Ньютоном наблюдали на разных берегах Ла-Манша. Галлей почти уверен, что она была в небе в 44 году до нашей эры, — сразу после убийства Цезаря, потом в 530-м, в 1066-м и вот наконец в 1680 году. Ньютон рассеянно просмотрел его расчеты и согласился. Галлею очень нужен был сейчас трезвый, критичный, ничего не принимающий на веру мозг Ньютона. Но гениальный ученый именно в это время — конец XVII века — впадает в тяжелую депрессию. Он как-то туго соображает, отключается от мысли, слушает, думая о другом, и не поймешь, слышит ли вообще. Существует предположение, что Ньютон в это время отравился парами ртути. Он увлекся алхимией и с упорством, достойным гения, дни и ночи проводит в лаборатории, пытаясь синтезировать золото. Эксперименты с ртутью, а также с другими ядовитыми веществами, свинцом, мышьяком, сурьмой, которыми он постоянно пользовался, действительно могли вызвать отравление, медицинские симптомы которого близки к описаниям его состояния современниками. Ньютон был плохим помощником в это время. И с расчетами «парижской» кометы зря он согласился, — там была ошибка…
Потом Галлею показалось, что он нашел еще один период — комета 1532 и 1661 годов, — не одна ли и та же? Но и эта версия оказалась ложной. И наконец, еще одна, та самая, что вытаскивала его из-под пуховика в Айлингтоне. «Довольно многое заставляет меня думать, — пишет Галлей, — что комета 1531 года, которую наблюдал Апиан, была тождественна с кометой 1607 года, описанной Кеплером и Лонгомонтаном, а также с той, которую я сам наблюдал в 1682 году. Все элементы сходятся почти в точности и только неравенство периодов, из которых первый равен 76 годам 2 месяцам, а второй 74 годам 10,5 месяцам, по-видимому, противоречит предположению о тождестве, но разность между ними не столь велика, чтобы ее нельзя было приписать каким-либо физическим причинам. Мы знаем, что движение Сатурна так сильно возмущается другими планетами, особенно Юпитером, что время его обращения известно лишь с точностью до нескольких дней. Насколько же больше должна подвергнуться таким влияниям комета, уходящая от Солнца почти в четыре раза далее Сатурна! Поэтому я с уверенностью решаюсь предсказать ее возвращение на 1758 год».
Так он поставил на карту — на звездную карту — свое доброе имя. Нужна особая интеллектуальная отвага, чтобы делать предсказания в науке. Для этого надо хорошо знать и крепко верить. Великими пророками в астрономии были Джордано Бруно и Галилео Галилей, Николай Коперник и Иоганн Кеплер. Трудно предсказать ход небесных светил, но еще труднее предвидеть прогресс в тех областях знаний, которые зависят не только от объективных законов природы, но и от субъективной человеческой воли. Вот почему так ценны замечательные пророчества великих русских ученых: Михайло Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Константина Циолковского, Владимира Вернадского. Замечательных ученых и замечательных патриотов.
Эдмунд Галлей тоже был патриотом. После его смерти нашли страничку, написанную его рукой, и были там такие слова: «…если в согласии с тем, о чем мы говорили, она вновь вернется около 1758 года, честное и беспристрастное потомство не откажется признать, что первым это открыл англичанин». Он хотел, чтобы будущая слава его досталась родине. И хорошо, что мы сегодня помним о его словах, что мы не забыли: Галлей — англичанин…
Он понимал, — маловероятно, чтобы судьба позволила ему прожить 102 года и пережить… Что? Триумф или разочарование? Он верил в триумф! Если период обращения этой кометы действительно 76 лет, то не так уж много людей, которые видят ее два раза в жизни. Увы, он не окажется среди этих счастливцев. Спасибо уже за то, что он видел свою комету тогда осенью в Айлингтоне, когда было ему 26 лет, и была молодость, и любовь была, и вся жизнь казалась еще впереди…
Королевский астроном Эдмунд Галлей, директор Гринвичской обсерватории, умер 14 января 1742 года на 86-м году жизни. Галлей умер, а предсказание осталось жить…
4
Если мы расположим науки по предмету их занятий, то первое место отведем той, которую одни называют астрономией, другие астрологией, а многие из древних — завершением математики. Это — царица наук, наиболее достойная свободного человека… И если все науки возвышают дух человеческий, то больше всего это свойственно астрономии, не говоря уже о величайшем духовном наслаждении, связанном с ее изучением…
Николай КоперникПридет или не придет? Придет — значит, подчинится человеческому разуму, значит, сделан новый шаг, утверждающий познаваемость окружающего мира.
Ученые очень хотели, чтобы комета пришла. Они не просто ждали ее, они стремились уточнить предсказание Галлея. Ведь разница в периодах, как он сам отмечал, составляет более 16 месяцев, и если комета не придет в 1758 году, тут же посыплются обвинения в неточности, условности, шуточки о гадалках, короче, — будет скомпрометирован сам научный метод.
К середине XVIII века сильная астрономическая школа образовалась во Франции. Именно французы и взялись за нелегкую работу: вычислить возмущения, которые может претерпеть орбита кометы в результате влияния планет, — главным образом планет-гигантов — Юпитера и Сатурна. Возглавил группу энтузиастов Алексис Клод Клеро.
Клеро был математиком-вундеркиндом. В 12 лет он уже написал исследование алгебраических кривых четвертого порядка, в 18 лет был утвержден адъюнктом Парижской академии наук, а в 25 стал ее академиком. Человек необыкновенной энергии, он не был похож на классических кабинетных математиков. Накануне избрания в академию он уезжает в Лапландию: хочет измерить там дугу меридиана. В 30 лет — он автор классического труда «Теория фигуры Земли, основанная на началах гидростатики». В 1751 году он получает премию Петербургской академии наук за работу по движению Луны, где как раз учитывались возмущения, виновниками которых было Солнце. Уточнить Галлея, решить новую, еще более сложную задачу, представлялось Клеро очень заманчивым. Он начал работать, но быстро понял, что в сроки, ему отведенные Эдмундом Галлеем, решить эту задачу он не успеет: слишком много надо было вычислять. Он увлек своими идеями 26-летнего Жозефа Лаланда, который, хотя и не был вундеркиндом, в двадцать один год был избран академиком за блестящие работы по изучению Луны и планет. Наконец помощницей Клеро стала госпожа Лепот — жена парижского часовщика. Часовщики в то время были механиками экстра-класса и ценились выше нынешних докторов наук. И жену себе парижский часовщик нашел тоже незаурядную. Госпожа Лепот была широко известна своими математическими способностями, — уже одно это сразу выделяло ее среди тогдашних представительниц слабого пола. О ней восторженно писал уже упомянутый в начале нашего рассказа Камиль Фламмарион, который, впрочем, напутал, назвав ее Гортензией и придумав красивую легенду, что именно в ее честь был назван экзотический цветок, привезенный французским астрономом Лежантилем из Индии. Фламмарион фантазировал: госпожу Лепот звали не Гортензией, а Николь, цветок привез не астроном Лежантиль, а ботаник Комерсон, и не из Индии, а из Японии…
Вот эта талантливая троица и решила узнать точный путь кометы, которая, по словам Клеро, «сделалась предметом более живого интереса, чем обыкновенно обнаруживается публикой, к астрономическим вопросам».
На карту был поставлен не только престиж Галлея, но, в какой-то степени, и авторитет Ньютона. Несмотря на то что прошло три десятилетия со дня смерти великого ученого, который и при жизни почитался как великий, закон всемирного тяготения еще не был безоговорочно признан ученым миром и нередко причислялся не к фундаментальным законам мироздания, а, скорее, к красивым, но весьма фантастическим гипотезам. Поэтому результаты трудов парижской троицы выходили за рамки спора, прав или не прав Галлей, а имели для своего времени принципиальное, мировоззренческое значение.
«Шесть месяцев, — вспоминал потом Лаланд, — мы вычисляли с утра до ночи, иногда даже не отрываясь для еды, и следствием этого было то, что я расстроил свое здоровье на все остальные дни моей жизни. Помощь госпожи Лепот была такова, что без нее мы никогда не осмелились бы предпринять этот громадный труд, состоявший из вычислений расстояния кометы от двух планет — Юпитера и Сатурна — для каждого градуса небесной сферы в течение 150 лет…»
Они почувствовали, что не успеют закончить свои вычисления к сроку. Если комета появится до того, как они получат свой результат, все будут подозревать их в подтасовке, да и вообще работа потеряет всякий смысл. Клеро настоял на упрощенном варианте расчетов, убеждая своих коллег, что лучше пожертвовать точностью, чем предсказать явление кометы, когда в ее существовании уже все смогут убедиться и безо всяких предсказаний. 15 ноября 1758 года Клеро представил Парижской академии наук результаты многомесячных вычислений. (По другим данным — в октябре.) Расчеты трех математиков показывали, что Юпитер «притормозит» комету примерно на 518 суток, а Сатурн увеличит опоздание ее свидания с Солнцем (и Землей) еще на 100 суток. Таким образом, комета должна пройти точку перигелия, т. е. приблизиться к Солнцу на минимальное расстояние, 13 апреля 1759 года, после чего начать обратный путь — от Солнца. Клеро предупредил, что некоторые упрощения в расчетах допускают ошибку в пределах месяца.
Теперь надо было ждать. Ждать и искать! Астрономов охватил какой-то спортивный азарт: кто же первый увидит летящую к Земле комету? Жажда славы лишила покоя честолюбивого ассистента Парижской морской обсерватории Шарля Мессье. Два года, с рвением необычайным, буквально каждую ночь проводил он за телескопом. Его шеф — директор обсерватории Жозеф Делиль был первым академиком-астрономом только что учрежденной Петербургской академии наук. Человек авторитетный и осторожный, Делиль не рекомендовал Мессье торопиться с сообщением, что 21 января 1759 года ему удалось разглядеть возвращающуюся комету Галлея. Мессье не мог ослушаться директора. Слишком многим он был ему обязан. Человек без образования, Мессье начинал чертежником и переписчиком черновиков Делиля, благодаря поддержке директора освоил технику астрономических наблюдений, научился работать с инструментами. Пройдет несколько лет, и Мессье прославится, как искусный «ловец комет», обнаружив 14 хвостатых звезд, сам станет директором обсерватории, академиком, но тогда, в 1759 году, с кометой Галлея ему не повезло. В отчаянии читал он сообщение из Дрездена: Иоганн Георг Палич — 35-летний крестьянин из окрестной деревушки, астроном-любитель, пренебрег усладами рождественского праздника и в ночь на 25 декабря разглядел в созвездии Рыб летящую к Земле комету. Это открытие сделало безвестного крестьянина знаменитым. Его принимали особы самого высокого ранга, прельщали сытыми придворными должностями, но он остался простым крестьянином, и после смерти был вознагражден памятником в родной деревне.
С каждым днем комета становилась все ярче и ярче, и уже не нужен был никакой телескоп, чтобы разглядеть ее. В середине февраля 1759 года она скрылась в вечерних сумерках, чтобы в апреле вновь явиться в предрассветные часы. Через перигелий комета прошла 13 марта 1759 года, — это был триумф Клеро и его друзей: ошибка в их расчетах действительно почти не превышала месяца — 32 дня.
— Что значит тридцать два дня, по сравнению с периодом в 75 лет! — восклицал ликующий Лаланд. Парижский астроном Жак Бламон назвал подтверждение природой расчетов математиков «самым важным событием в истории науки». И действительно, это была большая победа астрономии, одна из тех побед, которые резко двигают вперед человеческое сознание, поскольку даже самый невежественный и предубежденный человек не может не задуматься в дни торжества таких побед над величайшей силой знания.
«Комета принесла первое безусловное подтверждение универсальности закона всемирного тяготения и могущества разработанных к тому времени методов небесной механики, — писал известный советский астроном, специалист по кометам профессор Сергей Константинович Всехсвятский. — Эта знаменитая в истории человечества комета по праву получила имя Галлея».
Да, теперь эту комету окрестили: отныне она стала называться кометой Галлея. Теперь уже никто не сомневался, что еще через 76 лет она снова придет к Земле и путь ее измерялся всеми астрономами весьма тщательно, чтобы возможно точнее предсказать ее новое появление.
И вот прошло 76 земных лет, равных одному году кометы Галлея, и давно уже умерли и Клеро, и Лаланд, и госпожа Лепот, и астрономы снова объявили негласное соревнование в точности своих расчетов. К этому времени великий астроном Вильям Гершель открыл еще более далекую, бегущую за Сатурном планету Уран, и влияние ее на путь кометы тоже надо было учитывать, что еще более усложняло вычисления.
Соревнование астрономов началось, конечно, не в 1835 году, а много раньше. Парижский астроном Дамуазо засел за расчеты уже в 1816 году и через несколько лет работы назвал дату прохождения перигелия — 4 ноября. Его коллеги получали другие, но тоже близкие числа: Розенбергер — 12 ноября, Леман — 24 ноября, Понтекулан — 7 ноября. Потом, уточнив массу Юпитера, Понтекулан пересчитал все снова и объявил новую дату — 15 ноября.
И снова все ждали и искали. На этот раз первым 5 августа 1835 года отыскал в небе комету Галлея директор маленькой римской обсерватории Дюмушель. Однако другие астрономы ее не видели. 20 августа, когда, судя по расчетам, комету можно было разглядеть в северных широтах, ее увидел в Дерпте академик Петербургской академии наук Василий Яковлевич Струве. За два года до этого он вошел в специальную комиссию по созданию знаменитой Пулковской обсерватории, директором которой он позднее был в течение 23 лет и которую оставил лишь за два года до смерти, находясь в весьма преклонном возрасте. Струве известен и как родоначальник целой династии знаменитых астрономов: Отто, Герман, Людвиг и еще один Отто Струве, — уже правнук Василия Яковлевича.
Астрономическая техника 1835 года уже позволяла разглядеть некоторые детали строения хвостатой звезды. Наблюдая ее день за днем, Василий Яковлевич видел, что комета все время изменяется. Все яснее можно было разглядеть маленькое яркое ядро, окутанное туманным облаком, — так называемой комой. Длинный хвост кометы тоже изо дня в день менял свое положение, но всякий раз был направлен точно в противоположную от Солнца сторону. Особенно повезло Василию Яковлевичу безоблачной ночью 17 сентября. Он увидел вдруг, что голова кометы неминуемо наползает на одну из звезд. Раз так, свет звезды, прикрытый кометой, должен ослабнуть и по ослаблению блеска можно будет оценить плотность вещества в кометной голове.
Но никакого пригасания звезды он не обнаружил. Свет проходил через облако комы так, словно это прозрачнейшее стекло. В течение двух часов, со всей тщательностью подготовив свою аппаратуру, Струве пытался обнаружить хотя бы незначительное преломление света звезды при его прохождении через голову кометы. Но и преломления обнаружить тоже не удалось. Свет от звезды шел так, как будто на его пути и не было никакой кометы. Струве пришел к выводу, который и сегодня, 150 лет спустя, разделяется всеми астрономами: вещество в голове кометы находится в крайне разреженном состоянии, а ее твердое ядро ничтожно мало по своим размерам.
Комета прошла перигелий 16 ноября 1835 года. Понтекулан получил премию за то, что в своих вычислениях ошибся лишь на сутки. Впрочем, и Дамуазо, и Розенбергер тоже были премированы. Продолжая научную эстафету Клеро, еще через 75 лет англичане П. Коуэлл и Э. Кроммелин, уже зная, что за Ураном есть еще Нептун, который тоже вносит свои поправки в движение Галлеевой кометы, сократили время ошибок в своих вычислениях до трех часов. Сегодня счет идет уже на минуты. Американский астроном Дональд Йоманс подсчитал, что на этот раз комета Галлея в результате «коррекции» Юпитера придет к Солнцу 9 февраля 1986 года на 8 часов 36 минут раньше, чем указывалось в предыдущих расчетах, а именно — в 14 часов 39 минут по московскому времени 9 февраля 1986 года.
Но вернемся в год 1835-й. Вместе с В. Я. Струве комету наблюдали многие европейские астрономы. Среди них был и уже весьма маститый и авторитетный ученый из Кенигсберга Фридрих Вильгельм Бессель. Кометы давно его интересовали. Сын мелкого чиновника из маленького саксонского городка Миндена, он начинал как астроном-любитель и совсем еще молодым человеком, увлекшись кометами в 1804 году — через сто лет после предсказания Галлея, — сам вычислил орбиту его кометы. Теперь, наблюдая ее воочию, Бессель приходит к выводу, что ядро кометы состоит, очевидно, из льда. Человек осторожный, по-немецки пунктуальный, Бессель собственно слово «лед» нигде не произносит, но оно читается между строк в его статье, опубликованной на следующий год после явления кометы. «…Я не вижу никаких трудностей в предположении, — пишет он, — что кометы состоят из частей, которым не хватает лишь немного тепла… обладание которым необходимо им, чтобы стать летучими».
Итак, если визит кометы Галлея 1759 года стал триумфом вычислителей, победой Галлея и Ньютона, то следующий ее визит в 1835 году, благодаря наблюдениям Струве, Бесселя и других ученых, значительно увеличил наши знания о природе этой кометы и комет вообще. К 1910 году, — следующему свиданию землян с кометой Галлея, узнали еще больше.
Еще в XVI веке профессор математики в немецком городке Ингольштадте на Дунае Петр Апиан, наблюдая за кометой Галлея в 1531 году, пришел к выводу, что направление кометного хвоста зависит от положения Солнца. Отмечали это и другие астрономы. Бессель видел, что из головы кометы вырываются струи вещества, и считал, что это происходит под влиянием солнечного тепла. Он построил теорию строения кометной головы, вполне объясняющую вид кометы Галлея, но не всегда пригодную для других комет.
Вряд ли маленький Федя Бредихин, которому было всего четыре года, когда прилетела комета Галлея, запомнил ее. Он родился и до 14 лет жил в Николаеве. Отец его был потомственным военным моряком, и Феде, как говорится, на роду были написаны земные океаны. Он выбрал пятый океан — небо. Закончив Ришельевский лицей в Одессе, юный Бредихин поступает в Московский университет, страстно увлекается астрономией, сдает экзамены на магистра, сам начинает читать лекции. В 34 года он защищает докторскую диссертацию «Возмущения комет, не зависящие от планетных притяжений» и становится профессором Московского университета, которому он оставался верен всю свою жизнь. Став директором университетской обсерватории, Федор Александрович Бредихин занялся совершенствованием теории Бесселя и создал собственную, для своего времени наиболее совершенную, теорию процессов, происходящих в кометах — «механическую теорию кометных форм», и классифицировал типы кометных хвостов, — эта классификация дожила и до наших дней. По Бредихину, хвост кометы двигался от Солнца благодаря действию его отталкивающих сил. Через три года после смерти Бредихина его университетский коллега профессор физики Петр Николаевич Лебедев в своих блестящих экспериментах обнаружил, что свет давит на газы, что сразу объясняло, почему хвосты комет направлены всегда в сторону, противоположную Солнцу. Не перечисляя всех астрономических побед в период между двумя визитами галлеевой кометы — 1835–1910 гг., — назвав только две работы наших выдающихся соотечественников, можно представить себе, что за это время наука далеко шагнула вперед. И в нашем рассказе, и в жизни каждое возвращение кометы Галлея к Земле давало астрономам повод подвести какие-то итоги, сравнить сегодняшние возможности со вчерашними, реально оценить прирост астрономических знаний за три четверти века. При Клеро мир Солнца был органичен Сатурном. Во время визита 1835 года уже знали о существовании Урана. В 1910 году при расчетах траектории уже учитывался Нептун. Наконец точность сегодняшних предсказаний объясняется тем, что ЭВМ позволяют учитывать влияние всех планет Солнечной системы, включая невероятно далекий маленький Плутон, открытый только в 1930 году. Комета Галлея как бы говорит нам: посмотрите, как меняется мир за то в общем-то короткое время, которое мы не виделись…
Да, мир человеческих знаний меняется куда быстрее, чем мир человеческих предрассудков. Казалось бы, к моменту появления кометы в 1910 году весь ореол таинственности, вся леденящая душу мистика, все «знамения», мучившие римских императоров и французских королей, должны были бы отойти в прошлое. Но именно 1910 год породил небывалую волну кометных страхов. Тому, правда, есть некоторые объяснения.
Нам с вами крупно не повезло: по мнению астрономов, за все исторически обозримые времена комета Галлея еще не представала перед Землей в столь неприглядном и маловыразительном виде, как в 1985–1986 годах. Внешний вид кометы на небе (ее яркость, длина хвоста) зависит от взаимного положения Солнца, Земли и кометы и, в первую очередь, — от расстояния между Землей и кометой. Подсчитано, что самое эффектное зрелище кометы Галлея наблюдали наши далекие предки в 837 году, когда она подходила на минимальное расстояние к нашей планете, — чуть более 3,8 миллиона километров. Нашим дедушкам и бабушкам, папам и мамам и даже редким счастливчикам среди нас самих в 1910 году тоже повезло: комета прошла сравнительно близко от Земли — 22,5 миллиона километров. Гигантский ее хвост перечеркивал полнеба. Зрелище было весьма впечатляющим. Для сравнения, минимальные расстояния между Землей и кометой Галлея при подлете к Солнцу и при отлете от Солнца в 1985–1986 годах составляло соответственно чуть меньше 93 и 63 миллионов километров, — в годы великих противостояний даже далекий Марс и тот подходит к нам ближе.
Итак, в 1910 году действительно комета сияла в небе во всей своей красе, что уже настораживало обывателя. Его волнение возросло во сто крат, когда астрономы подсчитали, что 19 мая, уже на отлете, комета Галлея, словно помелом, пройдется своим хвостом по Земле. И напрасно те же астрономы уверяли, что ничего страшного не произойдет, — им никто не верил. К тому времени в астрономии уже применялись спектрографические методы исследования и было известно, что в хвосте кометы присутствуют молекулы циана, угарного газа и других малоприятных соединений. Этого было достаточно, чтобы предсказать конец света. Кто-то из весельчаков астрономов пустил слух, что опасен не циан, а закись азота — «веселящий газ», который тоже обнаружен в хвосте и который заставит всех землян плясать и прыгать до полного изнеможения. И этому поверили! «Погибнет ли Земля в текущем году?» — такой или подобные такому заголовки украшали газеты 1910 года. Но это еще, как говорится, «цветочки». В одном из мартовских номеров газета «Голос Самары» опубликовала репортаж, в котором рассказывалось, как один монах торговал в городе листовками такого содержания:
«Заклятие против встречи с Галлеей.
Ты, черт, Сатана, Вельзевул преисподний! Не притворяйся звездой небесной! Не обмануть тебе православных, не спрятать хвостища Богомерзкого, ибо нет хвоста у звезд Господних!
Провались ты в тартарары, в пещь огненную, в кладезь губительную!..» И т. д. Ну, Самара, провинция. Однако в редакции «Русских ведомостей» подумали и решили этот репортаж перепечатать…
В мае, накануне «столкновения» Земли с хвостом кометы, всеобщее волнение достигло апогея. Газеты публиковали душераздирающие сообщения из различных уголков земного шара:
«Вена. Венские астрономы убеждены, что завтра хвост кометы заденет Землю. Среди населения, особенно в провинции, паника. Многие запасаются кислородом. Были случаи самоубийств от страха».
«Тегеран. Четверга персы ожидают с ужасом. Местные доморощенные астрономы объявили, что 19 мая наступит конец мира. Многими вырыты глубокие ямы, куда они собираются спрятаться в четверг от небесного гнева».
«Мадрид. Население Испании ожидает появления кометы с большим беспокойством. По ночам на улицах городов и селений толпится народ. В церквах совершаются молебствия. Многие посещают церкви, исповедуются и каются в грехах. Печать отмечает чрезвычайное развитие самоубийств и объясняет это страхом перед кончиной мира. Суеверное население горных областей Испании ожидает комету в паническом страхе».
В Оклахоме, например, едва удалось спасти девушку, которую готовили принести в жертву хвостатой звезде члены секты «Святых последователей».
Всякое смятение умов непременно позволяет людям предприимчивым погреть руки. Копеечное заклинание самарского монаха — это, как говаривал Остап Бендер, — низший класс. Повсюду началась бойкая торговля «патентованными» противокометными таблетками, «космическими противогазами», и «болидными громоотводами». И покупали! Вот как писал уже в наши дни о том времени известный американский научный журналист Томас О’Тул: «Тысячи людей прощались со своими близкими и друзьями. Люди обращались к врачам с просьбой дать им противоядие от отравляющих газов, которые, как думали, должны были окутать Землю. В церквах круглосуточно шла служба. Школьники оставались дома, а тысячи рабочих не выходили на работу. Фермеры снимали громоотводы, чтобы они не притянули электрических разрядов. Шахтеры в Пенсильвании и рабочие на серебряных рудниках в Колорадо отказались спускаться под землю от страха оказаться засыпанными. А в Виргинии, Западной Виргинии и Кентукки люди переселялись из домов в пещеры, чтобы избежать гнева кометы». С улыбкой взирая на панику, охватившую его соотечественников, Марк Твен сказал: «Я пришел в этот мир вместе с кометой Галлея. (Твен родился в год кометы — в 1835-ом. — Я. Г.). Очень скоро она опять вернется, и я думаю уйти вместе с нею. Это было бы самым большим разочарованием в моей жизни, если бы мне не удалось исчезнуть вместе с кометой Галлея…» Все думали, что великий юморист шутит, как всегда, но Марк Твен умер на следующий день после того, как комета прошла перигелий…
Тревоги землян пробовали унять астрономы. В России с разоблачением грядущих кометных ужасов выступали многие известные ученые: С. К. Костинский, К. Д. Покровский, известный библиофил Н. А. Рубакин, будущий почетный академик, «шлиссельбуржец» Н. А. Морозов и другие. Уже упомянутый Камиль Фламмарион убеждал своих читателей, что «земной шар пролетит через хвост кометы, как пушечная бомба пробивает на лету тучу комаров». Если быть крючкотвором, то надо признать, что Фламмарион неточен: комары оказали бы большее воздействие на пушечное ядро, чем оказал хвост кометы Галлея на земной шар, поскольку даже на высоте 150 километров плотность земной атмосферы в несколько миллиардов раз больше плотности кометного хвоста, а комары, как-никак, это нечто вполне осязаемое.
Комета промчалась, хвостиком махнула и… ничего не случилось. Не было ни смертоносных газов, ни метеорных бомбардировок. В земной атмосфере не удалось обнаружить никаких следов кометного хвоста. Возможно, их удалось бы «отловить» в более высоких слоях с помощью высотных геофизических ракет, но, увы, ракеты тогда еще не умели летать в стратосферу.
Однако и без ракет в 1910 году удалось узнать о комете Галлея немало интересного. Отсутствие следов в атмосфере подтвердило крайнюю разреженность вещества кометного хвоста. В тот же день, когда хвост, который всегда направлен «от Солнца», упирался в земную атмосферу, ядро кометы для земного наблюдателя, как легко себе представить, проецировалось на солнечный диск. Астрономы поспешили этим воспользоваться. Окруженное туманной дымкой испарений ядро нелегко было разглядеть на темном небе. Теперь, когда комета подсвечивалась Солнцем, надеялись, что в его мощных лучах удастся разглядеть черное пятнышко твердого, непрозрачного для солнечных лучей ядра. Но ничего разглядеть не удалось. Существует крылатая фраза о том, что в науке и отрицательный результат — тоже результат. Поиск ядра кометы Галлея в 1910 году — прекрасный тому пример. Зная расстояние от Земли до кометы и разрешающую способность своих телескопов, московские астрономы В. К. Цераский и П. К. Штернберг (знаменитый революционер, именем которого назван Государственный астрономический институт при МГУ) легко вычислили, что по своим размерам ядро, коль скоро его не видно, не может превышать 20–30 километров в поперечнике. Те же результаты получили и их греческие и французские коллеги в Афинской и Медонской обсерваториях.
Тогда же — в 1910 году — выяснилось, что ядро, хоть его и не видно, совершает, как крохотная планетка, один оборот вокруг своей оси за 10 часов 18 минут. Был уточнен атомный, молекулярный, ионный и пылевой состав кометных хвостов и выполнены другие астрономические наблюдения. 16 июня 1911 года комету Галлея удалось сфотографировать в последний раз, перед тем как она исчезла в глубинах космоса, ушла, чтобы вернуться через 76 лет. Когда произошла Великая Октябрьская революция, она летела уже за орбитой Сатурна, в годы первой пятилетки — за орбитой Нептуна. Движение ее все более и более замедлялось, и где-то тогда, когда праздновали мы великую Победу над фашизмом, не в силах преодолеть притяжение безмерно далекого Солнца, Галлеева комета повернула вспять и, теперь уже с постоянным разгоном, начался ее долгий путь обратно к земле.
…16 октября 1982 года небо над Паломарской обсерваторией было особенно чистым: ни облачка и легкий ветерок с запада отгонял дымы и пыль Сан-Диего. Эд Дэниелсон был рад, что так удачно зарезервировал себе время работы на большом телескопе, который был развернут в направлении созвездия Малого Пса. Уже два года Эд и восемь его помощников старались первыми увидеть комету Галлея. Знали, где ее искать, как сфотографировать, но ничего не получалось. В ту ночь 16 октября 1982 года им удалось обнаружить некий объект, предельно малой светимости, который двигался туда, куда должна была двигаться комета Галлея и с той скоростью, с которой ей полагалось двигаться. Через три ночи Эд окончательно убедился, что это она и есть. Когда журналисты поздравили Дэниелсона с победой в негласном всемирном соревновании наблюдателей, он сказал со смущенной улыбкой:
— Помимо всего прочего, такое событие случается только раз за человеческую жизнь…
5
Мы живем в эпоху когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой.
А. М. ГорькийКомета возвращается! Мы можем повторить сегодня слова, сказанные ей в прошлом веке великим английским астрономом Вильямом Гершелем: «Добро пожаловать, небесная гостья!» И теперь самое время хоть несколько слов сказать о том, что же это за чудо такое, кометы? Откуда они берутся, как устроены, что мы вообще знаем о них и о комете Галлея в частности.
На все эти вопросы отвечать довольно трудно. Существует несколько гипотез происхождения комет, несколько гипотез строения их ядер, хвостов, и т. д. и т. п. Давать в нашем рассказе предпочтение одной из гипотез — значит наверняка навлечь на себя гнев приверженцев других гипотез. Но и рассказывать о всех гипотезах, да еще сравнивать сильные и слабые стороны каждой из них, — грех еще менее простительный, поскольку это может вызвать гнев утомленных читателей, а читателей куда больше, чем астрономов-теоретиков. Поэтому я все-таки рискну рассказать лишь о тех фактах и предположениях, которые признаны сегодня большинством специалистов, хотя и понимаю, что истина вовсе не всегда исповедуется большинством.
Итак, наиболее вероятно, что известные нам кометы живут и путешествуют только в пределах нашей Солнечной системы. Во всяком случае, ни разу не наблюдалась комета, скорость которой и направление движения позволяли бы предположить, что она прилетела к нам из другой звездной системы. Что касается того, когда и как образовались кометы, то наиболее популярной надо признать гипотезу, которую выдвинул в 50-х годах нашего века выдающийся голландский астроном Ян Хедрик Оорт, — многолетний лидер Лейденской обсерватории. Согласно этой гипотезе, на очень далеких окраинах Солнечной системы, в 150 тысяч раз дальше от Солнца, чем Земля, и в тысячи раз дальше самой далекой планеты — Плутона, находится целый рой крошечных (в астрономических масштабах) кусочков вещества. Большинство астрономов считает, что вещество облака Оорта — это космический мусор, который остался после «строительства» планет из первичного газопылевого облака, главным образом, — планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Как установили вместе с Оортом его коллеги: эстонец Эрнст Эпик (он еще в 1932 году говорил об облаке), русский Василий Фесенков, латыш Карл Штейне, американец Брайен Марсден и другие, незначительные возмущения, возникающие под действием других звезд, могут медленно накапливаться в кометном облаке, что приводит в конце концов к тому, что отдельные глыбы вещества начинают перемещаться ближе к Солнцу. Некоторые из комет под действием переменных гравитационных сил могут быть выброшены даже за пределы Солнечной системы. Очевидно, так случится с кометой Веста: судя по ее энергии, она собирается покинуть солнечную семью. Другие кометы, под действием тех же сил, упорядочивают свое движение и начинают обращаться по очень длинным, вытянутым, как парниковый огурец, орбитам вокруг Солнца, периодически навещая свою прародину — окрестности орбиты Нептуна, как это делает, в частности, комета Галлея. Кстати, когда ученые отыскивают в старинных хрониках упоминания о кометах и стараются отождествить то или иное описание с кометой Галлея, они помнят, что в те давние годы путь ее в Солнечной системе мог быть совсем другим и чисто арифметическое отсчитывание отрезков древней истории по 76 лет может привести к заблуждениям. Известно, что планеты-гиганты и после того, как орбиты уже сформировались, продолжают играть очень важную роль в жизни комет, им ничего не стоит эту жизнь поломать, до неузнаваемости искалечив кометную траекторию. Например, в 1886 году комета Брукса-2 на свою беду прошла в 150 тысячах километрах от Юпитера, — по астрономическим масштабам очень близко. В результате период обращения этой кометы вокруг Солнца изменился с 29 до 7 лет.
Много ли комет кружит около Солнца? Довольно много. Во всяком случае, за всю историю человечества кометы наблюдались около двух тысяч раз. Большая половина этих наблюдений отмечена была лишь восторгами и страхами, траектории не измерялись и сказать что-либо определенное об орбитах этих комет нельзя. Большая часть комет зафиксированных, «обмеренных», имеющих астрономический «паспорт» с пропиской в Солнечной системе, относится к так называемым короткопериодическим кометам, т. е. к кометам, которые приближаются к Солнцу не реже, чем один раз в 12 лет. Однако есть кометы, период обращения которых намного превышает период обращения кометы Галлея. Комета Икейя-Секи, которую открыли японские астрономы-любители Каору Икейя и Цитому Секи в 1965 году, вновь посетит окрестности Земли лишь в 2839 году. Есть кометы, период обращения которых измеряется тысячами и даже миллионами лет. Если говорить о частоте своего появления, Галлеева комета представляется мне идеальной: она появляется настолько часто, чтобы о ней не забыли, и настолько редко, чтобы появление ее всякий раз превращалось в событие.
При всех расхождениях в вопросе, где же находится кометная прародина, астрономы довольно дружно соглашаются с тем, что само вещество комет — древнейший материал Солнечной системы, близкий по составу к тому материалу, из которого некогда образовывались ее планеты. Поэтому, как уже не раз отмечалось во многих популярных статьях, изучение комет — это всегда путешествие в далекое прошлое.
Что же представляет собой это правещество — сырье для того материала, из которого миллиарды лет назад были «построены» планеты, в том числе и наша Земля? Тут тоже, как говорится, возможны варианты, разные кометы, очевидно, отличаются по своему составу, так что будем говорить о комете Галлея.
Как вы помните, Фридрих Бессель намекал на ледяное ядро. Сам Бессель отмечал, что до него о ледяной (если называть вещи своими именами) природе кометного ядра говорил Пьер Симон Лаплас — выдающийся французский астроном, научные способности которого были соизмеримы лишь с его уникальным даром сохранять прочную общественно-политическую стабильность, занимать высокие посты и пользоваться всеми материальными благами вне зависимости от резких поворотов бурной истории Франции в конце XVIII — начале XIX века. Американский астроном Фред Уиппл развил гипотезу Лапласа и Бесселя о ледяном составе кометных ядер и, можно сказать, сделал ее сегодня общепринятой. Разумеется, ядро — не примитивная льдышка. Это замороженная смесь газов довольно сложного химического состава (куда, впрочем, входит и тривиальный водяной лед), которая, в свою очередь, перемешана с пылью и мелкими каменными частицами. Когда комета летит где-то на окраине Солнечной системы, у нее нет ни раздутой головы, ни ослепительного хвоста, просто летит большой «грязный снежок», — это не мое сравнение, его придумал Уиппл. Но по мере приближения к Солнцу, где-то за 600–700 миллионов километров от него, т. е. где-то между Марсом и Юпитером, солнечные лучи начинают припекать, «снежок» нагревается, замерзшие газы вырываются наружу вместе с пылевидными частицами и окутывают ядро комой — огромным туманным облаком ничтожной плотности, которое, как легко понять, становится тем больше, чем ближе к Солнцу подлетает комета. Например, во время визита к Солнцу в 1910 году кома кометы Галлея раздулась до чудовищных размеров — около 400 тысяч километров, — это столько, сколько от Земли до Луны! А хвост простирался на 60 миллионов километров!
Во время полета в окрестностях Солнца на любую комету действуют две главные силы. С одной стороны, Солнце притягивает комету к себе, с другой — солнечный ветер «дует» ей навстречу, деформируя кому и образуя огромный газовый хвост, тоже, как вы уже знаете, очень разреженный. Если в хвосте кроме газа содержатся и твердые пылинки, хвост под действием притяжения Солнца и давления его лучей может изгибаться, чем и объясняется разнообразие хвостов, первую классификацию которых провел еще Федор Александрович Бредихин.
Надеюсь, астрономы простят мне упрощение всех этих — на самом деле гораздо более сложных и не совсем еще ясных — процессов. Важно понять одно: при всей своей великолепной красочности комета по сути — пустота, практически, подобно подпоручику Киже, «нечто, фигуры не имеющее». Занимая пространство, в сотни раз превышающее объем Солнца, эти бледные, бестелесные призраки Вселенной не оказывают ни на Солнце, ни даже на планеты никакого влияния, поскольку их массы не превышают и миллионной доли массы даже такой скромненькой планеты, как наша Земля.
А может ли вдруг оказать? Может ли комета столкнуться с Землей? Этот вопрос волновал людей в XI веке и будет волновать в двадцать первом. В принципе, может. Расчеты показывают, что Земля может столкнуться с кометой средних размеров (ядро которой имеет диаметр около километра) один раз в 50 миллионов лет. Может произойти и столкновение с осколками самопроизвольно разрушающегося ядра. Очень похоже, что именно таким осколком кометы Энке был знаменитый Тунгусский метеорит 1908 года. Возможны и более грандиозные катастрофы. Сегодня разрабатывается, например, гипотеза о том, что именно столкновение Земли с неким небесным телом 65 миллионов лет назад вызвало мировую катастрофу, погубившую динозавров. Но это уже другая тема, достойная отдельного разговора…
Итак, кометы — воистину астрономические ничтожества. Известный ученый и пропагандист астрономии профессор Борис Александрович Воронцов-Вельяминов долго искал сравнение для того, чтобы с максимальной наглядностью показать, что же такое плотность кометы. И в общем, не нашел его, поскольку в нашей земной жизни ничего подобного нет. Он писал, что если взять одну миллионную долю зернышка пшеницы, истолочь ее в пыль и рассеять эту пыль в зале Большого театра, то мы получим представление о плотности кометы. Все точно, но кто в состоянии представить себе миллионную долю зернышка?!
Так же буксует наше воображение, когда мы пытаемся вообразить себе соотношение величин ядра кометы, ее головы и хвоста. Я тоже искал наглядный пример. Вот что получается: если ядро — это копейка, лежащая на Красной площади в Москве, то весь Кремль окажется внутри кометной головы, а ее хвост вылезет за пределы кольцевой автомобильной дороги, — все это тоже представить себе трудновато…
Но, пожалуй, еще труднее представить себе наш мир в 2062 году, когда комета Галлея прилетит к нам в следующий раз…
Последний ее визит может, как и в средние века, стать для землян предзнаменованием новых перемен, основанным уже не на суевериях, а на ясном сознании необходимости единства человечества перед лицом природы, необходимости консолидации усилий в постижении тайн мироздания. Принимая в ноябре 1985 года в Кремле делегацию лауреатов Нобелевской премии, М. С. Горбачев сказал: «А разве сам космос не представляет собой исключительно перспективную арену международного сотрудничества? Сегодня мы только-только начали осваивать его в интересах науки и практической деятельности человека, но как много достигнуто в короткий срок!» Генеральный секретарь ЦК КПСС напомнил лауреатам, что и сегодня советские ученые проводят совместные работы с учеными США, в том числе и в исследованиях кометы Галлея.
Последнее посещение окрестностей Земли кометой Галлея ознаменовано было обширной программой наземных исследований. Для уточнения траектории астрономы заложили в ЭВМ практически все сведения об орбите кометы Галлея, начиная с 1759 года. Теперь абсолютно точно известно, где она пролетит, и двести лучших в мире телескопов неусыпно следили за кометой многие месяцы. К работе подключилась и огромная армия астрономов-любителей разных стран, которые, как показывает история, именно в изучении комет обогатили астрономию многими замечательными открытиями. Выполнением этой программы руководила специальная группа Международного астрономического союза, в которую входили 22 астронома из 10 стран мира, в том числе два советских специалиста. Советская национальная программа изучения кометы Галлея, являющаяся частью Международной программы, предусматривала участие в наблюдениях кометы всех ведущих астрономических центров нашей страны и двух специализированных станций — в северном полушарии — на горе Майданак в Узбекистане, в южном — в городе Ториха в Боливии.
Как уже говорилось, условия наблюдения кометы во время ее нынешнего визита были максимально неблагоприятны для земных наблюдателей. Но так уж устроен человек, что если он захочет что-нибудь разглядеть, то разглядит непременно. Если очень маленькое — изобретет микроскоп, если очень далекое — телескоп, если темное — фотоумножитель, если яркое — светофильтр, если вообще глаз ничего не видит, — все равно что-то придумает. И это тридцатое из зафиксированных человеком посещений земного небосвода кометой Галлея тоже потребовало от него немалой находчивости и выдумки. Впервые в человеческой истории люди приступили к непосредственному изучению комет с помощью автоматических космических аппаратов.
О проекте полета к комете Галлея заговорили в США. «Только полеты к кометам могут дать нам „квантовый скачок“ в знаниях, необходимых для решения основных фундаментальных проблем комет», — писал Ф. Уиппл еще в 70-х годах. Американские ученые обратились к конгрессу с просьбой субсидировать проект «Миссия перехвата Галлея», который был тогда единственным проектом НАСА, не преследовавшим никаких военных целей. И именно этот проект конгресс финансировать отказался. Некоторые американские ученые, например Т. Голд из Корнелльского университета, по свидетельству журнала «Сайентифик Америкэн», утверждают, что в отмене предполагавшегося полета к комете Галлея повинны разработка и запуски космического челнока «Спейс шаттл», в которые были вложены основные финансовые средства. Через журнал «Астрономия» американские ученые обратились к читателям с просьбой оказать финансовую поддержку кометному проекту, подобно тому, как несколько лет назад удалось собрать дополнительно около 100 тысяч долларов на осуществление марсианского проекта «Викинг». Но одни только добровольные пожертвования не могли спасти «Миссию перехвата Галлея», и проект остался неосуществленным.
Японцы оказались более последовательными. Они разработали сравнительно простой космический автомат, названный ими «Планета-A». Модель этого автомата, предназначенную для наземных экспериментов, запускать в космос сначала не собирались, но потом решили, что страховка в таком деле не помешает, и запустили оба аппарата. Довольно легкие — оба по 150 килограммов, — они не снабжены защитными противометеорными экранами и не рассчитаны на пролет вблизи ядра кометы. По расчетам «Планета-А» должна была приблизиться к комете примерно на 100–200 тысяч километров, а ее дублер — на 15 миллионов километров.
Третий космический разведчик был настроен более решительно: он собирался войти в кому и пролететь всего в нескольких сотнях километров от ядра кометы, что позволило предсказывать ему печальную участь: многие специалисты считали, что он непременно будет «подбит» каким-нибудь кусочком кометного вещества.
Знаменитый флорентийский художник Джотто ди Бондоне, очевидно, видел комету Галлея в 1301 году. Во всяком случае, он был первым живописцем, изобразившим комету на своей фреске «Поклонение волхвов», которую и сегодня можно увидеть в Падуе. Джотто и его комету уже в наши дни прославил в стихах знаменитый испанский поэт Рафаэль Альберти. Поэтому когда Европейское космическое агентство, объединяющее 11 стран, решало, как окрестить свой «неустрашимый» космический зонд, всем понравилось название «Джотто». Сделанный на заводах Англии и ФРГ, этот аппарат стартовал с французского космодрома Куру.
Первоначально Советский Союз не предполагал запускать специальный аппарат к комете Галлея. Инициативу в этом деле проявил Роальд Зиннурович Сагдеев, — директор Института космических исследований Академии наук СССР. Физик по образованию, специалист по плазме, в 36 лет ставший академиком, Сагдеев не мог оставаться равнодушным к такому плазменному феномену, каким является комета Галлея. Проанализировав траекторию кометы и взаимное расположение планет, директор ИКИ и его сотрудники пришли к выводу, что им представляется такой редкий в научной работе случай, когда одним выстрелом удастся убить двух зайцев. Запустив в конце декабря 1984 года автоматическую станцию к Венере, можно, отделив спускаемый аппарат, часть ее аппаратуры использовать для исследования атмосферы этой планеты. Оставшуюся на орбите часть станции Венера сама развернет своим гравитационным полем и направит ее наперехват комете. Так родился советский проект ВЕГА (ВЕнера — ГАллей). Стартовав с космодрома Байконур, две советских «Веги» сначала успешно провели первую часть своей работы, достигнув в июне 1985 года окрестностей Венеры, а затем полетели к комете.
За 20 последних лет Советский Союз и Соединенные Штаты Америки направили к планетам Солнечной системы более 30 межпланетных станций. Казалось бы, кое-какой (и немалый!) опыт в этом деле уже накоплен. Однако новая задача потребовала, как это не раз уже бывало в короткой истории космонавтики, принципиально новых решений. С планетами все было проще. Планеты не только несоизмеримо больше по своим размерам с кометным ядром, но и ведут они себя куда более солидно, двигаясь по орбитам с высокой стабильностью, что позволяет космическим баллистикам вычислить момент сближения автоматической станции с планетой с точностью до секунд и километров. Комета же из-за малых размеров своих подвержена, как уже говорилось, всевозможным капризам траектории. Опыт предыдущих наблюдений 1835 и 1910 годов имел ценность весьма относительную. Новые измерения, хотя и превосходили по своей точности данные прежних лет, первоначально могли предсказать появление кометы в данной точке ее траектории с точностью до 3 часов, что соответствует разбросу в пространстве примерно в миллион километров. Руководствоваться столь расплывчатыми данными для того, чтобы проложить курс межпланетных станций, было нельзя. Следовательно, уже во время самого полета и, главным образом, на завершающем его этапе требовалось постоянно уточнять орбиту кометы Галлея и тут же «подправлять» движение станций. Такая работа не могла быть выполнена даже такими пылкими энтузиастами, какими был Лаланд и его соратники, и даже куда более многочисленной группой энтузиастов, и даже какой-либо совершенной ЭВМ. Здесь требовалась заранее согласованная и точно скоординированная работа многих научных коллективов разных стран и сотен ЭВМ.
Вся информация о комете Галлея, получаемая как в нашей стране, так и за рубежом, в 100 с лишним обсерваториях мира стекалась в наш «главный штаб» — Государственную астрономическую обсерваторию АН УССР в Киеве. Оттуда она распределялась для обработки в Центр управления космическими полетами в Подмосковье, в Московский институт прикладной математики имени М. В. Келдыша АН СССР, в Ленинградский институт теоретической астрономии АН СССР. Они должны были проанализировать в кратчайшие сроки результаты более десяти тысяч (!) наблюдений. Так удалось ранее имевшуюся точность в пределах 3 часов уменьшить до 10–20 секунд, что уже обеспечивало надежную вероятность встречи межпланетных станций с кометой на расчетных расстояниях.
И они встретились! «Вега-1» прошла 6 марта 1986 года в 8900 километрах от ядра кометы Галлея. «Вега-2» 9 марта — в 8000 километров. Интересно, что обогнав на многомесячном космическом пути «Джотто», советские станции успели передать ему сведения, необходимые для окончательной коррекции его траектории, для того чтобы этот автомат смог пролететь на минимальном расстоянии от ядра: около 500 километров. Это стало первым примером плодотворного сотрудничества в космосе автоматических аппаратов разных стран. Вряд ли надо говорить, что сведения, полученные всеми космическими аппаратами, дополняли друг друга, умножая общий результат, делая его более надежным и достоверным.
Главная сложность работы всех этих космических зондов заключалась в том, что комета и Земля, упрощенно говоря, летели навстречу друг другу. Обстоятельства движения кометы и Земли не позволяли запустить космические аппараты так, чтобы они могли догнать комету и лететь с ней рядом, позволяя аппаратуре не торопясь вести свои исследования. Сближение автоматов с кометой происходило как бы на встречных курсах, когда они проносятся мимо друг друга с невероятной скоростью — 78 километров в секунду. Ядро кометы пролетало, например, мимо окуляров телекамер «Веги» за одну шестнадцатую долю секунды! Обычно во время исследований, проводящихся с так называемой пролетной траектории, полученная информация накапливалась в блоках памяти автомата, а затем уже без спешки передавалась на Землю. Так было при полетах у Луны, у Венеры, у Марса. Так было при полете мимо планет-гигантов. Около кометы так сделать было нельзя. Вернее, сделать-то можно, но опасно: вероятность встречи космического разведчика даже с микрометеором не сулила ему ничего хорошего: на таких огромных скоростях взаимного сближения камушек весом в одну десятую грамма обладает энергией автомобиля, идущего со скоростью 100 километров в час, и пробивает алюминиевый лист толщиной 8 сантиметров. Можно просто не успеть накопить информацию. Поэтому ее требовалось не только молниеносно получать, но и так же молниеносно передать на Землю. Все эти предельно напряженные условия работы предъявляли чрезвычайно высокие требования к аппаратуре двух советских аппаратов, которые, по словам академика В. А. Котельникова, являлись самыми сложными космическими роботами, когда-либо запущенными по программе «Интеркосмос». Надо отметить, что на этот раз эта программа объединяла не только старых добрых партнеров из социалистических стран, но и ученых Австрии, Франции и ФРГ.
Отдельную статью можно было бы написать об устройстве «Веги», о тех уникальных, впервые в мире примененных инженерных решениях, которые помогли этим автоматам получить максимальное количество самой разнообразной информации в те считанные минуты, когда они работали в условиях космического холода, сверхглубокого вакуума, жесткой солнечной радиации, постоянной метеорной опасности, рядом со всей этой гигантской электромагнитной плазменной машиной, которая называется кометой Галлея, рядом с ее крошечным ядром, непонятными лучами, необъясненными галосами, оборванными кусками хвоста и еще чем-то, о чем и догадаться было невозможно.
Я думаю о стремительном полете этих совершеннейших машин и вспоминаю квадрант Тихо Браге и подзорную трубу Иоганна Кеплера. Романтика астрономии не исчезает. Она перерождается в другие, новые формы. Как все во Вселенной…
Итак, что же нового узнали мы сегодня о нашей старой знакомой? Пожалуй, за несколько мартовских дней 1986 года мы узнали о ней больше, чем за многие века после первой записи придворного летописца Ма Дуаньлиня в 240 году до нашей эры. Для полного анализа и уточнения всей информации потребуются многие месяцы, а то и годы, но уже сегодня можно говорить о замечательных итогах космических экспедиций.
Прежде всего — это, наверное, самое главное — мы наконец разглядели ядро. Даже с близкого расстояния разглядеть его трудно — столь плотно облако «кометного пара», его окружающее. Но все-таки разглядели! Оказалось, что это не рой мелких частиц и не летающая куча грязных льдин — были такие предположения, — а нечто монолитное, неправильной, как картофелина, формы, которая в одном из ракурсов напоминает в плане контур человеческого следа: округлая ступня, потом утоньшение, а дальше — пошире — пятка. Размеры «следа»: в длину около 14 километров с максимальной шириной «ступни» около 7 километров.
Подсчитано, что каждые сутки вблизи Солнца комета Галлея испускает несколько миллионов тонн водяного пара и около миллиона тонн пылевидных частиц. Человека астрономически невинного эта величина не может не испугать: а ну как вся комета испарится?! Точно так же он, кстати, пугается, узнав, что каждую секунду Солнце сжигает четыре миллиона тонн водорода: а ну как Солнце погаснет?! Конечно, погаснет. Вернее, сначала раздуется, неимоверно, сожжет свои планеты, потом сожмется и погаснет. И комета Галлея тоже когда-нибудь вся изойдет паром: миллионы тонн в сутки — это много, конечно. Но если масса ядра оценивается триллионами тонн, то не так уж и много.
Подсчитали: чтоб «наработать» столько пара, комета должна испарять воду со всей поверхности, иными словами, она должна быть ледяной. Но приборы «Веги» установили, что отражательная способность ядра менее пяти процентов. Иными словами, ядро черное. Черный лед? Кроме того, черное это тело имеет очень высокую температуру. Черный раскаленный лед?
Столь противоречивые сведения не обескуражили теоретиков, которые очень оперативно предложили весьма убедительную модель строения ядра кометы, в которой, как говорится, «концы с концами сходятся». По их мнению, в основе ядра — все тот же «грязный снежок» Фреда Уиппла: ученые называют подобное соединение клатратом — в кристаллическую решетку льда вкраплены другие молекулы и клатрат этот перемешан с каменистыми и металлическими частицами, сложного и неоднородного химического состава. Есть частицы силикатные, а есть и углеродные пылинки. Обнаружен натрий, магний, кальций, железо. «Наличие разнородных пылинок, — пишет академик Р. З. Сагдеев, — указывает на сложную тепловую историю первичного материала Солнечной системы».
Естественно, что на поверхности ядра кометы лед испарился, а частицы спеклись в горячую пористую корку. Сквозь поры черной корки постоянно вырываются струи пара. Пар тоже «грязный»: вместе с ним вылетают частицы пыли и «микрокамушки». Они могут забить поры поверхностной корки. Но испарение под ней продолжается, и в конце концов корка, толщина которой различна, но не превышает, очевидно, нескольких сантиметров, в каком-то месте лопается, как перегретый котел, из-под нее вырывается мощная струя пара, получается своеобразный природный реактивный двигатель. «Двигатели» эти работают, как правило, вразнобой, гася импульсы друг друга, но в этом хаосе может так случиться, что истечение пара в каком-то направлении вдруг становится преобладающим и настолько мощным, что ядро кометы начинает дергаться, рыскать. Теперь вы понимаете, как трудно предвидеть и вычислить детальную картину движения ядра. Впрочем, не трудно, — невозможно. Куда проще вычислить, где в очередной раз булькнет манная каша в кипящей кастрюле.
Уточнены и дополнены нами сведения о химическом составе потока газа, исторгнутого ядром кометы. Это, главным образом, водяной пар, но есть там и кислород, и водород, и углерод, и молекулы окиси и двуокиси углерода, гидроксила, и того самого циана, которым пугали обывателей в 1910 году. Вырвавшийся на космический простор со скоростью около тысячи метров в секунду газ мгновенно расширяется в вакууме до невероятных размеров. Солнечное излучение разбивает его на ионы, и образуется призрачное облако плазмы, в 10–15 раз превышающее по своей величине магнитосферу Земли. Вот такой мир — бурлящий, кипящий, хочется написать — ревущий (увы, в космическом вакууме все процессы протекают бесшумно, и в гробовом этом молчании есть, согласитесь, что-то еще более жуткое, чем рев) — предстал перед телевизионными глазами космических посланцев Земли. Мир новый, неизвестный, ни на что не похожий. И если подвиг Эдмунда Галлея есть триумф научной теории, то полеты космических автоматов являют собой триумф научной практики. На встрече в Кремле 18 марта 1986 года Генерального секретаря ЦК КПСС с группой участников проекта «Вега» М. С. Горбачев подчеркнул, что полет космических автоматов стал ярким достижением нашей науки и техники, убедительным примером плодотворного международного сотрудничества в мирном освоении космического пространства.
Солнце растапливает грязный лед ядра кометы. Как было бы хорошо, если бы это новое свидание с ней помогло бы нам хотя бы в малой степени растопить здесь, на Земле, грязный лед недоверия и отчужденности при решении воистину глобальных проблем нашего земного бытия.
…А комета вновь уходит от нас, чтобы вернуться в 2062 году. Наши дети и наши внуки увидят ее. Кто-нибудь из молодых наших современников тоже увидит наверняка. Они увидят ее и вспомнят, что ее видели Леонардо да Винчи, Христофор Колумб, Лев Толстой. И мы с вами видели. И еще миллионы, миллиарды людей видели ее и миллиарды наших потомков увидят в будущем. Очень бы хотелось, чтобы увидели. Она уже не испугает их, как сотни лет назад пугала их предков, они поймут, что пугаться надо только того, что лишь в редкие годы явление кометы напоминает нам простую и огромную истину исторической общности поколений, с космической неотвратимостью и периодичностью сменяющих друг друга в постоянном стремлении к новым трудам, знаниям и совершенствам. Далекая от наших горестей и радостей, равнодушная к нашим проблемам и заботам, комета Галлея начала еще одну петлю своей орбиты, не подозревая, что петли эти соединяются как звенья единой цепи человеческих судеб на маленькой планете, окрестности которой она посещает каждые 76 лет.
Вяч. Вс. Иванов Вода. Земля. Соль
Искусственное орошение, природная среда и культурно-исторический процесс
1
На протяжении двух лет, начиная с осени 1984 года, многие ученые, инженеры, писатели участвовали в ожесточенных спорах, касавшихся судьбы рек европейского Севера и Сибири. Против предполагавшегося их поворота было выдвинуто много доводов, относившихся и к вредному воздействию этой перемены на окружающую среду, и к судьбе затапливаемых областей, на которых находятся древние драгоценные памятники русского искусства, и к собственно техническим и экономическим слабым сторонам проекта. Доводы были несомненными, и проект поворота рек был отвергнут. Я возвращаюсь к этой проблеме не для того, чтобы суммировать уже сказанное о ней, а чтобы предложить посмотреть на нее и с несколько другой точки зрения — культурно-исторической.
2
Сейчас во всем мире много говорят о футурологии, о предсказании будущего; роль науки часто видят и в том, что она должна помочь прогнозированию и планированию того, что может случиться. На чем такие прогнозы должны основываться? Только ли на расчетах, опирающихся на данные и методы естественных наук? Около двадцати лет назад специалисты по этим наукам, собранные Римским клубом, сформулировали несколько глобальных проблем, от решения которых, по их мнению, могло зависеть будущее человечества в начале XXI века: угроза ядерного заражения, опасность мирового голода, истощение энергетических запасов, демографический взрыв. В нашей стране одним из первых серьезно занялся рассмотрением этих вопросов академик П. Л. Капица, которому принадлежит заслуга публикации первых статей на эти темы, где он углубленно их изучал. П. Л. Капица в одной из этих статей заметил, что уже и в древних мифах, таких, как предание о всемирном потопе, человечество с испугом представляло возможности глобальных катастроф.
Скажу больше: в ранней мифологии и в фольклоре обсуждается и вероятность полной гибели человечества. В древнемалоазиатских мифах о боге Кумарби четыре тысячи лет назад рассказывалось, что на совете богов обсуждался проект полного истребления людей, предложенный одним из богов. Другие боги стали возражать: а кто же тогда даст богам их еду и питье? Жертвоприношения, которые совершались в храмах, рассматривались как способ прокормить богов. Если людей на станет, богам самим придется пахать землю. А богиням придется молоть зерно (зерно мололи в небольших ручных мельницах, эта работа считалась женской). Доводы, приведенные против полного уничтожения человечества, могут показаться наивно-материалистическими, но поразительна сама постановка вопроса уже в такое далекое от нас время.
Отсвет этих же мифологических представлений можно видеть в латышских народных песнях-дайнах, сохранивших многое от самой седой старины. В них поется:
Где останешься ты, Боже, Если все мы здесь умрем? Кто тебе тогда даст хлеба, Кто даст пива старику?Бог здесь — латышский бог неба, наследник древнего индоевропейского (это доказывается древностью его имени). И песня скорее всего унаследована от тех, которые предки латышей принесли из своей древней индоевропейской прародины. Хотя тон в обращении крестьянина к богу стал уже другим: простецким, фамильярным.
Люди давно стали задумываться о будущем, и часто оно казалось им ужасным. Больше других текстов этого рода известен Апокалипсис — «Откровение Святого Иоанна», последняя из книг Нового Завета. В ее мистических пророчествах до сих пор иногда ищут ответ, большей частью самый мрачный, на вопросы, обращенные к грядущему. Но и эта книга не начинает, а завершает собой целую традицию.
Недавно стал известен состав частных клинописных библиотек столицы Ассирии — одного из великих государств Древнего Востока I тысячелетия до н. э. Независимо от вида занятий каждого из тогдашних образованных людей, которым эти библиотеки принадлежат, в них среди десятков клинописных книг мы не найдем ничего, кроме разных видов предсказаний — по звездам, по внутренностям жертвенных животных, по виду родившихся уродов (число этих последних предсказаний заставляет думать о генетическом неблагополучии). Ассирия и Вавилон жили постоянным предчувствием надвигавшейся катастрофы. Ее подробности пытались предсказать, используя способы, предлагавшиеся тогдашней рационалистической системой знания, которую мы отказываемся считать наукой. Катастрофа произошла. Как ее объясняем мы? Ведь у нас есть преимущество наблюдателей, знающих, что случилось в конце. Поэтому мы и можем по достоинству оценить то, о чем вавилоняне и ассирийцы могли только гадать вслепую.
Одно из основных отличий современной цивилизации ото всех, которые ей предшествовали, заключается в том, что нам известен (пусть отрывочно, пусть по мозаике фактов, открытых археологами, дешифровщиками древних текстов, историками) опыт предшествующих цивилизаций. Со времени неолитической революции, когда уже начались первые технологические успехи человека, заложившие основы и современной материальной культуры, прошло больше десяти тысяч лет. Этот десятитысячелетний опыт детально изучен современными науками о человеке. Всегда ли выводы из него используются, когда мы думаем о нашем ближайшем будущем?
На примере той области, которая вновь привлекла к себе внимание в связи с проектом поворота рек, попробуем поискать ответ на этот вопрос.
3
Неолитическая революция означала прежде всего переход к новому способу обеспечения людей продовольствием. До этого людям были известны только ресурсы дикой природы: дикие животные, охотой на которых жили еще и предки Человека Разумного (наши отдаленные прародители), дикорастущие растения, которые они собирали. В традиционных человеческих навыках сказываются обычаи далекой древности, но сейчас занятия охотой и рыбной ловлей, собирание грибов и лесных ягод совсем не главные способы обеспечения продовольствием. А до неолитической революции, до приручения диких животных и одомашнивания злаков только эти способы, сейчас сохраняющиеся как бы на периферии хозяйства, и были возможны. Удивительно, что даже и успехи биотехнологии не меняют этих основных достижений в получении пищи. Часть «глобальных» проблем и объясняется тем, что мы продолжаем жить за счет открытий, сделанных в начале неолитической революции и с тех пор не изменившихся принципиально. В других областях, например энергетике или вооружении, человечество оказалось куда более изобретательным. Более того, даже и в животном мире человек — не рекордсмен по числу прирученных им видов: такие общественные насекомые, как муравьи, в этом больше преуспели.
Современная этнология (то есть теоретическая этнография) вслед за ее предтечей Жан-Жаком Руссо все чаще задумывается о соотношении культуры и природы. Неолитическая революция прежде всего провела эту границу не там, где она проходила в предшествующие эпохи: в область культуры переместились многие животные и растения (после их одомашнивания), а поэтому постепенно культурой, а не природой стали определяться и многие другие части среды, окружающей человека. Не будем преувеличивать новизны задач и вопросов, встающих перед современным человечеством. Проблематика, волнующая современных «зеленых», заложена уже 12 тысяч лет назад в самом характере неолитической революции. Другое дело, что в современном мире меняются масштабы проблем, все как бы под увеличительным стеклом. Но и это увеличение происходило постепенно. Вначале размеры всего населения Земли были изумительно малы. Недавно подсчитано, сколько людей переходило из Африки, где около ста тысяч лет назад сложился Человек Разумный Разумный (это двойное наименование парадоксальным образом обозначает современный антропологический тип человека), в Европу, где примерно 40–30 тысяч лет назад начинаются появляться первые поселения этого человека. Скорость переселения составляла не более одного-двух людей на поколение! Иначе говоря, люди исчислялись тогда буквально единицами.
Радикальное изменение размеров населения стало возможным только после неолитической революции, когда на смену присваивающему хозяйству охотников и собирателей дикорастущих растений пришло производящее хозяйство землепашцев и скотоводов. Характером хозяйства во многом определялась и та природная среда, в которой предпочитали жить племена, начавшие заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Для скотоводства уже и в древности нужны были пастбища, для земледелия — орошаемые поля. Этим требованиям удовлетворяли горные долины. Поэтому в них и начинается раннее земледелие.
Одним из первых на это обратил внимание академик Николай Иванович Вавилов. Его имя теперь часто произносят с уважением, говоря о нем как о великом генетике и ботанике. Но его практические прикладные работы составляли единое целое с работами культурно-историческими: он открывал древние центры земледелия для того именно, чтобы понять задачи современности. История культуры в его работах носила прикладной характер. Поэтому у него и у его многочисленных продолжателей в современной науке прежде всего мы и будем искать ответ на вопрос, поставленный нами вначале. Для Вавилова восстановить исторический процесс — значит понять и его результаты, которые мы наблюдаем сегодня и будем наблюдать завтра.
Уже во вступительной лекции, читанной совсем молодым Вавиловым осенью 1917 года, ученый останавливается на роли воды для древнего земледелия. Вавилов рассуждает так: для земледелия вода необходима. Но если (как это и было в последующие эпохи) земледельцы живут на равнинах, им требуются большие энергетические затраты и технические сооружения, чтобы поливать растения. Горы же сами по себе как бы создают подобие водоподъемной системы. С них вода спускается вниз сама по естественным уступам. Если этих уступов мало, можно дополнить их искусственными «террасами». Еще и сейчас в Армении мне случалось в горных районах столкнуться с «террасами»-уступами, по которым течет вода; видимо, этот способ орошения унаследован еще с тех древних времен, когда им пользовались и в Урарту, находившимся на части территории современной Армении.
4
Исследования, произведенные Н. И. Вавиловым, показали, что одомашнивание многих растений осуществилось в горах. Чтобы найти доказательства этому, Вавилов сам совершает путешествия по крайне труднодоступным местам, где он предполагал центры одомашнивания. Он сам вместе со своим спутником Д. Д. Букиничем подробно описал одно из таких путешествий — в Афганистан, где он едва ли первым из европейцев побывал в некоторых высокогорных районах Нуристана, в прошлом называвшегося Кафиристаном — «Страной неверных» (кафиров, т. е. «гяуров»): здесь дольше всего удержалось язычество у племен, противившихся мусульманскому завоеванию. Мне довелось видеть в Этнографическом музее в Осло священные камни, которым «кафиры»-нуристанцы поклонялись еще во время путешествия Вавилова. Замечательный норвежский лингвист Моргенстьерне, который посетил Нуристан почти одновременно с Вавиловым, водил меня по этому музею во время VIII Международного конгресса лингвистов в Осло летом 1957 года. Он мне рассказывал, что нуристанцы не могли подарить ему свои святыни. Они только намекнули Моргенстьерне, что он мог бы их украсть. А его пуританское воспитание любой краже противилось. Он не переставал жалеть, что из-за этого столкновения двух вер — нуристанской и пуританской — каменных алтарей в музее Осло было куда меньше, чем это было возможно. В нуристанских горах Моргенстьерне открыл не только следы языческих верований, но и языки, сохранившие пережитки времени первых переселений индоевропейцев на их пути в Индию. Горы — это заповедник и для древних растений, и для древних слов. Оказалось, что по словам можно узнавать и историю растений, ими называемых.
Вавилов одним из первых предложил основывать выводы науки о культурных растениях на анализе их названий. К недавним лучшим продолжениям занятий Вавилова принадлежит вышедшая в 1982 году книга ленинградского ученого И. М. Стеблина-Каменского о названиях культурных растений в памирских языках. Тщательно проведенное исследование позволило выяснить, какие культурные растения (пшеница, тутовое дерево), некогда одомашненные в Припамирье, сохранили след о своем давнем прошлом в архаических языках современного Памира. Пожалуй, мало есть областей знания, где так наглядно обнаруживается отсутствие реальных границ между гуманитарными и естественными науками. Другой вопрос, что заниматься этим — дело нелегкое. Нужно быть или ботаником и генетиком, проникшим и в языковые тайны, или лингвистом, профессионально изучающим географию растений. Недаром один из крупнейших французских лингвистов современности, едва ли не лучший знаток многих языков Юго-Восточной Азии и Тихого океана Анри Одрикур — прямой ученик Н. И. Вавилова. Одрикур рассказывал мне, как Вавилов открыл для него мир лингвистики, когда тот приехал в Москву в самом начале 30-х годов заниматься у Вавилова своей тогдашней специальностью — геоботаникой. Вавилов объяснил Одрикуру, как важно для изучения древнейших центров земледелия сравнение между собой разных языков с целью выявления путей распространения и наследования самых ранних названий культурных растений. Одрикур настолько этим увлекся, что стал профессиональным лингвистом, а позднее предложенный Вавиловым метод совместного изучения языка и материальной культуры применил к исследованию не только названий растений, но и слов, обозначающих сельскохозяйственные орудия. Вместе с тем Одрикур и его ученики открыли в Юго-Восточной Азии и Океании особый тип отношения к растениям, которые Одрикур называет «почтительной дружбой». Это связано с другими выявленными Одрикуром и его учениками чертами «тропического» земледелия, в котором теперь многие ученые видят след самых ранних форм одомашнивания растений.
Тропическое земледелие Океании отличается вегетативным способом разведения культур. Земледельцы Океании стремятся сохранить отводки — саженцы (черенки) каждого растения. Культур на каждом острове много (земледелие поликультурное), но число первоначальных экземпляров («образцов») данного вида минимально. Наоборот, земледелие развитых стран Древнего Ближнего Востока отличалось меньшей пестротой состава земледельческих культур и большой массовидностью каждой из них, представленной (как и в современном земледелии западной Евразии) большим числом семян (а не отростков). На Древнем Ближнем Востоке, как и позднее в Европе, поля засеивались многочисленными семенами одной культуры. А в Океании (как, по предположению А. Одрикура, некогда и в Восточной Азии) поля были не монокультурными, а поликультурными, т. е. характеризовались пестрым составом культур, каждая из которых представлена относительно небольшим числом экземпляров. Каждый черенок или отводок высаживается в землю сам по себе, отдельно от других. Одрикур думает, что это связано с особым отношением к природе, которое отличало жителей Океании от европейцев. «Почтительная дружба» с растением (как, в другой форме, вероятно, и с животным), которое становилось и предметом культа племени — тотемом, предшествовала (судя и по возможным ее отражениям в символах наскальной живописи первобытных пещер) одомашниванию самых древних культур, но сохраняется (пусть в несколько измененном виде) и до настоящего времени. Возможно, что след этой же древней земледельческой цивилизации, из которой объясняют и рисоводство (первоначально близкое к садоводству и огородничеству) Восточной Азии, сохранился в особых обрядах у племен Индонезии, Филиппин и Малайзии: здесь на полях выделяют небольшие участки, посвященные «душе риса», которой поклоняются земледельцы. Душу риса эти народы представляют как пугливую, ее надо охранять. Рис и другие растения сперва переместили из области природы в сферу культуры и тем самым подготовили его одомашнивание.
Согласно разысканиям японского геоботаника С. Накао, продолжившего с конца 30-х годов и до наших дней занятия Вавилова, рисоводство и вообще земледелие Океании и Восточной Азии восходит скорее всего к восточногималайскому горному центру (иначе говоря, при архаизме типа земледелия Океании в самой Океании оно отнюдь не изначально, привнесено пришельцами). Накао, в общем следуя Вавилову, сосредоточился на изучении не столько центров, т. е. узко очерченных зон, одомашнивания самих по себе, сколько на динамике линий, указывающих направление, по которому в Азии распространялись растения (а также и их названия и связанные с ними обычаи). Если нанести на карту такие линии, идущие по всей Азии, то окажется, что к каждой из образующихся кривых есть своя «арка» (дуга). Накао предположил (опять-таки в согласии с основными идеями Вавилова), что место первоначального одомашнивания растения должно находиться около такой арки, откуда по обе стороны кривой постепенно распространяется растение. Местом пересечения всех арок, выявленных в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, и оказалась восточногималайская горная область. Тем самым подтвердилась гипотеза академика Н. И. Вавилова, высказанная им еще в 30-е годы (до начала полевых работ Накао) и тогда же поддержанная академиком В. И. Вернадским; глубокие прозрения были тогда же и у русского исследователя культур Восточной Азии В. В. Голубева.
Сейчас можно думать, что самых древних центров в начале неолитической революции в Евразии было два — горный восточногималайский и горный переднеазиатский. На основании сравнения некоторых самых древних названий культурных злаков, общих для обоих этих центров, я склонен предположить, что весьма вероятно наличие линии, связывающей оба эти центра. Иначе говоря, можно думать, что оба горных центра одомашнивания растений в Азии между собой связаны. Возможно, что первичным и несколько более ранним был западноазиатский, а движение растений в направлении восточного (с этой точки зрения вторичного) центра можно было бы связать с переселением носителей древних народов по этому именно пути. Согласно гипотезе, разрабатываемой нашим молодым лингвистом С. А. Старостиным и его коллегами, некоторые древние языки Ближнего Востока (в том числе хурритский и урартский) родственны современным северокавказским языкам (абхазско-адыгским и нахско-дагестанским), которые в свою очередь родственны китайско-тибетским языкам и енисейским языкам, большинство которых исчезло на глазах у путешественников, успевших их описать в XVIII и XIX веках, а последний их представитель — кетский — еще до сих пор используется несколькими стами людей, разбросанными по низовьям Енисея (в 1962 году, когда я участвовал в экспедиции по изучению этого языка, оставалось в живых и несколько очень старых женщин, знавших предпоследний из этих языков — югский на среднем течении Енисея в Ворогове). По Старостину, прародина (т. е. древняя территория распространения) всей этой большой семьи языков совпадает с древним западноевразийским центром неолитической революции. Не может ли быть, что движение из этого центра отмечено и в истории языков, и в истории одомашнивания растений? Мне как лингвисту это кажется возможным. Но еще не сказали своего окончательного слова по этому поводу археологи и геоботаники. Поэтому пока подождем с выводами.
Несомненно одно: те два центра (возможно, в конечном счете друг с другом связанные или выводимые один из другого) неолитической революции и, в частности, одомашнивания первых растений, которые обнаруживаются в Евразии, оба были приурочены к горным долинам. Здесь до сих пор находят множество дикорастущих предшественников тех растений, которые были потом одомашнены. Ультрафиолетовая радиация в высокогорье способствовала мутациям и тем самым появлению того многообразия культур, из которого совершали отбор первые земледельцы.
Из всего сказанного выше о связи истории языка и истории культурных растений может вытекать и то, что древние прародины основных языковых семей Евразии приурочены к тем же горным долинам, где ищут и центры одомашнивания растений. Следовательно, на этом пути мы подходим к восстановлению раннего культурного прошлого человечества, как об этом и мечтал Вавилов.
5
Хотя одомашнивание первых культурных растений, как правило, происходило в горных долинах, дальнейшее развитие земледелия связано с равнинами, по которым протекают большие реки. Этот последний вывод был впервые сделан еще в прошлом веке замечательным русским исследователем Львом Ильичом Мечниковым, старшим братом великого естествоиспытателя. Лев Ильич прожил всего полвека, полные бурных событий; уволенный в двадцатидвухлетнем возрасте с русской дипломатической службы «за дуэль и неповиновение начальству», он по политическим причинам эмигрирует из России и в 1860 году вступает добровольцем в «тысячу» Гарибальди, его тяжело ранят в сражении. Мечников уезжает в Японию, где основывает русскую школу и читает лекции. Вернувшись в Европу, Мечников сотрудничает со знаменитым географом Элизе Реклю; оба они во многом были предшественниками современных экологических теорий, учитывающих роль среды для развития общества. Основной труд Л. И. Мечникова — книга «Цивилизация и великие исторические реки» вышла через год после его смерти в 1889 году по-французски, а на родине ученого была напечатана по-русски сразу после революции, причем выдержала два издания — в 1918 и в 1924 годах. По существу, основные идеи этой книги только подтвердились дальнейшими изысканиями. Заметим, что уже в упомянутой своей первой вступительной лекции 1917 года Вавилов отталкивается от выводов Мечникова.
В 20-е годы идеи Мечникова были подхвачены и развиты замечательным этнографом и исследователем географии народов В. Г. Богоразом-Таном. Позднее сходный круг мыслей развивает в большой серии своих работ, подытоженной в книге «Восточный деспотизм», немецкий ученый К. Витфогель, с приходом нацизма эмигрировавший в США.
Основной вывод Мечникова, поддержанный Витфогелем и многочисленными его последователями, заключается в том, что все большие древние цивилизации возникают у великих рек. В более специализированном виде ту же мысль выражают в терминах Витфогеля, говоря о «гидравлических» обществах, в которых основной проблемой является водоснабжение, использующее искусственное орошение; спорность некоторых обобщений Витфогеля, совсем иногда не делающего различий между древними и новыми обществами, заставляет иных ученых в том же смысле применять несколько более узкий термин — «ирригационные» общества. К ним бесспорно принадлежали все древние цивилизации Азии и Средиземноморья от Китая на востоке до Этрурии на западе, цивилизации доколумбовской Америки, а также средневековые евразийские общества от Кампучии до Хазарии. В самом общем виде мысль и сторонников Мечникова и Витфогеля, и некоторых их противников можно было бы выразить так: в социально-экономической истории человечества — во всяком случае, на протяжении ряда тысячелетий после начала неолитической революции и одомашнивания растений — одним из основных факторов остается характер использования воды, без которой немыслимо производство сельскохозяйственных культур.
Для того чтобы первые из этих культур, одомашненные в условиях горных долин, позднее нашли широкое распространение (если воспользоваться ультрасовременной терминологией, — «внедрение») на равнинах больших рек, должны получить развитие и некоторые другие достижения неолитической революции. Прежде всего речь идет о появлении орудий из металлов. Без них невозможно распространение сперва подсечно-огневого, потом пашенного земледелия. Необходимо было вырубать (и сжигать) лес на больших пространствах, которые потом отводились под пашню. А это можно эффективно делать только после начала применения первых металлических (медных и бронзовых) орудий.
Если очагами первоначальной земледельческой культуры были горные районы именно потому, что здесь не требовалось больших усилий для полива растений, то осуществлявшееся на следующем этапе овладение великими реками было бы невозможно без создания специальных технических сооружений — во-первых, и соответствующей особой системы управления организованными массовыми действиями — во-вторых.
Во-первых, для регулирования водоснабжения в бассейне большой реки (Евфрата, Тигра, Инда, Ганга, Амударьи, Сырдарьи, Янцзы, Хуанхэ и т. п.) требовалась система дамб и плотин, каналов со шлюзами, соединенных с более мелкими водопроводящими канавами, а также (в зависимости от рельефа местности) и водоподъемных сооружений. Детали ирригационной системы — в частности, характер дренажных сооружений — зависели от регулярности, числа и характера паводков (паводки Амударьи, повторяющиеся регулярно 4 раза в год в отличие от разливов Нила, и т. п.): роль дренажных работ возрастает в областях с периодическими большими разливами рек. Природные условия диктуют разные формы и возможности естественного и искусственного орошения и мелиорации земель.
Из интересных давно открытых методов ирригации в южных ареалах (иногда заново переоткрываемых современными ирригаторами) стоит отметить хотя бы подземные оросительные системы, создававшиеся в Иране и смежных странах, начиная с глубокой древности: в них вода не испаряется так, как в каналах надводных. В каждом регионе на протяжении тысячелетий исторически сложились такие способы использования воды, которые внимательно исследуются историками земледелия. В каждом отдельном случае можно учитывать длительную традицию, приспособлявшуюся к экологическим условиям и выработавшую особые приемы, эффективность которых опробована тысячелетиями. Напомню хотя бы о характере дренажных сооружений, зависящих от степени заболоченности местности. Не подлежит сомнению, что и мелиораторам сегодняшнего дня не мешало бы знакомиться с соответствующими традициями. Нет одного-единого типа использования воды, пригодного для всех областей. В более северных регионах европейской части СССР наиболее разумным методом остается применение заливных лугов, которые неправильно было бы уничтожать (как это предполагалось в проекте переброски северных рек), распространяя на них метод крупномасштабной ирригации, пригодной в более южных широтах. Попутно не могу не сказать, что, путешествуя недавно по северу европейской части России, я не мог не дивиться бумажному, никак не связанному с реальной экологической действительностью, характеру всего проекта: достаточно поездить по деревням возле Белозерска, Ферапонтова, Кириллова, чтобы убедиться в необходимости уменьшения, а не увеличения количества воды в этих местах, которым грозит и сейчас — до попытки осуществления отмененного проекта — заболачивание (не говорю уже о всем известных трагических последствиях реализации проекта по отношению к изумительным памятникам старинной русской архитектуры, стоящих очень близко к поверхности озерной и речной воды и разрушающихся уже сейчас от сырости). Если невооруженным глазом видно, что воды на русском Севере слишком много, а не мало, то попытку окончательно его затопить можно объяснить только безглазостью тех, кто этот безумный проект затевал.
Не только на разных широтах, но и в зависимости от рельефа меняется стратегия мелиорации. Необходимо прежде всего использовать историко-культурный положительный опыт, отобранный тысячелетиями. Но пока речь шла только о техническом и экологическом аспектах мелиорации и ирригации. Но существует и сторона социально-экономическая. Нужно попробовать разграничить технический, экологический и экономически организационный аспекты, которые переплетаются друг с другом и дают общий результат. Вычленение каждой из составляющих важно потому, что они в разной степени важны для сопоставления с сегодняшним днем. Нельзя игнорировать особенностей отдельных эпох (чем грешил иногда Витфогель), но поиск особенного в них не должен и уводить в сторону от обобщений, без которых исторический опыт неприложим к сегодняшнему и завтрашнему дню.
6
Каковы основные социально-экономические уроки развития больших ирригационных систем древнего и средневекового Востока? Начнем с того, что если в горных долинах население было относительно еще очень ограниченным, то на равнинах, где текут большие реки, могло расселиться уже очень значительное население, исчислявшееся десятками и сотнями тысяч и миллионами. Искусственное орошение одновременно было и необходимым способом обеспечить эти массы населения продовольствием, и сложной системой, которая могла функционировать только при наличии очень большого числа послушных и хорошо организованных исполнителей. Еще в многочисленных статьях и замечаниях Маркса и Энгельса о древнем и современном Востоке был поставлен вопрос об особом «азиатском способе производства», о роли для него ирригации и о возможном объяснении восточного деспотизма общинным землевладением. Можно было бы привести ряд очень показательных цитат, из которых следует, что Маркс и Энгельс понимали значимость искусственного орошения при этом способе производства. Я воздержусь от цитирования потому, что соответствующие высказывания легко можно найти. Но, к сожалению, до сих пор в работах о древнем и средневековом Востоке открытые факты не систематизированы так, чтобы характер этих древних общественных форм, а также и напоминающих их современных, был раскрыт во всем их своеобразии. Этот круг мыслей Маркса и Энгельса нашел продолжение в работах наших историков и востоковедов в начале 30-х годов. Из многочисленных возможных иллюстраций приведу одну, профессионально близкую мне как лингвисту. Один из замечательных наших лингвистов-востоковедов (а в этой области Россия с начала века была впереди многих стран) Е. Д. Поливанов в своих работах по истории языков Средней Азии (тюркских, иранских, бухарского еврейского) и Дальнего Востока (китайского) пробовал связать особенности их развития с социально-экономической историей Востока. К несчастью, в 1938 году насильственно была оборвана не только жизнь Поливанова, но и многие важные направления исторической и социальной мысли. Все многообразие социально-экономической жизни Востока разных эпох стали втискивать в прокрустово ложе трех «формаций», понимаемых догматически и схоластически. Об «азиатском способе производства» говорить перестали вплоть до 60-х годов, когда им всерьез занялись французские востоковеды-марксисты, а за ними следом и наши ученые.
Хотя Витфогель считал себя марксистом, основной ход его мысли шел скорее в сторону конструирования такой модели «гидравлического» общества, которая была бы универсальной. Нельзя заранее отрицать и значимости такой модели, которая могла бы тоже стать в известной мере практически полезной. Поэтому принятый с давних пор резко критический тон по отношению к Витфогелю у многих наших ученых не представляется вполне оправданным. Другое дело — проверка некоторых постулатов его гипотезы гидравлического общества на материале истории отдельных цивилизаций. Витфогель в отдельных существенных пунктах мог ошибаться, о чем дальше еще пойдет речь.
В древневосточных и средневековых азиатских странах, хозяйство которых строится на искусственном орошении, наблюдается колоссальное сосредоточение власти, вызываемое в конечном счете самой технологией ирригации. Чем шире масштаб оросительных работ, тем в большей степени они централизованы. Сохранились, начиная с городов Вавилона, целые письменные архивы, хранящие огромную бюрократическую переписку, касающуюся искусственного орошения. Витфогель прав в том, что масштабы искусственной ирригации вели к колоссальному увеличению бюрократического аппарата чиновников и надсмотрщиков. Насколько можно судить по данным, собранным в разных азиатских и африканских странах, самой распространенной формой принуждения, связанного с ирригацией, была всеобщая ирригационная повинность. Она касалась всех свободных взрослых членов общества. Именно потребностями больших ирригационных систем обусловлены особенности структур управления на древнем Востоке. В самой сути крупномасштабных систем искусственного орошения скрывалась причина конфликта между отдельными землевладельцами или общинами и центральной властью, которая преимущественно посредством внеэкономического принуждения стремилась наладить общие работы по проведению и поддержанию больших каналов. Структура системы управления орошением как бы повторяла техническое строение самих линий ирригации: от великих рек к большим каналам и их малым ответвлениям. Чрезвычайно трудным для центральной власти, несмотря на постоянно увеличивавшееся число выделявшихся для этого специальных чиновников, при этом оказывалось обеспечение функционирования небольших ответвлений ирригационной системы в пределах каждого данного участка земли, обслуживаемого членами земледельческой общины. С этим конфликтом было связано в феодальную эпоху разрушение таких мощных систем орошения, как древнецейлонская (на территории современной Шри Ланки). Сложнейшим звеном и на древнем, и на средневековом Востоке остается распределение воды между отдельными пользователями, регулируемое особыми правовыми уложениями.
Большая система орошения на древнем и средневековом Востоке устроена так, что от усилий одного земледельца в ней зависит очень мало. Вместе с тем без его включения в эту систему она не может функционировать на самых низших своих звеньях, в конечном счете самых важных, потому что они должны подавать воду на отдельные поля. Ни одна из известных историй крупномасштабных систем орошения не избежала этого противоречия.
Казалось бы, единственный выход, остающийся у центральной власти, заключался в использовании в ирригационных работах подневольного населения (рабов, военнопленных, заключенных). Хотя, если говорить о модели «гидравлического» общества по Витфогелю в общем виде, в ней такая возможность используется, тем не менее в реальных древних и средневековых ирригационных системах роль рабов не следует преувеличивать (как и вообще для древневосточной экономики, где труд свободных земледельцев был существеннее, чем рабский; неоправданное преувеличение роли последнего исказило картину древневосточного общества в сочинениях ряда историков). В частности, крупнейший наш историк рабства в Вавилонии М. А. Дандамаев показал, что в вавилонском обществе вовсе не рабы служили основой для совершения работ по водоснабжению. Для этой цели закабалялась чаще всего не одна выделенная часть общества (рабы), а все земледельческое население в целом. Это и делает «азиатский способ производства» основой восточного деспотизма. Рабов или заключенных можно было использовать для строительства больших каналов, для «великих строек», но с их помощью трудно решить основную задачу — доведения воды до отдельного потребителя — земледельца или земледельческой общины. Их тоже надо было закабалить.
Принуждение было основным средством организации больших ирригационных работ до относительно недавнего времени. Это запечатлено в самих названиях больших каналов. Так, «Неволкой» на Северном Кавказе прозвали Эристовский канал длиной больше чем в 200 верст, построенный совместным трудов казаков, русских, армян, осетин, кабардинцев и других народов в середине прошлого века по распоряжению наказного казака Терского казачьего войска Эристова. Как еще раньше, в петровские времена, в России сгоняли народ, чтобы рыть каналы, рассказал в повести «Епифанские шлюзы» Андрей Платонов — по первой своей профессии инженер-мелиоратор.
В этом месте меня могут прервать и спросить: а в самом ли деле проведение больших каналов и осуществление других работ, нужных для создания крупных ирригационных систем, невозможно без закабаления больших масс населения? Мое повествование носит эмпирический характер. Я пытаюсь описать то, что известно из исторического опыта (в том числе и совсем недавнего, не только древнего и средневекового). Можно было бы задуматься о том, как в этой области могла бы работать робототехника, разного рода автоматические системы. Но, насколько мне известно, пока нигде в мире их не используют для замены того ручного труда, который раньше всегда применялся при сооружении ирригационных систем. Можно ли думать, что до полной смены принципиальных технических средств крупномасштабная ирригация всегда будет вести за собой все те последствия, которые были у нее раньше? Полагаю, что это должно быть так.
7
Я подхожу к катастрофической и трагической части своего рассказа. Нравоучительные повествования редко имеют хороший конец. Ирригационные общества древнего мира и средневековья, основанные на крупномасштабных каналах и других больших ирригационных сооружениях, все плохо кончили. Последствия этих регулярно повторявшихся крушений, в основном однотипных, до сих пор заставляют о себе помнить. Но помнят ли — скажу даже больше, знают ли — об этих катастрофах те, кто планирует создание современных больших ирригационных систем? Позволю себе предложить отрицательный ответ на этот вопрос.
Нравоучение, которое мне кажется необходимым вывести из всего, что мы знаем об истории ирригационных обществ, как кажется, относится и к практическим приложениям истории вообще. Если предложить человеку, даже и высокообразованному, перечислить науки, имеющие наибольшую практическую значимость, едва ли он назовет среди них историю. А ведь это распространенное заблуждение — будто история, в особенности древняя, не имеет прикладного значения. Здесь я возвращаюсь к вопросу, поставленному в самом начале моих рассуждений, когда я вспоминал о высказываниях П. Л. Капицы.
В начале лета 1986 года в Тарту и под Тарту (в Кяярику, в помещении спортивной базы университета Тарту — традиционном месте летних школ по семиотике) на нескольких заседаниях обсуждались проблемы подхода к истории с точки зрения теории семиотических (знаковых) систем. Одни из докладчиков спорили с возможностью исторического предсказания, настаивая на свободе выбора неожиданной (наименее легко прогнозируемой) альтернативы любым участником исторического процесса, другие отстаивали противоположный взгляд, опираясь на возможность статистического решения, относящегося к поведению большой совокупности индивидов (что не противоречит возможности свободного выбора у каждого из них). Проблематика обсуждения напоминала некоторые вопросы, решаемые в статистической физике. Мне важным и неизбежным кажется переход к постановке таких проблем. Мы слишком долго отмахивались от попытки нового подхода к истории. Между тем едва ли есть другая наука, которая по сути столько значила бы для каждого человека. При достаточно широком и точном понимании возможных выводов из уже накопленного опыта он мог бы всякий раз учитываться в новых принимаемых решениях. От скольких бед и несчастий это могло бы избавить каждого из нас!
Знаменитый французский этнолог Леви-Строс в своей недавно переведенной на русский язык автобиографической книге пишет, что он редко начинает новую работу, не перечитав хотя бы нескольких страниц из книги Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Меня всякий раз, когда я перечитываю этот шедевр, поражающий и самим стилем, и необычайной современностью всего описываемого, потрясает, сколько персонажей этой книги, как бы выйдя из нее, свободно разгуливают по нашему столетию — в окружении тех самых фигляров и циркачей, о которых в ней говорится. Не потому ли это происходит, что мало кто следует примеру Леви-Строса и всерьез соотносит эту книгу и немногие другие такого же качества с окружающей действительностью?
Стоит задуматься и о том, почему до сих пор не вышел русский перевод книги Маркса и Энгельса о тайной дипломатии XVIII века, содержащей много оценок русских государственных деятелей.
История человечества — и первобытная (насколько мы ее можем восстановить реально, не увлекаясь утопическими ретроспективными фантазиями), и древняя, и средневековая, и новая, и (может, особенно — или особенно остро ощутима для нас?) новейшая — полна жесточайших ошибок, преступлений, заблуждений, катастроф. Если что-нибудь и способно внушить чувства, отличные от отвращения и ужаса, при перечитывании этих кровавых летописей, так это надежда на то, что самые грубые ошибки не повторяются, что накопленный опыт не пропадает даром, что следующие поколения будут знать о выводах, которые надо сделать из прошлого. Все это не приходит само. Речь ведь идет о рациональном осознании, а не просто о настроении, как в стихах Лермонтова:
Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом…Для осознания опыта, пусть и целиком отрицательного, нужно прежде всего его детальное изучение, знание всех его подробностей, выявление причинно-следственных связей (в той мере, в какой они есть в статистической истории: об этом тоже спорили в Кяярику), экстраполяция на будущие подобные явления. Я думаю, что ни одно серьезное начинание нельзя замышлять, не познакомившись с неудачами или удачами предшественников. Это в полной мере относится и к крупномасштабной ирригации, требующей стольких человеческих сил и таких огромных капиталовложений.
Основной исторический вывод достаточно четок: история практически не знает опытов вполне благополучных начинаний этого рода. Попробуем разобраться в причинах этого.
8
Начнем с проблемы, которая уже сейчас может быть сформулирована достаточно отчетливо. Крупномасштабная ирригация ведет к опасности засоления орошаемых земель. При неправильном режиме поливов поверхностные горизонты почв могут быстро насыщаться солями. Это вело при непрерывном и длительном использовании земель к вторичному засолению орошаемых почв. Специальные исследования показали, что такое засоление и было основной причиной оскудения сельского хозяйства древней Месопотамии во II тысячелетии до н. э. Это и привело в конце концов к экономическому упадку Вавилона и Ассирии. Аналогичными были и причины иссякания сельскохозяйственных возможностей древней (начавшейся еще в IV тысячелетии до н. э.!) цивилизации Южной Туркмении, детально выявленные в исследованиях Г. И. Лисицыной и других наших ученых. Содержание хлористого натрия уже в количестве всего четырех сотых процента ядовито для культурных растений. Иначе говоря, достаточно относительно небольшой примеси соли для того, чтобы земли стали непригодны для дальнейшего использования.
Нам могут сказать: а как же современные технические средства? Неужели они не дают возможности бороться с последствиями засоления почвы? В качестве ответа присмотримся к тому, как в американских научных журналах обсуждаются гибельные для почвы результаты засоления, вызванного крупномасштабным поливным земледелием, введенным в южных штатах США без учета исторического опыта ранних ирригационных обществ. Разумеется, прежде всего следует учитывать различия в уровне техники и в характере социально-экономической организации, которые (вопреки тому, что, например, иногда делал Витфогель) не позволяют прямо переносить опыт древних культур на современные. Но заметим при этом, что сравнение не всегда будет в пользу современности. В частности, техника XX века значительно ускоряет действие экологических факторов. Для древних месопотамских и ранних ирригационных систем от пуска их в действие до начала засоления почв могли потребоваться тысячи или многие сотни лет. А те же или даже еще более плачевные результаты в южных штатах США стали ощущаться в нашем веке через несколько десятилетий после начала крупномасштабных оросительных работ.
Капиталистические методы хищнической эксплуатации земли и воды были применены без учета всего опыта функционирования крупномасштабных систем искусственного орошения и без соблюдения технических ограничений, вытекающих из этого опыта. Засоление почвы, уже теперь вызываемое ирригацией, грозит в скором времени превращением значительной части площадей южных штатов США в непригодные для земледелия, Американские ученые, пишущие с возмущением об этом растрачивании природных ресурсов, видят в нем проявление стихийных процессов, приводящих к результатам, в общем аналогичным тем, которые известны в древних ирригационных обществах. Причина всех ошибок, выявляемая в этом конкретном случае, заключалась в попытке быстрого извлечения прибылей (и сверхприбылей) из наличия больших запасов земель и больших рек. Были большие ресурсы и очень мало ума. Подчеркнем, что современная техника была в распоряжении ирригаторов. Но полагаться только на нее не следует. Не хватало научного подхода в подлинном смысле слова.
Теперь, когда катастрофа надвинулась, для южных штатов США составлены оценки трех параметров — уровня содержания в воде растворенных твердых веществ, электрической проводимости (очень существенно влияющей на рост растений) и соотношения числа ионов натрия к ионам кальция на литр воды. Хотя по этим величинам разные реки сильно отличаются одна от другой, все же неблагополучие обнаруживается в большинстве из них. Существует и ряд других проблем, общих для всех областей, где осуществляются подобные проекты ирригации.
Весьма важным вопросом является ландшафт и высота, на которой должны устраиваться большие водохранилища. В случае если они находятся в возвышенных или гористых местностях, поросших лесом (например, в условиях, напоминающих озера в горах и предгорьях Кавказа), где течение воды очень быстрое, расход воды на испарение минимален. В условиях же, когда обширные водохранилища, как это было на больших реках западных штатов США — Рио Гранде, Колорадо и Колумбии, создаются в пустынных и полупустынных равнинных местностях, потери воды на испарение резко возрастают. Вода, которая не течет к морю с нормальной скоростью, быстро засаливается. Заметим, что поэтому абсурдно планировать водоснабжение областей, находящихся, как Северный Кавказ, близко к горным источникам воды не в зависимости от этих последних, а в связи с удаленными от них равнинными водохранилищами, как это предполагал проект переброски рек европейского Севера.
В юго-западных штатах США примерно три четверти всей воды теряется на испарение. Соответственно оставшаяся вода содержит соли в четвертной концентрации. Согласно подсчетам за 10 лет по 15 основным рекам 11 западных штатов, опубликованным А. Ф. Пиллсбери, обнаруживается линейная зависимость между расходом воды на единицу площади и увеличением засоленности. С орошенных почв вчетверо более засоленные реки текут в большие реки.
Для поддержания равновесия содержания солей в воде и в почве необходимо создание чрезвычайно дорогостоящих громадных дренажных сооружений. В Калифорнии только к 2005 году должно быть завершено строительство огромного канала стоимостью более чем в 1,2 миллиарда долларов, который будет сбрасывать свыше 3 млн. тонн солей в год.
Кроме того, возводятся очистительные заводы. Стоимость самого крупного из них, строительство которого длилось много лет, оценивается в 216 млн. долларов. Получаемая на таком заводе с помощью современной технологии очищенная вода оказывается чрезвычайно дорогой. А ведь все эти расходы вызваны необдуманностью средств осуществления ирригации!
Особую опасность представляет засоление подпочвенных вод, которые трудно технически изолировать от более глубоких, а засоление этих последних приводит к ухудшению качества всех грунтовых вод.
Изменение естественного стока вод в море, его зарегулированность ведет к увеличению избытка солей, которые до того вымывались реками. Хотя для части юго-западных штатов США в известной мере облегчением является сброс засоленных вод в соленое озеро больших размеров, тем не менее экологически оправданный выход состоит в вымывании солей в море.
Поскольку воды в больших реках в западных штатах США явно не хватает, давно уже был предложен план переброски вод рек Аляски и Канады на юг. Но он оказался настолько сложным для выполнения и дорогостоящим, что от него отказались. Приходится пожалеть о том, что весь опыт обсуждения этого проекта прошел мимо тех, кто замышлял аналогичный план переброски рек европейского Севера и Сибири. А ведь многие доводы, которые убедили американских инженеров и деловых людей в нереальности переброски на юг вод Аляски и Канады, имеют значение и для решения сходных проблем по отношению к северу Евразии. Нельзя делать вид, что наши экологические проблемы вполне уникальны. Так мы только помешаем их решению. У нас иногда слишком много сил и денег затрачивают на воспроизведение и копирование американских технических новинок, не обращая внимание на то, что и из отрицательного американского инженерного опыта мы могли бы извлечь много пользы, если бы его внимательно обдумывали.
Переброска больших количеств воды в аридные зоны может не только еще больше осложнить решение глобальной задачи орошения, но приведет только к увеличению расходов влаги на испарение и к дальнейшему засолению почв и вод. Существенные трудности выявились у нас в бассейне Аральского моря, что связано с его усыханием. В результате расходования на орошение основных водных ресурсов в верхнем и среднем течении Амударьи и Сырдарьи низовья этих рек уже страдают от безводья. На это давно надо было бы обратить больше внимания — еще и потому, что с этим связан горячо обсуждавшийся проект переброски стока сибирских рек. Следовало еще задолго до начала обсуждения проекта присмотреться к той ситуации, в которой планировалось это вмешательство в природную среду Центральной Азии. Огромные количества воды в Приаралье сейчас теряются на испарение. Вновь образуется суша, с которой ветер сдувает соли и засоленный мелкозем, его переносит на поля, а это может ухудшать пастбища и возможности сбора урожаев.
Я помню, как выглядели степи возле Аральского моря почти полвека назад, когда мне впервые пришлось с изумлением увидеть эти белесые солончаки, тянувшиеся до горизонта, и жителей сел, которым дефицитная по военным временам соль стала основным источником существования. Но и за эти полвека соль дальше побеждает в схватке с водой и землей — ей помогают люди (то, что они часто не понимают своей роли, по-моему, никак им не служит оправданием). Вода в Аральском море осолонилась, возможности рыболовства (а еще недавно в нем ловили несметное количество рыбы) понизились. Все эти последствия работ по искусственному орошению отмечены за последние годы. О них писали в специальной литературе, но этим не интересовались энтузиасты поворота сибирских рек.
Еще до окончательного обдумывания возможного дополнительного источника воды для Средней Азии нужно было бы понять, как сократить расходы воды на орошение и на испарение и как уничтожить те недавно образовавшиеся сбросные воды, в которых теряется колоссальное количество воды. А для этого, в частности, нужно суметь направить дренажные и сбросные воды (в том числе и воды всех озер, где вода расходуется на испарение) в Аральское море и научиться управлять его водным балансом. Эти задачи нашими специалистами были поставлены, но вместо их решения силы тратились на крайне дорогостоящий и трудоемкий проект переброски сибирских рек (подготовительные работы к нему уже велись). Есть два способа ведения хозяйства. Один — решение реальных задач, таких, как управление водным балансом Аральского моря; здесь требуется хорошее знание действительного положения дел и понимание того, чем можно помочь. Другой — придумывание искусственных общих задач. Планировать по глобусу можно не только военные, но и хозяйственные операции; перекраивание карты возможно не только за столом переговоров, но и с помощью напряжения усилий множества подневольных людей. Вспомним опять же «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова. Именно такого рода хозяйствование в «гидравлических» обществах и приводило к запустению земли. Его допускать нельзя.
9
Средняя Азия — особенно ее области к югу от Аральского моря — представляет собой образец такой части Земли, где вмешательство человека, создание им еще в древности большой сети оросительных сооружений привело позднее к появлению солончаков и пустынь очень большой протяженности. Как это произошло? Есть несколько объяснений, отчасти дополняющих друг друга. Не подлежит сомнению, что засоление почв и разрушение древней громадной системы оросительных каналов послужило одной из причин появления пустынь. Но могли быть и другие причины. О них спорили русские ученые еще в начале нашего века. Великий русский ученый, историк (автор недавно переизданной истории французской революции), географ и мыслитель (один из теоретиков современного анархизма, вновь ставший популярным на Западе после молодежных бурь 1968 года) П. А. Кропоткин, а за ним другие исследователи связи экологии с историей еще в начале нашего века предположили, что Центральная Азия постепенно усыхает, уменьшается ее увлажненность. В самом деле, накапливается все больше данных для того, чтобы считать, что с определенной периодичностью в Средней Азии жаркий климат сменяется более умеренным. Есть ученые, которые полагают, что именно в те века, на которые приходится увеличение аридного (жаркого засушливого) климата, из Средней Азии откочевывали значительные массы населения, вызывая этим переселения народов по всей Евразии. С такой гипотезой согласуется и высказанное нами вместе с грузинским лингвистом академиком Т. В. Гамкрелидзе предположение о том, что значительная часть индоевропейцев (носителей тех диалектов, из которых позднее образовалось большинство современных языков Европы), находившиеся после переселения из Передней Азии в Средней Азии, около III–II тысячелетия до н. э. из нее мигрировали в северо-западном направлении и через Волгу и Дон переселились в Северное Причерноморье (откуда позднее распространились по Европе). Среднеазиатский этап этих переселений можно было бы соотнести с одним из циклов изменений среднеазиатского климата. Замечу, что проблема периодичности этих изменений интересна не только для историка далеких эпох. Эту сторону дела следует иметь в виду и при планировании перераспределения водных ресурсов. Ведь если реальна перспектива увеличения аридности климата Средней Азии, все то количество полноценной пресной воды, которое туда можно бы направить при перераспределении стока сибирских рек, быстро испарилось бы и пропало для сельского хозяйства. Осмотрительная стратегия поведения должна принимать во внимание и все географические факторы, в особенности имеющие тенденцию к изменению. Напомним, что невнимание к меняющейся величине Каспийского моря оказалось одной из явно слабых сторон проекта переброски североевропейских рек: количество воды в Каспии собирались увеличить столь дорогостоящим образом в то самое время, когда она уже превысила нужный уровень. Любой проект, ориентированный на длительные сроки, должен опираться на долгосрочные прогнозы, в том числе и относящиеся к климату. В том, что касается вероятного изменения климата Средней Азии в сторону аридности, проект переброски в нее сибирских рек представляется попросту авантюристическим.
Но и одними только изменениями климата и одним лишь усыханием трудно объяснить упадок сельского хозяйства Средней Азии в средние века. Великий биолог и географ академик Л. С. Берг вступил по этому поводу в полемику (еще до первой мировой войны) со своим старшим современником П. А. Кропоткиным. Согласно Бергу, основную роль в запустении Средней Азии играли социальные причины — такие, как войны. Из-за войн и перемен власти разрушились оросительные сооружения. А после их разрушения население не имело средств к существованию и частью разбежалось, частью вымерло. Эту точку зрения на средневековую историю Центральной Азии поддержал и один из крупнейших русских востоковедов академик В. В. Бартольд в особом исследовании об истории среднеазиатского орошения, напечатанном еще в 1914 году и в программной статье 1926 года, где он говорил одновременно и о следах прошлого Средней Азии и о ее возможном будущем. На основании подробного описания Средней Азии, составленного арабскими географами тысячу лет назад (в 10 в. н. э.), Бартольд пришел к выводу, что уже тогда воды было не больше, чем в начале нашего века. А ведь возможности для орошения были очень большими, следовательно, проблема заключается не в увеличении абстрактного количества воды (как этого хотелось бы авторам проекта переброски вод), а в рациональной организации ее использования. Если некоторые основные действующие факторы (количество орошенных земель по сравнению с безводными) оставались постоянными, то выводы историка оказывались жгуче современными. Уже поэтому оправдан был призыв Бартольда при выполнении выдвигавшейся им задачи возрождения древних оазисов опираться на соединение работы историков и археологов с трудом ирригаторов. Но оправданность самой задачи, поставленной Бартольдом, еще надо доказать.
Такое соединение усилий работников разных специальностей и было достигнуто на протяжении последних тридцати с лишним лет главным образом в связи с деятельностью Хорезмской экспедиции, начинавшейся под руководством члена-корреспондента АН СССР С. П. Толстова. Образовалась группа действовавших сообща специалистов по археологии, аэрофотосъемке, истории, этнографии, палеоботанике, древним и современным оросительным сооружениям. Им удалось не только обнаружить (прежде всего благодаря аэрофотосъемке) и изучить древние ирригационные системы, но и использовать эти данные в современных работах по обводнению областей, ставших за последние тысячелетия безводными. Здесь можно вполне говорить о реальном наличии практических приложений у исторической науки. Эти приложения касаются и технических подробностей, важных для осуществления планируемых мероприятий по искусственному орошению. В частности, важно знать, принадлежат ли почвы на данном участке к таким, на которых в древности на протяжении длительного времени уже применялась искусственная ирригация.
10
Исследованиями наших ученых установлено, что плодородие почвы находится в обратной зависимости к древности некогда на ней находившихся оросительных сооружений. Древнеорошаемые (антропогенные, т. е. «порожденные людьми») почвы частично становятся непригодными (без предварительных достаточно сложных работ) для использования, остальная же их часть плодороднее всех остальных почв региона. Из относительно недавних открытий в этой области стоит отметить обнаружение в Северо-Восточном Дагестане (в Терско-Сулакском междуречье) древнеорошаемых почв. Открытие подтверждает широкий масштаб ирригационных работ в то время (5–7 вв, н. э.), когда эти земли входили в состав столь интригующего любителей отечественной истории Хазарского царства, где (как известно и по письменным источникам) земледелие было основано на искусственном орошении. О значимости исследований, которые должны проводиться (и отчасти уже проводятся) совместно археологами и почвоведами, говорит то, что площадь почвы древних оазисов на территории СССР оценивается не менее чем 8 млн. га. Но сама по себе практически очень важная и решаемая в Средней Азии на протяжении последних десятилетий задача возрождения когда-то плодородных земель, где найдены следы древней системы искусственного орошения, представляется только частью более общей проблемы.
Благодаря аэрофотосъемке установлено, что значительная часть пустынных областей Средней Азии (как и Северной Африки) покрыта сетью древних ирригационных каналов. Скажем спасибо таким ученым, как Б. В. Андрианов, которые это выявили. Но дальше спросим их и себя: почему эти каналы разрушились? Почему старые оросительные системы не только в Центральной Азии, но и в других ее частях (на Ближнем Востоке и на Цейлоне), а также и в Африке, пришли в негодность, а некогда плодородные земли стали пустыней (а в других частях Азии — болотами или джунглями)? Что может сказать об этом историческая наука? Не представляет ли сама крупномасштабная ирригация основной источник образования пустынь (или заболоченных джунглей) в областях древних цивилизаций? Разглядывая составленную ЮНЕСКО карту, на которой представлены аридные и субгумидные (недостаточно увлажненные) зоны мира, нельзя не поразиться совпадению их в северном полушарии с древними областями искусственного орошения. Объясняется ли эта связь просто тем, что на территориях, где воды не хватало, нельзя было обойтись без дополнительной ирригации? Очевидно, что это не так. Искусственная ирригация сама явилась мощным фактором, менявшим ситуацию в тех областях, где ее рано начали использовать.
Поставленные вопросы продиктованы не просто любознательностью. Восстановление древних оросительных сооружений, планируемое в разных странах и областях, как и любая реставрация, не может быть самоцелью. Правительство Шри Ланки два десятилетия назад задумало восстановление древней системы больших и малых каналов, которые пришли давно в полную негодность, заросли джунглями, утонули в болотах, образовавшихся после разрушения средневековой древнецейлонской ирригационной системы. Но можно ли просто восстановить древнюю ирригационную систему — на Цейлоне, в Средней Азии или в какой-либо другой части древнего цивилизованного мира — не занимаясь всеми социально-экономическими, техническими, экологическими причинами, которые привели к разрушению этой древней системы? Нужно понять, почему разрушились старые ирригационные системы и погибли основанные на их использовании общества. Это не академический вопрос, а прикладная задача. Не поняв причин их гибели, мы едва ли избежим повторения (пусть и в другой форме, связанной с другими техническими и социально-экономическими возможностями) тех ошибок, которые когда-то привели к их разрушению. Выводы исторических дисциплин именно здесь могут оказаться ценными. Ведь в истории земледельческих обществ осуществлялся длительный отбор наиболее эффективных методов ведения хозяйства, приспособленных к конкретным экологическим условиям. Если история советует нам отказаться от пути, уже не один раз опробованного и не однажды приведшего к катастрофическим последствиям, не стоит ли послушаться голоса истории и не упрямиться, опять и опять пытаясь возродить старое наперекор уже случившемуся? История и Средней Азии, и Цейлона, многих других стран забраковала крупномасштабную ирригацию как метод организации хозяйства. Надо ли вопреки этому пытаться в тех же местах прорыть новые каналы, возвести новые дамбы, создать новые водохранилища? Не разумнее ли осмыслить исторический опыт и совершенный самой историей отбор для поиска новых путей, отвечающих и возможностям современной техники, и новой социально-экономической ситуации?
При всей заманчивости идеи любой реставрации прошлого в ее пользу чаще говорит романтическая ностальгия по утраченному времени, чем рациональные доводы. А восстановление разрушенных форм хозяйства и с ними связанных технических сооружений — в частности, ирригационных — в какой-то степени антиутопия, и, как ко всякой антиутопии, к этой идее надо подойти критически. Следует уважать историю и производимый ею ценностный отбор — он не может быть случайным. Наша задача — понять степень его неслучайности.
Весьма существенным представляется и осмысление всего того негативного опыта, который свидетельствует о разрушительном воздействии крупномасштабной ирригации на природную среду, что в большой мере и привело к запустению древних земель искусственного орошения. Этот исторический опыт нужно учесть и для всестороннего продумывания и планирования мероприятий сегодняшнего дня, особенно таких, где предполагается затрата человеческих усилий и огромные капиталовложения (как в проектах переброски североевропейских и сибирских вод). Поскольку и древние цивилизации Востока и Средиземноморья в период, предшествующий античному, и средневековые восточные цивилизации были основаны на искусственном орошении, археологические и древние письменные источники позволяют оценить результаты этой многотысячелетней деятельности и трудности, с ней сопряженные.
В тех социально-экономических, экологических и биологических причинах, которые вызвали несколько сотен или тысяч лет назад гибель многих ирригационных обществ и превращение некогда плодородных орошаемых земель в пустыни, есть и черты, характерные только для той эпохи. Но вместе с тем в самой ситуации можно видеть аналог тем вредным для человека и среды обитания последствиям технического развития, которые многими ошибочно считаются только особенностями нашего времени. В действительности же человечество с ними столкнулось вскоре после неолитической революции (поэтому и обсуждение, пусть в мифологической форме, проблемы возможной гибели всего человечества, с чего я начал, не должно так нас удивлять в древних текстах). Причины крушения таких цивилизаций, как древнемесопотамская, связаны с экологическими проблемами, общими для всех древних ирригационных обществ. В локальном масштабе отдельного региона они воспроизводят некоторые из тех проблем, которые при современном уровне техники становятся глобальными, касаются всего человечества. В древности ими была затронута только область ранних ирригационных обществ. В этом смысле древнюю и средневековую историю можно и нужно рассматривать как эксперимент, результаты которого нельзя не учитывать при планировании нашего будущего. Только умение извлечь уроки из совершенных в прошлом ошибок может предотвратить их повторение. В этом и состоит огромное прикладное значение истории, к сожалению, еще для многих неочевидное.
Несомненный интерес представляет то, что не только вообще на территории Европы, но и в средиземноморских странах, где до того создавались ирригационные системы древневосточного типа, начиная с античности возобладали другие способы земледелия. В древней Италии этруски, происхождение которых и античное предание, поддержанное Вергилием — уроженцем этрусского города Мантуя, и современная наука связывают с Малой Азией, были создателями обширной системы дренажных каналов (они открыты аэрофотосъемкой, что явилось одним из первых триумфов воздушной археологии). С запустением этрусской системы мелиорации связывают падение этрусской культуры. Римляне, много занимавшиеся практикой и теорией земледелия, пользовались мощной сетью оросительных каналов в Северной Африке (на территории современной Сахары), но не в самой Италии. Греки пользовались ирригационными системами в раннее микенское время (отзвук этого можно найти и у Платона), но затем сводили их к минимуму. Историки, без достаточных оснований говорившие о рабовладении и по поводу Древнего Востока, как и по поводу античности, тем самым смазывали важное различие, проходившее между ирригационными обществами Древнего Востока и античными. Уже в античное время был сделан рывок к новым методам хозяйствования, в конце Римской империи приблизившихся к предкапиталистическим (на это обращал внимание в лекциях, которые мне довелось слушать сорок с лишним лет назад, академик Р. Ю. Виппер).
История предоставляет в распоряжение современности целый набор в разное время опробованных средств. Мы можем выбирать из них, оценивая каждое по его результативности. Едва ли стоит в XX веке снова возвращаться к наследию, доставшемуся от времени, предшествовавшего античному и уже античностью частично преодоленному.
11
Мы читаем о когда-то существовавших и погибших ирригационных цивилизациях в книгах и древних документах. Мы видим развалины древних городов и другие археологические свидетельства. Но разрушившиеся ирригационные общества сохранили по себе и еще более явственные памятники. Если верны изложенные выше гипотезы, большинство пустынь северного полушария (не только среднеазиатские и североафриканские) обязаны ирригации своим существованием, являются антропогенными (делом рук человеческих). Страшный след гибели ирригационных обществ сохраняется в малярии и ее генетических последствиях. В одной Экваториальной Африке эта болезнь уносит сейчас ежегодно миллион детских жизней. А африканисты (прежде всего А. Ливинстоун) показали убедительно, сопоставив лингвистические данные с фактами других наук, что в эти страны Африки малярия проникла вместе с земледельческим населением, у которого малярия — следствие раннего разрушения систем искусственного орошения.
Экологические и медицинские (а также и генетические) последствия развития ирригации и распада древних оросительных систем оказываются связанными с первопричинами столь сложной цепью промежуточных звеньев, что причинно-следственные связи могут оказаться на первый взгляд неожиданными. Иначе говоря, последствия осуществленного человеком в таких цивилизациях воздействия на природную среду и на человеческий организм трудно предсказуемы даже с точки зрения многих современных ученых, не говоря уже о тех, кто участвовал в отдельных событиях, результаты длинной цепи которых мы наблюдаем.
Представим в общих чертах и достаточно грубо общую схему или, как сейчас принято говорить, «сценарий» развития таких ирригационных обществ, как, например, древние цивилизации долин Евфрата и Тигра III–I тыс. до н. э. или долины Инда («протоиндийской») примерно того же времени. Началу создания больших систем ирригации сопутствует или предшествует уничтожение больших массивов лесов: земля, освобождающаяся при уничтожении лесов, предназначается для поливного земледелия. После зарождения сельского хозяйства в горных местностях и долинах постепенно происходило распространение искусственной ирригации на обширной территории вокруг большой реки, где водоснабжение осуществлялось с помощью сети больших каналов, от которых ответвлялись мелкие водопроводящие пути. Леса на этой территории вырубались, чтобы увеличить посевные площади. Через некоторое время, которое для древности оценивается интервалом от нескольких сотен лет до тысячелетий, начиналось и нарастало засоление почв, появление застойных водоемов и заболачивание. Сеть каналов постепенно разрушалась, чему в большинстве случаев способствовала и нестабильность необходимой для их поддержания централизованной бюрократической государственной власти, не всегда умевшей (или чаще всего не умевшей) добиться охраны и бережного использования малых каналов со стороны отдельных земледельцев и общин. В надежде на то, что современный читатель знаком с элементами биологии, в том числе и молекулярной, позволю себе о медицинских последствиях этой ситуации рассказать на более специальном языке.
Обязательным следствием заболачивания на территориях, где были вырублены обширные леса, в южных широтах явилось появление малярии. Ее переносчики — москиты, комары и другие насекомые — паразиты меняют хозяина — вместо животных, которых они поражали в лесах, нападают на человека. Методы современной биологии позволили достаточно детально изучить процесс заражения малярией. После укуса насекомого-паразита возбудитель тропической лихорадки — малярийный плазмодий оказывается в крови укушенного человека, попадает в печень и там производит особую форму возбудителей, которая проникает сквозь мембрану в эритроцит — красную кровяную клетку, наполненную гемоглобином. Окруженный оболочкой, его защищающей, малярийный плазмодий внутри эритроцита растет, питаясь гемоглобином. Его ядро периодически делится пополам так, что из одного плазмодия образуется от 12 до 24, они разрывают «свой» эритроцит, внутри которого размножаются, и проникают в другие эритроциты. Приступы лихорадки, от которых мучится больной малярией, происходят от циклически повторяющегося выхода размножившихся плазмодиев из клеток в кровяное русло. Малярия представляет собой недуг, опустошающий до сих пор многие тропические страны. Смертность от малярии особенно велика в тех случаях, когда белковый дефицит в организме уже имеет место из-за недоедания, как в ряде областей Африки и Индии.
На протяжении тысячелетий борьбы с тропической лихорадкой человеческий организм выработал генетические приспособления для защиты от болезни. Они все основаны на регулировании содержания и характера гемоглобина, который поглощают малярийные плазмодии, проникшие в эритроциты. Гемоглобины могут существенно варьировать в зависимости от замены некоторых аминокислот в их составе. При различных анемиях, являющихся генетическими следствиями малярии, мутантные гемоглобины характеризуются отличием от нормального только в одном (шестом или седьмом) звене молекулы: одна из отрицательно заряженных аминокислот заменяется на электрически нейтральную. Наиболее изученной является серповидно-клеточная анемия. При этом наследственном заболевании, молекулярную природу которого Л. Полинг открыл еще в 1949 году, молодые эритроциты вырождаются в серповидные образования, содержащие мутантные гемоглобины. Малярийные плазмодии в этих серповидных красных кровяных клетках испытывают трудности в обеспечении необходимыми для них веществами и погибают.
Серповидно-клеточная анемия, как, вероятно, и другие виды анемии, является примером адаптивного (приспособительного) полиморфизма: наличие соответствующего гена у гетерозигот повышает сопротивляемость к малярии, т. е. часть населения защищена от этой болезни (по-видимому, различие в географическом распространении этих наследственных следствий малярии зависит от таких экологических факторов, как высота, определяющая потребность в кислороде и в соответствующих свойствах гемоглобина: в случае серповидно-клеточной анемии, но не талассемии, высота может оказаться смертельной). Но есть и другие наследственные последствия малярии, обычно сами по себе смертельные. Одним из сопутствующих генетических следствий тропической малярии является порозный гиперостоз, деформирующий кости и череп, где образуются пустоты.
Первые археологические свидетельства того, что этот наследственный недуг был связан с малярией в древних ирригационных обществах, были найдены при археологических раскопках в Лерне на юго-востоке Пелопоннеса в Греции. Выяснилось, что догреческое население Эгейского мира занималось ирригацией и не только было заражено малярией, но и погибло в значительной степени от ее генетических последствий. В этом случае, как и в других аналогичных, особой проблемой является вопрос об устойчивости пришлого населения — в данном случае греков — к тому заболеванию (малярии), которое имело столь тяжелые последствия для населения коренного. Одно из возможных объяснений, как мне представляется, дает недавнее открытие сотрудников Оксфордской лаборатории тропической медицины, возглавляемой Г. Пасволом. Они опубликовали в 1982 году результаты опытов, показывающих, что для проникновения малярийного плазмодия в эритроцит он сперва должен прикрепиться к его поверхности. А для этого на поверхности эритроцита на ней должен присутствовать особый белок (гликофорин А). Отсутствие этого белка на поверхности эритроцита генетически обусловливает невосприимчивость к малярии. По-видимому, нужно думать, что индоевропейцы-греки, как и другие группы индоевропейцев, обладали подобным врожденным защитным механизмом, делавшим их невосприимчивыми к малярии. Поэтому они смогли без опасности для себя занять земли, предшествующее земледельческое население которых погибло в основном от последствий малярии.
12
Сходное предположение оказалось возможным сделать и по отношению к населению «протоиндийских» городов долины Инда — Мохенджо-Даро и Хараппы. «Протоиндийская» цивилизация уже несколько десятилетий занимает умы ученых, бьющихся над ее загадками. Большие города, построенные в долине Инда, существовали в III и II тысячелетии и затем внезапно пришли в упадок. В них найдено множество печатей с надписями (похожие надписи обнаружены также недавно и в Афганистане и Южной Туркмении, ирригационная культура которой оказалась связанной с протоиндийской). Мне довелось следить вблизи за работой по дешифровке этих надписей, начатой лет пятнадцать назад ленинградским этнографом Ю. В. Кнорозовым (получившим известность благодаря своим работам по письменности майя в доколумбовской Америке). Он и его сотрудники пришли к выводу, что язык этих надписей родствен дравидийским языкам, на которых говорят сейчас преимущественно на юге Индии (севернее остались только пережиточные островки дравидоязычного населения). Две другие группы, независимо от Кнорозова приступившие к дешифровке этих надписей в Финляндии и несколько позднее в США, пришли к выводам, во многом аналогичным (все три группы отмечают, что в языке этих надписей, как и в дравидийских языках, одно и то же звучание имеют слова «звезда» и «рыба»). Значит, до прихода индоевропейцев и на севере Индии (как, вероятно, и на территории Афганистана и Южной Туркмении) говорили на дравидийских языках; недаром близкий к ним эламский язык, как мы знаем по письменным памятникам, был древним письменным языком Суз на территории Ирана. Но почему древние дравидоязычные города Индии с их высокой культурой погибли еще до вторжения индоевропейских племен (как они себя называли сами в древности, «ариев») в Индию?
Неожиданный ответ на это дал американский антрополог К. Кеннеди в статье о «скелетной археологии», опубликованной в 1981 году. Его исследования обнаружили две характеристики костных остатков из «протоиндийских» городов; во-первых, судя по болезням зубов, там уже было на протяжении нескольких тысячелетий развитое сельское хозяйство, сказавшееся на особенностях пищи, и, во-вторых, характер деформации черепов и костей свидетельствует о гибели населения от порозного гиперостоза — генетического последствия малярии. Познакомившись с работой Кеннеди, я тут же (27 февраля 1982 г.) написал ему письмо, где предложил объяснить последствия малярии для «протоиндийской» цивилизации так же, как их понимала Ливингстоун, открывшая связь между земледелием, малярией и серповидно-клеточной анемией в Африке. 10 апреля 1982 г. Кеннеди в ответном письме писал мне (привожу цитату из его письма в своем переводе с английского): «Ваше предположение о том, что работа Ливингстоун о малярии и серповидно-клеточной анемии проливает свет на цивилизацию Хараппы, превосходно. Если порозный гиперостоз прямо связан с ненормальными гемоглобинами, тогда кажется возможным, что мы нашли свидетельства малярии в городах долины Инда. Если арии вторглись в эти центры, они должны были тоже страдать от малярии, но, возможно, без преимущества адаптивного полиморфизма, которое дает гетерозиготность по серповидно-клеточной анемии или талассемии. Но возможно, что арии на своей родине были уже приспособлены к этим ненормальным гемоглобинам и поэтому не более страдали от скрытой или эндемической малярии, чем жители Хараппы. Конечно, здесь есть параллель с греками до и после Александра, потому что малярия была эндемична в Эгейском мире…» В нашем совместном исследовании с академиком Т. В. Гамкрелидзе о миграциях индоевропейцев, опубликованном в 1984 году, мы использовали этот «малярийный» аргумент для уточнения путей прихода индоевропейцев в Индию. Должен сказать, что Кеннеди в этом вопросе осторожен: в более новых своих публикациях он отмечает, что порозный гиперостоз может быть связан как с малярией, так и с особенностями питания, вызывающими дефицит железа (заметим, что одновременное воздействие недоедания и малярии как факторов смертности обнаружено и в Индии, и в Африке). Грубо очерченная общая схема развития и гибели протоиндийского общества как ирригационного еще может уточняться во многих звеньях, как любая историческая реконструкция, зависящая от вновь открываемых археологических и древнеписьменных свидетельств и их антропологической интерпретации. Наличие ирригации в протоиндийских городах вероятно, но археологические следы ее при катастрофах почти полностью исчезли; раскопано лишь одно большое водохранилище, но его иногда считают остатком портовых сооружений. Есть, однако, еще несколько обстоятельств, которые, как мне представляется, говорят в пользу предложенного мной и Т. В. Гамкрелидзе объяснения. Эта реконструируемая картина согласуется с недавно (в 1983 г.) изученными индологом К. Г. Зиском данными об описании тропической лихорадки («такман») в древнеиндийских текстах «Вед», где указывается и характерная ее связь с желтым цветом больного, и упоминаются в связи с ней москиты. В сборнике ведийских заклинаний и заговорных текстов (в том числе и медицинского характера) «Атхарваведа» сохранилось несколько заклятий от лихорадки, переведенных на русский язык нашим известным индологом Т. Я. Елизаренковой. Один из этих заговоров, который я приведу в ее переводе полностью, предлагает избавиться от нее, передав болезнь лягушке:
Поклон жаркой, трясучей, Воспламеняющей, мощной! Поклон холодной, отсекающей прежние желания! Та, что нападает через день и оба дня подряд, Пусть нападает она, бессовестная, на эту лягушку!В другом гораздо более пространном заговоре, из перевода которого, сделанного тем же ученым, я приведу лишь небольшие отрывки, лихорадку-«такман» должен прогнать древнеиндийский бог огня Агни (слово, родственное русскому огонь): «Да прогонит Агни прочь отсюда лихорадку». Она определяется как «та, что делает всех желтыми, сжигая, как огонь, истребляя». Но поразительной чертой этого заговорного текста из «Атхарваведы», на которую до сих пор никто не обратил должного внимания, как мне представляется, является то, что в нем лихорадка описывается как болезнь женщин низшей касты (шудр), вступающих в беспорядочные половые связи, и как болезнь племен, живущих в отдаленных районах Северной Индии. Мне думается, что для объяснения этого ведийского заклинания нужно привлечь данные современного антропологического обследования населения Южной Индии, опубликованные в 1982 году в трудах совместной советско-индийской экспедиции. Как показано в этих новых работах, высшие касты не имеют совсем серповидно-клеточной анемии, т. е. наследственного недуга, являющегося следствием малярии. В этом состоит существенное их отличие от североиндийских племен, стоящих вне каст. Кастовая организация по данным антропологии отсутствовала в «протоиндийской» цивилизации. Она была введена индоевропейскими (индо-арийскими) завоевателями. В условиях страны, обремененной к этому времени малярией и другими связанными с ней наследственными болезнями, запрет на перекрестные браки с низшими кастами и племенами, находившимися вне кастовой организации, имел безусловное евгеническое значение, т. е. способствовал ограничению распространения генетических заболеваний, таких, как серповидно-клеточная недостаточность (согласно высказанному выше предположению, у пришлых индоевропейских племен невосприимчивость к малярии определялась другим генетическим механизмом). Если кастовая система контроля за бракосочетаниями в Индии оказалась приспособленной к решению задач борьбы с наследственными заболеваниями, то это может прояснить и причины ее возникновения, и необычайную ее устойчивость на протяжении трех тысячелетий. И во времена составления заговорного текста из «Атхарваведы» три тысячи лет назад, и теперь малярия и сопутствующие ей виды анемии поражает преимущественно представителей племенных групп, но не каст, игравших роль евгенического барьера, препятствующего распространению наследственного недуга.
С этими наследственными различиями, которые связаны и с кастовыми границами, регулирующими правила бракосочетаний в современной Индии, по тем же данным советско-индийской антропологической экспедиции, сопряжено и распределение цветовой слепоты. Я считаю возможным сопоставить это с недавним открытием, согласно которому в Африке (в Кении) цветовая слепота (неразличение красного и зеленого — дополнительных по отношению друг к другу — цветов) найдена только у тех земледельческих групп населения, которые страдают малярией (эти данные опубликованы в 1981 году, т. е. почти тогда же, когда сходные факты найдены в Индии). Я сопоставил это с особенностями древнеиндийской системы обозначений цветов, где нет особого термина для зеленого цвета (есть только слово для «желто-зеленого»). Скорее всего это связано с распространением цветовой слепоты, а оно в свою очередь генетически сцеплено с последствиями малярии.
Я понимаю, что читателя может утомить перепрыгивание от фактов одной науки — молекулярной биологии — к другой — лингвистике. Но такова природа современного знания. Оно едино. Более того, составить представление об истории ирригационного общества древнейшей Индии мы можем, только сопоставив данные самых разных научных дисциплин: археологии, говорящей о разрушении городов, «скелетной археологии», выявляющей наследственную болезнь — последствие малярии, антропологии, указывающей на приурочение последствий малярии к внекастовым группам. Мы стоим перед возможностью постепенного восстановления молекулярной истории разных народов. Только от сопоставления этих, казалось бы, разнородных и мозаичных данных разных дисциплин проясняется целостная картина, охватывающая несколько тысячелетий. Многое из вышеизложенного остается предметом научных споров. Будущее индологии зависит от открытий новых фактов, которые могут уточнить или даже опровергнуть часть приведенных гипотез.
Если по отношению к древней Индии связь последствий малярии с разрушившейся системой ирригации — реконструкция, хотя и весьма вероятная, то применительно к древнему Средиземноморью эта же связь несомненна. Это доказывается не только упомянутыми фактами, касающимися догреческих племен в Эгейском мире (в Лерне). Еще нагляднее пример древней Италии.
Всем памятно стихотворение Тютчева:
Mal’aria
Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо Во всем разлитое, таинственное Зло — В цветах, в источнике прозрачном, как стекло, И в радужных лучах, и в самом небе Рима. Все та ж высокая, безоблачная твердь, Все так же грудь твоя легко и сладко дышит, Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет, Все тот же запах роз, и это все есть Смерть!.. Как ведать, может быть, и есть в природе звуки, Благоухания, цвета и голоса, Предвестники для нас последнего часá И усладители последней нашей муки. И ими-то Судеб посланник роковой, Когда сынов Земли из жизни вызывает, Как тканью легкою свой образ прикрывает… Да утаит от них приход ужасный свой!В этих тютчевских «цветах зла» (написанных задолго до Бодлера — в 1830 г.), как и в навеявших их словах из «Коринны» госпожи де Сталь об «нездоровом воздухе» (mal’aria) Рима, малярия оказывается орудием Судьбы. Кроме философского прочтения тютчевского стихотворения возможно и историческое. Для него нужно вспомнить об этрусских каналах, некогда прочерчивавших всю Италию к северу от Рима и теперь еще видных с воздуха, о гибели этрусской цивилизации и о ее наследии, которое переняли римляне. По счастью, и они, как и родственные им по языку греки и арии в Индии, обладали врожденной малой восприимчивостью к малярии. Но в некоторых районах Италии (и в других областях Средиземноморья) такие наследственные заболевания, как талассемия и фавизм (делающий опасным употребление в пищу бобов) — след этого древнего недуга. Малярия — это и в самом деле страшная карнавальная маска Судьбы, притом судьбы древних ирригационных обществ. Разумеется, современные методы борьбы с малярией и ее возбудителями, успешно применявшиеся и в нашей стране, не делают появление этой болезни и ее наследственных последствий в прежней форме обязательными. Но если говорить о стимулировании крупномасштабной ирригации в областях, где, как в Средней Азии, возможно увеличение аридности климата, эту опасность следует иметь в виду. Особенно же возникновения малярии следует опасаться при ирригационном земледелии и сопутствующих ему вмешательствах в такую природную среду, где, как в Сибири, имеет место сочетание больших лесных массивов (которые могут быть сведены из-за земледелия) с водными бассейнами. Кроме предостережения против этой конкретной опасности из приведенных фактов следует и более общий урок: можно видеть, как много факторов следует взвешивать при учете отдаленных последствий экологических изменений, вызываемых вмешательством человека. Напомним в качестве параллели, как химическое воздействие на среду вызвало нашествие саранчи в Африке в 1986 году.
13
Одной из важных сторон культурной традиции, без учета которой нельзя понять судьбу древних и новых ирригационных систем, является принятое отношение к использованию воды, у каждого народа закрепленное в обычаях, правовых установлениях, фольклоре, языке, а раньше — и в верованиях и суевериях. Этнические перемещения и смена населения может губительно сказываться на пользовании водой (в крымских стихах об этом писал Волошин). Мало иметь в своем распоряжении центральную власть, обеспечивающую прорытие огромных каналов. Надо суметь еще заинтересовать отдельного землепользователя или целую общину в рациональном бережном использовании получаемой воды, в поддержании мелких каналов или канав, идущих от крупных. Здесь едва ли не на первый план выступает этническая психология хозяйства. Кто достаточно долго жил в Средней Азии, знает, насколько там жива традиционная культура бережного отношения к воде. У многих народов каждый источник и водоем находился под покровительством особых мифологических существ. Говоря образно, можно было бы сказать, что ссора с этими покровителями воды дорого обходилась многим завоевателям и пришельцам извне.
Сейчас во всем мире заслуженной славой пользуется книга нашего выдающегося фольклориста Владимира Яковлевича Проппа по морфологии волшебной сказки. В продолжающем ее сочинении об исторических корнях волшебной сказки, изданном в 1946 году, В. Я. Пропп высказал любопытную гипотезу о том, что с «управлением водой» связан миф о герое-змееборце, который в развитом виде встречается во всех древних ирригационных государствах — в Египте, Вавилоне, Индии, Китае. Для ирригационных обществ характерен и миф о «царях-змеях», таких, как индийские нага-раджи и китайские лун-ваны (оба термина означает «царь-дракон-змей»). Представление о змеях — охранителях вод или источников, вероятно, гораздо древнее. Но в ирригационном обществе, подобном древнекитайскому или другим восточноазиатским, оно разрастается в целый цикл мифов о драконах-царях. В древней Кампучии, славившейся своей системой искусственного орошения, существовало предание о том, что ее царь каждую ночь соединяется в башне дворца с мифологической прародительницей — «Нагой» («Змеей»); от этого брачного союза священного Царя и Змеи зависело благополучие страны. Подобные представления существовали на древнем Цейлоне, в старой в китайской мифологии и т. п. В древней Эфиопии первым аксумским царем считался бог-царь по имени «Змей», а первым царем-человеком — змееборец, убивший змея.
Если бы в этой статье я следовал канонам той литературы о науке, где повествование оживляют диалогами, я, вероятно, должен был бы в духе фантастического реализма Булгакова ввести в текст спор Дракона — охранителя рек с чиновником, тупо отстаивающим необходимость их поворота. Когда я обдумывал возможное содержание их спора, я еще и еще раз задумался над тем, хорошо ли, что мы потеряли веру в духов вод и рек, не заменив ее ничем. Быть может, Дракон, если бы я его уже ввел в повествование, заспорил бы и со мной. Я допускаю, что он укорил бы меня в недооценке успехов древнего искусственного орошения в Восточной Азии, где оно не всегда вело к явным катастрофам (наш этнограф Я. В. Чеснов в особом исследовании предполагает, что образ Дракона — исконный в Восточной Азии, оттуда он попал к нам в Европу; естественно, что Дракон будет защищать достоинство своих вод прежде всего). Если Дракон в этом прав, это скорее всего тоже связано с этнической психологией. На востоке Азии иначе проведена была граница между природой и культурой. Ведь Одрикур думал, что в восточноазиатском рисоводстве продолжается дружески почтительная традиция обращения с растениями. Вспомним о восточноазиатской душе риса: она пуглива, ее не надо спугнуть при его уборке, которую надо производить осторожно. С каждой земледельческой культурой связывали свой комплекс обычаев. Преимущественные занятия определенных этнических групп садоводством, огородничеством и другими формами земледелия, которое отмечается и у нас в Забайкалье и в других местах с разнонациональным населением, уходит корнями в сложившуюся традицию, связанную и с психологией того или другого этноса.
Следует подчеркнуть, что в истории земледелия — и в Восточной и Юго-Восточной Азии, и в Океании, и в Америке (т. е. в древней тихоокеанской зоне) — были и попытки так использовать искусственное орошение, чтобы сочетать его не с вырубкой лесов, а с насаждением деревьев. В цивилизациях доколумбовской Америки деревья в «плавучих садах» служили для укрепления земли возле рек или на островах внутри рек. Духи леса для этих цивилизаций значили не меньше, чем духи вод. А нам едва ли не больше всего стоит их оплакивать.
14
Основной урок истории орошения состоит в следующем: недостаточно иметь в своем распоряжении большие количества воды и орошенных земель. Надо суметь ими распорядиться. Нередко обратное: опытный земледелец (хотя бы в той же Средней Азии) может, в особенности при правильном подборе культурных растений, добиться больших успехов и при минимуме воды, а большие количества воды и площади орошенных земель могут остаться не до конца освоенными или израсходованными почти впустую. Заостряя, можно сказать, что при неумении пользоваться на месте результатами орошения не спасают и громадные ирригационные системы, именно об этом говорит опыт древнего и средневекового Востока. А при наличии бережного отношения к воде и при рациональном землепользовании может отпасть и самая необходимость в таких огромных системах, можно обойтись и малым, извлекая из него все в нем заключенные возможности. По этому пути более экономного пользования водой и землей и шло обычно позднее (как в Италии и Греции) хозяйство тех стран, где разрушились крупномасштабные ирригационные сети древности.
Если есть большие площади земли и большие количества воды (хотя бы и далеко отстоящие от земель, которые нужно орошать), то одно из на первый взгляд простых (и исторически — в развитии земледелия и посленеолитического общества — первых) решений, лежащих на поверхности, состоит в осуществлении строительства громадных ирригационных систем. Трудности менее очевидны. Но история ирригации за 7 тысячелетий раскрывает их. В постепенном совершенствовании и развитии сельского хозяйства нередко верх одерживали иные, альтернативные пути решения проблемы эффективного землепользования. Отбор, жестко и безжалостно производимый историей, далеко не всегда был в пользу громоздких и внешне эффектных решений. Едва ли не всего важнее для ближайшего будущего идеи академика Н. И. Вавилова, до сих пор во всем объеме реализованные лишь в тех обществах (в Мексике, в Индии и некоторых других странах «третьего мира»), которые пошли по намеченному им пути «Зеленой революции». Речь при этом идет не просто о задаче создания площадей под определенные (иногда заранее — искусственно запланированные) сельскохозяйственные культуры, а о подборе культур для заданных сложившихся экологических условий. Упор делается не на заранее выбранное культурное растение, для которого ценой огромных затрат можно создать подходящие экологические условия, а наоборот, — история растениеводства, подлинное знание всего набора существующих в мире растений, селекция и генетика используются для подбора культур при данных экологических условиях, вмешательство в которые сводится к минимуму.
Современная биотехнология, которая может использовать генную инженерию и другие методы создания новых сортов, нужных в данных экологических условиях, может существенно облегчить решение такой задачи. Вавилов в его время мог только мечтать о подобном применении своей науки, фундамент для которого подготовили его труды по генетике культурных растений. Им была поставлена и в большой степени решена — благодаря целой серии экспедиций, обследовавших области, где он предполагал и искал следы древних центров земледелия, — задача собрания максимально полного фонда мировых сортов культурных растений. Вавилов и его сотрудники отработали систему проверки годности этих сортов. Это дает ключ для осуществления в государственном масштабе программы наиболее правильного построенного разумного подбора сельскохозяйственных культур по агроэкологическому принципу. Вавилов исследовал опытным путем пригодность каждого сорта для разных широт и на разной высоте (последний фактор он считал весьма важным в свете исторического опыта). В эксперименте он стремился варьировать условия возделывания, в частности, определял необходимость поливки. Так, в 1925 году он писал в Наркомзем Грузии агроному Парсаданову о грузинском сорте пшеницы: «Особенно интересно получить Вашу микуру из условий поливных, полуполивных, без поливки при озимом посеве, при яровом посеве». В 20-е и 30-е годы благодаря энергии Вавилова была проделана гигантская работа по государственным сортоиспытаниям. Ее продолжение на современном уровне биотехнологических приложений генетики несомненно могло бы дать замечательные результаты во взаимодействии с работами по мелиорации. Н. И. Вавилов более полувека назад при формулировке указанного принципа принимал самый широкий план расширения посевных площадей благодаря мелиорации. В этом с ним был согласен академик В. И. Вернадский — один из самых универсальных умов, занимавшийся перспективами планирования хозяйства. Вернадский полагал, что при необходимости человечество всю сушу и часть океана могло бы отвести на нужды земледелия. А его предвидения, даже когда на первый взгляд они фантастичны, рано или поздно оправдываются.
Вернадский впервые отчетливо сформулировал закономерности стихийного развития биомассы живого вещества в прошлом и осмысления этого развития на современном этапе создания сферы разума — ноосферы. Проблема сохранения лесов (жизненно необходимых и для поддержания биологически нормального состава атмосферы Земли) и осознания их значимости в этом плане остается одной из главных. Чрезвычайно вредная сторона проекта поворота рек связана с большим ущербом, который был бы дополнительно нанесен лесным массивам Севера Евразии. Современная наука задумывается и над серьезными замыслами увеличения числа деревьев в нашей стране и во всем мире. Мне случилось присутствовать на докладах на эту тему, читанных нашим известным биологом Н. В. Тимофеевым-Ресовским перед его смертью. Он развивал в них план грандиозных лесонасаждений. В них он видел ключ к решению современных глобальных экологических проблем.
Одной из них является нехватка пресной воды, связываемая с явлениями планетарного масштаба и с крупными просчетами последних десятилетий (напомню хотя бы все о той же проблеме Байкала). Очевидная вредная роль человека, создающего дефицит пресной воды, особенно на засушливых территориях, заставляет с особой осторожностью относиться к любым таким вмешательствам в природную среду, которые предпринимаются с целью локального изменения этого дефицита. Основным принципом должна быть минимизация вероятных вредных экологических воздействий, что в большинстве случаев означает и минимизацию расходов на труд и капитал. В частности, получение воды с более близких территорий не только существенно уменьшило бы расходы, но и сохранило бы существующие экогеографические соотношения. Например, для Нижнего Поволжья и Северного Кавказа можно было бы обдумывать и возможности использования ресурсов, которые потенциально связаны с огромным запасом кавказских ледников, что более естественно, чем задумывать обогащение области близ Кавказа за счет европейского Севера, как это предполагалось проектом переброски рек. По-видимому, настало время заботиться о судьбе каждого водного бассейна, проверять повседневно не только степень загрязненности вод, но и их расходование и на ирригацию, и на гидроэлектротехнические сооружения. Очень опасно то, что каждой из этих сторон занимаются разные ведомства, часто друг с другом плохо координируемые. Это уже сказывается и на судьбе отдельных сибирских рек, таких, например, как Енисей. В статьях о водохранилищах, опубликованных в нашей печати за последние годы, отмечалось, что ниже плотин гидроузлов гидрологический режим рек меняется на бесприточных участках (как на Иртыше ниже Бухтарминского водохранилища и на Ниле ниже водохранилища Насер) на расстояниях более тысячи километров.
Планируя такое вмешательство в природную среду Севера, как изменение стока рек Сибири, авторы проекта не продумали ни непосредственных экологических последствий нарушения и перестройки режима сибирских водных бассейнов, ни косвенных их результатов. К ним кроме уже упомянутых проблем спасения сибирской тайги принадлежит и охрана хозяйственных и жизненных циклов деятельности народов, попеременно занятых охотой и оленеводством в тайге и тундре и рыболовством в северных реках. Не из книг, а по собственным наблюдениям и по работе экспедиции, изучавшей кетов, я знаю, в какой мере рыболовством определяется полугодовой летний цикл хозяйственной деятельности и всей жизни этого народа, как и других народов Сибири, живущих в аналогичных природных условиях.
Сибирь, как и Дальний Восток, — край непочатых возможностей. К сожалению, воздавая должное всему сделанному за последние годы, походив и поездив по ней, все еще можно сказать: край мало освоенный. А сколько сулит освоение Сибири во всех отношениях — и хозяйственном (об этом другие скажут лучше меня, да и так это очевидно) и культурном! Одним из дел, которые никакого отлагательства не терпят, остается развитие культуры народов Сибири, своеобразных и по своим языкам, и по фольклорной традиции, и по искусству, и по культуре. У нас много хороших специалистов в этой области, но работают они разрозненно, часто их исследования десятилетиями ждут изданий (руки не доходят). С самого начала создания Сибирского отделения АН СССР шла речь о создании в его составе большого центра, который развернул бы работу во всех этих направлениях. Но так и существует там на самых скромных началах небольшая группа энтузиастов, которая вместе с другими такими же группами в разных сибирских университетах продолжает свои усилия, не находя должной поддержки. А сколько бы мы выиграли, если бы самим себе и всему миру проясняли все те загадки, которыми полно прошлое Сибири, ее языков и народов. В них — и ключ к путям заселения Америки в древности, и указания на древние связи народов внутри Евразии (как внутри кавказско-енисейско-тибето-китайской семьи языков). Всем этим интересно и по-новому занимаются у нас молодые ученые, имена которых я называл, но (как это почему-то повелось в самых важных и быстро развивающихся областях гуманитарного знания) — в часы досуга, без поддержки, без включения в планы институтов, которые никак не соберутся увидеть эти новые области. Помимо собственно научной стороны вопроса все время следует помнить и о значимости решения задачи воскрешения и развития на новой основе богатого культурного и языкового наследия народов Сибири.
Несколько лет назад было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, предусматривавшее ряд неотложных мер по развитию хозяйства, культуры и языков этих народов (числом более двадцати). Мне случилось участвовать в совещаниях (например, Бюро отделения литературы и языка АН СССР), где обсуждались желательные меры, к сожалению, до сих пор не принятые, нужные для реализации такой сложной и трудной программы. В свое время, полвека назад, когда еще существовал Институт народов Севера в Ленинграде, в этой области много было сделано. Потом был перерыв, и почти через полстолетия начались разговоры — пока только еще разговоры! — о возобновлении прерванной работы. А совсем недавно речь шла и о планировании других мер, которые могли нарушить сложившийся хозяйственный ритм многих народов Севера. Не стоило ли еще раз подумать о всех возможных последствиях, взвесить весьма разнообразные стороны проблемы? Ведь не только подсчетами кубических единиц воды и земли определится будущее огромных пространств Севера, Сибири и Средней Азии, богатых и водой, и лесом, и плодородной (потенциально) землей. Нужно было еще и еще раз подумать о судьбах людей, которые живут и будут жить на этих пространствах, их осваивать. На помощь экономистам, мелиораторам, техникам, планирующим будущее, должны прийти демографы, историки, этнографы, специалисты по разным наукам о человеке и его жизни. Никакие межнаучные перегородки не должны мешать этому.
Представим себе врача, который, поддавшись соблазну современной сверхдифференциации и сверхспециализации, стал бы лечить только одну часть сердечно-сосудистой системы больного, не думая о последствиях для организма в целом. Вред от такого лечения был бы очевиден. Основные слова в словаре современной науки (и естественной, и гуманитарной) — система и структура. Ими обозначается необходимость целостного рассмотрения, исключающего возможность вычленить только одну какую-нибудь сторону явления (пусть и такую, которая может показаться практически очень выигрышной) в ущерб другим. Полезны бывают модели, рассчитываемые на компьютерах. И здесь польза существенно зависит от того, в какой мере в модели учтены все важные с разных точек зрения параметры.
По мере того как растет техническая оснащенность нашей науки, вырастает и гражданская ответственность ученых. Мы потенциально можем очень много. Но кому многое дано, с того многое спросится.
В этой связи стоит подумать о характере подготовки больших технологических проектов (таких, как злосчастный завод на Байкале), узкая специализация которых, вероятно, иногда может быть сопоставлена с аналогичными американскими. Но для нас такие проекты не являются задачей бизнеса, где мнение специалиста заранее подчинено интересам отдельной фирмы. Поэтому учет в них самых многообразных человеческих (психологических, культурных, этнических) факторов — необходимость, а не роскошь. Без этого мы так и не вступим в ту эпоху ноосферы, о которой в данной связи говорил Вернадский, и авторы самых специализированных технических проектов останутся в определенном смысле действующими бессознательно, как это было в случае с поворотом рек. В этом плане можно было бы подумать о создании постоянно действующих консультативных советов или комиссий из ученых разных специальностей, которые могли бы на разных этапах вмешиваться в формируемые проекты, организуя соответствующие дискуссии и свободный обмен различными мнениями. Нельзя слишком узко понимать и задачи подготовки кадров — из сказанного выше видно, что историк ирригации на востоке может оказаться не менее нужным, чем мелиоратор. Уже приведенный опыт теорий академика Н. И. Вавилова показывает, что именно концепции ученых — основной залог развития земледелия по правильному и экономному пути, отклонение от которого грозит неимоверными ненужными затратами. Современная наука в разных ее аспектах (в том числе и историческом) должна помочь прежде всего в правильном выборе самих магистральных направлений предлагаемых затрат человеческого труда и капиталовложений. Проблемы мелиорации и ирригации касаются не только практики сельского хозяйства, но и разных областей знания, призванных прийти на помощь при решении этой задачи. Речь идет и о наиболее рациональном использовании природной среды, о ее сохранении, о таком разумном вмешательстве в нее, которое имело бы только благоприятные последствия. Остро встает и вопрос о воздействии климата на сельскохозяйственное производство и способах сведения к минимуму этого воздействия. По самой своей сути эти проблемы связаны не только с естественными науками, но и с историей и культурой народов, населяющих территорию нашей страны. Иначе говоря, разные области знания должны здесь объединиться и помочь практике.
Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале, попробуем дать на него ответ. Планирование будущего возможно только при учете исторического опыта. Какую бы из самых насущных и злободневных проблем мы ни взяли — будь то вопрос о характере организации и путях развития больших многоэтнических и многоязычных социальных объединений, о соотношении такого соединения или содружества каждого из входящих в него отдельных народов, о способах движения к более демократическим формам правления, о преградах по отношению к упомянутым процессам, связанным с ролью деклассированных (в том числе уголовных) элементов городского населения, участвующих в различных формах шовинистических фашистских организаций, наконец, о роли информационной технологии в разных обществах, — по каждой из них история — от древней до новейшей — готова дать нам подсказки, иногда неожиданные, но всегда существенные. Не нужно только преувеличивать уникальность возникающих проблем: для каждой из них может найтись исторический прообраз, который и надлежит учитывать.
Наличие повторяющихся или стереотипных ситуаций в истории России общепризнанно. Но повторяемость явлений вообще характерна для истории разных обществ, что и делает возможным построение некоторых общих схем, которые должны учитываться в любых проектах, включая и собственно технологические, как в рассмотренных выше случаях.
Содержание
Алесь Адамович. Проблемы нового мышления … 3
I
А. Стреляный. Приход и расход … 36
Г. Зеленко, Т. Чеховская. Маршрут для путешествия, которое длится вечно … 100
II
А. Городницкий. Сколько миль до Атлантиды? … 144
С. Старикович. Рангифер … 193
М. Черкасова. Птицы и люди … 223
H. Бианки. Слепые … 268
III
А. Мелик-Пашаева. А. М. Будкер в четырех ракурсах … 282
Г. Федоров. Возвращенное имя … 320
В. Савченко. Недочитанный Чернышевский … 344
IV
И. Забелин. Его космос … 384
Н. Эйдельман. 99 лет и один день … 421
В. Полишук. Он может стать знаменитым … 462
Я. Голованов. Кометы и люди … 505
Вяч. Вс. Иванов. Вода. Земля. Соль … 547
Примечания
1
«Дружба народов», 1983, № 9, с. 200.
(обратно)2
«Правда», 1986, 23 окт.
(обратно)3
«Дружба народов», 1984, № 10, с. 174.
(обратно)4
«Литературная газета», 1986, 5 нояб.
(обратно)5
«Вопросы философии», 1986, № 4.
(обратно)6
Если пойти товару мешает слишком большая цифра на бирке, он остается лежать. Тогда закон стоимости проявляет себя в убытке от этого лежания.
В цену, по которой товар или услуга ходят, должно быть включено все, во что обходится потребителю, будь то гражданин, предприятие или отрасль, доступ к этому товару или услуге: прямые и косвенные потери от стояния в очереди, приплаты продавцу или посреднику-распределителю, содержание этого распределителя и т. д.
(обратно)7
Подробно об этом см. в книге «Советское крестьянство» (М., 1970 — с. 156–162).
(обратно)8
Подробно об этом см. в кн.: Ципко А. Идея социализма. М., 1976,
(обратно)9
Иной раз складывается впечатление, что проклятиями в адрес бюрократии хотят отвлечь нас от мыслей о демократии.
(обратно)10
Так в бумажном оригинале. — Прим. Tekel.
(обратно)11
Очерк писался при жизни Я. Б. Зельдовича. Сегодня его уже нет…
(обратно)12
Год от рождества господня (лат.).
(обратно)13
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 1, с. 125, 598.
(обратно)14
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 46, ч. II, 215.
(обратно)15
Точности ради я процитирую Энгельса: «…натуралистическое понимание истории — как оно встречается, например, в той или другой мере у Дрейпера и других естествоиспытателей, стоявших на той точке зрения, что только природа действует на человека и что только природные условия определяют повсюду его историческое развитие, — страдает односторонностью и забывает, что и человек воздействует обратно на природу, изменяет ее, создает себе новые условия существования» (Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1969, с. 198). «Забывчивость» эта была мировоззренческой, методологической.
(обратно)16
О том же писал и Вернадский столетие спустя, он отметил «взрыв Гумбольдта» и современный ему взрыв научного знания.
(обратно)17
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.
(обратно)18
Реакционный министр юстиции, внук подавителя Пугачевского восстания.
(обратно)19
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 325.
(обратно)
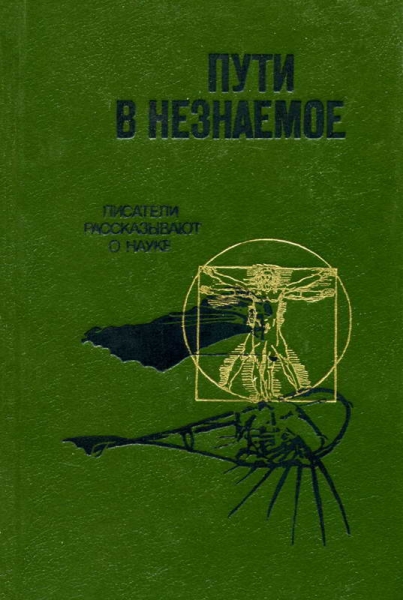




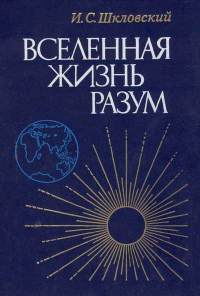



Комментарии к книге «Пути в незнаемое», Алесь Адамович
Всего 0 комментариев