Г. Алексеев Ракета Петушкова
I
Двадцать второго сентября 1921 года на острове Шипан в Адриатическом море произошло событие, которое только по причине преступления до сих пор неизвестно цивилизованному миру. Но так как инженеры Кравченко и Петушков, русские беженцы из Новороссийска, на землю до сих пор не вернулись, а далматинский миллиардер Фредерико Главич окончательно выжил из ума, приказав своим слугам величать его: «Завоеватель межпланетного пространства» — я, единственный на земле человек, принимавший участие в этом странном предприятии, по некоторым причинам вынужден объяснить, как все это произошло.
В самом начале двадцатого года на пароходе, увозившем в Сербию остатки белой России, на палубе, с помощью американских одеял наскоро превращенной в каюты, познакомился я с двумя молчаливыми людьми в фуражках российского инженерного ведомства. У одного из них — высокого человека в чудовищных, по брюхо, сапогах было скуластое, заросшее сивой шерстью лицо и открытые, доверчивые, как день, глаза. Его звали Петушковым. Говоря, он заикался, словно давился куском мерзейшего английского бифштекса из обезьяны, которыми нас щедро откармливали на пароходе после российской голодовки. Обернув дном кверху бочку из-под сельдей, он целыми днями потел над цифрами с потрясающим количеством нулей, к вечеру все вычисления летели за борт, сопровождаемые крепким морским словом, и Петушков заваливался спать на якорных канатах, высвистывая носом родные рулады. Его товарищ — молчаливый человек, с закисшими хохлацкими усами, заинтересовал меня, главным образом, тем, что по ночам, когда только отчетливый храп напоминал о России в душной тьме черноморской ночи, он флегматично усаживался на носу под колоколом, визгливо отбивавшим свои склянки, и разглядывал в бинокль красноватую звезду, воткнутую окурком над черной бородой анатолийского берега.
— От це, — говорил он, — и будет Венера…
— Ну, так что ж, — сказал я равнодушно, — Венера так Венера… Мало ли звезд на небе.
— То-то, что таких, как Венера, мало, — отозвался он серьезно… — Вы кто: дурак или кто? Венера прежде всего живет, поняли? To есть я хочу сказать, что на ней есть живая жизнь… Правда, она, как молодая планета, постоянно окутана облаками, как в свое время и Земля была… Но разными хитрыми штуками установлено, что на Венере не больше 30 градусов температуры, состоит она из того же мяса, что и Земля… Да. Я думаю, — тут он начал в задумчивости покручивать усы и говорил дальше, как будто сам с собой, меня не замечая, — что Венера сейчас переживает такой же период, как Земля в свое каменноугольное время… Да. Скажем, что это вечные сумерки, рыхлая взрытая почва, покрытая теплым морем и по ней ползут ихтиозавры, бронтозавры и всякая другая дрянь… Надо пороху побольше взять… Вы мне напомните об этом…
Случилось так, что в Босфоре я спас девочку, слетевшую с корабля в море. Девочка, в шапочке с симпопошками и в новых калошиках, подошла к перилам и молчком кувыркнулась вниз. Я снял сапоги и бросился за нею. Когда матросы вытащили нас на спасательном круге, я вспомнил, что в кармане промок последний десяток папирос, и весьма неодобрительно отозвался по адресу девочкиной мамаши.
Кравченко стоял у перил и, покручивая ус, хладнокровно наблюдал, как мы тонули.
— От цей хлоп, — сказал он Петушкову, — дуже способный хлоп до нашего кумпанства.
Так началась эта дружба, приведшая к самым неожиданным последствиям.
II
Клянусь богом, это были совершенно исключительные люди.
Ночью все трое мы заперлись в пароходной уборной, где с большой предосторожностью Кравченко выволок из оплешивевшего своего чемодана «Вестник воздухоплавания» за 1911 год. Он ткнул под самый мой нос просаленные страницы:
— От цю штуку вы читали? — «Исследование мировых пространств реактивным способом» — Циолковского. Ни? Так я вам должен сказать, что Годдарт и Обэрт этому хлопцу в подметки не годятся…
— А кто ж они такие? — спросил я с некоторым удивлением.
— Про це мы побалакаем на месте… А вы почитайте пока все это… Наш выбор пал на вас.
Он торжественно положил мне на плечо свою волосатую лапу:
— Вы человек мужественный…
— Вы меня извините, — сказал я сурово, — я не люблю шуток…
— Какие тут шутки, — вскричал он, — никаких шуток нет… Мы решили взять вас с собою на Венеру…
— Ку-уда?
— А вон, — показал он пальцем в иллюминатор, — от цю звездочку изволите видеть? Венеру? Мы с Петухом перебираемся туда на жительство…
Я посмотрел ему в лицо с острым чувством жалости и хотел напомнить, что на пароходе есть врач, и он может дать хины, но оба они были до такой степени спокойны, медвежьи скулы Петушкова сжались с такой решительностью, а в глазах была такая сумасшедшая уверенность, что я задумался. А в самом деле? Из России выбросили, как щенка, везут за счет английского короля не то в Сербию, не то в Египет… В положении человека, которого хотя и зовут Федор Антонович, но паспорт которого английский, сапоги американские, а рубаха из благотворительных средств греческой королевы, долго раздумывать не приходится.
— Хорошо, — сказал я, небрежно сплевывая на петушковский сапог, — ваш стол, два доллара в месяц и новые обмотки… А визы у вас уже есть?
III
Пароход привалил к Рагузе, и когда — похожие на молодых угольщиков — мы вступили в душный от запаха магнолий и апельсинов город, в пеструю тесноту его полуитальянских, полутурецких улиц — Петушков высказал подозрение, что, пожалуй, здесь не видали даже живого трамвая и город для практических работ не годится. Однако, осмотревшись и получив от проживавших уже тут русских беженцев заверение, что сербы очень любят русских, которых они считают своими братьями и даже выплачивают им неизвестно за что по пятисот динаров в месяц — мы решили, что условия эти вполне приемлемы, надлежало только упрятаться на какой-либо остров, и там заняться пока что практическими изысканиями. Таким островом оказался Шипан, пленивший нас чорт его знает почему? Оттого ли, что на нем была всего одна тысяча жителей, или оттого, что некий навязчивый хорват, доводивший нас своей любовью к русским до дикого бешенства, указал нам в приморском кафе на толстого, набитого нездоровым жиром человека, задумчиво плевавшего в стоявший перед ним стакан кофе.
— У этого человека, — сказал он, — восемь океанских пароходов, тридцать два дома в Чили и фабрика селитры…
— Селитры! — вздрогнул Кравченко.
— Селитры, и остров Шипан в Далмации принадлежит ему. Тщеславие этого человека так же велико, как его богатство. Вы видите: теперь он всенародно плюет в кофе… На восьми его кораблях саженными буквами написано его имя: Фредерико Главич… Он мог бы построить вавилонскую башню, если ее назовут его именем…
— А скажите, мой друг, — ласково спросил Петушков, — где находится этот Шипан, и ходят ли туда пароходы?
На другой же день мы были на острове. Он весь тонул в виноградниках, в оливковых и мандаринных рощах. Восточный берег его заканчивался горой, острой, как палец. Она называлась горой св. Ильи, и в древности — мы точно не разобрали — в проливе ее имени Цезарь разбил Помпея, а, может быть, Помпей Цезаря. На ее гордой вершине находилась вилла известного австрийского историка, который жил здесь, пленясь историческим прошлым горы, и уехал в Вену, когда Далмацию завоевали «эти грязные сербы». Правда, в его вилле не осталось ни окон, ни дверей, и даже крышу «эти грязные сербы» использовали на что-то другое, но зато вилла помещалась на такой крутизне, что доступна была только знавшим особую козью тропу. Над ней — свободные — парили орлы, с нее — просторное — во все четыре стороны открывалось море. Мы остались вполне довольны нашим новым жилищем, приспособив под спальню исторический курятник.
На третий день мы отправились с визитом к далматинскому миллиардеру Фредерико Главичу. Он принял нас в саду, проросшем одуряющими левкоями, в беседке, над которой серебряный лев держал в лапе земной шар. Терять нам было нечего, и потому Петушков на совершенно исключительном французском диалекте объяснил миллиардеру, что жизнь — есть тлен, и человек, умирая, не оставляет после себя никаких следов, кроме детей…
— Но дети, — тут Петушков сострадательно улыбнулся, — этот способ запечатлеть себя в вечности известен каждому рыбаку… Разве этого жаждет ваша просвещенная, уставшая от человеческих дел душа?
Миллиардер посмотрел на нас сонными, заплывшими от сладких запахов, глазами и сказал:
— Я люблю прохвостов, а вы, по всей видимости, настоящие прохвосты. Присядьте.
Однако, когда Петушков прочитал краткую лекцию о методах достижения предельных высот, и для объяснения принципа отдачи, единственного, по его мнению, способа движения в пространстве, припомнил обыкновенную пушку и толково объяснил, что если бы пушка не стояла на упирающемся в землю лафете, то беспрерывно стреляя, она могла бы взлететь даже на Луну, да еще подкрепил свои утверждения опытами Циолковского, Годдара и Баркельандера — миллиардер заметил, что считает нас очень отважными людьми.
Подумав, он сказал, что теперь мы можем проваливать, а завтра… если он завтра скажет себе да, то над его виллой будет поднят флаг. Мы можем увидеть его, не спускаясь с горы.
Это было вечером третьего января.
А четвертого января 1920 года, в этот исторический отныне день, ровно в десять часов утра, дежуривший у курятника Кравченко заревел отчаянным голосом:
— Флаг поднят!
IV
Должен сознаться, что это было по истине редкое соединение двух антиподов загадочной славянской натуры. Инженер Петушков был порывист, беспорядочен в мыслях, увлекался, как ветер, но и охладевал, как ртуть, в работе брал больше срыву, а не высидкой, но я должен сказать, что все «гениальные», как выразился однажды Кравченко, мысли — приходили именно к нему. Это он, например, заметил, что в нашем аэроплане-ракете все-таки должны быть рули.
— Иначе, — сказал он, — как это ни странно, но нас ждет участь жюль-вернова ядра.
Технолог Кравченко, наоборот, был весь — усидчивость, хохлацкое упорство, расчетливость и лень. Но если брался за работу — делал ее основательно, на годы. Так ему принадлежала выковка стенок ракеты, которым суждено было в межпланетном пространстве выдерживать до 10.000 килограммов атмосферного давления на каждый квадратный метр. Чорт знает, с каким упорством колотил он по раскаленному железу четырехпудовым молотом, или выковывал его в особых, выписанных Главичем из Берлина, горнах. Впрочем, он и сам говорил, что если бы две известные части тела, над которыми он думает и сидит, переместились местами, он, несомненно, был бы гениальным человеком.
Работы шли полным ходом. Хорватам объяснили, что руссы собираются проводить на острове электричество. Главич не скупился на средства, и к маю 1921 года голый остов аэроплана-ракеты с крыльями из алюминия и винтами, толщиною всего в полтора дюйма, был готов. Внутри ракеты помещались два огромных бака с водородом и кислородом. Стекая в равной пропорции во взрыватель, в который тупыми искрами била непрерывная электрическая искра, они образовывали гремучий газ. Газ тут же взрывался. В потоке стекающих газов стояли рули. Движение ракеты было разработано. Более трудная битва предстояла с холодом мирового пространства с его 273 градус. ниже 0. Кравченко предложил использовать для отопления ракеты часть тепла от взрыва газов. Но Петушков, просидев три дня над стеклами, объявил, что он приготовит прибор для поглощения огромной лучистой энергии солнца, пропадающей в пространствах. В тот же день к Цейссу в Иену полетел телеграфный заказ миллиардера Главича на двояковыпуклые чечевицы. Не мало пришлось потрудиться над конструкцией взрывателя: его стенкам надлежало выдерживать температуру в 4.000 гр. по Цельсию, спасти положение могла только платина, а она была в двух местах: в России, но в России — перестали уважать миллиардеров, и в Греции, у бывшего владельца платиновых рудников на Урале, вывезшего по случаю эвакуации пуда полтора, и даже ставшего по этому случаю русским посланником на родине Аристотеля. Сгоряча, Фредерико Главич телеграфно предложил посланнику обменять платину на пароход.
При отделке внутренней камеры ракеты, Петушков вспомнил, что человек выдерживает ускорение лишь до 40 метров в секунду, а тут, по его вычислениям, предстояла секундная скорость в 10.000 метров. Было решено погрузить пилотов в жидкость, равную по удельному весу человеческого тела, и лететь в этой жидкости. В такой ванне пилот без вреда может выдержать любое ускорение.
— Удивительная мерзость, — сказал Петушков, когда жидкость, наконец, была готова, — в какой только дряни не приходится купаться…
— Ради идеи, брат…
— Какая там к чорту идея! — Петушков рассеянно поглядел вниз, на белое кружево зацветающих маслин, — в Россию бы теперь, в Кострому, чайку с вишневым вареньем…
— Ну, это ты брось, Петух…
Кравченко испуганно поднял брови и выронил альтиметр, который выверял.
В тот вечер мы напились сквернейшей далматинской водки до потери сознания, и Петушков едва не раскокал четырехпудовым молотом всего нашего сооружения. Кравченко молча съездил его по уху и посадил на пороге курятника, где он и выводил всю ночь рыдающим, бравшим под самое сердце тенором:
— Э-эх, кабы во поле да береза не стояла…
А на утро было твердо решено, что отлет состоится ровно в полночь двадцать второго сентября 1921 года. Так хохлацкое упрямство Кравченко решительным образом помогло осуществиться этому чудовищному предприятию.
V
15 сентября, как раз в первый день сбора винограда, когда в долине острова всю ночь не умолкали песни опившихся суслом счастливых виноградарей, аппарат был готов. По внешнему виду это была ракета, снабженная двумя парами крыльев. Ее хвост представлял собою пушечное жерло, в нем были наглухо укреплены рули, напоминавшие мясорубку. В кабине для всех трех пилотов были приготовлены герметические мешки из меха, соединенные проводами с маленькой электрической станцией и налитые особой, весьма гнусно пахшей жидкостью. В мешки надлежало влезть голыми, излишек жидкости выливался через особое отверстие, и они герметически закупоривались. Петушков при этом сделал несколько неприличное, но весьма житейское предположение, но Кравченко по прежнему был упрям и обозвал его «старой бабой».
Дня за три до отлета Кравченко спустился в долину и притащил с собою Главича. Лицо миллиардера напоминало свеже начищенный люк ракеты не только от трудного подъема по козьей тропе… Он отечески похлопал по крылу аппарата и взялся за бумажник. Но, уловив грустную улыбку Петушкова, раздумал. В самом деле — деньги, да еще сербские динары, на Венере не нужны… Взамен этого он принес, только что полученный из Америки, жироскоп Кордона с валиком внутри для ориентации в межпланетном пространстве. Этот прибор был замечателен тем, что валик во всяком положении указывал на Полярную звезду и, таким образом, мы всегда могли знать, где мы находимся. Мы прикрепили его к носу «Межпланетной ракеты Фредерико Главича» и присели на ступеньках кабины.
Солнце стояло в нестерпимом полденном соку. Дикие апельсины пахли жаром расплавленной киновари. Главич вытащил из кармана расписной японский платок и отер им жирную неживую шею. Как никак, а ведь мы были обречены на верную смерть. Было бы гнуснейшей пошлостью сказать о жертвах ради науки…
— Так я пойду, — сказал Главич с несвойственной этому человеку кротостью, — я жду вас сегодня ужинать.
Я с ненавистью смотрел в спину этого золотого осла, спускавшегося вниз к жизни, к ее простым радостям. И, чорт знает, почему — в его, размягченный всеми удовольствиями, мозг пришла вдруг дикая фантазия истратить полдесятка миллионов на удовлетворение отчаянной выдумки трех ошалевших русских эмигрантов…
VI
Но это было настоящее вдохновение!
В день отлета мы работали как хорватские ослы. Мы оттащили ракету на плоскость, метров на двадцать от обрыва, мы скатили с площадки все камни, чтобы не зацепить колесами или «мандолиной» при взлете, мы десятки раз поверяли: все ли на месте, есть ли в мешках вино и вода, привязали трубки и табак к выключателям, чтобы они не мотались по всей кабине, когда ракета уйдет из земного притяжения — и уже к одиннадцати часам вечера, когда поднялся на гору Фредерико Главич, стояли одетыми в отвратительные мешки с липкой жидкостью, похожие скорее на водолазов, чем на летчиков, своими скуластыми металлическими шлемами и огромными рыбьими очками.
— Друзья, — вдруг сказал Главич, — я готов считать пропавшими пять миллионов динаров… Оставим нашу глупую затею…
Но эту его фразу слышал только я. Петушков пробовал мотор, и он гудел недовольным жужжаньем потревоженной птицы.
Без четверти двенадцать Петушков размашисто перекрестился и бросился в кабину. Все же и тут он оказался первым, и ракета по справедливости названа мною его именем. Кравченко с торжественностью, показавшейся мне несколько смешной, приложил руки к алюминиевой своей груди и стал медленно подниматься по ступенькам.
Кравченко великолепным жестом капитана указал Главичу.
Но тот сел в траву и. закрыв лицо обеими руками, заплакал. Будто понял что-то этот изживший жизнь человек и жалел.
Тогда Кравченко сделал рукою знак мне. Я должен был запустить винт мотора и на ходу вскочить на ступеньки. Вот где могла еще раз пригодиться моя отважность!
Ну, что ж! Я — подлец! Я самый последний негодяй и трус, имя которого никогда не станет известно потомкам. Я подошел к винту и взялся за него неверной, задрожавшей рукой.
— Выключено! — с решимостью отчаяния заревел Петушков. Его голова в шлеме словно бомба торчала в открытый еще люк кабины.
— Конта-акт? — запросил я, все еще надеясь.
И коротко, словно выстрелив, Петушков крикнул:
— Есть контакт!
Со стоном я дернул винт. Ракета вздрогнула, будто проснувшаяся птица, и вдруг медленно поплыла вперед — к чорному обрыву моря, клокотавшего, как надгробное рыдание, у подножия св. Ильи.
А я… Я повалился на землю и остался…
И еще слышал я высоко над головою — проклинавший рев винта, вдруг рванувшийся из ночи, словно огромная апокалипсическая птица прореяла над островом, и так же вдруг пропавший в тугой, слегка пахнущей созревающими апельсинами, адриатической тьме…
Может быть, обломки аэроплана-ракеты, на кузове которого не по праву написано огромными буквами из остатков посольской платины: «Междупланетная ракета Фредерико Главича», где-нибудь: на земле?!
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




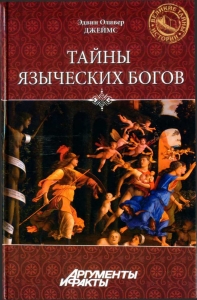
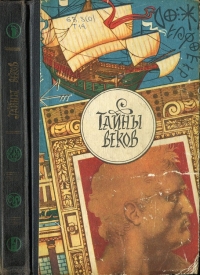



Комментарии к книге «Ракета Петушкова», Глеб Васильевич Алексеев
Всего 0 комментариев