Александр Дусавицкий Дважды два = икс?
От издательства
Книга, которую вы держите в руках, посвящена актуальной педагогической проблеме, проблеме воспитания нового поколения людей, обладающих высоким творческим потенциалом. К ней проявляют интерес учёные, практики, родители. Все, кто учит, воспитывает и растит детей.
Хорошо известно, что всестороннее развитие детей в раннем возрасте имеет огромное значение для последующего формирования личности. На это обстоятельство обращали внимание все великие педагоги.
Книга «Дважды два = икс?», как сказано о ней в аннотации, посвящена многолетнему психологическому эксперименту, цель которого заключалась в том, чтобы выявить возможности формирования творческого мышления у младших школьников, отыскать пути воспитания интеллектуальных способностей у ребёнка, охваченного системой организованного обучения.
Нет надобности говорить о том, что воспитание и обучение в нашей начальной школе осуществляются сегодня в соответствии с передовыми педагогическими принципами и нормами. Сейчас ведётся большая комплексная работа педагогов, психологов, гигиенистов, методистов и других представителей науки, цель которой – на основе наиболее обоснованных и достоверных данных научных исследований учебной деятельности перестроить систему обучения младших школьников. Министерство просвещения СССР уже подготовило новый типовой учебный план, в котором реализована структура одиннадцатилетней общеобразовательной школы с началом обучения с шестилетнего возраста.
Однако значит ли это, что педагогическая наука сказала последнее слово? Нет, конечно. Поиск ведётся и будет вестись. Как он вёлся и раньше. Сколько существует советская школа, столько ведётся и борьба за овладение наиболее отвечающим потребностям общества способом обучения и воспитания.
Тем более это касается сегодняшнего обучения, осуществляемого в век НТР. Оно требует от учителя, как никогда ранее, проявления творчества, умения строить деятельность ученика на основе постоянного стремления к овладению сложными теоретическими проблемами науки и техники. Таким образом, необходимость раннего формирования и развития творческого мышления у детей очевидна. Это веление времени. К этому призывает и школьная реформа.
В книге А. К. Дусавицкого затронуты названные проблемы. Она рассказывает о психолого-педагогическом эксперименте, направленном на совершенствование системы обучения. В центре книги исследование, которое осуществлялось свыше двадцати лет в школах № 91 Москвы и № 17 Харькова. Цель эксперимента – выявить творческие возможности ребёнка.
Работа А. К. Дусавицкого – не монография. Она представляет собой публицистический очерк. Точнее говоря, написана в жанре научной публицистики. Издательство полагает, что публикуемая работа будет полезна всем, кто работает над осуществлением реформы общеобразовательной и профессиональной школы.
В ходе исследования получены интересные результаты. Каким путём шли к ним – об этом и рассказывает автор. По словам академика АПН СССР А. В. Петровского, это путь «не единственно возможный, но от этого значение его не умаляется». Приемлем ли такой путь для широкой практики? Об этом говорить рано. Мы знаем, что наряду с огромной работой по воспитанию у учащихся подлинно творческого отношения к учёбе, активизации их мыслительных способностей школа в последние годы освободила младших школьников от излишних перегрузок.
Рекомендации, для того чтобы они были весомыми, требуют проверки и ещё раз проверки. Поэтому в книге читатель не найдёт прямых советов. Создаваемые учителем на экспериментальных уроках ситуации, описанные живо и ярко, как бы вводят читателя в лабораторию по исследованию развития мышления школьников. Автор, рассказывая о тех или иных экспериментальных уроках, использует протокольные записи этих уроков. Некоторые рассуждения и ответы школьников могут восприниматься как нестрогие и даже ошибочные. Но это те ошибки, которые психологов радовали: дети до всего доходили сами – они на уроке мыслили и работали.
Расширители проблем
Что виделось вчера как цель глазам твоим, -
Для завтрашнего дня – оковы;
Мысль – только пища мыслей новых,
Но голод их неутолим.
/Э. Верхарн/– Что есть вечность?
– Неумолкаемое будущее…
– А зло?
– Явление ничтожного человека…
– Трамплин?..
– Горка для чувств в воздухе…
– Дурак?..
– Колесо, которое застряло!
Этот диалог, похожий на фехтовальную дуэль, ведут умудрённый жизненным опытом человек и шестилетний малыш. Ответы на вопросы, поражающие, воображение свежестью и точностью определений, даёт не тот, кому, по сути, положено их давать, не взрослый, а ребёнок!
– Чем отличается ученик от учителя?
– У учителя ум в голове, а у ученика – в учебнике.
– А зачем человеку плечи?
– Они нужны, чтобы гордиться и пожимать ими.
– Кто такие философы?
– Философы – расширители проблем, – весело говорит мальчуган.
Дети есть дети!.. Ставшие пословицей, эти слова отмечали тот непреложный факт, что ум ребёнка, его интересы, эмоции, воля, вся его психика отличаются от психики взрослого человека. Вот подрастёт – поймёт мир взрослых, научится вести себя соответственно правилам, поумнеет, поймёт что к чему. А пока он мал, что с него возьмёшь? Поэтому надо быть терпимым к его непредсказуемости, непоседливости, непонятливости, парадоксальности. Так уж устроено природой: есть детство, время свободы от забот, счастливого периода незнания и неведения.
Похоже, сегодня извечное снисходительное отношение взрослого к ребёнку, к возможностям его ума начинает давать трещину.
Умные дети!.. Их в наше время становится всё больше и больше. Как быстродействующие ЭВМ энного поколения, они удивляют суждениями о вещах, которые всегда числились по ведомству взрослого мышления. Комментируя примеры детского словесного творчества, известный советский психолог А. В. Петровский заметил: шестилетние «расширители проблем» сами являются сложной психологической и педагогической проблемой, которая имеет тенденцию к постоянному расширению.
– Где он мог это слышать?! – изумляется мать, приходя в себя от очередного словесного выпада своего сына.
Ну где, где!.. Мало ли где?.. По телевизору, по радио… В метро, в кино. А может быть, сам придумал, сталкивая в причудливые сочетания услышанные слова, укладывая их в мыслительные модели, смысл которых, кстати, может быть совершенно различным для автора-ребёнка и адресата-взрослого.
Испокон веков дети боялись своих родителей. Теперь всё чаще родители боятся детей: как будто в знакомом пушистом добром комочке вдруг стал проглядывать тигрёнок. Взрослые вдруг обнаружили, что плохо знают поколение, растущее на дрожжах НТР, питающееся квантами информации с экрана телевизора и глядящее на нас столь рано взрослеющим взглядом. Как установить с ним контакт, с этим человеком из будущего, который живёт уже сегодня? Пока фантасты гадают, где, как и когда мы встретимся с инопланетянами, и с помощью каких средств будем устанавливать понимание с ними, здесь, на земле, колосится «племя младое, незнакомое».
Обычные, доморощенные, передаваемые из поколения в поколение способы воспитания не очень срабатывают именно потому, что всё чаще не предсказуема реакция ребёнка на наше слово, действие, вопрос.
Итак, сегодняшние дети умнее своих предшественников – это бесспорный и признанный всеми факт. Конечно, так было всегда, иначе не было бы прогресса, развития, но сейчас это особенно заметно. «Вина» за такое положение лежит прежде всего на средствах массовой коммуникации, опоясавших мир каналами связи, с утра до ночи льющих поток разнообразных знаний в детские умы. Но тогда, очевидно, эти дети могут легко взять приступом барьер, который мы с трудом одолевали в течение долгих лет, – барьер образования. Так сказать, взлететь на крыльях мысли над прозой школьных будней и приземлиться за рекордной отметкой у выхода в большую жизнь с аттестатом, заполненным одними пятёрками.
Увы, слова автора могут быть восприняты как неуместная ирония. Разве он не знает о тех исполинских трудностях, которые подстерегают детей у порога сегодняшней школы? Разве он не знаком с бесчисленными статьями, в которых обсуждается уже который год «эффект неуспеваемости», осложняющий жизнь многим детям, сидящим на школьной скамье?
Но ведь наши дети – умные дети, они знают значительно больше, чем знали родители в их возрасте. Им не страшна новая информация, они её поглощают изо дня в день огромными порциями. Так разве их смутит физика с химией, история с географией, если они смотрят «Клуб путешественников» и «Очевидное – невероятное»?
Тем более странен парадокс, с которым мы сталкиваемся: умным детям стало сейчас учиться намного сложнее, чем их отцам, матерям, бабушкам и дедушкам.
Здесь, за школьными партами, куда-то улетучиваются их непосредственность, остроумие и находчивость. При столкновении с математической задачкой не из жизни, а из книжки, с правилом языка, на котором он так непринуждённо излагает полудетские, полувзрослые афоризмы, с законами физики, которыми он ежедневно пользуется, наполняя ванну перед тем, как туда опуститься, ребёнок даёт сбой, его ум как бы съёживается, цепенеет или вообще отказывается работать. Впрочем, далеко не у всех.
…Их вводят за ручку в кабинет директора школы, а потом – в кабинеты повыше, их очень долго приходится водить по разным большим кабинетам, потому что они не вписываются в стандарт, в схему, в правило, в норму. Это особо способные дети, с ранним всплеском таланта, с ранним восходом. Когда-то они удивляли главным образом своими способностями к музыке, рисованию, реже к математике. Сегодня становится всё больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, когда способности постигать сложный современный мир проявляются очень рано – в 3-4 года.
В 6 лет такие дети уже знают столько всего обо всём и так много, что возникает сомнение в необходимости обучения такого ребёнка в начальной школе вообще. И тогда начинается хождение по инстанциям. «Да, – соглашаются учителя, методисты, заведующие рай- и гороно, – способности действительно необычные, но…» И тогда частенько оказывается необходимой виза самого министра, чтобы началось официальное восхождение ребёнка по образовательной лестнице. Скорее, не восхождение, а полёт, ибо эти крохи легко перепрыгивают через классы, за считанные недели осваивают годичные курсы сложных дисциплин и в 12-13 лет оказываются у порога высшей школы, чем ещё больше смущают представителей уже другого министерства – высшего образования.
О них любит писать пресса: солидные столичные корреспонденты летят в дальние командировки только для того, чтобы взять интервью у маленького человека, ломающего своим интеллектуальным ростом привычные каноны умственного развития. «Прыжок…», «Перешагнул возраст…», «Человек, не сидевший за партой…» Вот такие и подобные заголовки можно часто видеть в газетных и журнальных публикациях.
Опытные журналисты и те срываются на цветистый слог, повествуя о ранних талантах. «Его ровесники пишут сочинения в 10-м классе, а он – уже диплом. На марафонской дистанции длиной в жизнь он вырвался вперёд прямо со старта или, наоборот, это остальные отстали?» Это о семнадцатилетнем выпускнике медицинского института, который, когда ему было только 6 лет, играючи овладел программой четвёртого класса школы.
«Что это – игра природы, удачное стечение обстоятельств, секреты воспитания?» – задаёт риторические вопросы журналист, рассказывая о ребёнке, который имел обыкновение перепрыгивать через класс: за 6 лет учёбы – десятилетка, в 12 – студент политехнического института. «Им повезло – врождённые способности», – замечает ещё один корреспондент.
Можно таким детям только по-хорошему позавидовать. Впрочем, к этой зависти присоединяется, как правило, опасение – не рано ли? Не перегрузят ли знания мозг? Не скажется ли это впоследствии на физическом здоровье ребёнка? Или, ещё хуже – на здоровье психическом? Ведь все дети как дети, а этот ребёнок не такой, особенный.
Ну что ж, природа на выдумки хитра: будем радоваться безграничным возможностям человека. Талантливых детей становится больше, и всё-таки пока они единицы. И радость наша преждевременна не только поэтому. По закону нормального распределения слепая природа подбрасывает нам не только особо одарённых, но и особо неспособных.
Мы хорошо знаем этих детей – заторможенных, с ясными, незамутнёнными мыслью глазами, безмолвно стоящих за партой и не могущих ответить на самый элементарный вопрос: сколько будет дважды два…
– Четыре! – шепчут товарищи, показывая результат на пальцах, пишут его на листочках крупными буквами. Но товарищ молчит, и учитель, хороший, мудрый, добрый учитель, теряет терпение, ручка у него дрожит, внутри всё напрягается и с уст срываются слова, о которых потом он будет горько жалеть: «Какой же ты неспособный!..»
– У вас очень слабый ребёнок, – говорит учитель огорчённой матери, – надо с ним заниматься, уделять внимание. Абсолютно никаких способностей к математике… (Или к языку, или к рисованию, пению; впрочем, рисование, пение – это не так важно: без них вполне можно в жизни обойтись. А без математики в жизни – никак! Без языка – невозможно! А способностей нет. Природа обделила.) Вы проверьте ребёнка у психиатра.
– Он психически здоров, – говорит врач. – Дебильности нет. Просто крайняя задержка умственного развития. Медицина тут помочь не может.
И учитель был бы рад помочь, но тоже не может. Индивидуальные занятия мало что изменяют: движения мысли нет.
И в первом случае природа виновата – там фанфары, и во втором, но здесь фанфар нет. Здесь есть тревога за ребёнка: не воображаемая, как с талантом, а реальная тревога за его будущую судьбу, за его личность. Тут мы, увы, бессильны…
Но можно ли с этим смириться?
Что такое вообще интеллектуальная способность? И так ли очевидно, что даётся или не даётся она от одной природы? Может быть, условия воспитания в раннем детстве стимулируют развитие ума или воздвигают какие-то преграды на пути его развития? А может быть, действуют и те и другие причины, вместе взятые?
Проблема происхождения умственных способностей, таким образом, оказывается одной из центральных проблем современной науки, и прежде всего психологии. Психология должна дать в общем виде ответы на вопросы: что такое ум? как он возникает, развивается? какие здесь есть этапы и существуют ли они вообще и можно ли в принципе управлять этим процессом или он навсегда задан природой и лишь растягивается и сжимается в зависимости от обстоятельств, а суть его остаётся прежней?
Что там, за этими ясными глазами?
Тридцатые годы нашего века. Институт имени Ж.-Ж. Руссо в Женеве. Каждый день сюда приводят детей – от самых маленьких до подростков. В просторных учебных лабораториях, в которых есть всё, что может привлечь внимание ребёнка, – от пробирок до кубиков и пластилина, – дети выполняют внешне несложные упражнения и задачки.
Нет, это не клиника, где на фоне света и чистоты ещё более тягостными выглядят аномалии детской психики. Здесь имеют дело с нормальными детьми, весёлыми и здоровыми.
Вот перед пятилетним ребёнком рассыпают разноцветные бусинки – синие, красные, зелёные…
– Умеешь ли ты сразу двумя руками класть бусинки в стаканы? – спрашивает психолог.
– Умею! – уверенно заявляет малыш.
– Ну, попробуй. Только смотри: надо брать по одной бусинке левой и правой рукой и одновременно класть их в разные стаканы. Ты хорошо понял, что нужно сделать?
Ребёнку всё ясно, он бережно кладёт одну, другую, десятую бусинку, стараясь, чтобы ни правая, ни левая ручонка не отставала друг от друга.
– Хорошо, достаточно, – говорит психолог. – Теперь скажи, пожалуйста, одинаковое ли число бусинок в обоих стаканах.
– Одинаковое, – отвечает ребёнок. Для него это детский вопрос: ведь он клал равное число в оба стакана. О чём тут может идти ещё речь?
– Теперь смотри внимательно, что я буду делать, – говорит психолог, пересыпая бусинки из одного стакана в новый, более высокий и тонкий. – А сейчас одинаковое ли количество в обоих стаканах – высоком и низком?
– Нет, – заявляет ребёнок. – Здесь больше! – его пальчик показывает на высокий стакан.
– Как же так?! – изумляется присутствующий при эксперименте отец ребёнка. – Ведь число бусинок не уменьшилось и не увеличилось. Всё происходило на наших глазах, без всяких цирковых фокусов. Может быть, ребёнок просто не понял вопроса?
– Где больше? – бусинки снова пересыпаются в прежний стакан.
– Сейчас одинаково.
– А теперь?.. – ещё одна операция с высоким и тонким стаканом.
– Теперь больше здесь! – звучит ответ.
Отец может не волноваться, его ребёнок – не умственно отсталый. Эксперименты с детьми того же возраста заканчиваются, как правило, с тем же самым удивительным результатом, фиксирующим неспособность детского ума на определённом этапе его развития видеть равные количества, если они облечены в разную форму.
Но бусинки – дискретные величины, попробуем тот же эксперимент провести с величинами непрерывными.
– Любишь катать шарики из глины? – осведомляется. психолог у ребёнка.
– Кто же не любит? – резонно отвечает тот, глядя на несмышлёного взрослого.
– Вот тебе глина, скатай два одинаковых шарика.
Ребёнок скатывает.
Психолог уточняет:
– В каком из них больше глины?
– Оба одинаковые.
– Хорошо. Теперь вытяни один шарик в трубочку. Так. В каком шарике глины больше?
Ребёнок показывает на трубочку. И здесь та же удивительная картина: изменение формы предмета влечёт за собой изменение представления о количестве, заключённом в эту форму.
Психолог не успокаивается. Он выкладывает перед ребёнком на равных расстояниях бусинки и просит его выложить точно такой же длины ряд из синих. Задачу ребёнок решает быстро и правильно: его ряд по длине такой же, как и у психолога. Всё было бы прекрасно, если бы не одно «но»… У экспериментатора в ряду 6 бусинок, у ребёнка – 4, 5 или 8. Оказывается, он воспринял задание буквально: учёл только один параметр – длину, на число же элементов, её образующих, не обратил никакого внимания.
Вот, оказывается, какая важная особенность мышления обнаружена в экспериментах с пятилетними детьми: у них отсутствует понимание обратимости, то есть возможности обратного действия с предметом. Вектор мышления как бы направлен только в одну сторону, обратного хода нет. Дверь, которая легко открывается при толчке вперёд, не поддаётся, если мы пробуем, возвращаясь, открывать её тем же способом. Казалось, чего проще: потяни её на себя. Но дети упорно продолжают действовать однажды найденным способом.
Получен важный вывод. И сделан он, прежде всего, благодаря принципиально новому подходу в противовес традиционной описательной психологии. Автором нового подхода был швейцарский психолог Жан Пиаже[1]. До Пиаже психология подходила к мышлению как к объективному феномену, параметры которого относительно независимы от возраста. Источник возникновения ума, его движения, преобразования – всё это просто не принималось во внимание как нечто, несущественное.
Пиаже избрал другой, гораздо более трудный путь – генетической психологии, то есть науки, которая во главу угла ставит именно изучение развития, перехода от одних его форм к другим. Новые пути всегда требуют новых методов исследования. Здесь же требовалось разработать такой метод, который позволил бы проникать за внешнюю оболочку поведения ребёнка, позволил понять, что стоит за словом, действием, вопросом, какими механизмами мысли они обеспечиваются.
Метод Пиаже труден, он требует ума, таланта самого исследователя, педагогического такта, находчивости и терпения. Этот метод максимально приближает к естественным условиям общение ребёнка со взрослым, превращает общение в своеобразную игру, условия которой ребёнок с удовольствием принимает.
В экспериментах Пиаже есть один важный момент: дети в них действуют и рассуждают одновременно. Что это даёт экспериментатору? Можно выяснить, насколько логика «чистой мысли» может оторваться от логики конкретных практических действий с предметами. Где, когда и как разводятся в мышлении восприятие (вижу реальный предмет) и представление (образ предмета). Ребёнок может правильно решить задачу, действуя с конкретными предметами (обозначая, например, длину отрезка с помощью фишек), но выполняя те же действия в уме – ошибаться.
В течение многих лет изучал Пиаже становление детского интеллекта, отражающее изменение представлений ребёнка о мире. И постепенно, шаг за шагом, от эксперимента к эксперименту вырисовывалась стройная концепция развития ума, начиная от рождения до того момента, когда его каркас зримо выступает перед нами: от первых, казалось бы, случайных блоков фундамента до прочных колонн, ажурных переплетений ферм, этажей, стен. «Всё! – как бы говорит нам Пиаже, – Каркас интеллекта построен. Остальное: интерьер, остекление, мебель и прочее оборудование – уже не меняет конфигурации здания по существу, а только придаёт ему законченность и возможность нормально в нём существовать».
Познакомимся же с концепцией развития детского ума, предложенной Пиаже[2].
Что отличает раннее детское мышление от мышления взрослого? «Эгоцентризм!» – говорит Пиаже. По его мнению, это главная отличительная черта мышления ребёнка: предельная субъективность, неспособность отделить свою мысль от объекта, отвязаться от него. Маленький ребёнок – интеллектуальный реалист, он считает вещи такими, какими он их видит.
– Как, по-твоему, луна стоит на месте? – спрашивают у ребёнка.
– Нет! Она сначала пойдёт за вами, а потом непременно меня догонит! – убеждённо говорит четырёхлетний малыш.
Такая абсолютно субъективная позиция – исходный момент. Само развитие мышления есть постепенный, последовательный отказ от такой позиции. Путь развития детского мышления, по Пиаже, – это путь трудного преодоления эгоцентризма. Тогда становится ясным, что может понять ребёнок определённого возраста, а что он понять не в состоянии. Оказывается, мышление ребёнка-дошкольника хотя и претерпевает важные изменения, но в целом остаётся на уровне интуиции, а не логики. Он не умеет анализировать отношения между вещами.
Малышу дают 20 деревянных бусинок, из которых 17 красных и 3 белые.
– Какое ожерелье длиннее, – спрашивают у него, – из деревянных бусинок или из красных?
Дети-дошкольники убеждены, что ожерелье из красных бусинок, конечно, длиннее, потому что белых бусинок только три!
Такое объяснение раскрывает нам «хитрость» детского ума: он переформулирует задачу, которую ставит психолог, – о соотношении деревянных и красных бусинок – в другую задачу: соотношение красных-белых.
Непонимание вопроса, переформулировка задачи отражают свойства детского интеллекта: отсутствие обратимости, умения оперировать с классами, с помощью которого могут быть удержаны в уме одновременно и части, и целое. Но однажды ребёнок как бы вдруг «прозревает». «Там и там одинаково», – говорит он, когда равное число предметов оказывается в сосудах разной формы.
Мысль как бы раскрывается, получает новую степень свободы, способность двигаться в анализе ситуации и в прямом и в обратном направлении. Задачи, которые ещё недавно вызывали затруднение, теперь решаются правильно: психолог замечает, что появилась обратимость как свойство ума.
К 9-10 годам ребёнок уже способен соотносить между собой два разных класса, считая их подклассами третьего класса (чтобы понять, что красных бусинок меньше, чем деревянных, нужно сохранить в уме всю совокупность красных, белых и деревянных и уметь рассуждать обратимо: если 17 красных бусинок плюс 3 белые дают в сумме 20 деревянных, то 17 красных получится, если от 20 деревянных отнять 3 белые бусинки, то есть, красных оказывается меньше, чем деревянных).
Наступившую вторую большую стадию развития мышления Пиаже назвал стадией конкретных операций. Название отражает существо дела: ребёнок правильно решает задачки на обратимость с конкретными предметами, но пока ещё затрудняется, когда они переводятся в план представления.
И вот следующий решающий шаг к последней стадии – к стадии формальных операций логики. Появляется новая способность интеллекта: мысленно видеть в фактическом положении вещей возможность его изменения – способность совершать челночную операцию между мыслью и действительностью. Эта способность формируется в подростковом возрасте и охватывает период 11-15 лет.
Решение задачи подросток начинает не с самого дела, а с мысли, с гипотезы, догадки, намётки возможных превращений вещей и ситуаций. Если ребёнку 6-7 лет сказать: подумай, потом решай, то он отвечает сакраментальной фразой: «Думать некогда, решать надо!» Повзрослев, он уже не бросается в омут проб и ошибок, а сначала прикидывает в уме, что из всего этого получится. Он рассуждает, устанавливает логические связи между предметами, комбинирует их в уме, классифицирует, а затем на этой основе строит эксперимент, проверяет справедливость мысленных допущений. Например, если ему нужно установить прочность стержня, то он выделяет предварительно факторы, от которых она зависит: длину, форму сечения, материал, плотность, а потом изучает влияние каждого фактора. В младшем возрасте дети немедленно переходят к действию со стержнем, а потом, задним числом, пытаются объяснить, что же они, в конце концов, хотели с этим стержнем сотворить.
Формальный интеллект, способность к изучению причинно-следственных зависимостей между вещами являются, согласно Пиаже, венцом развития мышления ребёнка. С его помощью он может отвязаться от земли и воспарить в облака абстрактного и возможного. Естественно, ему сверху «видно всё». Мир лежит у его ног, и можно выбрать лучшую площадку для приземления, составить программу своей будущей взрослой жизни.
Итак, каков путь становления мышления ребёнка? В представлении Пиаже он выглядит следующим образом. Ребёнок, сталкиваясь с окружающими предметами, вынужден подчинять свои действия логике их существования. Логика его реальных действий отражается в представлении, в форме адекватных структур мыслительных операций. Внешние действия уходят в умственный план, интериоризируются («интер» – вовнутрь), обобщаются, становятся мыслительными операциями. Процесс этот – перенос внешних действий во внутренние операции – и составляет механизм развития мышления. Само же мышление развивается на основе собственных действий ребёнка. Он сам развивает себя в том смысле, что без его активности нет и развития. В финале ребёнок обретает способность не только реально изменять предметы окружающего мира, но и совершать эти действия в представлении. Это и есть мышление, обладающее фундаментальной способностью – обратимостью.
Самым поразительным выводом из всей этой стройной концепции интеллекта является вывод, согласно которому формальный интеллект возникает независимо от специального школьного обучения. Учим мы ребёнка или не учим, но в свой срок приходит эта способность оперировать с мысленными заместителями предметов. Она проходит в своём развитии строго определённые стадии: от дооперационных структур, через стадию формальных операций к формальному интеллекту. Порядок стадий изменить нельзя, это закон развития мышления.
После опубликования основных положений концепции Пиаже её подвергли перекрёстной проверке. В ряде стран мира изучались «феномены Пиаже», как их стали называть психологи. И вот в немецких, английских, французских журналах стали появляться отчёты о проведённых исследованиях: выводы Пиаже полностью подтверждались! Дети Женевы, Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Москвы с железной последовательностью стадий шли к формальному. интеллекту. К 15 годам он формировался у большинства детей во всех развитых странах мира.
Это ли не торжество идеи, которая как будто бы обретала контуры строгой научной теории мышления? Впервые стали ясны пружины становления детской мысли, впервые появилась возможность её целенаправленного формирования.
Работы Пиаже высоко оценивал и выдающийся советский психолог Л. С. Выготский. Он считал, что исследования Пиаже составили целую эпоху в учении о мышлении, его логике, совершили переворот в изучении старых как мир проблем.
Дети есть дети! – наш интуитивный вывод относительно возможностей детского ума, в общем, оказался верным. Но одно дело – интуиция, а другое – научная точка зрения, раскрывающая суть мышления в его существенных связях и отношениях. Исходите из особенностей возрастного развития мышления, говорит нам Пиаже. Не предъявляйте ребёнку требований, которые он просто не может выполнить. Сколько бы мы ни наказывали малыша за его бестолковость, понять сущность обратимости он сможет только в свой срок. С другой стороны, обеспечивайте полноценное его развитие в рамках возрастных возможностей, давайте ему пищу для развития – предметы, с которыми он мог бы действовать. Иначе он будет сохнуть, отставать от сверстников.
То есть Пиаже говорит нам: само по себе ничего не происходит – вне собственных действий ребёнка, вне нашей помощи развития нет. Но, с другой стороны, даже при самых благоприятных условиях ребёнок не может перескочить через стадию. Это закон развития интеллекта. Порядок следования стадий оказывается неизменным, заданным раз и навсегда. Сдвиг в более ранний возраст возможен, но и только. В этом смысле следует понять тезис: школьное обучение не влияет на развитие. Оно влияет, но только в смысле создания условий для проявления существующего вне и помимо обучения общего закона развития. Изменить закон развития мышления никакое обучение не в состоянии.
Следствия, вытекающие из этой концепции, задают определённую стратегию воспитания. В обучении следует, во-первых, ориентироваться на нормы развития, которые могут быть установлены для различных географических районов чисто статистическим путём, ибо большинство детей достигает того или иного уровня развития к определённому сроку. Одни, естественно, этот срок опережают, другие от него отстают. Эксперименты показывают, что существует большой индивидуальный разброс в умственных показателях и у детей и у взрослых. Кто-то с этой точки зрения кажется нам умнее или глупее. Различия зависят от условий жизни, природных задатков, качества преподавания, личности родителей и учителей. Поэтому нужен индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Так педагогика обретает прочную опору в психологической теории, оказываясь практически не зависимой от бурь и потрясений быстротекущего времени. Ибо второе важнейшее следствие концепции Пиаже в том, что логика развития мышления не зависит не только от обучения, но фактически и от конкретно-исторических условий вообще. И вчера, и сегодня, и в далёком будущем дети, рождаясь, проходили и будут проходить один и тот же путь развития ума. Он может сжиматься или растягиваться во времени: детство может быть короче или длиннее – смысл развития остаётся тем же самым, ибо это естественное развитие.
И вот здесь наш житейский здравый смысл, которому до сих пор логика науки казалась неуязвимой, начинает бунтовать. Как же так, всё меняется, а ум не меняется? Но ведь в наше время дети с очевидностью становятся умнее. Так, может быть, в этом пункте Пиаже всё-таки ошибся (его выводы были получены в начале XX века) и в исторической перспективе законы развития мышления претерпевают фундаментальные изменения?
Единственная, достойная науки возможность ответить на эти сомнения – повторить эксперименты Пиаже в наши дни. Проверить их на оселке сегодняшней быстротекущей жизни и тогда окончательно вынести суждение о правомерности выводов, имеющих такое большое значение для создания теории обучения и воспитания ребёнка.
Проверка полвека спустя
В психологической лаборатории уже знакомые нам пробирки, колбочки, пластилин, бусинки. И задачки те же самые: произвести несложные действия с предметами, определить, изменилось ли их количество при обратных преобразованиях. Но происходят они не в Женеве в тридцатых годах, а в Московском университете в наши дни, через 50 лет. Психологи изучают, как складываются представления детей-дошкольников об окружающем мире, как они изменяются от возраста к возрасту. Идёт взаимная заинтересованная беседа взрослого и ребёнка о природных явлениях, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу. Как ребёнок понимает восход и заход солнца, течение рек, сияние звёзд, дуновение ветра.
– Откуда приходит ветер? Это очень трудно рассказать. Я в новом фильме видел, что мальчик из трубы выдувал. А ещё машина быстро едет – тоже ветер бывает.
– Почему солнце не падает? – спрашивает психолог.
– Потому что оно за тучки держится! – лукаво изрекает малыш, и не знаешь, кто кого проверяет на оселке здравого смысла: мы его или он нас.
– Солнце знает, что оно светит?
– Да! Потому что оно всегда светит, всегда горит… На солнце 2000 градусов, поэтому если полетит к солнцу космический корабль, то сгорит.
– Почему книги, вещи падают, если их выпустить из рук?
– Потому что у них нет крыльев, – резонно отвечает пятилетний мыслитель, – они не умеют летать. А ракета летит, потому что она с мотором, а книга без мотора.
Можно восхищаться образностью, яркостью ответов детей, но вот логики интеллектуальных операций, о которых нам поведал Пиаже, здесь пока нет.
– Откуда, по-твоему, взялись реки?
– Вот раскопаешь яму, потом польёт дождь и получается река…
Задачки с бусинками, с пластилином, с переливанием из пустого в порожнее не спасают положения. Вывод удивителен: сегодня, как и полвека назад, дети 5-7 лет находятся на дооперационном уровне мышления.
«Хотя в содержании детских представлений, – пишет Л. Ф. Обухова, повторявшая по инициативе известных советских психологов А. В. Запорожца и П. Я. Гальперина опыты Пиаже, – нашли отражение телевизионные передачи, кинофильмы, однако, лишь как внешний поверхностный атрибут». И чем старше дети, тем больше сочетание наивности, отражающей дологическую форму мышления, и современных научных представлений о мире.
– Откуда на небе солнышко появилось?
– Я не знаю. Я смотрела только передачу, как химик показывал части солнца. В древности, наверное, появилось.
– Как оно появилось? Из чего?
– Наверное, из такой массы, которая под землёй.
– Почему солнце не падает?
– Законы природы, что оно не падает.
Итак, простое накопление стихийно усвоенных новых знаний в целом не меняет формы логического мышления, этапов его становления. До 5 лет дети опираются на свои собственные представления, жонглируют конкретными фактами. Гипотез нет. После 5 лет, как отмечает Л. Обухова, начинается расцвет идей маленьких философов о происхождении небесных тел, но за ними стоит всё тот же наивный реализм. Затем приходит время причинного, механического объяснения движения.
Следовательно, Пиаже прав? Хотя психологи подтвердили очевидную тенденцию сдвига представлений детей к более раннему возрасту, уровень мышления детей конца XX века отражает все особенности развития детского мышления, выявленные Пиаже.
Можно было бы, казалось, окончательно принять концепцию Пиаже, если бы не одно смущающее обстоятельство. Она прекрасно объясняет норму развития. Но как всё-таки быть со случаями резких отклонений от нормы, то есть, с детьми, имеющими странную тенденцию перепрыгивать через возраст?
На первый взгляд здесь действует известное правило здравого смысла: исключения только подтверждают общую закономерность. Но наука предпочитает об этом правиле не вспоминать. Её история насчитывает немало страниц, убеждающих, что исключения из правил несут в себе заряд большой силы. Не успевает учёный оглянуться, как облачко на голубом небе превращается в сплошные тучи и от чистоты теории не остаётся и следа.
Пример тому – классическая физика конца XIX века, считавшая, что здание физической науки в основном возведено и осталась самая малость: найти место в его апартаментах некоторым противоречащим теории фактам. Не прошло и двух десятилетий, как эти неудобные факты легли в основу принципиально нового миропонимания. Зная эту коварную особенность исключений из правил, теоретики всеми силами стараются либо вынести такие факты за скобки, сделать вид, что они из другой области науки и числить их надо по другому ведомству, либо любым способом втиснуть их в одежду собственной теории.
На первый взгляд это сравнительно просто сделать и с особо умными детьми в рамках концепции Пиаже. Способный ребёнок – это тот, у которого складываются особо благоприятные условия для развития (незаурядный папа-физик, чуткая мама-педагог, прекрасная культурная среда воспитания), особо хорошие задатки (те же самые папа с мамой и всё их генетическое древо от Адама, породившее в конце концов редкий набор хромосом). Родиться талантом – счастливый случай, лотерейный билет, недаром всё-таки их мало. Талант – просто шутка теории вероятностей, когда угадываются все 6 номеров из 50 в Спортлото.
У такого ребёнка развитие оказывается спрессованным до предела, он как бы проскакивает весь длинный путь становления мышления за один миг. Здесь действует прямая зависимость: быстрее развивается ребёнок, следовательно, ему легче учиться, он лучше и полнее разбирается в материале. Но логика развития остаётся, естественно, прежней. Ибо что, в самом деле, может её поколебать?
И всё-таки попробуем пристальнее вглядеться ещё в одну важную особенность их личности.
Как мы учимся
Среди вороха вопросов, которыми забрасывают особо способных детей журналисты, об их взглядах на жизнь, на мир, на самих себя корреспондентов особенно интересует, как они учатся. Поначалу кажется, что их ответы мало чем отличаются от ответов Ильфа и Петрова на вопрос: «Как вы пишете?» «…Иногда стоя, – отвечали знаменитые сатирики, – иногда лёжа. Но почти никогда – за столом».
«Учиться мне было весело, – рассказывает один из таких детей. – Никто меня не принуждал. В основном я учился вне школы, может быть, поэтому и не воспитал в себе стойкого отвращения к занятиям. Я до сих пор с трудом представляю, как это можно всерьёз заниматься науками, сидя на одном месте, не меняя позы, не смея обменяться мнением с товарищем. Да это, как мне кажется, противоречит самой сути познания. Я учился, можно сказать, не за партой, а на диване. И что важно – в любой момент мог прерваться, выйти во двор, поиграть в футбол, сесть за пианино. А человек, прикованный к парте, – лицо как бы подневольное. Моё счастье, что мне разрешили сдавать экстерном, иначе со скуки бы умер и возненавидел учёбу. Думаю, так случается со многими…»
Вряд ли другие дети способны заниматься самостоятельно, без тренера и режима, заключает журналист, стремясь сгладить впечатление от категоричности суждений подростка с высшим образованием.
Не будем придираться к этим полемическим суждениям и мы. Но разве не наталкивает описанная ситуация обучения на аналогию с творчеством взрослых, подлинным творчеством, которое никогда не связано с местом пребывания в определённом помещении и не зависит от числа книжных шкафов и ящиков письменного стола?
– Как ты учишься?
– Нормально, – пожимая плечами, отвечает ребёнок. Он мог бы вполне искренне добавить: как все, потому что не представляет, что можно учиться как-то иначе, что можно не понимать алгебраическую зависимость, не разбираться в химии, астрономии, истории. Но мы-то, взрослые, чувствуем, что учатся такие дети не как все, а как-то иначе. Им природа дала нечто такое, что отличает их ум от ума сверстников: талант, особые способности.
«Талант, способности. Без научного объяснения это пустые, бессодержательные понятия, отражающие, скорее, наше эмоциональное к ним отношение, чем суть дела, – мог бы заметить по поводу таких рассуждений учёный-психолог. – Только строгая экспериментальная проверка может объяснить, что за ними стоит».
Поэтому обратимся к данным педагогической психологии за ответом на вопрос, как учатся такие дети по существу. Каков психологический механизм постижения ими истины? Тогда, может быть, нам станет ясно, почему они предпочитают учиться, фигурально выражаясь, на диване, а не за партой.
Но, прежде всего, очевидно, имеет смысл заглянуть за кулисы учебной деятельности нормальных детей, составляющих в классе большинство и строго следующих в своём развитии канонам психологической концепции Пиаже.
– Дети, – говорит учитель. – Сегодня мы будем с вами изучать, что такое корень слова. Я сейчас назову несколько слов: сад, садовник, рассада. Сравнивая их между собой, мы видим: во всех словах есть общая часть, объединяющая слова по смыслу, – сад. Значит, такие слова можно назвать родственными. А вот слова «пирог», «начинка» – не родственные. Общая часть родственных слов называется корнем: он объединяет слова в одну семью. Так что же такое корень слова? Это общая часть слов, которые мы называем родственными. Теперь, когда вы узнали определение корня слова, будем учиться находить его в разных словах, упражняться на подчёркивании однокоренных слов.
Исходный момент обучения здесь – наличие образца, на который ребёнок должен ориентироваться. Детям дают такой образец действия, правило, формулу, и дети на их основе решают примеры, задачи, «отрабатывают» правила. Чем больше задач и примеров решит ребёнок, тем глубже постигнет смысл правила, установит границы его применения, отделит существенные признаки конкретных предметов от несущественных, тем легче приблизится к заданному образцу. Точно воспроизвести образец – значит усвоить материал. Но сделать это не так просто, особенно если образцом служит теоретическая зависимость. Поэтому вначале, конечно, дети делают ошибки. По мере овладения правилом, отработки навыков ошибок становится всё меньше и меньше. В конце концов, дети начинают действовать безошибочно. Правило усвоено, можно двигаться дальше.
Это традиционный, давно сложившийся психологический механизм усвоения знаний.
Можно предположить, что у способных детей он точно такой же. Всё дело в том, что если обычным детям нужно для усвоения правила, допустим, решить 100 задач, то способному ребёнку достаточно 10; он усваивает его просто значительно быстрее. Но вот исследование того, как учатся наиболее способные дети, даёт неожиданный результат: оказывается, всё-таки они учатся принципиально иначе.
Учитель задал школьникам задачу: сложить ряд последовательных чисел от 1 до 100 и получить сумму. Малыши уткнулись носами в тетрадки и, помогая себе язычком, медленно начали складывать длинный ряд цифр. А как же иначе? Именно складывать: один прибавить два, потом прибавить три и так далее. Да и многие из нас, взрослых, будут делать всё так же, ибо такое решение лежит, как говорится, на поверхности. Но вот один ребёнок почему-то не складывал, сидел, молча глядя на доску.
– Ты почему не решаешь? – грозно спросил учитель.
– Я уже решил, – ответил малыш и показал потрясённому учителю… выведенную им формулу, с помощью которой можно было получить результат, не производя последовательного сложения чисел.
Случай, о котором мы рассказали, – реальный, он взят из жизни знаменитого математика Гаусса. Будучи ещё школьником, он открыл, что сумма последовательных чисел от 1 до 100 может быть получена гораздо проще и быстрее:
Оказывается, примерно так же учатся все талантливые или просто очень способные дети. Они не решают 5, 10, или 100 задач. Более того, их вообще не интересует тот образец, который им услужливо подсовывается: правило, формула или определение, с которого начинается обучение. Для них формула – не начало, а конец обучения.
Они берут одну-единственную задачу, но решают её совсем иначе, чем другие дети. Если те решают задачу на сложение последовательного ряда чисел как чисто практическую, конкретную (важно получить результат), то способные дети решают другую задачу – познавательную. Их интересует не один какой-то конкретный результат, а общий принцип решения всех задач такого типа. Найдя принцип, они сами формулируют определение, делают вывод, выводят формулу. Но совершив такую познавательную деятельность, ориентируясь не на применение готового образца, а на поиск общего способа, лежащего в его основе, они в состоянии сразу безошибочно решить весь класс однотипных задач, в какие бы конкретные оболочки их ни прятали (сумма тракторов, лошадей или ракет для них прежде всего сумма). Поэтому тренировка им не нужна, долгое, постепенное приближение к истине им не нужно: они её обнаружили раз и навсегда.
Образуется огромный резерв времени, но не за счёт спрессовывания известных способов обучения, а за счёт применения принципиально другого способа!
Но тогда становится понятно, почему такие дети легко учатся и быстро продвигаются по учебной программе, а также, почему им скучно бывает в обычных условиях обучения: попробуйте объяснить им что-нибудь по второму, третьему разу, если они сразу схватили существо вопроса! Очевидно, что способные дети предпочитают диван, а не парту, ибо если за партами идёт медленное приближение к образцу, то их способ обучения в принципе не зависит от места и времени.
Поэтому такие дети остро реагируют на предположения, что из-за раннего обучения у них не было детства.
«Я не переношу тех, кто говорит, что у меня отняли детство, – в запальчивости говорит один из них. – Какое там отняли! Наоборот! Я просто не представляю другого детства: ведь я делал только то, что хотел. Никто меня не принуждал учиться. Да я ведь вообще профессиональный лентяй: домашние задания не делал никогда. Спорту уделяю в пять раз больше времени, чем другие дети. У меня есть свободное время, мне его девать просто некуда».
Вот какие неожиданно грозовые облака появились на небосклоне концепции Пиаже о развитии детского интеллекта. Ведь от того, как мы учим ребёнка, зависит, какой вид мышления мы у него сможем выработать, сформировать. Это очевидно.
«Детей Пиаже» отличает эгоцентризм, когда взгляд их на предметы, на вещи носит сугубо субъективный характер (вижу, значит, так оно и есть). Способных детей характеризует как раз объективная точка зрения на мир (ищу то, что не лежит на поверхности, а то, что определяет закон существования предмета).
Мышление «детей Пиаже» движется в логике сравнения предметов между собой, поиске инвариантов, того общего, что их объединяет, – сначала во внешнем плане, а потом во внутреннем, в словесном мышлении (стадия формальных операций). Логика ума способных детей иная: они каким-то образом сразу схватывают суть вещей, производят обобщение материала «с места», без предварительных упражнений. Умение логически мыслить, по Пиаже, то есть строить правильные умозаключения, является лишь следствием существования их особого ума, а не. основной причиной. Такое умение обнаруживается сразу же в развитой форме, как только начинают проявлять себя способности, о которых мы ведём речь. Оттого так поражает взрослость их суждений, ибо это, по-видимому, суждения другого ума, чем тот, который описан в фундаментальных работах Жана Пиаже.
Поэтому, прежде чем судить о правомерности выводов концепции Пиаже, нужно разобраться в загадке ума способных детей, понять, в каком отношении стоят они к так называемому нормальному человеческому интеллекту.
Шерлок Холмс против доктора Ватсона
– Но как вы догадались? – в очередной раз спрашивает у Шерлока Холмса поражённый доктор Ватсон.
И Шерлок Холмс в который раз разъясняет своему другу и мыслительному антиподу логику своего мышления. Дело даже не в том, что Ватсон не видит многого из того, на что обращает внимание Холмс. Слепота Ватсона не от незнания или плохого зрения – это вещи наживные. О сортах табака или особенностях лондонской пыли можно прочесть, а плохое зрение исправить очками. Слепота Ватсона, как, впрочем, и Лейстрейда, в другом – в неумении оценить факт, выделить его из длинной цепи других фактов. Рядоположенность, очевидность фактов – вот в чём их беда. И выводы их носят, так сказать, очевидный характер, они опираются на уже известное, на опыт – их собственный и опыт других.
– У вас поразительная способность замечать мелочи! – говорит Ватсон.
– Просто я понимаю их важность, – отвечает Холмс.
Умение наблюдать и умение делать выводы для доктора Ватсона – это одно и то же. Для Шерлока Холмса это принципиально разные вещи. Наблюдение даёт только факт. Выводы же из него – результат работы мышления.
Но если Ватсону простительна неспособность делать выводы на материале расследований, потому что это не его профессия (по-видимому, в своей врачебной практике Ватсон мыслит иначе), то для Лейстрейда она – свидетельство его профессиональной непригодности. Банальность, обыденность – вот характеристики его ума. Факты, не вписывающиеся в его гипотезу, Лейстрейд либо вообще отбрасывает как случайные, либо толкует их в логике своих рассуждений.
Холмс же совершает принципиально иную мыслительную операцию.
– Если какой-либо факт идёт вразрез с длинной цепью логических заключений, значит, его можно истолковать иначе.
И всю силу мысли он обращает именно на это истолкование, анализируя предмет вширь и вглубь.
– Вы в начале расследования, – замечает он доктору Ватсону, – не обратили внимания на единственное обстоятельство, которое и служило ключом к тайне. Главное – объяснить его. А потом, уцепившись за это объяснение, всё остальное – логические следствия. Всё то, что ставило вас в тупик и, казалось, ещё больше запутывало дело, мне, наоборот, всё объясняло и только подтверждало мои заключения.
То есть, по мнению Холмса, настоящий мыслитель, рассмотрев со всех сторон единственный факт, может проследить не только причины его возникновения, но также и все вытекающие из него следствия.
– Нельзя смешивать странное с таинственным. Странные подробности вовсе не осложняют расследование, а, наоборот, облегчают его!
Холмсом тонко схвачена сущность любого подлинно научного поиска, объяснение странного. Но прежде чем объяснить, надо его заметить. Плесень, «залетевшую» на рабочий стол английского микробиолога А. Флеминга, видели многие, но только он занялся ею и подарил миру чудодейственный пенициллин.
– Я не считаю себя глупее других, – говорит доктор Ватсон, – но при Холмсе сознаю собственную глупость. Он видел и слышал то же, что и я, но знает он, очевидно, не только то, что случилось, но и то, что должно случиться. Тогда как мне дело представляется непонятным, нелепым.
Не так глуп доктор Ватсон, если смог увидеть разницу между своим собственным мышлением и мышлением Холмса. «Он знает не только то, что случилось, но и то, что должно случиться». В этом замечании Ватсона схвачено, пожалуй, самое важное отличие двух типов мышления: одно обращено в прошлое, идёт по прямолинейной логике причинно-следственных связей, другое направлено в будущее, обращено не только к логике ставшего, но и к логике становящегося, логике развития. Понять суть дела можно, только если мы видим, оцениваем его в развитии, понимаем его движущие силы. Только тогда обнаруживаются пружины, механизм развития, проясняющие всю картину.
Таким образом, для Шерлока Холмса, так же как и для его создателя Конан Дойля, очевидно, что есть мышление и мышление, два его типа или уровня, принципиально отличные один от другого.
Мы убедились, что детективный жанр даёт прекрасную возможность для моделирования мышления средствами искусства. Но ещё задолго до Конан Дойля очевидные различия в мышлении человека стали предметом пристального внимания в философии. Не вдаваясь в историю вопроса, изложение которого выходит за рамки темы нашей книги, остановимся коротко лишь на принципиальных различиях между двумя уровнями мыслительной деятельности, получивших в философии названия рассудка и разума.
Постараемся на простых житейских примерах показать, чем они отличаются друг от друга.
Человек живёт в мире чувственно воспринимаемых предметов, удовлетворяющих его потребности. Естественно, он должен, прежде всего, отличать предметы по своему назначению. Рассудок как раз и выполняет такую важную функцию. В поиске того, что могло бы удовлетворить потребность в еде, он подходит к растению или животному со стороны этой утилитарной потребности. Поэтому с этой точки зрения и яблоко, и корова, и хлеб, и манная каша имеют между собой то общее, что можно обозначить словом «еда». А сапог, пиджак и фиговый листок человек относит к тому, что выполняет функцию его одежды. Во всех подобных случаях наше мышление выделяет нечто такое в конкретном, чувственно воспринимаемом предмете, что отражает какую-то одну область его существования и далеко не всегда самую главную. Естественно, корова является не только едой, она ещё и травоядное, и рогатое, и копытное, и четвероногое – мало ли ещё какие признаки мы можем выделить в этом чувственно воспринимаемом нами предмете. Но рассудок всеми этими признаками пренебрегает. Он выделяет только те из них, которые отвечают определённой точке зрения на предмет со стороны его практической пользы.
В двух каких-либо предметах всегда можно обнаружить что-либо сходное между ними. Сходство и различия есть во всём. Ребёнок ищет эту всеобщность, показывая на облако: посмотри, настоящий барашек! Умный ребёнок, естественно, понимает, что между настоящим барашком и облаком в действительности нет ничего существенно общего. Но на основании наличия белых завитков он объединил блеющего барашка и облако в один класс кудрявых предметов. Разумеется, это чисто формальная общность, не влияющая на реальное существование ни барашка, ни облака.
В столкновении с любым объектом или ситуацией рассудок прикладывает к ним выделенные ранее родовидовые признаки и узнаёт предмет. Если он подпадает под определение, с этим предметом действуют согласно соответствующим правилам.
Рассудок – это та ступень, с которой начинается любое рациональное познание. С помощью рассудка наши знания обретают почву под ногами. Мы твёрдо и определённо знаем, что камнем и молотком можно колоть орехи, потому что они твёрдые. Мы абстрагируемся от остальных признаков этих предметов, фиксируя признак твёрдости в том абстрактно всеобщем, что объединяет в одно понятие камень, молоток и неудобный локоть соседа в троллейбусе.
То есть рассудок – это такая мыслительная деятельность, которая направлена на расчленение, регистрацию и описание результатов нашего чувственного опыта. Лично нашего опыта или опыта других людей, которые говорят нам, что не стоит, например, есть гриб-мухомор во избежание неприятностей, что он есть не еда, а отрава. Кто-то когда-то попробовал его на зуб и убедился, что мухомор – не еда. И мы с благодарностью принимаем на веру чужой чувственный опыт, устанавливающий определённые правила обращения с вещами.
Рассудок классифицирует, приводит в логическую систему чувственное многообразие окружающего мира, его правила – это правила формальной логики.
При всей необходимости и пользе рассудка его возможности ограничены. Формируясь в стихийном опыте, рассудок воспроизводит содержание своих ощущений и восприятий без осознания того, что же он воспроизводит на самом деле. Эта наивность мышления характерна для первой ступени научного знания и для повседневной деятельности. Без такого мышления никакая практическая ориентация невозможна.
В житейском плане чаще всего необходимо и достаточно знать, чего нельзя делать, чтобы не было беды. Но наивность, как и всё остальное, хороша в своё время. То, что в детстве умиляет, у взрослого называется инфантильностью, неспособностью подняться выше уровня, который характерен для детского восприятия действительности.
Очевидно, что в пределах рассудка можно получить только односторонние представления о предметах или явлениях окружающего мира. Сущность явлений и предметов, закон их существования с помощью рассудка обнаружить нельзя.
Этот способ мышления, по образному выражению Ф. Энгельса, «весьма почтенный спутник в четырёх стенах… хотя и является правомерным и даже необходимым в известных областях… рано или поздно достигает каждый раз того предела, за которым он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит взаимной их связи, за их бытием – их возникновения и исчезновения, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса» [1][3]. Если же рассудок начинает претендовать на нечто большее, на объяснение причин предметов и явлений, он оборачивается антиподом мышления. Выдавая за сущность то, что стоит непосредственно перед его глазами, рассудок становится опасен в своей самонадеянности.
У нас вызывают улыбку суждения и поведение Лейстрейда, строящего модель преступления на основе одних лишь «очевидных» фактов. Но когда рассудок объявляет, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг Земли, потому что это очевидно каждому, кто, задрав голову, смотрит на небо, – здесь уже не до смеха. Любая иная точка зрения кажется рассудку кощунственной, и сколько тому исторических примеров, когда он предавал анафеме смельчаков, осмелившихся не верить глазам своим.
Там, где все окружающее воспринимается как ясное, очевидное, где суждения, основанные на собственных представлениях, есть единственная истина в последней инстанции, – там спесь, самоуверенность, пренебрежение к чужому мнению, самодовольство. И только тогда, когда истинное объяснение сути дела разрушает, как карточный домик, железную цепь умозаключений и доказательств, на миг проступает растерянность. Но лишь на миг, ибо такой ум тут же из обломков строит другую, теперь уже новую «правильную» цепь причин и следствий, такую же непреложную, как и первую. Так скорпион жалит самого себя, оказываясь в огненном кольце противоречия, не в силах найти нужный выход из ситуации. Но чтобы его найти, надо охватить всю ситуацию в целом, увидеть взаимопереходы причин и следствий, сущности и явления, связать их в единый узел. Рассудку это оказывается не под силу. И тогда ему на помощь приходит то человеческое мышление, которое философы назвали разумом.
Cogito, ergo sum!
«Мыслю, следовательно, существую». В этом знаменитом декартовском афоризме содержится нечто большее, чем «вижу, следовательно, понимаю». Мышление вида гомо сапиенс не сводится к плоскости рассудка, оно охватывает всю область человеческого существования, не замыкается в границах сиюминутных ощущений, восприятий и представлений.
Действуя, человек сплошь и рядом выходит за пределы правил и очевидных положений, устанавливаемых рассудком: от – до, можно – нельзя. И этот выход осуществляется другим типом мышления – разумным. Это мышление опирается на совсем другой способ познания мира, оно не скользит по поверхности, то есть не обманывается внешним сходством и различием. Оно стремится найти истинные сходства – различия, которые не обнаруживаются простым наблюдением, проникнуть в суть вещей и явлений. Разумность начинается там, где человек отходит от рассудочности, «правильности», очевидности, прямолинейности.
«Зри в корень!» – настойчиво советовал ещё Козьма Прутков. Но что это значит – зреть? Как зреть? В буквальном смысле? Выкопать растение? Так, между прочим, и делают дети, однозначно воспринимая требование «докопаться до корня».
Что есть корень растения? Для рассудка ответ очевиден: вот он, корешок. Разум же ищет корень в другом месте, его интересуют закономерные связи между вещами или явлениями, объясняющие причину возникновения и способ их существования. Разум интересуется системой, но не механической, не агрегатом, а органической, то есть той, которая возникает, существует и развивается как противоречивое единое целое, когда часть этой системы есть не просто один из её элементов, а сама является целым, хотя и взятым в одной её определённости.
Например, всеобщая основа дерева – это семя или плод. Плод и есть тот истинный корень, из которого произрастает всё дерево: и крона, и ствол, и корневище. Плод – всеобщее основание дерева, но он же и его часть. Между ними органические, диалектические, системные связи.
Мышление, которое принято называть разумным, или диалектическим, что одно и то же, всегда начинает с поиска такого корня – основания системы. Этот корень и есть та подлинная абстракция, неразвитая, нерасчленённая, противоречивая целостность, из которой возникает всё чувственно-воспринимаемое нами конкретное богатство: могучее прекрасное дерево, роща, лесное пространство озона и красоты.
Постоянное соотнесение и проверка связей системного объекта с этим генетическим основанием позволяют разуму верно относиться к частному объекту с пониманием условий его происхождения. По словам К. Маркса, разум есть такая «универсальная независимость мысли, которая относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи» [2].
Рассудок имеет дело с предметом в покое, разум – с развивающимся явлением, с движением через противоречия, когда только и можно понять закон существования предмета.
«Представление не может схватить движения в целом… а мышление схватывает и должно схватить». Но для этого мышление должно быть диалектическим, говорит В. И. Ленин в своих знаменитых «Философских тетрадях» [3].
Для рассудка общее – венец мышления, для разума – начало его. Общее – зерно, клеточка, противоречивое, генетически исходное основание, с которого начинается развитие. Оно потому и общее, что в процессе развития, дифференцируясь, обусловливает всё богатство конкретных проявлений предмета. Пройти по пути развития, описать его закономерности – значит, построить его теорию. В теоретическом понятии, которое, конечно же, не сводится к термину, определению, отражается история развития предмета, определяющая всеобщий способ его существования. Поэтому разумное, диалектическое мышление есть мышление теоретическое, постигающее.
Для рассудка важно, к какому классу предметов отнести явление, каковы внешние знаки различий, с помощью которых он может сразу узнать ведомство, по какому числится лицо или предмет. Он не терпит неаккуратности в мыслях. Всё должно быть разложено по полочкам. Всякий новый факт, для которого нет соответствующего ящика, вызывает у рассудка раздражение или, того хуже, ужас, если речь идёт о пересмотре каких-то сложившихся представлений. Всё так хорошо пригнано, так удобно, не нужно думать, только применить известный алгоритм. Правда, полок так много, что рассудок часто просто забывает, куда надо положить ту или иную вещь, какой алгоритм подходит для конкретной ситуации. Из мучительных раздумий ему помогает выйти ЭВМ, которая, оказывается, производит классификацию и поиск нужной ячейки гораздо быстрее и экономичнее, чем человек. И главное, безошибочно. Но тогда, естественно, рождается крамольная мысль у создателей ЭВМ, что вот-вот машина обойдёт человека, превзойдёт его по уму, обыграет в шахматы – дело только в сроках, в повышении быстродействия.
Для разума главное – действие, проверка идей в горниле практики. Ему не страшен риск ошибки, потому что он убеждён, что всегда сможет найти её причину и принять необходимые меры для исправления.
Рассудок панически боится противоречий, шарахается от них то в одну, то в другую крайность, пряча, как страус, голову в песок, не понимая, что крайности сходятся. Поэтому в своём отрицании или утверждении рассудок всё время попадает впросак, оказываясь неожиданно в чужом лагере, опровергая сплошь и рядом самого себя и тем самым превращая любую проблему в трагедию. Способность выдерживать напряжение противоречия есть один из главных признаков разума.
Фиксируя эти существенные отличия между рассудком и разумом, описанные ещё Гегелем, но получившие подлинно научное обоснование в диалектическом материализме, философия, естественно, не предлагала и не предлагает «отменить» рассудок в пользу разума. Она лишь возражает против беспочвенных претензий рассудка на полномочное представительство от имени мышления в целом, когда присущая рассудку статичность представлений о вещах и явлениях обретает статус видимости истинного существования. Частное правило возводится во всеобщую догму, а мир начинает рассматриваться как склад абсолютных истин.
Диалектический материализм рассматривает рассудок как ступень в развитии мышления.
Разум включает в себя рассудок как момент мышления. Когда ясна суть предмета, проделана работа разума, получено понятие, его надо представить в форме, удобной для потребления человеком или машиной. То есть необходимо рациональное толкование уже имеющегося обобщения. Здесь место рассудку совершать акт классификации готовой продукции. Он необходим там, где есть конкретная утилитарная цель… «Наиболее ярко характерные особенности рассудочного мышления человека выражены в так называемом «машинном» мышлении, – писал советский философ П. Копнин, – где автоматизм рассудка доведён до зрелой и классической формы» [5].
Итак, два уровня мышления: один продуктивный, познающий сущее, а следовательно, способный к созданию нового, к творчеству. И другой, отражающий лишь внешнюю, видимую глазу сторону вещей и явлений, предназначенный для алгоритмизации достижений разума[4].
Теперь, после необходимого и столь же по необходимости краткого философского отступления, мы можем вернуться к основному содержанию нашей книги – проблеме развития мышления ребёнка. Философский анализ позволил нам освободиться от гипноза впечатляющих результатов научного, экспериментального исследования, выполненного Пиаже и его школой. Такова роль методологического аспекта любого исследования: его подлинно научное значение может быть оценено лишь в том случае, если будет осуществлён выход за пределы той системы знаний, в рамках которых оно было получено.
Философский экскурс со всей очевидностью показывает, что вся концепция Пиаже есть, по сути, концепция развития рассудочного мышления ребёнка.
В самом деле, операции мышления, которые изучал Пиаже, дают возможность понять количественные преобразования, совершаемые интеллектом, но отнюдь не качественные. Когда ребёнок овладевает свойством обратимости, научается соотносить между собой целое и его части по формальным признакам, то тем самым его мышление обретает способность совершать операции, свойственные рассудку. Вначале они совершаются в наглядной форме, с реальными предметами, затем в представлении. Но и в том и в другом случае эти операции отражают лишь одну сторону мыслительной деятельности человека.
Пиаже просто обходит молчанием существование научно-теоретической, постигающей формы мышления. Реально, как массовое явление существует рассудочное мышление у детей, его и изучает учёный. Факты же, как исключения (те самые одиночки, обладающие способностью видеть за формой предметов связи и закономерности, определяющие их существование), Пиаже не интересуют. Но тогда происхождение и существование постигающего мышления остаются скрытыми за тем ореолом исключительности, которым окружены «избранники судьбы», счастливцы, обладающие талантом проникать в сущность вещей.
Пиаже, рассматривая мышление как внеисторическую категорию, тем самым наложил вето на иное объяснение полученных им фактов. И поставил, таким образом, свою концепцию под удар критики тех его коллег, которые опираются на другую – материалистическую – концепцию возникновения психического вообще, в том числе её такого фундаментального свойства, как мышление.
Советская психология, стоящая на фундаменте марксизма, исходит из понимания психики как развивающегося явления, включённого в контекст исторического процесса. Это значит, что характеристики психики человека (мышление, способности, личность в целом) меняются в ходе человеческой истории. Каждый новый исторический этап вносит в психику нечто принципиально новое, определяет её своеобразие. Следовательно, факты, полученные в любом психологическом исследовании, должны быть рассмотрены через призму конкретно-исторической ситуации, в которой они были получены.
Поэтому, прежде чем охарактеризовать иную позицию, иной подход к пониманию закономерностей интеллектуального развития ребёнка, необходимо коснуться тех конкретно-исторических условий, в которых возникает общественная необходимость в разумном типе мышления как массовом явлении.
Вверх по экспоненте
Научно-техническая революция вошла в нашу жизнь неожиданно, на протяжении жизни одного-двух поколений. Наука, которая ещё относительно недавно (по историческим меркам) казалась кабинетной отшельницей, властно начала диктовать свои «условия игры» и общественному производству, и самому человеку.
Первым и очевидным результатом научно-технической революции, видимым невооружённым глазом, является лавинообразный (термин, превратившийся в штамп) рост научных знаний. Нас буквально захлестнула волна открытий и изобретений в различных областях науки и техники. «Взрыв информации», удвоение, удесятерение роста научных знаний, их постоянное обновление, движение вверх по экспоненте создают принципиально новую общественную ситуацию.
Процесс принятия решения… Сотни научных трудов посвящены в наши дни этому естественному акту любой человеческой деятельности. Мы хорошо знаем, как трудно бывает сегодня сказать «быть посему», взвесить все «за» и «против». Век НТР – это жизнь в проблемном мире, где любое серьёзное решение, производственное или бытовое, оказывается решением проблемы, имеющей широкий спектр причин и следствий. Но вообразить их, свести воедино, предвидеть будущее можно, только выяснив сущность, происхождение и закономерности явления, то есть с помощью науки.
По меткому выражению одного учёного, век НТР характеризуется появлением типичной нетипичной ситуации – такой, где нет готовых решений, алгоритмов, где ни книги, ни ЭВМ, ни соседи, ни инструкция не смогут помочь нам решить задачу, если мы сами не обладаем способностью её решить.
Человек, конечно, должен обладать необходимыми знаниями, чтобы убедиться, что известными способами задача решена быть не может. Но главное его оружие – это научное мышление, способность пойти нестандартным, творческим путём. «Сегодня недоразумения, просчёты, ошибки возникают чаще всего не потому, что кто-то что-то нарушил, – считает доктор физико-математических наук И. Имянитов, – а, наоборот, потому, что все строго соблюдали правила и обязанности. Но правила применялись для условий, которых уже не было, а обязанности выполнялись усердно, когда бездеятельность была бы куда полезней прилежания» [6].
Учёный хочет этим сказать, что такие понятия, как «организация» и «дисциплина», в наше время приобретают, кроме самого привычного, ещё и новое содержание. Порядок, алгоритм действий являются, конечно, необходимыми и обязательными в типичной ситуации. Но попытка применить «очевидные» решения в ситуации нетипичной, новой, неожиданной рождает непорядок, дезорганизует деятельность.
Человек, воспитанный в убеждении, что 2х2=4 – это несомненная истина на все времена, над которой и задумываться недопустимо, может попасть сегодня, заметил Э. Ильенков, в сложную ситуацию. Абсолютно неизменного в жизни маловато. Наука для такого человека будет лишь предметом слепого поклонения, а жизнь – сплошным поводом для истерики. Связь науки с жизнью навсегда останется мистически непонятной, непостижимой и неосуществимой…
По мнению философов, социологов, историков, разрабатывающих проблему «НТР и человек», возникает настоятельная общественная потребность в людях, не столько потребляющих научные знания, сколько добывающих их, в таких качествах личности, в таком мышлении, которые гарантировали бы психическую готовность человека к принятию решения в неожиданных ситуациях. Он должен обладать способностью воспринимать такую ситуацию не как ЧП, а как естественное состояние бытия.
В профессиях, рождённых НТР (операторы, наладчики автоматизированных систем, испытатели новых машин) и требующих творчества, фантазии и изобретательства, как раз и фокусируются эти человеческие способности. Опрокидывается представление о профессии как стабильной, канонической системе знаний. Социологические исследования показывают, что на протяжении 25 лет трудовой деятельности человек должен обновить квалификацию не менее 4 раз, в промышленности – почти 6 раз. Основным требованием оказывается требование универсализма, профессиональной мобильности, что и составляет, как пишет доктор философских наук Г. Волков, «сущность интеллектуализации и возвышения труда, в результате которого процесс производства превратится, как то и предвидел К. Маркс, в материально творческую и предметно воплощающуюся науку» [7].
Мышление и труд идут рука об руку. Будучи порождением практической деятельности людей, мышление на определённом историческом отрезке времени обособляется в самостоятельную умственную работу, а затем вновь возвращается в лоно породившей его практики, непосредственно вплетаясь в систему материального производства, во все сферы жизни. Сегодня уже вполне можно сказать, перефразируя известную пословицу: «Скажи мне, как человек мыслит, и я скажу, как он трудится». Труд, его производительность непосредственно и прямо зависят от способности человека мыслить разумно, творчески, а следовательно, умения действовать инициативно. Следствием этого процесса является сращение рабочего, инженерного и научного труда.
Прекрасной моделью для исследования новой профессиональной ситуации является, по мнению Г. Берегового и В. Пономаренко, лётное мастерство. Они назвали пилота полномочным представителем науки в небе [8].
Современный самолёт, в котором овеществлена сила ума представителей десятков отраслей науки, оснащён сложнейшими ЭВМ, автоматизированными системами управления. Он является полигоном для проверки фундаментальных идей.
Испытатель – новая профессия лётчика, постоянно живущего на грани открытия. Поэтому лётчик как профессионал должен обладать особым складом ума, особыми свойствами личности. Он должен быть рабочим и инженером, учёным и психологом. «В воздухе не остановишься, для обдумывания сложившейся ситуации будут минуты, а иногда миг. Там, в небе, нет места для доброй житейской привычки: осмотреться, поразмыслить, посоветоваться». Но и на земле для этого остаётся всё меньше и меньше места. То, что абсолютно необходимо для профессиональных качеств лётчика: «нестандартность мышления, интеллектуализм решений, быстрота реакции и в то же время философское отношение к жизни, её ценностям, сравнимое, пожалуй, с мудростью древних» становится нужным и для профессии машиниста электровоза, оператора энергосистемы, каждого из нас.
Очевидно, что, затронув буквально все сферы человеческой практики, НТР не могла обойти и сферу образования. Возникшая проблема – как готовить к жизни в эпоху НТР новые поколения людей – стала предметом острых, не утихающих и по сей день дискуссий, в которые оказались вовлечёнными не только педагоги и родители, непосредственно заинтересованные лица, но и люди разных специальностей.
Внезапно обнаружилось, что система образования волнует всех, ибо от её успехов или неудач, находок и просчётов зависит и эффективность общественного производства, и нравственное здоровье общества, в котором мы живём.
Взрыв информации обрушился на школу, поставив под сомнение привычные, устоявшиеся веками представления о том, чему учить и как учить… Возникла новая сложная задача: соединить образование и современную науку. На первый взгляд решается она просто: нужно разработать новые программы, написать новые учебники, куда, помимо законов Ньютона, войдёт и теория относительности, и многие другие теории, созданные в наши дни. Надо ввести преподавание предметов, отражающих появление новых отраслей научных знаний. Но даже робкая попытка реализации этой идеи создала мощное поле напряжения, которое сразу же поставило под вопрос правомерность такого подхода.
«Перегруз!» – загорается красная лампочка нашей тревоги за ребёнка. Так же, как останавливается лифт при избытке пассажиров, ум ребёнка отказывается воспринимать всё увеличивающуюся научную информацию, текущую в школьные программы из резервуаров, наполняемых НТР.
Естественно, аварийность положения дел вызвала немедленно поток благих пожеланий и предложений. Рецептов несть числа: убрать одни предметы, уже ненужные, вводить вместо них другие, необходимые сегодня. Например, почему бы вместо пения не ввести кибернетику: не всем же петь в Большом театре? Или дифференцировать обучение по способностям, сокращая до минимума необходимую информацию. В самом деле, зачем будущему гуманитарию зубрить физику? Обойдётся житейским знанием правила рычага. То же самое можно сказать и о способном математике, которого не интересует биология.
Вот какие доводы приводит один уважаемый писатель в пользу такой дифференцировки. «Школа нивелирует детей. Бетховену было бы, видимо, несладко на уроках химии, ходить бы ему, бедолаге, в двоечниках. Но он – гений, он – одержим, он бы вынес издевательства одноклассников и презрение учителей («Тянет класс назад»). А как быть с талантом? Гений сломить нельзя, талант (живописца, который не в ладах с физикой, математика, который не ладит с историей), увы, можно». И далее автор, ссылаясь на американский школьный эксперимент, где после четвёртого класса дети выбирают те предметы, которые им интересны, считает его перспективным направлением.
Ещё определённее высказывался, известный математик, упрекая школу за то, что она не подготавливает людей к определённой сфере деятельности, стремится научить их всему: и языку, и пению, и математике. Причём всем этим предметам научить одинаково. А ведь дети разные! Один готов выучить 100 правил правописания и 300 исключений из них, запомнить сотни исторических дат. Другой же лишён таких способностей, но зато хорошо усваивает интегрирование. Вывод: нужно создавать школы с разным уклоном в зависимости от природных склонностей, учить мыслить не вообще, а в определённой сфере деятельности.
Простая и понятная идея: дети должны учиться по способностям, которые, разумеется, являются природными. А посему, чем должна заниматься педагогика? Распознавать способности как можно раньше, она должна научиться искать способных детей, учиться искусству выращивания одарённых.
«Живи я в будущем веке, – пишет один из родителей, – я бы отдал дочь (сына) в гуманитарную школу, поскольку в трёх поколениях нашей семьи не было ни одного «техника», а были библиотекарь, учитель, редактор, стенографистка, художники… Вряд ли я мог бы ошибиться, принимая за ребёнка такое решение, и вряд ли в том веке школа будет университетом для всех».
Ну до XXI века, как говорится, надо ещё дожить. Что же касается решений родителя в выборе специальности за потомка, то и здесь очевидна несокрушимая уверенность в детерминированности жизненного пути человека, его предназначения, зафиксированного природой на скрижалях хромосом.
Во всех этих предложениях видна прозрачная попытка схитрить, обмануть НТР, вывести подрастающее чадо за пределы досягаемости экспоненты в безопасное место привычных, стандартных схем и решений. Пожалуй, с наибольшей отчётливостью эта тенденция проявилась в «ценностном» подходе к проблемам образования, провозглашённом профессором физики, часто излагающим свои взгляды в прессе по разным поводам общественной жизни.
Поскольку, считает профессор, всё дело в том, что образование обычно связывается с интеллигентностью, а интеллигентность – высоко ценимое качество личности, то надо договориться, кого считать интеллигентным, и дело с концом. Так как физик придерживается всё той же классической точки зрения на способности, как на полученный от природы или от бога дар, что, в сущности, одно и то же, для него гуманитарии и естественники – два различных подвида рода гомо сапиенс. Поэтому задача проста: каждому, кто претендует «на звание(!) культурного, интеллигентного человека», нужно дать минимум необходимых знаний из противоположной области, объём которых не должен превышать правил дорожного движения. Гуманитарию, например, надо сообщить лишь о некоторых принципах построения научного знания (объяснить суть экспериментального метода) и некоторые сведения о размерах Вселенной, о том, что нельзя двигаться быстрее света.
О технике вообще ничего сообщать не надо: захотят – посмотрят на домну по телевизору. Мог же Пушкин на занятиях по алгебре заявить преподавателю, что икс равен нулю, на что тот справедливо заметил: «Садитесь и пишите стихи. В моём классе у вас всё заканчивается нулём».
Мораль? В XXI веке нужно разделять детей на три потока: часть должна заниматься только физическим трудом, на большее она не способна, другая часть пусть идёт в гуманитарные вузы, а третья – в естественнонаучные. Элементарно простое решение 2х2=4.
Во всех этих и многих других предложениях, от кого бы они ни исходили: от специалиста-естественника или просто рассерженного родителя, проглядывает озабоченность лишь одним: упростить задачу, довести до такого состояния, когда можно решить её уже многократно проверенными, известными способами. Это лишний раз свидетельствует о всеобщности тех требований, которые предъявляет сегодня наука к мышлению человека: специалист, который, несомненно, осуществляет свою профессиональную деятельность способом разума, часто не замечает, как переходит на совсем другой уровень мышления, пытаясь безапелляционно судить о вещах, выходящих за пределы его компетенции. Мундир специалиста для него есть те шоры, которые не позволяют взглянуть на проблему с научной глубиной и широтой. Узкий специалист не замечает, как, вторгаясь в новую область со старыми мерками, сам приходит к формуле «дважды два равно нулю», пытаясь закрыть своим рецептом проблему, которая, конечно же, от этого существовать не перестанет.
Если бы тому же профессору-физику специалист-педагог стал подсказывать технологические рецепты разрешения кризиса в его науке, это, естественно, было бы воспринято как нелепость. Но в педагогике, оказывается, мы разбираемся лучше педагогов, ибо все учились «чему-нибудь и как-нибудь», все прошли через горнило школьной жизни. Не правда ли, ситуация напоминает футбольную: все разбираются, как надо играть, один лишь тренер – профан.
Как не вспомнить в связи с этим случай с Эйнштейном, когда он, познакомившись с опытами Пиаже, о которых мы ведём речь, воскликнул: «Насколько психология сложнее физики! Господи, да теория относительности – детская игра по сравнению с детской игрой».
Отнесём это высказывание на счёт скромности гения, хотя оно свидетельствует ещё и о широте мышления учёного, умеющего выходить за пределы рамок своей науки. Эйнштейн понимал, что требования разумности одинаково применимы и к изучению атома, и к познанию человека. Причём в последнем случае в наивысшей степени.
Обсуждая возникшую ситуацию, советский врач и кибернетик Н. Амосов как-то заметил по поводу хаоса мнений по вопросу обучения и воспитания: «Очень печально: мало надёжных наличных данных, настоящей современной науки – и это по такому важному вопросу!» [9].
Чтобы понять проблему (хотя бы понять – не разрешить), её необходимо сначала изучить, исследовать в развитии. Применительно же к педагогике и воспитанию это сложнейшая задача, требующая времени и огромных усилий. Об этом ещё раз напомнила наша Коммунистическая партия, определив долговременную программу перестройки школы, перевода её на рельсы современного развития. И в частности, решительно выступив против предложений о ранней профессионализации, подчеркнув, что она неизбежно привела бы к снижению уровня общей и политехнической подготовки учащихся.
Проблема образования в век НТР – одна из фундаментальных проблем. Причём в нашей стране она существует не сама по себе, а органически связана со всеми теми мерами, которые принимает Коммунистическая партия и Советское правительство по ускорению прогресса общественного производства и перевода его на интенсивный путь развития. Отсюда и возникла объективная необходимость в школьной реформе, которая проводится теперь в нашей стране.
Советская педагогическая психология и педагогика всегда искали пути к уму и сердцу ребёнка, никогда не полагались на его гены, стремясь воспитать ум и способности. Другое дело, что если раньше успехи воспитания определялись главным образом искусством педагога, то сейчас, в условиях всеобщего среднего образования, оно должно превратиться в строгую науку. Научная педагогика возникает не по желанию или прихоти исследователя и практика, а по требованию самой жизни. Она начинается с теоретического анализа процесса обучения, его психологических механизмов, закономерностей, на основе которых и можно, собственно, создавать дидактические системы.
И прежде всего её интересуют не внешние, видимые каждому, а внутренние причины тех трудностей, которые испытывают дети сегодня, садясь за школьную скамью.
Яблоки из задачи
Опытный учитель с опаской раскрывает тетради малышей по русскому языку. Позади уроки, объяснения, повторы, упражнения, закрепление материала. Всё было, но вот очередное домашнее задание, и вновь красный карандаш в работе: ошибки, ошибки…
– Ну почему ты не отнёс «сторож» и «сторожка» к родственным словам, ведь у них один общий корень?
– Потому что «сторож» – это человек, а «сторожка» – домик. «Часы» и «часовой» тоже не родственные слова, потому что часы ходят, а часовой стоит на посту.
Опять всё надо начинать сначала! Сизифов труд: катить бочку вверх по лестнице, ведущей вниз, ибо долго, очень долго, а может быть, навсегда они будут относить слово «бег» к глаголу, потому что оно обозначает действие, а слово «белизна» – к прилагательному, потому что оно обозначает признак.
Гладкой прямой линией правил и примеров кажется автору программы или школьного учебника изложенная им педагогическая система, но в какую ухабистую дорогу превращается она в речи и мысли самого прилежного ученика. Падения и ушибы начинаются там, где их как будто и быть не может, например, в переводе речевой практики в систему знаний о языке.
В сущности, тот факт, что многие дети и значительное число взрослых испытывают мучения при необходимости изложить на бумаге какие-то соображения, выводы, является удивительным. В самом деле, человек как бы рождается «с языком», он овладевает им в считанные месяцы своей жизни, притом в такой её период, когда ни осознать, ни по-настоящему понять этот процесс он ещё не в состоянии.
Ребёнок буквально впитывает язык с молоком матери, играючи овладевает сложнейшими закономерностями его структуры, богатством оттенков. Научившись говорить, ребёнок получает в своё распоряжение мощное средство общения, изучения окружающего мира. Кажется, что может быть легче, чем перевести его непосредственный речевой опыт в план сознания, дать возможность осознать грамматические категории языка, чтобы использовать их произвольно, то есть тогда и там, где возникает необходимость решения различных задач в совместной человеческой деятельности. Но каждый из читателей по собственному опыту знает, насколько трудной оказывается эта задача в действительности.
Ребёнок прекрасно слышит и понимает, что ему говорят. Но вся хитрость языка в том, что грамматические значения не совпадают со смысловыми. В реальной жизни «бег» обозначает, конечно, действие, но для грамматики он существительное, обозначающее предмет. В разговоре о погоде мы о грамматических значениях, естественно, не думаем. Человеку важно, прежде всего, уяснить смысл отдельных слов и предложений. Но они не существуют вне форм языка, и поэтому подлинное его знание – это знание и понимание единства в языке лексических и грамматических значений. Если мы берёмся изучать язык как науку лингвистику, выделить и осознать грамматические значения становится необходимым.
Детям рассказывают о законах грамматики, убеждают их, что она интересная.
– Тебе интересно заниматься русским языком?
– Интересно, – отвечает ребёнок, и тут же объявляет, что «кровать» – существительное, потому что она не ходит, не бегает, а стоит на месте.
Очевидно, что «борьба» с научной грамматикой, которую ведут многие дети на протяжении всех лет пребывания их в школе, – это «борьба» за сохранение житейского, устоявшегося подхода к языку, игнорирующего грамматическое значение в пользу смыслового. Ребёнок знает правило, он его выучил, но сплошь и рядом «забывает» о нём, соскальзывает на житейское представление.
Явление, о котором идёт речь и которое тщательно исследовано учёными-психологами Л. Божович, Д. Богоявленским, С. Жуйковым и многими другими, было названо наивным семантизмом.
Ребёнок работает фактически не со словом, он видит не слово, а реальный предмет – кровать на ножках, бегущего человека, белизну простыни. Он решает грамматические задачи дограмматическим способом, ибо для него лексика (смысл) заслоняет грамматику (форму), между конструкциями которой он теряется, путается, натыкается на её опоры и стены и стихийно, медленно, пробами и ошибками протаптывает в ней стёжки-дорожки, которые зарастают немедленно травой после годовой контрольной или экзамена.
Правило-то он знает, но при «очной ставке» со словом процесс опознания осуществляет на основе своих представлений. Впрочем, иногда он становится неожиданно строгим ревнителем формы, и тогда «седой» и «седок» оказываются у него родственными словами, ибо и там и там «сед»: смысл слова остаётся за бортом его сознания. Причина таких сбоев – в механизме мышления ребёнка. Оно скользит по оболочке языковых явлений, не проникая в глубь языка, не ухватывая закономерностей, завязывающих язык в единую систему смысла и формы его выражения. Лингвистика как наука оказывается для него недоступной и непонятной. Концентрическое обучение, когда в младших классах ребёнка сталкивают с простыми языковыми явлениями, а в старших – с более сложными, ничего не меняет по существу. Это не восхождение по спирали, а хождение по кругу, блуждание без ориентира и компаса, когда в панике человек не может выбраться из леса, возвращаясь к той же точке, из которой вышел.
Поразительный факт: 10 лет изучения родного языка не оставляет в языковом мышлении многих учеников заметных следов. Став студентами, они нередко испытывают затруднения, если нужно строго и однозначно выразить свою мысль, объяснить прочитанный материал, вступить в диалог, когда надо слушать не только себя, но и своего партнёра. Ещё хуже обстоит дело, когда нужно изложить что-либо в письменной форме: написать реферат, составить конспект. Даже простое письмо, личное или деловое, многим, очень многим даётся с большим трудом. Ухабы из невыносимых «потому что», «так сказать», «ну», «значит», «э-ээ», «в общем-то», «вот» и т. п. ведут своё происхождение от тех первых уроков научного обучения языку, когда понятная, до сих пор неосознаваемая область действительности вдруг становится ребёнку чужой и незнакомой. И тогда он останавливается как классический басенный персонаж между двумя охапками сена: между практическим знанием языка и знанием «научным», но не входящим в мир его личности.
Продолжим экскурсию по пересечённой местности обучения. Обратимся к предмету, одно напоминание о котором выводит из себя самых спокойных представителей естественнонаучного знания и инженерной мысли. Громы и молнии специалистов понятны: язык математики в наши дни стал междисциплинарным языком, позволяющим описывать явления любого, в том числе планетарного, масштаба. Но сколько вчерашних выпускников школ воспринимают ЭВМ как монстра, выдающего «на-гора» бесконечную ленту непостижимой для среднешкольного ума информации.
А как всё хорошо начиналось!..
– Сколько я дал тебе конфет? – спрашивает папа.
– Две! – отвечает юный интеллектуал.
– А если я добавлю ещё одну конфету?..
– То у меня будет целых три! – заканчивает малыш под аплодисменты родителей.
И вот, приходя в школу, дети продолжают складывать, отнимать, делить и умножать груши и яблоки, книги и парты, то есть те же самые конкретные, чувственно воспринимаемые предметы.
– Что вы больше любите решать: примеры или задачи? – спрашивает психолог.
– Задачи! – единодушно отвечают дети.
Психологу ясно, что лежит в основе этого предпочтения: в задаче есть сюжет, житейская история: жили были дед да баба и курочка ряба, а потом появилась ещё одна математическая единица – яичко…
Приятно, что знакомая сказка повернулась ещё одной неожиданной стороной – математической. Примеры, конечно, хуже: частокол скучных цифр. Непросто за ними разглядеть чувственно осязаемые фрукты или какие-либо другие предметы, с которыми ученик имел дело в задачках.
Ребёнок боится оторваться от пуповины знакомого предметного мира и пуститься в плавание по океану математики без руля и ветрил. Здесь он тоже прочно привязан к своему пока ещё не очень богатому жизненному опыту[5]. Увы, за обманчивой строгостью математических понятий обнаруживаются житейские представления о количественных предметных связях и отношениях. Чтобы решить задачу, он должен наглядно представить себе те единицы, с которыми ему придётся работать, убедительно свидетельствуют исследования академика АПН СССР Н. Менчинской [10].
Не удивительно, что под числом, например, ребёнок имеет в виду название количества единичных, отдельно взятых вещей. Такое представление о числе у него складывается с помощью уже знакомого способа сравнения, обобщения и фиксации чувственно воспринимаемых предметов и явлений действительности.
Но потом он обнаруживает, что единичный предмет может быть и 2 (две половины), и 5, и 10, и сколько угодно. У него складываются, как писал Э. Ильенков, два взаимоисключающих представления о числе, два стереотипа, каждый из которых не соответствует действительности [11].
Не видя, не зная и не понимая сути дела, то есть происхождения математических понятий, ребёнок получает поверхностные, далёкие от истины представления о математике как особой области действительности. Подобно грамматике, математика видится им не как стройное светлое здание, а как нагромождение отдельных элементов и блоков, правила обращения с которыми неизвестно кто и зачем придумал.
Конечно, и здесь путём многих проб и ошибок происходит выделение собственно математической реальности. Ситуация «инсайта», открытия этой математической специфики, ярко обрисована американским психологом Куртом Гольдштейном, когда ребёнок после долгих безуспешных попыток овладеть определёнными математическими действиями на реальных предметах вдруг восклицает: «Я понял! Это не настоящие яблоки!.. Это яблоки из задачи!» То есть он понял, что необходимо уйти от конкретно-практической задачи, чтобы к ней вернуться впоследствии на иной, всеобщей математической основе. Но ни способ его мышления, ни способ обучения не позволяют ему совершить такое восхождение. Обобщение математических закономерностей происходит с трудом, с помощью однотипных упражнений, да и то неполно и неосознанно.
Доктор психологических наук В. Крутецкий, много лет занимавшийся изучением психологии математических способностей, утверждает, что большинство детей в лучшем случае научаются решать задачи известного типа. Найти же решение новой задачи, даже относительно простой, вполне доступной интеллекту ребёнка, удаётся немногим.
В чём же причины этих и подобных трудностей, знакомых каждому педагогу?
«Виды обобщения в обучении» – так лаконично и сухо названа монография академика АПН СССР В. Давыдова. В ней на многочисленных примерах из различных областей научных знаний, воплощённых в школьных учебных предметах, Давыдов показывает одно и то же: трудности обучения объясняются тем, что ребёнок подходит к теоретическому замку с эмпирическим ключом. Он изучает не принцип работы замка, что и составляет суть любой теории, а его внешние особенности: количество и форму выступов, впадин, зазубрин. Сравнивая по этим формальным показателям замки-задачи, он устанавливает между ними определённое сходство или различие. Теперь, чтобы открыть такой замок, достаточно иметь ключ-правило, описывающее особенности той поверхности замка, которая соприкасается с ключом. Получив в руки такой ключ в готовом виде, ребёнок начинает пробовать решать задачи.
И вот тут оказывается, что мало иметь подходящий ключ, надо ещё уметь его вставить в замок на должную глубину, без усилий повернуть, и не один раз, а два, и не в эту сторону, а в другую. Открывая один замок за другим, упражняясь в применении правила, ребёнок постепенно овладевает способностью решения задач определённого типа, но так как принцип работы замка им специально не выделен, то осознаётся он неполно, нечётко. Отсюда возможность ошибки, поломки ключа или замка.
Но, даже доведя до автоматизма решения известных задач, ребёнок не гарантирован от дальнейших проблем. Одно дело решать задачу на известное правило из учебника и совсем другое – применять его для решения жизненной задачи. Ведь в жизни надо ещё узнать замок, чтобы подобрать подходящий ключ. А так как число замков по мере обучения растёт не по дням, а по часам, растёт и связка ключей-правил, которые ребёнок всегда должен таскать с собой, в своей памяти. И тогда, сталкиваясь с конкретным замком, он, как комендант многоквартирного дома, начинает искать в этой огромной связке ключ с соответствующим номером.
Но, встретив новый замок, даже самый простой, который можно открыть, как это сделал Остап Бендер, ногтем большого пальца, ребёнок вообще отказывается от решения. Он убеждён, что ключа от такого замка у него нет. Впрочем, иногда он пытается подобрать наугад какой-нибудь из известных ключей, но в конце концов заявляет, что проникнуть в квартиру проще, взломав дверь, для чего у него всегда припасены молоток и стамеска: шпаргалка или умный папа.
Но если мышление ребёнка (младшего школьника, подростка) неспособно осуществить диалектический способ движения в научном познании, то и обучение, если его главным принципом является опора на наличные интеллектуальные возможности, нужно строить соответствующим образом. Должна же быть гармония между способом обучения и типом мышления ученика? Так в действительности и есть, констатирует Давыдов. Другое дело, что эта гармония усугубляет трудности и противоречия в обучении, о которых мы ведём речь.
Анализируя программы обучения по математике, языку, биологии, истории и другим предметам, Давыдов делает следующий вывод: традиционная педагогическая психология и педагогика действительно строят процесс обучения, опираясь главным образом на эмпирический, рассудочный тип мышления.
Технология этого процесса, описанная Давыдовым, вкратце такова.
Чтобы сформировать у ребёнка понятие о каком-либо предмете, вместе с ним анализируют и сравнивают большое количество однотипных предметов. Конечно, «большое количество» – вещь весьма неопределённая. Но, как говорится, чем больше, тем лучше, тем точнее будут представления ребёнка об этом предмете. Цель сравнения – отобрать общие качества, присущие всем сравниваемым предметам. В результате такого «просеивания» остаются только такие качества, которые можно встретить в любом из рассматриваемых предметов. Полученное абстрактно общее представление о предмете фиксируется в определении, которое школьник должен запомнить, чтобы впоследствии иметь возможность опознать предмет.
Таким образом, содержание определения составляет сумма внешних признаков наличных, чувственно воспринимаемых предметов. Словесное определение, абстрактное отвлечение от частных свойств предмета в дальнейшем становятся самостоятельным объектом мыслительной деятельности. Можно построить лестницу понятий, их инвентаризировать, причём, чем выше по этой иерархической лестнице, тем абстрактнее понятия в отношении их связи с конкретной действительностью. Слово отрывается от наглядной опоры и приобретает квазисамостоятельное существование.
Отсюда возможность словесного жонглирования терминами, определениями, за которыми уже ничего реально не стоит. Поэтому педагогу приходится постоянно опускать ученика с небес абстрактных рассуждений на землю конкретных фактов. В небесах у ребёнка всё прекрасно получается, «теорию» он знает, всё про неё расскажет, правило сформулирует, примеры приведёт, об исключениях не забудет. Но как только доходит до конкретных задач, тут всё повисает в воздухе. Соединить такую теорию с жизнью оказывается чрезвычайно трудно. Ведь признался же, по едкому замечанию известного советского психолога А. Н. Леонтьева, один ученик 7-го класса, что ему ещё ни разу не представилось такого «выдающегося случая», который бы позволил воспользоваться приобретёнными знаниями по физике!
«Теорию-то я знаю!» – обычное оправдание школьника или даже студента, без запинки рассказавшего теоретический материал, но так и не сумевшего решить задачу из той же области действительности.
Трудность использования знаний – в опознании частного: дети не могут вычленить общий признак из суммы конкретных условий. Тогда в дополнение к первому пути от частного к общему приходится прокладывать ещё одну узкоколейку для движения в обратном направлении: от общего к частному. Обучение применению полученных знаний оказывается особой задачей, необходимой для преодоления разрыва между абстрактными барашками и конкретной овечкой, обогащения чувственного опыта ребёнка.
Ему дают решать сотни однотипных задач, десятки упражнений. В конце концов дети научаются узнавать знакомую схему решения: разбуди их среди ночи – напишут правильный ответ. Произошёл же с автором книги курьёз, когда натасканный на переливании воды из одного бассейна в другой, он на экзамене в вуз узнал в алгебраической задаче милые сердцу бассейны и решил её арифметическим способом, чем привёл в шоковое состояние профессора.
Убедительный пример сложностей, которые возникают при таком способе обучения, приводит психолог и лингвист В. Репкин на материале изучения такого классического школьного понятия, как «сказуемое». Как образуется это понятие у ребёнка, изучающего язык? Он уже знает, что всякое предложение есть «группа слов, выражающая законченную мысль». Далее он сравнивает между собой различные схемы предложений и обнаруживает, что слова в этих предложениях неравноценны по значению. «Маленькая девочка играет в мяч». Если отбросить слова «девочка» или «играет», предложение распадётся. Если же отбросить «маленькая», то в предложении что-то изменится, но не настолько, чтобы оно утратило общий смысл и строй. Следовательно, решает маленький исследователь, слова в предложении делятся на две основные группы: одни можно, другие нельзя выбросить. То есть одни слова в предложении главные, другие второстепенные. Сравнивая между собой главные члены предложения («девочка» и «играет») ребёнок приходит ещё к одному открытию: одно из «главных» слов (в данном случае «девочка») обозначает чаще всего предмет, человека, а другое содержит в себе какое-то сообщение об этом предмете или человеке. Установлены существенные признаки главных членов предложения, называемых подлежащими и сказуемыми.
Следующая ступень восхождения к понятию «сказуемое» – это когда ребёнку становится ясно, что сказуемые чаще всего отвечают на вопрос «Что делает?», то есть что они бывают, как правило, глаголами. Попадаются, правда, и такие, которые отвечают на вопрос «Кто он такой?» («Кто она такая»): «Ваня (есть) мой брат» или «Маленькая девочка моя сестра». Ага, значит сказуемые делятся на простые глагольные и именные.
Операция обобщения завершена. Получено понятие сказуемого, в котором отображено сходство в значении слов (они сообщают о подлежащем); есть группы сказуемых, выраженных разными способами. Это понятие сказуемого фиксируется в определении, которое знакомо каждому читателю.
Итак, сказуемое выражает действия, свойства и состояния подлежащего. В этом и заключается его существенная роль в предложении. Но как быть с такими высказываниями: «Мне нездоровится», «Смеркалось»? Здесь нет подлежащего. Выход, конечно, можно найти: говорят, это не сказуемое, а главный член односоставного предложения, который аналогичен сказуемому.
Но тогда всё запутывается, и ножки стула, на который уже прочно сел ребёнок, начинают разъезжаться в разные стороны. Так называемые твёрдые знания обретают туманные очертания. «Земля пахнет весной», «В лесу пахло весной». Нужно обладать изощрённым воображением (не мышлением!), чтобы в одном предложении «пахнет» считать сказуемым, а во втором – нет. Ребёнок нервничает, сталкиваясь с такими исключениями, понять которые его ум не в силах.
Но так всегда бывает, когда понятие о предмете получается на основе эмпирического обобщения, то есть такого, которое произведено путём сравнения предметов по внешним признакам. Существенное свойство предмета подобным образом получить нельзя. Существенное свойство – это свойство, без которого предмета не существует. Какое же это существенное свойство («сказуемое сообщает о подлежащем»), если есть предложения без подлежащего. Значит, подлинное существенное свойство такого предмета лингвистики, как сказуемое, скрыто в предложении. Путём сравнения слов в предложении между собой обнаружить его нельзя, для этого нужны совсем другие мыслительные действия, о которых будет сказано дальше.
Способ обучения с опорой на эмпирические обобщения явлений напоминает челнок, бег на месте, сверху вниз (сравнение, выделение общего, обозначение его словом) и снизу вверх (обогащение полученной «тощей» – выражение Гегеля – абстракции конкретным содержанием). Но как бы мы ни обогащали знания ребёнка, на всех этапах они опираются только на чувственный опыт.
Поэтому подлинного понимания сущности вещей и явлений у ребёнка в этом случае, как правило, нет.
Ребёнок не знает то, что он знает, ибо, чтобы получить научное понятие о предмете, необходимо выяснить его происхождение, провести предмет через все возможные этапы трансформаций и превращений. Но это – другой путь, путь диалектического познания, который традиционным способом обучения не предусмотрен.
Вот и получается, что движение в материале какой-либо науки здесь напоминает путь от подножия к вершине, когда каждая тропинка, возвышенность есть та кочка, с которой видно только то, что находится рядом.
Чтобы добраться до вершины, надо обследовать всю гору, двигаясь по бесконечным окружностям, которые всё сужаются и в конце концов смыкаются в точке, которая и есть вершина. Предполагается, что тут-то всё и соединится в едином представлении об окружающем мире. Но есть только набор частных представлений о тропинках и холмиках. И тогда, чтобы проверить, насколько ребёнок овладел местностью, его опускают по тем же кручам вниз. Он должен узнать пройденный путь. Кое-что он узнаёт, многое же как бы видит впервые. Не так просто, оказывается, увидеть знакомую дорожку среди десятков других. А незнакомая свежая колея и вовсе выбивает его из равновесия.
Так учиться действительно трудно. Понятия не укладываются в систему, они разобщены, и единственный выход: заучивание и повторение – способы, самые непроизводительные и обескураживающие.
Отсюда перегруз, психическое напряжение, тревожность – особое эмоциональное состояние, возникающее, когда человек постоянно стоит перед препятствием, которое он не в силах одолеть. Тогда возникает короткое замыкание – невроз. Всё сгорает, света нет, пробки летят, и приходится принимать срочные меры, чтобы успокоить маленького человека, помочь ему вновь обрести почву под ногами. Впрочем, выход из этой ситуации подсказывает ребёнку собственное рассудочное мышление. Ему говорят: «Учи математику – в жизни пригодится». Но его здравый смысл подсказывает: не пригодится. Он видит, что мама, библиотекарь, прекрасно обходится без математики, не может помочь ему решить элементарный пример.
Обучать или развивать?
Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский пристально следил за становлением концепции Пиаже. Он критиковал её, но не за полученные в ходе эксперимента факты – они были бесспорными, его не устраивала их интерпретация. Формула Пиаже: обучение плетётся в хвосте у развития. Но она отражала, по мнению Выготского, не всеобщий закон связи обучения и развития, а только те конкретно-исторические условия, в которых проводилось исследование. Критикуя педагогическую систему, которая была сродни психологической концепции Пиаже, Выготский говорил, что она оценивала состояние развития как глупый садовник, только по уже созревшим плодам. Она ориентировалась на линию наименьшего сопротивления, на слабость ребёнка, а не на его силу.
В действительности, считал Выготский, происходит как раз наоборот: именно обучение, его содержание и методы ведут за собой развитие. Если содержанием обучения являются конкретные факты действительности (практические знания) и если метод их преподнесения не предусматривает научного объяснения этих фактов, то и формируется тот тип мышления, который зафиксирован в исследованиях Пиаже.
Обучение должно опережать развитие, как опытный лоцман вести его за собой. «Только тогда оно пробуждается и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития. Этим и отличается обучение, целью которого является всестороннее развитие ребёнка, «от обучения специализированным, техническим умениям, как писание на пишущей машинке, езда на велосипеде, которые не обнаруживают никакого существенного влияния на развитие», – писал Выготский в своём классическом труде «Мышление и речь».
Обучение должно быть направленным не на констатацию, а на формирование новых интеллектуальных структур. Но выполнить свою ведущую функцию обучение сможет только тогда, когда найдёт другое содержание и другие методы обучения.
Такое новое содержание Выготский видел в научных понятиях, законах науки, усвоение которых требует и особой формы обучения, сотрудничества учителя и ребёнка.
Отрешиться от чрезвычайно живучей, обретающей мундир научности идеи о биологических источниках психического развития означало для Выготского стать на позицию марксистской психологии. Знаменитая формула К. Маркса о том, что сущность человека в своей действительности есть совокупность всех общественных отношений, конкретизировалась у Выготского в идее перенесения в психику реальных связей, возникающих между людьми в процессе их развития.
Подлинным источником развития личности является общество. Без взаимодействия с обществом у ребёнка никогда не разовьются те свойства, которые делают его человеком, роднят его с человечеством. Без материнских рук, тепла семьи, проникновенного слова учителя, несущих в себе человеческую культуру, ребёнок никогда не станет человеком, о чём говорят многочисленные факты воспитания детей животными. Поэтому для Выготского было так важно, строятся ли отношения учителя и ученика в форме сотрудничества двух равных личностей или ученик рассматривается лишь в качестве абстрактного объекта воспитания, приложения внешних сил, как это имело место в традиционной педагогике.
Выготский задал принципиально новое направление движению психологической мысли. Его ученики и последователи превратили гипотезу Выготского в психологическую теорию человеческой деятельности, в учение о социально-историческом происхождении психики.
В наиболее общем виде эта теория изложена в работах А. Н. Леонтьева[6]. Ребёнок, утверждает Леонтьев, вступает не просто в мир, а в мир, созданный человеческой деятельностью. Он возникает перед каждым новым поколением как задача, которую нужно решить, чтобы стать человеком. Ребёнок приходит в мир «беспомощным и безоружным, наделённым от рождения только одной способностью, которая принципиально отличает его от животных предков, – способностью к формированию специфических человеческих способностей».
Поэтому, считает Леонтьев, психическое развитие совершается в процессе прижизненного присвоения ребёнком общественно выработанных способностей. Они ему заранее не даны, а только заданы как общественные образцы. Эти образцы лежат вне ребёнка, в объектах человеческой культуры, он должен их присвоить, сделать органами своей индивидуальности.
Культура не есть рента, наследство, которое можно эксплуатировать, обменивая банкноты на мысли. Овладение культурой осуществляется человеком не наедине с ней, а в системе обучения и воспитания, в процессе собственной деятельности. Развитие человека происходит в деятельности, а так как человеческая культура является продуктом истории, то и закономерности психического развития носят конкретно-исторический характер, то есть они неодинаковы в разные эпохи.
Поэтому мнение о том, что «детство есть детство», бездеятельный, беззаботный период жизни, что к ребёнку всегда и везде надо относиться как к ребёнку, есть предрассудок. Тем более опасный, что он выходит далеко за пределы родительской умилительной опеки над растущим чадом в область конкретных систем воспитания. Достаточно обратиться к данным этнографии, чтобы убедиться: детство в нашем сегодняшнем понимании есть относительно поздний результат общественного развития. Некрасовский мужичок-с-ноготок – прекрасная иллюстрация этой мысли: в 6 лет он считал себя уже взрослым человеком.
Следовательно, проблема не в поиске одарённых от природы гениев, как это иногда делают, снаряжая гонцов во все концы искать таланты – певческие, математические, театральные и прочие, а в целенаправленном формировании человеческих способностей, в том числе и прежде всего разумного мышления.
Итак, две концепции, объясняющие одни и те же факты: концепция Пиаже и концепция Л. Выготского. Кто прав? Почему спор длится так долго? Получены ли, наконец, решающие доказательства в пользу той или иной концепции?
От гипотезы к эксперименту
Связь между теорией и практикой не прямая, однолинейная, как это иногда нам представляется. Идеи часто опережают своё время, пылятся на полке и вдруг обретают вторую жизнь, когда созревают общественные условия для их реализации. Сама атмосфера общественной жизни становится такой, что идеи буквально носятся в воздухе и необходим лишь толчок для того, чтобы вовлечь их в единый процесс творческого поиска, объединяющего теорию с практикой.
Таким толчком было введение в нашей стране да и в других развитых странах сначала неполного среднего, а затем всеобщего среднего образования.
Проблема обучения научным знаниям, скрытая до поры до времени за естественным отбором способных учеников на разных ступенях образования, сразу обнажилась. Равные возможности, предоставленные всем, и разные способности поставили в порядок дня решение фундаментальных вопросов психологической науки. Общественная практика властно потребовала от теории ответа: формируемы ли способности, формируемо ли мышление?
Растерянность, наступившая вслед за этим, хорошо видна, когда обращаешься к публицистике пятидесятых-шестидесятых годов. Так, известный американский педагог Питер Ф. Друкер в книге с знаменательным названием «Век разрыва» сетовал на серьёзное заблуждение педагогики, считавшей, что ей известны процессы учения и образования. «Мы полагались на прирождённых педагогов, тех, кто каким-то образом знает, как надо учить. Теперь мы можем признаться: то, что «известно каждому» о процессе учения и преподавания, в значительной степени не соответствует действительности. Это своего рода открытие, величайшее из всех сделанных в наше время в различных областях знаний».
Зарубежные учёные писали о кризисе в образовании. В 1968 году вышла книга Филиппа Кумбса «Мировой кризис образования», переведённая на многие языки, в том числе и на русский. «Не кризис, а революция в образовании», – уточняли советские философы и социологи, анализируя те исторические изменения, которые происходили в нашей стране в условиях разворачивающейся научно-технической революции. Они подчёркивали серьёзное отставание системы образования от этих изменений. «Консерватизм сферы образования, – писал, например, В. Турченко, – проявляется, пожалуй, больше всего в удивительной устойчивости форм организации учебно-воспитательных процессов и разделения педагогического труда, которые за последние сто лет, несмотря на глубочайшие сдвиги в системе человеческих знаний, не претерпели существенных изменений» [12].
Учёные напоминали, что традиционный, хорошо нам знакомый способ массового обучения, опирающийся на классно-урочную систему, зародился ещё в европейских монастырских школах и оформился в XVI-XVII веках. Сменив в новых исторических условиях индивидуальный характер обучения, он сохранил его основные черты: то есть ограничивался знаниями, позволяющими человеку решать узкий круг повседневных практических задач (грамота, письмо, счёт). Такому содержанию обучения соответствовала определённая технология: конкретно-практические знания задавались через готовые образцы. Знания же научные оказывались за пределами массовых школ для трудящихся, состоящих из начальных классов.
Читателю хорошо известно, что в нашей стране всеобщее образование вначале тоже было начальным. Но, решив в кратчайший исторический срок задачу ликвидации неграмотности, советская школа в 1958 году перешла на восьмилетнее, а впоследствии – на всеобщее среднее образование.
Новизна и сложность возникших в связи с этим задач становится особенно очевидной, если вспомнить, что в 1940 году десятилетку закончило у нас 5 процентов детей, поступивших в первый класс, а в 1964 году – 20 процентов. Причём в старших классах учились, как правило, те, кто обладал необходимыми способностями для полноценного усвоения научных знаний. Шёл стихийный отбор детей, способных к полноценному обучению основам наук. Число таких детей, судя по данным зарубежных и советских учёных, составляло 15-20 процентов от всех учащихся. Оно примерно соответствовало числу мест в старших классах школы. Поэтому-то проблема усвоения научных знаний решалась как бы сама собой.
Переход к всеобщему среднему образованию повлёк за собой кардинальные качественные перемены в системе общественного воспитания. И одна из главных, решающих новых проблем – как добиться того, чтобы не «избранные», не «элита», не особо способные, а все дети могли полностью усвоить научные знания, накопление которых идёт невиданными темпами. Ведь как только удлинились сроки обучения и основным содержанием массового образования стали законы науки, традиционный способ обучения сразу стал тесным, как детский пиджачок на плечах мужающего юноши.
Форма преподнесения научных знаний в готовом виде и цель обучения оказались в остром противоречии, результаты которого нами уже рассматривались. Многочисленные же попытки модернизации традиционной одежды – прежнего метода обучения – ожидаемых результатов не давали. И не удивительно: они напоминали усовершенствование телеги в век реактивных самолётов и ракет.
«Парадоксально, но факт, что в период, когда во всех областях производства технология является революционизирующей силой, здесь, в сфере образования, она оказывается самым консервативным элементом», – утверждал в одной из своих последних статей член-корреспондент АПН СССР Д. Эльконин [13]. В современных условиях традиционный метод обучения становился тормозом развития научного мышления у подрастающего поколения, делали вывод учёные.
Реальная жизнь всегда обгоняет теорию: в ней, собственно, и рождаются те золотые крупицы, которые с помощью теории должны превратиться в полновесные слитки. Хорошо известно, что есть талантливые педагоги, которые не ограничиваются констатацией уровня развития своих питомцев, а заботливо и, главное, активно формируют способности к языку ли, математике или физике. Но талантливых педагогов, умеющих воспитывать самостоятельность мышления, как справедливо заметил однажды известный физик академик П. Л. Капица, так же мало, как и талантливых учеников [14]. Чтобы обосновать теоретически усилия талантливых педагогов, нужно выяснить всю сумму условий, позволяющих им влиять на развитие ученика.
С разных сторон в советской психологии начались исследования по развивающему обучению. Многие коллективы под руководством известных учёных – педагогов и психологов (Н. Менчинской и П. Занкова в Москве, Г. Костюка в Киеве, Ш. Амонашвили в Грузии, X. Лийметса в Эстонии) пытались найти пути интенсификации обучения, раздвинуть границы интеллектуальных возможностей ребёнка. Заманчивым казалось организовать такой эксперимент, который убедительно доказал бы возможность управления психическим развитием ребёнка вопреки концепции Пиаже, утверждающей, что этот процесс стихийный, не подвластный вмешательству извне.
Одна из таких попыток была осуществлена Л. Обуховой в рамках теории планомерного формирования умственных действий, разработанной профессором МГУ П. Гальпериным. По Гальперину, процесс усвоения знаний, его успешность зависят от того, как организуется процесс ориентации ребёнка в материале. Эта ориентация может быть более полной или менее, отсюда и результаты усвоения и развития. С точки зрения способа ориентировки и его полноты можно выделить три типа учения. Первый тип нам уже известен. Он состоит в том, что ребёнок с помощью проб и ошибок стихийно находит систему ориентиров, необходимых для правильного выполнения действия. Неприятности, которые здесь возникают, связаны с тем, что он не отделяет существенные стороны предмета от внешних, случайных.
Результаты обучения по методу проб и ошибок целиком зависят от уровня интеллектуального развития. Так называемый способный ребёнок сам выделит необходимую ориентировочную основу действия. Другие же идут ощупью, вслепую. Почему у нас плохой почерк? Учительница просто задавала нам образцы букв от «а» до «я», показывала, как надо их изобразить. Мы пробовали воспроизвести буквы, исписывая десятки страниц. Кто-то сразу начинал писать красиво, у других почерк и по сей день вызывает неприятные переживания у окружающих. Первый путь приводит к стихийной и резкой дифференцировке при обучении. Знания изолированы, не складываются в систему. Единственная возможность – просто их запомнить. Но держать в памяти огромное количество несвязанных фактов невозможно. Поэтому одна из характеристик такого учения – неустойчивость знаний, их наложение друг на друга, перепутывание. Нет переноса знаний, то есть возможности использовать известный способ для решения других задач аналогичного типа. А значит, нет и развития мышления.
Но, оказывается, есть второй тип учения, позволяющий вообще избежать ошибки. Для этого необходимо с самого начала дать подробнейшие указания для правильного выполнения задания. Не просто показать образец, а объяснить, как его можно достигнуть. Например, задать систему опорных ориентиров при обучении письму. Прежде чем написать букву «а», найди и изобрази точки переломов, изменений кривизны. Запоминать ничего не надо – следуй за инструкцией, и всё будет в ажуре.
Выигрыш при таком типе обучения получается большой – и по времени (на порядок меньше упражнений), и по качеству (лучше почерк). Дробная система ориентиров позволяет обучать сразу без ошибок. Снимается разброс и непредсказуемость результата. Для обучения письму, оказывается, не надо обладать способностями!
Но и здесь переноса нет: каждая задача решается как частная, для каждой буквы – своя система ориентиров. Интеллект и в этом случае не развивается, есть только накопление навыков.
Наконец, третий путь: научить ребёнка так анализировать объекты, чтобы он мог самостоятельно устанавливать систему ориентиров, необходимых для правильного выполнения задания из данного круга явлений. Например, на 2-3 буквах показать ребёнку общий принцип письма: прежде чем копировать контур, надо выделить критические точки там, где линия меняет направление. Далее он будет учиться писать конкретные буквы сам, без указаний педагога[7].
Выделение обобщённого способа действий до формирования конкретных знаний и умений даёт принципиально иной выигрыш во времени и качестве, чем в предыдущих типах обучения. Во-первых, обучение здесь с самого начала оказывается полностью сознательным: ребёнок не только понимает то, чему ему предстоит научиться, но владеет и способом такого обучения. Во-вторых, резко сокращаются сроки обучения: нет необходимости отработки каждого конкретного способа. В-третьих, и это самое важное, овладение обобщённым способом действий позволяет ребёнку самостоятельно решать новые задачи (например, любые графические, а не только по изображению букв алфавита).
Ребёнок начинает видеть общее в различном, что, по существу, объединяет начертание арабских букв, китайских иероглифов, геометрических фигур. Он переносит усвоенный способ для анализа других областей действительности, начинает учиться так, как учатся способные дети: овладел принципом – дальше учись сам. Но тогда обучение ведёт развитие, ребёнок получает средство самостоятельного движения, самостоятельной ориентировки в материале.
П. Гальперин конкретизировал идеи Л. Выготского о ведущей роли обучения в развитии. Не всякое обучение оказывает влияние на развитие, а только то, которое построено по третьему типу ориентировки. Но если третий тип обучения возможен, то спор между двумя концепциями развития будет, наконец, решён! Тогда не потребуется искать причины умственного развития в биологии, в мозговых структурах: оно является прямым результатом специального обучения.
Идея третьего типа, в частности, была воплощена в исследовании Л. Обуховой. Для эксперимента было выбрано поле «противника». Напомним, Пиаже показал, что до определённого возраста у детей отсутствует принцип сохранения количества и никакое обучение не меняет у них этих представлений (одно и то же число зёрен, отсчитанных самими детьми и насыпанных в стаканы различной высоты, воспринималось детьми как разное количество).
Обухова предположила, что в основе этого феномена лежит, во-первых, глобальное отношение ребёнка к вещи. Ребёнок не разделяет форму вещи и её размер, не отделяет видимый размер от действительного объёма, объём – от количества вещества, количество вещества – от его веса. Все эти свойства принадлежат вещи одинаково, и каждое её изменение он относит ко всей вещи в целом. Во-вторых, ребёнок не владеет средствами, с помощью которых он мог бы перейти от непосредственной оценки величин к их опосредованному выражению и оценке. Пересчитав объекты, ребёнок не судит по результату или даже забывает число, если сталкивается с картиной, которая наглядно и поэтому убедительно говорит ему о другом. Понятие о мере почти не развито у детей этого возраста.
Следовательно, прежде всего необходимо дать ребёнку орудие, с помощью которого устанавливается неизменность определённой величины при изменении её внешней конфигурации, – меру. Но как сделать это орудие необходимым в деятельности ребёнка? С этой целью Обуховой были найдены такие задачи, которые нельзя решить никаким другим способом, кроме использования меры.
Детям предъявляли фигурки двух разных видов, наклеенные на карточку в случайном порядке (рыбки и уточки). Нужно было определить, каких фигурок на карточке больше. Дети не имели возможности положить фигурки одну к одной. Их счёт также затруднён, так как фигурок гораздо больше, чем дети могли сосчитать. Единственный способ выполнения задачи состоял в использовании мерок, с которыми дети могли свободно действовать.
Детям давали квадратики и палочки из детской мозаики. Палочки они накладывали на рыбок, квадратики – на уточек. Разложив после этого палочки и квадратики в два параллельных ряда, дети могли правильно ответить на поставленный вопрос.
Затем детей учили сравнивать два предмета с помощью третьего. Чтобы определить, какая из двух фигурок больше, они использовали третий предмет – полоску цветной бумаги. Наконец, детей учили сравнивать с помощью маленькой мерки (полоски) различные величины больших размеров, отмечая отмеренное метками. Так постепенно вырабатывалась техника опосредованной оценки величин.
Дети учились пользоваться новым средством, выделять особые меры для каждого нового свойства – объёма, веса, длины, площади. Они убеждались на собственном опыте, что одну и ту же вещь можно измерить по разным параметрам, так как она обладает различными свойствами.
После такого тщательного и трудоёмкого обучения (его результатам Обухова посвятила целую книгу) наступил критический момент: детям предложили решить известные тесты Пиаже. На вопрос: «Где больше?», ребёнок теперь говорил: «Надо измерить». Он измерял величины, устанавливал неизменность по указанному свойству и после этого давал объяснение: «Ничего не изменилось, – говорил он, – потому что мы ничего не прибавили и не убавили».
Итог экспериментов: полное овладение пятилетними детьми принципом сохранения количества! Таким образом, было доказано, что феномены Пиаже можно преодолеть с помощью специально организованного обучения. Ребёнок может подниматься в своём развитии на более высокую ступень, чего никогда, в сущности, не бывает, если его ум развивается, так сказать, стихийно.
Теория Гальперина, над разработкой отдельных аспектов которой трудилась большая группа психологов во главе с членом-корреспондентом АПН СССР Н. Ф. Талызиной, явилась значительным шагом вперёд в решении проблемы усвоения знаний. Благодаря ей стали понятными многие факты, связанные с усвоением детьми понятий, с выработкой у них умения и навыков учиться. Во многих экспериментах было показано, что пёстрая картина результатов усвоения не требует для своего объяснения различия в природных способностях. Стоит изменить обучение, и так называемым неспособным детям оказывается вполне доступно усвоить определённые знания.
Был выявлен ряд условий, определяющих успешность этого процесса, что позволяет в принципе считать процесс учения управляемым. Теперь можно было ставить вопрос о целенаправленном формировании в обучении принципиально иной логики развития интеллекта, другого типа мышления, чем тот, который был описан в экспериментах Пиаже.
Подготовка к долговременной осаде
Диалектическое мышление и школьное обучение. Сложнейшие философские абстракции и земные проблемы школьной жизни. Ещё недавно казалось немыслимым ставить их рядом. Но в наши дни становится всё более прозрачной связь философии и конкретно-научного знания, их взаимопроникновение и слияние – процесс, который предвидели классики марксизма-ленинизма.
В своё время Ф. Энгельс в предисловии к «Анти-Дюрингу» высказал следующую важную мысль в адрес представителей естествознания: «К диалектическому пониманию природы можно прийти, будучи вынужденным к этому накопляющимися фактами естествознания; но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру этих фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления. Во всяком случае естествознание подвинулось настолько, что оно не может уже избежать диалектического обобщения» [15]. То же самое можно сегодня сказать применительно к педагогике. В самом деле, если законы диалектики имеют силу для всякого движения в природе, человеческой истории, в мышлении, то почему они должны терять эту силу в обучении?
Как трудно входит в обыденное сознание аксиоматическая мысль марксизма о том, что диалектика – это философская теория, метод и методология научного познания и творчества вообще. Мышление, овладевшее диалектическим методом, получает тот ключ, который позволяет ему со знанием дела подходить к открытию любых тайн природы. Обладание таким ключом оказывается в наше время насущно необходимым для каждого человека и особенно для подрастающего поколения, которому жить и работать уже в XXI веке.
Школа должна учить мыслить! – таков философский императив, выраженный на рубеже шестидесятых годов известным советским философом Э. Ильенковым и другими учёными – философами, естественниками, педагогами и психологами. Если мы хотим привести образование в соответствие с основной социальной направленностью развития и с научно-техническими достижениями века, а именно это, как известно, и легло в основу школьной реформы, то сформулированный выше «философский императив» приобретает особую актуальность. Разумное, постигающее, диалектическое мышление должно стать одной из целей учебного процесса[8].
Оно и есть тот необходимый запас прочности на будущее, резерв интеллекта, который позволяет не робеть при виде экспоненты НТР.
«Воспитание творческих способностей в человеке основывается на развитии самостоятельного мышления, – писал в те годы академик П. Капица. – На мой взгляд, оно может развиваться в следующих основных направлениях: умение научно обобщать – индукция; умение применять теоретические выводы для предсказания течения процессов на практике – дедукция; и наконец, выявление противоречий между теоретическими обобщениями и процессами, происходящими в природе, – диалектика» [16].
Но чтобы реализовать идею воспитания диалектического мышления, утверждали учёные, обучение должно изменить свою технологию, ему пора отрешиться от многовекового принципа задавать ученикам знания в готовом виде. «Не пора ли весь учебный процесс, всю его методику и структуру специально сориентировать так, чтобы наиболее эффективно развивать способности к самостоятельному, критическому мышлению, чтобы превратить весь процесс обучения в процесс самостоятельных открытий?» – резонно вопрошает доктор философских наук Г. Волков [17].
Ребёнка нужно провести через все препятствия, противоречия научного поиска, через тернии к звёздам. Разумеется, не буквально, без зигзагов и ошибок действительного исторического процесса. Он должен в сжатой форме повторить открытия людей предшествующих поколений, воспроизвести действительный исторический процесс рождения человеческой мысли, воплотить в своей личности живую традицию Джордано Бруно, Галилея, Эйнштейна, Маркса и Ленина. Вероятно, другого пути воспитания разумного мышления, творческих способностей просто нет.
«Всё это прекрасно! – может сказать читатель. – Но как это сделать? Возможно ли вообще построить процесс усвоения готовых, уже давно добытых человеческих знаний так, чтобы он одновременно как бы сам по себе развивал ум, то есть способность самостоятельно добывать знания?»
Задача кажется неразрешимой, говорит Ильенков, из-за фундаментального предрассудка старой логики, крёстной матери традиционной системы обучения: отношения к логическому противоречию. До сих пор неистребимо мнение, что противоречие противопоказано для обучающих программ. Конечно, процесс исторического развития науки совершается диалектически, то есть, через выявление и разрешение противоречий. Кто же спорит? Но направить индивидуальное развитие по той же самой схеме, ставить детский интеллект в процессе обучения перед противоречиями и учить их разрешать – это, извините, утопия!
Парадоксально, но в существовании такого мнения повинна прежде всего… сама наука, её нацеленность на готовый практический результат. Это порождает «специфический стиль научных публикаций, где сообщается лишь о готовом результате исследования, а не о процессе его получения, – пишет доктор философских наук Г. Волков, – где всё субъективное, личное, относящееся к собственному «я» исследователя безжалостно изгоняется, где царствует бесстрастная и «беспощадная» логика…» Кажется, что подобные научные публикации предназначены не для человека, а для машины. Живой процесс научной деятельности угасает в зафиксированных результатах, «в то время как оживший фетиш техники получает далеко не призрачную власть…» [18].
В учебниках труды поколений естествоиспытателей запакованы в параграфы, которые остаётся только заучить. Параграфы скучны, как камни в горах. Впрочем, между ними вдруг попадаются зелёные островки: чьи-то портреты в жабо и кружевах. Это те, кто когда-то что-то открыл. Присутствие их здесь кажется странным и ненужным. Как запылённая утварь, которую впору хранить на чердаке, но почему-то снесённая вниз, в сверкающие безликими гарнитурами комнаты. Петитом сухо излагаются их биографии. Зачем? Их никто не читает. Смысл их жизни, биение мысли, которые в отличие от достигнутых ими знаний действительно вечны, остаются нераскрытыми. Нет связи поколений, цепочки звёздной эстафеты. Как будто знания, изложенные в учебнике, упали с неба (как легендарное яблоко Ньютона) и так же незыблемы, как солнце и луна. Они очищены от мучительного поиска истины, от озарений, тупиков, безнадёжности, восторга «эврик». Голый остов, каркас, лишённый эмоций.
Увы, преподавание, как отмечал ещё Луи де Бройль, имеет склонность к догматизму. Оно стремится придать окончательную застывшую форму состоянию научного знания, в действительности всегда временному.
Но превращаясь в набор готовых мерок, правил, алгоритмов, наука теряет свою притягательную силу. Штамп хорош для стальной болванки, а не для человека. Не зная происхождения того или иного правила, такой «потребитель» научных знаний начинает орудовать дубинкой науки, прилагая её к тем случаям, для которых она и не предназначалась. Вот к чему приводит привычка вводить в науку с конца, как говорил Э. Ильенков, с готовых дефиниций, определений, ибо дефинициями наука отнюдь не начинается, она ими заканчивается [19].
Но тогда нечего удивляться, когда великовозрастный абитуриент на экзамене в вузе, обнаружив в билете задачу, для решения которой в кладовых его памяти не находится подходящего алгоритма, не смущаясь, заявляет: «Мы этого не учили». Требование «мыслить» он переформулирует в требование «вспомнить» и начинает писать жалобы, если экзаменаторы не соглашаются с его интерпретацией.
«…Что за польза мне от субъекта, знающего всю математическую литературу, но не понимающего математики?..» – писал К. Маркс в письме к Лассалю. Подобный педант «…по своей натуре никогда не может выйти за рамки ученья и преподавания заученного… Его существенной особенностью является то, что он не понимает самих вопросов, и потому его эклектизм сводится в сущности лишь к натаскиванию отовсюду уже готовых ответов…» [20].
Фетиш научных знаний в окончательной упаковке учебников гипнотизирует, к сожалению, не только учеников, но и их учителей. Доктор физико-математических наук И. Имянитов иллюстрирует эту мысль реакцией, которую он встретил на одном учительском семинаре, сделав акцент на вещах, ещё науке не известных. «Как же так? – недоумевали некоторые учителя. – Зачем нужна наука, которая чего-то ещё не знает?»
Симптоматическое негодование, делает вывод учёный. Стойко держится мнение, что успех учения зависит от объёма знаний, включённых в программы. При этом молчаливо предполагается, что содержание учебного предмета – проекция, перевёрнутый сколок с научных теорий. Упускается из виду самое существенное: развить ум ребёнка с помощью суммы, набора алгоритмов невозможно. То есть нельзя научиться мыслить, вызубрив все законы, открытые той или иной наукой, все её правила. Формальная логика не научает мыслить. Это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению физиологии мы впервые научаемся переваривать пищу и двигаться, ссылаясь на Гегеля, с сарказмом оценивал в «Философских тетрадях» такую позицию в обучении В. И. Ленин [21].
Чтобы научить ребёнка мыслить, необходимо развить способность правильно ставить, задавать вопросы. Наука, говорит Э. Ильенков, начинается с постановки вопроса природе, самому себе, человечеству, с формулирования проблемы, то есть задачи. Научить мыслить – научить решать задачи, причём задачи жизни, а не только математические. Не давать ученикам готовые ответы, а объяснять, на какие вопросы они даны.
В этом проблема передачи научных знаний. Следовательно, возникает задача специального преобразования готовых научных знаний в форму, удобную для передачи. Но тогда первым шагом её решения является специальная работа по исторической реконструкции становления конкретной науки. Необходимо выяснить, с чего она начиналась, где та исходная «клеточка», генетическая основа всего последующего многообразия научного знания. Определение таких клеточек-единиц, на которые членится конкретная сфера действительности, – сложнейшая задача. Её сложность в том, что действительная история предмета и история теоретических представлений о его развитии не совпадают. Как это может быть? Дело в том, отмечал К. Маркс в своей работе «К критике политической экономии», что основания науки осознаются далеко не сразу. Наука сначала возводит отдельные жилые этажи здания, а уж потом обнаруживает свой собственный фундамент, который, естественно, существовал всегда, но угадывался смутно и неотчётливо. Лишь впоследствии наука определяет, на каких более простых блоках держится вся её сложная конструкция.
Например, число и счёт не есть действительные начала математики. Они «предполагают, – пишет Э. Ильенков, – в качестве своих реальных предпосылок ряд представлений, до понимания коих математика (как и все науки) докопалась лишь задним числом. Здесь речь идёт как раз об общих предпосылках и того и другого. О тех понятиях, которые должны быть развиты (и усвоены) раньше, чем число и счёт. Потому что они имеют более общий характер, и потому логически более просты». Таким понятием было понятие величины, которое, разумеется, появилось раньше в истории математики, чем умение обозначить величины числом. И лишь впоследствии, «когда обнаружилось, что умение просто сравнивать величины недостаточно, чтобы действовать в мире на их основе, возник вопрос, а на сколько именно больше (меньше). И только здесь, собственно, возникла и потребность в числе и счёте, и сами число и счёт»[22].
Человек шёл от более общего диффузно-нерасчленённого представления о количестве к более конкретному – от величины к числу, хотя теоретическое понятие числа возникло лишь спустя тысячелетия.
Следовательно, пришли к выводу инициаторы психологического эксперимента, начинать вводить в математику нужно с подлинного начала – алгебры, а не арифметики. Но ведь это противоречит многовековой традиции обучения: алгебра всегда считалась сложнее арифметики и непосильной для раннего детского ума.
Необходимо так построить учебный процесс, чтобы ребёнок мог находить такое особенное, которое является всеобщим. Причём ориентироваться самостоятельно, открывая для себя в материале те зависимости, которые и определяют существование данного круга явлений действительности. Но это возможно только тогда, как показал П. Гальперин, когда мы стремимся не к тому, чтобы сообщить ребёнку знания об этих общих принципах, а к тому, чтобы он, самостоятельно действуя с материалом, овладевал этими принципами в процессе обучения.
Например, овладевая специфической системой действий с графическим материалом: разделяя контуры буквы точками на отрезки, на границах которых линия меняет конфигурацию, определяя положение точек относительно системы координат (линеек тетради), соединяя затем точки между собой, ребёнок самостоятельно «выходит» на общий принцип построения любых графических изображений. Он заключается в том, что необходимо сначала построить схему, каркас объекта изображения. Написание букв алфавита выступает тогда для него как частный случай выведенного им самим общего правила.
Всё это требует глубоких изменений в существующих способах размещения учебного материала в предмете, что составляет главную трудность. Но ведь такой работе должна предшествовать сложнейшая деятельность по выделению в конкретных областях знаний вопросов, которые мы собираемся задать ребёнку, общих принципов, связывающих эти знания в единую систему, несущих в концентрированном виде наиболее общую информацию о законах существования системы, путях её развития. А вслед за этим необходим поиск адекватных собственных действий ребёнка с материалом, на основе которых совершается движение его мысли от абстрактного (наиболее общего принципа) к конкретному (многообразию частных случаев).
Но где их искать? Науку не интересуют способы действий, лежащие за понятием (лингвист имеет дело со сказуемым, а не с тем, как его выделять). Поэтому проблема выделения таких действий (а они специфичны в каждой системе знаний), позволяющих ребёнку самостоятельно строить общие правила, нигде не решена. В этом ещё одна огромная трудность такого типа обучения.
Наконец, сам метод обучения должен учитывать психологические механизмы «работы» мышления, идущего от общего к частному, то есть мышления теоретического. Эти механизмы были в общем виде экспериментально изучены крупным советским психологом членом-корреспондентом АН СССР С. Рубинштейном, его учениками и последователями докторами психологических наук А. Брушлинским, А. Матюшкиным, Я. Пономарёвым и К. Славской.
Учёные показали, что если эмпирическое мышление ограничивается внешними наблюдаемыми фактами, то главная задача мышления теоретического – обнаружить ту незримую связь, соединяющую все эти явления в единую систему. Но тогда ум, во-первых, должен отвлечься от внешних свойств вещей, которые услужливо подсказывают ему органы чувств – зрение, слух. Отвлечься, «забыть» о них на время, чтобы обнаружить непосредственно не наблюдаемое существенное свойство.
Как же всё-таки его узреть? Необходимо каким-то образом «вскрыть» предмет, заглянуть вовнутрь. В статичном виде механизм связи молчит, проявляется он только в том случае, если предмет приведён в движение, его части перемещаются относительно друг друга. «Мышление в подлинном смысле слова, – говорит С. Рубинштейн, – это проникновение в новые слои сущего, взрывание и поднимание на белый свет чего-то, до того скрытого в неведомых глубинах…» [23].
Тот, кто обладает теоретическим типом мышления, как раз и стремится совершить по отношению к предмету такие преобразования, которые позволили бы ухватить работу целого механизма. Если в процессе преобразования система не распадётся, станет ясно, на чём всё держится. А если не получилось? Тогда следует попробовать повернуть по-другому, включить элементы в новые связи. Это теоретический анализ.
«Разобранный» на составляющие предмет нужно снова собрать, синтезировать, но уже с пониманием принципов, лежащих в его основе. Теперь с опорой на понятие появляется возможность объяснить всё многообразие конкретных проявлений предмета, все возможные варианты его существования[9].
Основным звеном всего процесса оказывается научное обобщение как результат особым образом выполненного анализа. «Объект в процессе мышления включается во всё новые связи и в силу этого выступает во всё новых качествах, которые фиксируются в новых понятиях; из объекта, таким образом, как бы вычерпывается всё новое содержание, он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нём выделяются все новые свойства», – писал С. Рубинштейн [24].
Как мальчик, будущий великий математик Гаусс, решил задачу на сложение натурального ряда чисел от единицы до 100? Скорее всего, он каким-то образом сумел преодолеть магию чувственно воспринимаемых цифр и увидел их в ином обличье. Ну, например, в виде двух параллельных рядов, один шёл по восходящей (от единицы до 100), другой по нисходящей (от 100 к единице). Тогда сумма противостоящих друг другу членов обоих рядов будет всё время одинаковая: 1+100, 2+99, 3+98… И так далее. И тут мальчика, вероятно, осенило: зачем нудно и долго нанизывать цифры на длинный ряд плюсов, если всё гораздо проще – надо первую сумму (101) помножить на 100 (количество членов натурального ряда), а результат поделить пополам!
Так это было или иначе – не в том суть, а в том, что мальчик сумел, говоря словами С. Рубинштейна, зачерпнуть из старого-престарого объекта новое для себя содержание.
Исследования доктора психологических наук Я. Пономарёва показали, что умение находить неизвестные существенные связи в проблемной ситуации, даже когда для этого не нужно специальных знаний, отмечается редко. Он задавал людям разных профессий относительно простые на первый взгляд задачи (типа головоломок). Решить их можно было, только уйдя от лежащих на поверхности догадок. Оказалось, что за пределами своей профессиональной компетенции многие квалифицированные специалисты «работали» лишь на уровне эмпирического мышления: они пробовали решить задачу именно стандартными приёмами. Естественно, их неудачные попытки сопровождались серьёзными отрицательными эмоциями.
Следовательно, мыслить – значит действовать! Экспериментально была доказана идея, высказанная ещё И. Кантом. «Мы не можем мыслить линии, не проводя её мысленно, не можем мыслить окружности, не описывая её…» – писал он [25]. Мыслить – значит воспроизводить, строить предмет. Такое действие построения и преобразования мысленного предмета является актом его понимания и объяснения, раскрытия его сущности.
В гальперинской теории планомерного формирования внутренних действий значение действия в мышлении подчёркнуто с особой силой. «Из всего разнообразного содержания того, чему нас учат в школах и в практической жизни, центральным звеном оказывается действие; вместе с ним и в результате него, т. е. уже вторично, образуются и новые представления и понятия о вещах, с которыми эти действия производятся», – писал П. Гальперин. И далее: «Простая истина заключается в том, что всем этим действиям нужно учиться… Формирование действий и понятий с желаемыми, заданными свойствами составляет центральную психологическую проблему учения. И главный вопрос обучения заключается в том, чтобы обеспечить – именно обеспечить – формирование действий и понятий с заданными свойствами у всех учащихся…» [26].
Итак, в философском, социологическом, историческом аспектах проблема воспитания творческого мышления была поставлена чётко и определённо. Весь вопрос – в путях её решения. Очевидно, что здесь главное слово должна сказать психологическая наука. Механизмы и закономерности психической жизни – её предмет деятельности. Она и должна ответить: можно ли научить человека и в особенности ребёнка творчески мыслить?
Сложнейший эксперимент по конструированию особой программы развития ребёнка начал осуществляться в конце пятидесятых годов коллективом психологов под руководством академика АПН СССР В. Давыдова и члена-корреспондента АПН СССР Д. Эльконина в начальных классах школы. Почему именно в начальных и в чём конкретно заключалась идея задуманного исследования?
Перевёрнутые очки
С новым портфелем и душевным трепетом идёт ребёнок 1 сентября в школу. Гордость смешана со страхом: сможет ли он учиться так, чтобы все были довольны – папа, мама, учительница. Ребёнок – весь внимание и готовность, дайте ему любое задание, он старательно будет его выполнять. Но вот проходит время, и это ярко выраженное желание учиться куда-то улетучивается. Ещё вчера он рвался в школу, боялся пропустить урок, тщательно складывал обёрнутые в бумагу книжки и тетради в портфель. Сегодня они небрежно разбросаны по комнате, почему-то не находятся в нужный момент, не пишут ручки, ломаются карандаши. Школьные инструменты явно сопротивляются или чему-то сопротивляется сам ребёнок? Когда ученикам третьего класса автор задал вопрос, какое самое знаменательное событие произошло у них в текущем году, дети дружно ответили: эпидемия гриппа! Школу закрыли на две недели, можно было не заниматься.
В чём же здесь дело, почему возникает «мотивационный кризис», как говорят о таком явлении психологи, пропадает желание учиться?
Чтобы разобраться в проблеме, зададим вопрос: а почему, собственно, ребёнок вначале стремился в школу? Потому что ему интересно учиться, узнавать новое? Да, конечно. Но исследования психологов убедительно показывают: ребёнку вначале всё равно, чему и как учиться. Любое занятие, даже бессмысленное, но исходящее от школы, воспринимается им с энтузиазмом.
Доктор психологических наук Л. Божович провела такой эксперимент: предложила первоклассникам остаться на дополнительный урок, чтобы учиться писать элементы латинских букв. Оставаться не обязательно, кто хочет – может уйти. Остались все. Тогда она прямо сказала им, что эти знания им не нужны, они им никогда не понадобятся. После чего снова предоставила детям право выбора: остаться, чтобы заниматься чем-то ненужным, или идти домой, где многих наверняка ждут интересные дела, а их у малышей, как мы знаем, всегда хватает. И всё-таки дети выбрали первое. Они с увлечением писали элементы латинских букв, после урока говорили, что им было очень интересно. Они даже попросили разрешения завести для подобных занятий особую тетрадь.
Так что же всё-таки им было интересно: содержание знаний или сама форма учения, новые книги, портфели, пеналы, отметки? Ответ очевиден – их привлекала прежде всего новая роль, роль школьника.
Но новизна этой роли действует недолго. И сегодня, и завтра, и послезавтра одно и то же: уроки, домашние задания. Праздники рано или поздно превращаются в будни. Чтобы учение вело ребёнка дальше, у него должен возникнуть интерес к самому содержанию знаний. Но чтобы такой интерес возник, эти знания должны быть для ребёнка действительно новыми – такими, с которыми он раньше никогда не сталкивался.
В двадцатых-тридцатых годах такие эмпирические знания, как способы письма, счёта, были необходимы ребёнку: нигде, кроме школы, он их получить не мог. Поэтому, естественно, он постигал новое, хотя и в эмпирической форме. Наше время, то есть конец XX века, – время всеобщей грамотности. Получается как бы само собой, что большинство детей уже до школы научаются чтению и счёту. Тем самым подрывается утилитарно-практическая ценность начального образования.
Возникает необходимость воспитания отношения к образованию как к самоценности (в этом, кстати, и есть его подлинный смысл). Но такое отношение само по себе возникнуть не может. Более того, когда ребёнка сажают за парту лишь для того, чтобы обогатить имеющиеся эмпирические знания и умения, со временем его порыв к учению гаснет. И когда угасает эффект новизны социальной позиции, а он исчерпывает себя весьма скоро, заниматься известными вещами становится неинтересно. Внутренних стимулов нет, прежние «не работают», дети перестают относиться к учению с прежним рвением. Сколько бы мы ни старались внушить ребёнку, что знания ему нужны для будущей жизни, пользы от такого внушения мало. Во-первых, потому, что будущее далеко, где-то в тумане, за горами, за лесами, а ребёнок живёт сегодняшним днём. Во-вторых, такие сентенции вообще не имеют для ребёнка реального веса.
Так зачем же тогда ребёнку школьное образование? Не вообще (вообще-то оно, конечно, нужно, это он понимает), а сейчас, сегодня, сию минуту? Всеобщая ценность образования как духовная человеческая ценность от ребёнка скрыта. Потребности учиться бескорыстно, чтобы развивать свой ум, свою личность, у него ещё нет.
Вывод из такого рассуждения очевиден: надо вызвать у ребёнка интерес к учению, к овладению самим содержанием знаний, а сегодняшнее их содержание теоретическое: он должен овладеть основами наук. Но как же это сделать, если потребности в таких знаниях у него нет, так же как нет и теоретического мышления?
К любой задаче он подходит конкретно-практически. Его, конечно, интересует многое: ракеты, машины, но только их фактическая сторона. Законы науки, лежащие в основе их действия, ему пока неинтересны. Пока… но закрепление практической позиции в младшем школьном возрасте приводит к тому, что неинтересными они могут оказаться и потом, в средних и старших классах.
По мнению некоторых психологов и педагогов, не раз высказывавшемуся в печати, особенно в последнее время, в условиях всеобщего среднего образования на младший школьный возраст надо смотреть по-другому, не так, как смотрели раньше, связывая с этим возрастом изначально ограниченные возможности в овладении знаниями. Нынешний наш взгляд на этот возраст определяется задачей, которая сформулирована самим ходом нашего общественного развития – заложить в детях этого возраста фундамент умения и желания учиться. Задача закладки такого фундамента до введения всеобщего среднего образования перед школой не стояла.
Становится очевидным, что решить её можно, только задавая ему новое, небывалое теоретическое содержание знаний с самого начала. Такое знание он не получит нигде – ни дома, ни по телевизору. Но ведь потребности в таком знании у него нет, теоретического мышления нет… Все эти рассуждения напоминают известную сказку про белого бычка.
Положение кажется безвыходным.
Вернёмся, однако, ещё раз к исходной ситуации. До сих пор мы перечисляли, чего у ребёнка нет. Теперь посмотрим, что имеется в наличии. У него есть огромная, радостная жажда деятельности, но она всегда направлена на конкретно-практический результат. И у него есть (точнее, под влиянием родителей, всего окружения и среды появляется) потребность в смене «жизненной позиции». Желание стать школьником и есть выражение этой потребности.
Ребёнок начинает смотреть на себя со стороны, глазами окружающих. А это есть уже начало объективной позиции, учитывающей не только собственные интересы, но и интересы других людей. Однако эта позиция должна обрести плоть и кровь в конкретном процессе учения.
Для ребёнка, имеющего лишь непосредственную оценку окружающего мира, существовавшую у него до школы, новый взгляд на вещи возникает не вдруг, не сразу. И может вообще не возникнуть, о чём мы хорошо знаем.
Есть такие очки: наденешь их – и весь мир кажется перевёрнутым вверх ногами. Человек теряет ориентацию, с трудом осваивается в новых, необычных условиях. Но проходит время, и всё восстанавливается: земля, как ей и положено, оказывается под ногами, а солнце поднимается в небо, над головой. Тогда очки снимают – и вновь теперь уже собственное зрение человека отказывается признавать новую реальность, мир опять переворачивается вверх дном.
Точно так же происходит со школьником, сталкивающимся с теорией, которая задаётся в готовом виде. Мир переворачивается, и, чтобы снова обрести почву под ногами, он подгоняет её под свою практическую позицию.
Проблема заключается в том, чтобы завести его практическую деятельность… в тупик. То есть давать ему такие практические задачи, которые он не мог бы решить известными способами. И тогда подсказать ребёнку не просто готовую формулу или правило, а возможность другого, естественного выхода из тупика: чтобы он мог путём определённых действий с предметом обнаружить то существенное отношение, которое и лежит в основе правила. Ввести его в мир теории не через парадную дверь, а через чёрный ход, который как раз и позволяет ему увидеть всю конструкцию здания, а не только его фасад.
Чтобы реализовать подобную идею, необходимо было, по мнению учёных, проделать огромную подготовительную работу. Во-первых, построить учебные предметы по принципу восхождения от абстрактного к конкретному. Стержень предмета – программа, определяющая содержание и методы обучения. В ней должны быть указаны состав усваиваемых знаний и способ, каким он должен быть представлен ребёнку. Программа проектирует тип мышления, который формируется в процессе усвоения теоретических знаний.
Так экспериментальное конструирование программ становилось одновременно методом изучения психики ребёнка. Естественно, нужно было отказаться от принципа обучения, когда с одним и тем же явлением ребёнок многократно встречается в обучении сначала в младших классах по логике практических навыков, затем в старших – по логике науки.
Но где это было видано, чтобы семилетний ребёнок занимался теорией? Испокон веков считалось, что его умственные возможности ограничены возрастом, и Пиаже как будто бы доказал это экспериментально.
Прежде всего следовало доказать, что черты ограниченного мышления, которые традиционно связывались с младшим школьным возрастом, не являлись ему органически присущими, а есть результат определённого содержания обучающих программ. Измените программы – и вы получите другие интеллектуальные возможности.
Затем нужно было тщательно раскрыть логику усвоения ребёнком теоретических понятий, показать, как это можно сделать на различных учебных предметах. Как строить его собственные действия, чтобы не тянуть ребёнка за волосы в обучение, а чтобы он сам шёл вперёд, лишь направляемый опытной рукой педагога. И подвести итог: определить, действительно ли формируется новый тип мышления (разумного, теоретического, творческого) и тем самым окончательно опровергнуть идею о независимости процессов обучения и развития. Или признать, что гипотеза была неверна и Пиаже всё-таки был прав…
Естественно, решение такой сложной проблемы требовало особой организации эксперимента. Если изучать уже существующие особенности ума можно в любых условиях, то исследование механизмов формирования научного мышления осуществимо лишь в специальном типе учебного учреждения – экспериментальном классе.
Войдём, наконец, в этот класс и мы, точнее не в класс, а в особую лабораторию психологической мысли. Познакомимся с теми средствами, какими она решает свои нелёгкие задачи.
Ось на чёрной доске
– Чем ты занимаешься на математике?
– Я складываю числа!
– А что такое число?
Секундное недоумение на лице малыша. Если бы он был постарше, то мог бы нам сказать: «Вы задаёте незаконный, точнее, провокационный вопрос. Я не знаю, что такое число, потому что понятием числа я не владею. Вы знаете, что я владею только житейским представлением о числе и поэтому могу только сказать, что число – это любой отдельно взятый предмет или сумма отдельно взятых предметов. Число выражает количество, то или другое количество».
– Итак, что такое число?
– Это… один, два, пять…
– Так чем же вы занимаетесь на математике?
– Мы учимся складывать числа.
Ну что ж, вероятно, вполне корректный для семилетнего возраста ответ. Но попробуем задать тот же вопрос «экспериментальному» ребёнку.
– Что такое число?
– Я не знаю…
– А чем вы занимаетесь на математике, разве вы не складываете числа?
– Нет. Мы учимся сравнивать предметы – настоящие и те, которые мы нарисовали.
– Какие предметы вы сравниваете, рисуете?
– Разные: яблоки, кружки, карандаши, кубики, кружочки…
– И всё? А какие задачи вы решаете?
– Мы сравниваем предметы и определяем, разные они или одинаковые.
– Что значит разные или одинаковые?
– Зависит от того, по какому признаку мы сравниваем. Например, одинаковые по длине, но разные по весу. Мы сравниваем по цвету, по длине, по объёму, по форме, по материалу… Приходите, посмотрите, – приглашает ребёнок.
Воспользуемся приглашением и устроимся на задней парте первого экспериментального класса. Впрочем, он, скорее, напоминает отдел «Сделай сам» магазина «Пионер». Чего только там нет на столах – линейки, проволоки, кубики, кружки, пластмасса, фанера, стекло. Чтобы не ошибиться, спрашиваем у учительницы: «Мы попали на урок труда?» Нет, всё правильно, это урок математики.
Даётся задание: подойти к столу и найти предметы, одинаковые по длине, но разные по материалу. Ребёнок подходит, перебирает предметы, думает. Остальные дети, вытянув шеи, наблюдают за ним. Наконец, он берёт две кружки, приставляет их друг к другу.
– Вот, это высота. Кружки одинаковые по высоте…
По классу как будто проходит вихрь, вверх взмывает лес рук.
– Петя ошибся?
– Да! Они разные не по материалу, а по цвету, цвет у кружек разный, а материал один.
– Петя, ты согласен с этим?
– Да, я ошибся.
– А может быть, ты и по длине ошибся? Как проверить?
– Нужно приложить, чтобы кончики совпали.
– Кто согласен?
На этот раз возражений у класса нет. Учитель показывает детям две разные кружки.
– Они одинаковые по объёму?
– Первая – тонкая и большая, а вторая – толстая и невысокая. Наверное, всё-таки одинаковые. Но надо проверить, налить воду.
Проверяют…
Оказывается, широкая кружка больше.
– Как видите, на глаз нельзя определить. Теперь всем задание – нарисовать предметы, разные по цвету, но одинаковые по ширине.
Головки склоняются над тетрадями. Непослушные пальцы старательно выводят предметы, разрисовывают их цветными карандашами.
– Что вы нарисовали?
– Я нарисовал два кофейника: красный и синий.
– А я две машины: жёлтую и зелёную.
– Я – две тетради…
Следует новое задание: сравнить по форме.
И вновь масса предложений: два кубика, две ложки, два кресла.
Ещё не все ориентируются в этом изобилии признаков, которыми, оказывается, обладают знакомые предметы. Ребёнок рассматривает кружку так, как будто видит её впервые: сколько в ней интересных, новых для него свойств. Ошибаются, путают, забывают задание, но думают! Один ошибётся, другой поправит.
– Как сделать так, чтобы в тетрадке или на доске было видно, что две кружки равны по объёму?
– Надо написать, что они равны по объёму.
Такое предложение остальных детей не устраивает.
– Писать долго. Надо договориться…
– Что значит договориться?
– Значок какой-нибудь поставить…
– Какой?
– Я предлагаю точку…
– А я палочку…
– Есть такой уже значок, люди давно придумали. Две одинаковые палочки. – Учительница нарисовала знак равенства.
– Какое предложение лучше?
– Две палочки лучше.
– Почему?
– Сразу видно… Два предмета одинаковые и две палочки одинаковые.
– А если один предмет больше другого?
– Тогда нужен другой значок.
И снова дети предлагают свои варианты. Знаки «больше» или «меньше», принятые в математике, удовлетворяют всех.
– Очень хороший значок, – заявляет малыш, – как будто большая кружка подталкивает маленькую. Сразу видно, что больше, а что меньше.
Урок заканчивается, и ватага ребят шумно вырывается в коридор. Но у нас, естественно, много вопросов. Задаём первый из них: «Куда вы их ведёте всеми этими сравнениями, значками?» Учительница не спешит с ответом, она убирает наглядные пособия в шкаф. «Я думаю, наш разговор лучше вести через месяц. Приходите – сами всё поймёте».
Как раздражает нас иногда невозможность получить ответ немедленно, приглашение прийти «завтра». Но здесь не дают готовых ответов (это мы уже поняли), дети сами их находят. Тем более взрослым следует самим разобраться, понять, куда и зачем ведут их детей. И когда мы приходим через месяц-другой, становится очевидным направление пути.
На доске и в тетради уже нет кружек, яблок, машин. Их сменили буквы и линии-отрезки. Дети сами пришли к необходимости облегчить себе работу, сами предложили обозначить размеры и признаки предметов буквами. И если сначала они учились неравные предметы превращать в равные, и наоборот, так сказать, собственными руками: с помощью переливания из одной кружки в другую, то сейчас они просто пишут: А+В=С.
Первая формула их практической работы, обобщение результатов исследования реальных физических величин. В ней отображены не просто какие-то одинаковые стороны предметов, а определённые отношения – количественные. Прописными буквами они договорились обозначать целые предметы, строчными – те маленькие кусочки, которые надо к ним добавлять или отнимать.
– Прибавить кусочек, отнять кусочек…
Теперь такой разговор для них уже несерьёзен.
– От А я отнимаю В, – говорит малыш, – и получаю С.
Можно записать всё это и по-другому, графически. Например, с помощью отрезков.
А вот уже появился на доске и пресловутый алгебраический значок «икс», что означает, естественно, неизвестную величину.
– Сравните эти две величины и поставьте знак, – просит учительница. И ребёнок осознанно пишет уравнение: А+Х=В. Он уравнял величины А и В путём прибавления неизвестной величины к двум известным.
– А если их переставить местами?
– Ничего не изменится…
В чём функция икса в уравнении? Он завязывает две величины в один узел, держит их, пока разберутся, что к чему. Вот только икс не согласен всегда так их держать, а только временно, пока подберут ему достойную замену – величину, способную удерживать в равновесии всю систему.
(Мальчику Эйнштейну его дядя Якоб как-то сказал, что икс – это зверь, которого надо поймать и посадить в сумку.)
Итак, обобщённая формула – не просто формула, изображающая отношение двух величин. Это модель, которая не нуждается в том, чтобы её положили на полку памяти. С ней можно работать: узнавать основные свойства величины – обратимость, монотонность. Ребёнок анализирует отношения величин, переходит от неравенства к равенству, и наоборот. Величины – не статуэтки на пьедестале, они всё время меняются в ту или другую сторону. И чтобы их остановить, зафиксировать уровень, у ребёнка всегда есть удивительный помощник, который как бы подгоняет величины одну к другой, – уравнение.
И нам внезапно становится ясен замысел эксперимента: начать с того, чтобы показать, что между абстрактным математическим миром и конкретным миром, близким и понятным ребёнку, есть связь. Эта связь не случайна, она осмысленна, ребёнок сам её устанавливает.
Для него нет голых математических абстракций, есть необходимость отвлечения от предметного мира, не замена его, а обобщение. Понятие величины, которую ребёнок измерил, есть живая абстракция, показавшая ему, что за теорией стоит движение материальной действительности.
Эту практичность теории сразу же схватывают малыши. Теория здесь вообще поначалу не отделена от практики, точно так же, как она была вплетена в неё на заре человечества. Впрочем, до подлинной математической теории числа ещё далеко, но здесь её начало, живое, деятельное, не привнесённое извне умными учебниками, а созданное собственным умом ребёнка. Пока он не пришёл к понятию числа, не пропустил его через себя, свои чувства, не выделил его в своём сознании как закономерный объект деятельности, не обследовал его своей мыслью, нельзя идти вперёд.
Поэтому так долго, не день, не два, а месяцы занимаются дети как будто далёкими от обычной школьной математики вещами. Но они занимаются важнейшими с точки зрения формирования математического мышления делом: дети овладевают собственными действиями, с помощью которых обнаруживают параметры в вещах, имеющих характер величин (длин, объёмов, высот и т. п.).
Овладение собственным действием! Разве им нужно овладевать? Оказывается, необходимо, чтобы действие это было именно твоим, а не чужим. Вначале он осторожно пробует его совершить: а вдруг не получится. Получилось, но, может, это случайность, нужно повторить. И снова удача. Тогда стоит обследовать каждый сделанный тобой шаг, чтобы осознать весь процесс движения, чтобы ничего не пропустить, сориентироваться. Ещё проверка при полной ориентировке, и снова – да, всё правильно, можно действие взять на вооружение. Отработать его так, чтобы довести до уровня автоматизма, сначала всё быстрее «работая» с реальными предметами, а потом и с воображаемыми. И тогда в один прекрасный день твоё действие становится актом мысли, не осознаваемым в тот момент, когда оно совершается. И совершается оно как будто само собой, как будто он и родился с умением умножать, делить…
Процесс овладения собственными действиями, превращения их в действие мысли, который мы сейчас в очень упрощённом виде описали, и составляет сущность гальперинской теории планомерного формирования умственных действий, с помощью которой может быть зримо представлен процесс усвоения знаний.
На первых уроках математики как раз и формируется действие измерения величин, чтобы впоследствии можно было выйти с его помощью на понятие числа. В ходе его формирования дети находят способ выражения сравниваемых и найденных параметров между собой – ёмкий, простой и лёгкий, с помощью специальных значков, математических символов. Они приходят в самом начале своего пути к алгебраическому уравнению, минуя долгий, сложный, непонятный и запутанный мир арифметических действий (помните, задачи со знаменитыми бассейнами, из которых вода выливается уже по меньшей мере два-три века?).
И- если первокласснику задают конкретную задачу («во дворе играют 15 детей, из них 4 – в прятки, 5 – в снежки, а остальные лепят снежную бабу. Спрашивается: сколько детей лепят бабу?»), то он, решая её, овладевает сложной, но для него необходимой системой математических действий.
Он моделирует ситуацию задачи в схеме, которая выглядит примерно так:
Составление схемы – средство анализа задачи, оно организует поиск решения. Не проба, а целостное разумное действие.
От исходной модели он переходит непосредственно к схеме решения:
Впрочем, выясняется, что схему можно составить и по-другому. Например, так:
От схемы уже совсем легко перейти к уравнению: 4+5+Х=15, решив которое, ребёнок устанавливает, что снежную бабу лепили 6 детей.
Многоступенчатость решения – необходимый этап процесса постепенного сокращения действий, превращение их в мыслительные операции. И когда через некоторое время ребёнок мгновенно составляет уравнение в буквенном виде, то это не просто натасканный приём, который применяют некоторые грамотные родители, обучающие своих детей алгебре как наиболее простому способу решения конкретных задач, а осознанное умение выделить математические абстракции и оперировать с ними. Теперь можно приступать к самому главному, основному, что позволяет детям найти ключ к науке математике, – к понятию числа. Его введение подготовлено всем предшествующим обучением. У ребёнка есть понятие величины, он уже «наработался» с разными величинами, с их отношениями, изучил их свойства.
И вот в один прекрасный день перед ним ставится простая задача, которую он уже многократно решал: выбрать из деревянных планок, находящихся в коридоре, равную образцу в классной комнате. Но когда ребёнок бросается выполнять задание, учитель его неожиданно останавливает.
– Петя, я забыл тебя предупредить: по условию задачи образец с собой в коридор брать нельзя. Как быть?
Ребёнок в недоумении застывает, и точно так же недоумённо смотрит на учителя весь класс.
Дети поставлены в ситуацию, которую, оказывается, нельзя решить известными им способами прямого сравнения величин. Нужен новый неизвестный способ. Дети думают, и вот вскоре появляется догадка:
– Надо измерить чем-нибудь образец…
– Чем?
– Например, тетрадкой… А потом той же тетрадкой измерить деревянную планку в коридоре.
Хитрый приём – ввести величину-посредницу.
– Хитрецы! – говорит учитель.
Дети довольны, они нашли выход.
Так они начинают «хитрить» в процессе обучения. Но это не та хитрость, которая сродни обману других или себя самого. Это хитрость научного метода, с помощью которого обнаруживаются новые действительные связи и отношения между явлениями и предметами.
Ребёнок устанавливает, что перейти от одного к другому можно только через опосредующее звено, через нечто «третье». Нахождение такого опосредующего звена всегда составляет главную трудность любой задачи. Но здесь как раз и обнаруживается, как пишет Э. Ильенков, наличие ума, ибо «третье» всегда обладает ярко выраженными диалектическими свойствами. «Средний член», поскольку он должен иметь прямое отношение и к одной и к другой стороне явления, соединяет их в единую действительную систему. Он – непосредственное единство противоположностей.
Ребёнок не просто получил возможность решить конкретно-практическую задачу – измерение двух величин через третью. Он, так же как и его гениальный предок, обнаруживший способ раскалывать дерево через третье звено – камень-колун, нашёл общий диалектический приём движения мысли. Естественно, он ещё не осознал значения своего открытия: для этого необходимо время. Но важно, что он сделал первый шаг не только в математике. На математическом материале он сделал шаг в мышлении вообще. Впрочем, в действительности всё происходит гораздо проще. Идёт ведь урок математики, а не диалектики.
Другая задача: отрезать кусок верёвки, равный длине линии, нарисованной на доске. Всю верёвку в класс, естественно, приносить нельзя. Дети ищут способы решения конкретных задач, предлагают разные меры измерения, пробуют и делают вывод: уравнение и измерение может осуществляться не только непосредственно, но и опосредованным путём, с помощью выбранной заранее мерки. Оказывается, мерку можно выбрать любую, но если выбрал, дальше работай только с ней.
Итак, в отрезке уложилось три карандаша. Как зафиксировать выполненное действие?
Проще всего буквами, дети к этому давно уже привыкли. Планка – А, карандаш (мерка) – С. Отношение между этими величинами, установленное путём измерения, равно трём.
Запишем: А/С=3. Три – это число.
– А если возьмём другую мерку? Резинку, например. Будет три?
– Не будет!
– А сколько будет?
– Надо измерить.
Вот, оказывается, что такое число: оно «есть частный случай изображения общего отношения величин, когда одна из них принимается за меру вычисления другой», – утверждает В. Давыдов в своей монографии «Виды обобщений в обучении».
Форма А/С=Х, где А – любой объект, рассматриваемый школьником как величина, С – любая мерка, причём не обязательно по физическим свойствам совпадающая с отдельным предметом, она может быть и составной; X – любое число.
Меняя меры, дети изучают на такой модели свойства выделенного отношения. Они выясняют, что при изменении меры меняется и число, относящееся к одному и тому же объекту, к одной и той же величине.
Понимание числа как отношения величин хорошо выразил один ребёнок: «Конечно, десять больше двух. Но если десять – это не просто число, а количество миллиметров, например, а два – это количество сантиметров, то уже не скажешь, что десять больше двух. Значит, число само по себе нам ничего не показывает…»
Как не порадоваться такому рассуждению малыша, поднявшегося, в сущности, до понимания числа как математической абстракции, приобретающей реальное содержание только в органической связи с действительным миром! Причём вывод этого ребёнка не умозрительный, не вычитанный из учебника и не пересказанный со слов учителя; это его собственный вывод на основе его собственного конкретного действия, раскрывающего объективное понятие числа.
Новый способ, новое действие, новое понятие. Но какой это резкий скачок вперёд, насколько он расширяет взгляд ребёнка на математику как науку! Он только в начале пути, но это путь с вершины к безграничным горизонтам математического знания, когда, спускаясь, уточняешь общие представления о местности.
Так и здесь, получая в своё распоряжение обобщённое понятие числа, ребёнок начинает его изучать, скрупулёзно обследовать его свойства.
– Что значит считать? – спрашивает учитель.
– Работать с числами, – спокойно отвечает ребёнок.
– Что я нарисовал на доске?
– Отрезок… Линию.
– Хорошо. Возьму на этой линии точку М и буду откладывать вправо от неё числа. Что для этого у нас должно быть?
– Мерка… Мерку надо взять…
– Берём такую мерку: карандаш. Тогда за точкой М какое будет число?
– Один…
– А если я поставлю следующее число так?..
Учитель отмеряет следующий шаг на отрезке, не равный предыдущему, и ставит цифру 2.
– Неверно!.. – убеждённо говорит ребёнок. – Потому что вы взяли для числа 2 другую мерку. А надо взять одинаковые мерки.
– Допустим. Какое число больше: два или один?
– Конечно, два.
– На сколько?
– На единицу. На одну мерку.
– На сколько пять больше двух?
– На три мерки.
– А сколько можно чисел откладывать на такой линии?
– Много… Да ведь и саму линию можно удлинять на сколько угодно.
– Вот, оказывается, где живут числа, – лукаво говорит учитель, – на таких отрезках. Может нам помочь их местожительство узнать что-нибудь новое о числе?
– Может. Например, узнать, как добираться от одного числа к другому… Линия наводит порядок в числах.
– А как, по-вашему, назвать такую линию?
– Можно назвать безграничной, потому что у неё нет границ, – заявляет малыш.
– Другие предложения есть?
Конечно, есть. Весь класс тянет вверх ручонки, и нас поражают острота и индивидуальность видения и понимания того математического материала, с которым только что работали дети.
– Я назвал бы её циферблатной!..
– Бесконечной…
– Линейкой для цифр.
– Разве это цифры? – немедленно реагирует учитель. – Что такое цифры?
– Значки для обозначения чисел.
– Значит, как назвать?
– Линейкой для чисел.
– Многомерная линия.
– Числовая счётная линия.
– Прямочисленная линия.
– Она – рабочая линия.
– Числовая ось!..
– Что такое ось?
– Это линия, которая что-то на себе держит. Колёса, например. А здесь держит числа.
Учитель улыбается: молодцы!..
Ну как не восхититься образной детской мыслью, раскрепощённой поиском и радостью труда!
Найден не только точный термин, найдено определение красивое, разумное, ясное. Числовая ось держит числа!
В конце концов для него станет очевидным, что любой шаг на луче может соответствовать любому числу, которое он обозначит буквой, и тогда предыдущие и последующие числа будут отличаться на единицу в меньшую или большую сторону.
Но самое важное, что числовой ряд сразу возникает перед ним как бесконечный и поэтому обозначение и запись чисел становится проблемой, которую надо решать. Поиск ответа приведёт ребёнка к счёту группами. Например, десятками. А далее новая проблемная ситуация: как выйти за пределы 10 десятков. И перед глазами ребёнка раскрывается новая математическая реальность – система разрядов, в которой каждый последующий разряд содержит 10 единиц предыдущего.
Так всё более уточняется и обобщается исходное общее отношение между величинами, выражаемое числом, и способ его обнаружения детьми. И когда во втором классе наступает самый драматический момент всего начального курса обучения математике – переход к дробным числам, то для детей это не абсолютно новое явление, требующее пересмотра их прежних представлений о целых числах, а лишь дальнейшая конкретизация понятия числа.
Свойства дроби легко обнаруживаются детьми в уже привычной работе с разными мерками при одной и той же величине. Вначале они убеждаются, что любой остаток можно выразить числом при помощи новой единицы, меньшей, чем задана раньше. Но с двумя разными мерками работать неудобно, значит, надо соотнести их между собой, выразить остаток через старую мерку, которая берётся за целое.
При сравнении дробей с разными знаменателями детям становится очевидно, что увеличивая, например, знаменатель, мы берём меньшую часть старой единицы. Естественно, приходят они и к раскрытию основного свойства дроби: изменить мерку – это значит изменить и числитель и знаменатель в одно и то же число раз. Правило «если числитель и знаменатель изменяются в одно и то же число раз, величина дроби не изменяется» они, естественно, формулируют сами. Им нет необходимости искать его в учебнике. Правило – результат их мысли, действия, работы с понятием числа, которое всё более обретает черты подлинной научности.
Вот он, фундамент всего здания школьного математического образования, утверждает В. Давыдов. Целью такого образования является создание развёрнутой и полноценной концепции действительного числа, в основе которого лежит понятие о величине.
Мы убедились, как оригинально и последовательно решается первая задача: перевести житейские математические представления детей на рельсы научных понятий. Предмет математики – количественные отношения. Увести ребёнка от непосредственности восприятия, от конкретных тел в область математической абстракции, но чтобы он сохранил с ними живую, действительную связь, – вот задача, которую надо было решить в данном эксперименте.
Понятие числа, которое получает ребёнок, для него оказывается необходимым и сознательным. Это сознательное понятие. У него формируется новый «математический» взгляд на вещи – при необходимости он может посмотреть на них и с этой количественной точки зрения. Вещь многогранна, количественная сторона – лишь одна её сторона.
Это не утилитарный взгляд, а научный, объективный, тот уровень абстрактного мышления, который ориентируется на скрытые от прямого наблюдения зависимости. Но тогда как следствие такого обучения обнаруживается удивительная картина: способность осуществлять формальные операции, возникновение которой Ж. Пиаже относил к 11-12 годам, здесь формируется уже в семилетнем возрасте: дети рассуждают о сложных математических отношениях без предметов в чисто словесном плане.
Феномены Пиаже преодолеваются как бы сами собой в ходе принципиально другого способа обучения – теоретического. Упорный труд коллектива психологов Ф. Боданского, Г. Микулиной, Г. Минской, Л. Фридмана и других под руководством В. Давыдова доказал такую возможность. Правда, пока лишь в результате многолетнего психологического эксперимента.
Загадки хитрой фонемы
– Cкажи, Коля, зачем нужна математика?
Щуплый третьеклассник едва заметно пожимает плечами, на миг задумывается.
– Математика – не самая главная наука, – медленно говорит он, – хотя без неё ничего не может быть.
Ребёнок делает небольшую паузу, как бы давая нам время осознать всю парадоксальность высказанной им мысли. Он раскрывает её последовательно и убеждённо, вкладывая в каждое слово мудрость и наивность детского восприятия мира.
– Не было бы математики – не плавали бы корабли… Даже парты делали бы разные. Не было бы математики… Я не знаю, что бы тогда было!..
– Ты сказал: математика – не самая главная наука, – уточняем мы. – А какая наука, по-твоему, самая главная?
– Самая главная наука – это язык, умение общаться.
Математика и язык, язык и математика… Два школьных предмета, которые сопровождают детей на протяжении всех долгих 10 лет школьной жизни. В первом классе они стоят рядом, ещё почти не отличаясь друг от друга простотой и элементарностью операций, которые проделывает ребёнок на уроках.
– Чем ты занимаешься в школе?
– Я учусь писать и считать!..
В общем, для него это практически одно и то же: выделяется форма знания, а не специфика его содержания.
Но чем дальше продвигается ребёнок по пути обучения, тем больше расходятся рельсы математики и языка. Уже для десятилетнего школьника математика и язык – это два мира, две планеты, не имеющие между собой ничего общего. Один мир – абстрактных знаков, лишённых плоти и крови, как остовы обгоревших деревьев. Другой – живая неупорядоченная стихия родной речи, которую тщетно пытаются привести в какое-то подобие логики, неизвестно зачем и кому нужной. Очевидно, поэтому все первоклассники любят оба предмета одинаково, а все семиклассники любят либо язык, либо математику, либо не любят их вообще в зависимости от наличия математических или лингвистических способностей. Ответ «Люблю оба предмета» для них столь же редок, как редок математический или лингвистический талант в традиционных формах обучения.
Но вот «экспериментальный» третьеклассник свёл оба предмета вместе, причём свёл по сущности их функционирования. Что же в действительности объединяет математику и язык и как это общее становится сознанием маленького ребёнка?
Чтобы найти ответ на вопрос, у нас один путь: вновь занять место на задней парте, вернуться на время в детство, отрешившись по возможности от груза добытых за долгие годы знаний, попытаться, как говорит А. Эйнштейн, ещё раз взглянуть на мир глазами ребёнка.
В ясный сентябрьский день начинаем наше второе путешествие в мир психологического эксперимента, реализующего на другом материале – языковом – одну и ту же идею восхождения по лестнице: от единого, нерасчленённого начала к сложному, составленному из простых элементов, от «клеточки» языка к её конкретному и многообразному воплощению.
Первые уроки русского языка. Дети приготовили всё необходимое: буквари, тетради, ручки. Они прекрасно знают, чем будут сегодня заниматься – писать слова, предложения. Но учительница ничего не рассказывает, не объясняет, не просит разложить заготовленное школьное богатство на парте. Наоборот, она сама спрашивает детей, задаёт им вопросы, как будто сама ничего не знает и они должны ей всё объяснять.
– Дети, может мне кто-нибудь сказать, что такое слово? Я шла к вам в школу и всё забыла. Из чего оно состоит? Кто мне поможет вспомнить?
Весь класс жаждет оказать учительнице помощь: она, конечно, шутит, но всё равно показать себя в первые же дни школьной жизни с наилучшей стороны – кто же откажется?
– Из слов состоят предложения!.. Человек говорит словами, а слова состоят из букв.
– Теперь я вспомнила, спасибо, – говорит учительница. – Вы, оказывается, многое знаете. Но тогда я вам задам вопрос посложнее: а что можно сделать со словом?
В классе воцаряется тишина. В голосе учительницы звучит лукавство: дети выжидают, поглядывают друг на друга. Какой-то здесь подвох, но какой? Догадаться трудно, поэтому лучше повременить, посмотреть, что будет дальше.
Учительница выдерживает необходимую паузу:
– Тогда я задам ещё один вопрос: что можно сделать из этой тетради?
– Как что? Многое можно сделать!.. Написать в ней, нарисовать… Кораблик из неё сделать…
– Теперь я её спрячу. И просто скажу: тетрадь. То, что я показала, и то, что потом сказала, – это одно и то же?
– Да!.. Одно и то же, – без промедления отвечают дети.
– Если это одно и то же, сделайте из слова «тетрадь» кораблик.
В ответ звучит дружный смех детей. Из слова кораблик не сделаешь. Слово сказал – и его больше нет, а тетрадь – настоящая. Вот в чём, оказывается, подвох. Теперь они разобрались, куда клонит учительница.
– Так что же такое слово? – задаёт снова свой первый вопрос учительница. – Кто мне скажет?
Теперь сказать готовы многие:
– Слово – это то, из чего состоит человеческая речь.
– То, что мы произносим…
– Слово – это название предмета.
– С предметом можно сделать что угодно, а слова можно только сказать, услышать.
– Молодцы! Так что мы сегодня с вами узнали нового на уроке?
– Что слово и предмет – это разное.
– Правильно. Вот на уроках русского языка мы будем работать не с предметами, а с их именами, со словами. Мы узнаем много нового о слове, о языке. И вы обязательно будете мне помогать, как сегодня. А то я сама не справлюсь. Договорились?
Конечно! Какая хорошая у них учительница. Добрая, просит ей помогать. Дети готовы к новым вопросам. Ещё бы, они сделали с лёгкостью необыкновенной своё первое, но очень важное лингвистическое открытие: осознали, развели по разным адресам реальные предметы и их обозначения. «Слово – это имя предмета», – гордо говорит малыш. В этом открытии – смысл работы ребёнка на уроках русского языка. «В самом деле, если ребёнок пришёл в школу, уже умея читать и писать, в чём он должен видеть смысл занятий языком?» – спрашивают авторы эксперимента психологи и лингвисты В. Репкин и П. Жедек. И отвечают: в узнавании, как устроено слово… Это то новое, считают они, чего действительно не знает ни один первоклассник, что возбуждает его интерес и готовность к поискам ответа на возникший вопрос.
– Как устроено слово? Все вещи сделаны из какого-то материала. А слово? Из чего сделано оно?
Для детей это вопрос совсем простой.
– Слово состоит из букв!..
Вот она, первая стена, возведённая в уме ребёнка его прошлым языковым опытом, которую предстоит разрушить с самого начала обучения языку. «Слова состоят из букв», – все дети так говорят. Ещё бы, газеты, журналы, книжки перед глазами ребёнка с первых месяцев и лет жизни. Эпоха всеобщей грамотности: папа читает, ребёнок тычет пальчиком в букву, говорит: «А-а-а». Для него «А» – это буква, «Б» – тоже. Родители закрепляют это буквенное представление о слове как прежде всего написанном, а потом услышанном.
– Посмотри, – говорит папа, – это буква «м», а это – «а». Вместе «ма». А если ещё раз взять «м» и «а», то всё вместе будет «мама».
И естественно звучит ответ на папин вопрос: «Из чего слово?» – «Ясно, из букв».
– Звук и буква – кто из них главный?
– Буква, – говорит ребёнок. Он её видит, она перед глазами, жирная, красивая. А звук? Сказал – и его нет. Буква, конечно, главнее, чем звук.
Для ребёнка остаётся скрытой та реальность, которая предшествовала письменной речи, тот факт, что буква рождается как обозначение звука и что подлинное понимание опирается только на звуковую форму слова. Дети убеждены, что звук – просто название буквы. Поэтому развести звук и букву, так же как были разведены предмет и сообщение о нём, показать, какая реальность стоит за каждой из них, – значит, сделать второй важнейший шаг на пути к формированию способности ребёнка к решению языковых задач как при письме, так и в живой речи.
– Но шаг этот непростой, и его нужно хорошо подготовить, – говорит нам учительница, – для этого нужно время. Не удивляйтесь, если и через неделю, и через месяц не увидите в этом классе традиционного буквенного письма.
И вот мы снова в том же классе. За окном лёгкие снежинки устилают школьный двор. Осень прошла, их первая школьная осень. Настала зима.
Идёт очередной урок русского языка. На доске какая-то странная, похожая на математическую абстракция: какие-то значки, квадратики, кружочки, точки, штриховки, равенства…
– В этих домиках живут звуки, – говорит педагог. – Для каждого звука – свой домик. Гласный – круглый домик, согласный – квадратный. Выстроившись в линию друг возле друга, они образуют улицу – слово. Не ту, на которой живёт, например, Петя, а улицу вообще. В самом деле, сказать, кто здесь живёт, нельзя. Смотрите, три домика: квадратный, круглый, опять квадратный. Может быть «пар», а может быть «жир».
Впрочем, дети скоро разберутся, какие слова подходят под эту абстрактную схему."
Итак, вновь абстрактные схемы. Что они означают здесь, на уроках русского языка? Куда они ведут ребёнка?
– Вспомним, из чего устроены слова, – говорит учительница.
– Слова устроены из звуков…
– Из каких же? Вот скоро прозвенит звонок… Можно из этих звуков сделать слово?
– Не-ет…
– Почему?
– Слова устроены из звуков человеческой речи!..
– Вот! Теперь отвечаете правильно. Слову нужен особый материал – звуки человеческой речи.
Итак, детям уже объяснили, что звук предшествует букве. Впрочем, здесь ничего просто так не объясняют. Дети сами пришли к этой мысли, работая с новым языковым материалом – звуками. Как же они с ними работают? *
– Звуки выполняют разную работу, произносятся по-разному.
– Кто выводит звуки на работу? Кто у них командир?
– Командир – человек. А у него есть помощник – органы человеческой речи: язычок, губы, зубы…
– Чем отличаются гласные звуки от согласных?
– Когда гласные – рот раскрывается. «Э-э-э!..» А когда согласные – губы сжимаются. Согласные – рто-смыкатели. Сказать их громко можно только вместе с гласными…
– То есть они со-гласные. Правильно. Всё это вы уже хорошо знаете. Составьте звуковую схему слова «друзья». Из каких звуков состоит это слово? Кто первым выходит на работу?
– Язычок выходит, – говорит малыш, показывая нам кончик языка. – Получается «д». Вторым выходит на работу звук «р». С третьим звуком работают губы, с четвёртым опять язычок.
– А с пятым?
– Тоже язык: звук «й». С шестым губы – «а».
– Сколько оказалось звуков в слове «друзья»?
– Шесть, потому что шесть разных работ выполняют наши органы речи.
Смотрим на часы, прошло всего 5 минут урока. Следует новое задание, на доске возникает звуковая схема:
– О чём она говорит? – спрашивает учительница.
– Она говорит, что в этом слове четыре звука, и органы человеческой речи должны произвести четыре работы, чтобы их произнести.
– Придумайте слова к этой звуковой схеме…
Предложений много: розы, мама, зубы, рама…
– А если в схеме уберём последний звук, оставим только три – будут подходить слова, которые вы задумали?
– Нет. Будут подходить совсем другие слова.
– Придумайте слова, которые начинаются на твёрдый согласный.
– Дыра… Лампа…
– На мягкий согласный…
– Лиля… Лепет…
– А если звук «й» в начале слова?
– Юла!.. Ёлка… Ястреб… Я!.. Ёжик…
Схемы быстро усложняются, обрастают новыми значками, перестраиваются, деформируются, и вслед им катится живой поток детской речи, брызжущий россыпями звуков-слов, освещённых мыслью ребёнка.
Вот для чего нужны абстрактные модели! Звуковая оболочка языка – материал летучий, динамичный, звуки возникают и исчезают. Слово, подлежащее анализу, произносится в доли секунды и сразу исчезает из восприятия. Сколько бы мы его ни повторяли, схватить его, остановить сознанием чрезвычайно трудно. Где же выход? Построить специальную тор-камеру, соответствующую специфике языка, материализовать звуковой строй языка – остановить мгновенье! Но не опираться при этом на буквенное обозначение.
Абстрактная графическая схема звукового состава слова, предложенная Д. Элькониным, даёт возможность работать со звуком практически. Каждый произнесённый ребёнком звук тут же фиксируется своим знаком. Речевой процесс материализуется, но это именно звуковой процесс, а не буквенная его символика. Ребёнок приобретает с самого начала обобщённый способ работы над звуковой материей языка.
Он научится изображать особенности звучащего слова, понимая, что изменение хотя бы одного звука в слове меняет его значение. Но ведь в этом и заключается сущность письма, которое является кодом звучащей речи. Ребёнок учится слушать свою и чужую речь, слышать собеседника. А вместе с этим приходит умение различать языковые нюансы, красоту и лёгкость человеческой речи. Развивается фонематический слух. Ребёнку, прошедшему такой курс обучения, кажется странным, что иные взрослые – родители, например, – не понимают, что в слове «яйцо» 5 звуков, а не 4, и первым выходит на работу звук «й», а не «я», ибо такого звука вообще нет…
Но вот однажды, готовясь к привычной работе со звуковыми схемами, дети слышат от учительницы:
– Я сейчас нарисую схему, а вы мне скажете, какое слово я задумала…
– Шар…
– Мир…
– Под эту схему много слов подходит!
– Неверно. Я загадала «сын»!..
На лицах детей удивление. Странные вещи говорит учительница. Может быть, она просто шутит?
– И наши слова тоже годятся.
– Годятся, потому что эти слова построены по одной и той же схеме: они начинаются с согласного, потом идёт гласный и кончаются тоже согласным звуком. А как сделать так, чтобы точно угадать, какое слово задумано?
Вот в чём дело! Это уже задача, надо подумать.
– Надо договориться… Например, каждый звук обозначать своим цветом. Звук «а» – красный, «д» – синий…
– Кто согласен с таким предложением?
– Трудно. Будем цвета забывать. Звуков много, цветов не хватит.
– Как же изобразить звуки, чтобы всем было понятно, о чём идёт речь?
– А-аа! Вот в чём дело! Ведь есть буквы! А мы о них совсем забыли.
– Надо обозначить звуки буквами!..
– Верно! Люди давно придумали такие значки, буквы, чтобы можно было объясняться друг с другом на расстоянии. Что должна изображать буква? Что она обозначает?
– Буква – значок, который обозначает звук.
– Итак, – подводит итог учительница, – теперь у нас получаются две разные формы записи слова – звуковая и буквенная. Будем называть их моделями слов. Кто из вас слышал слово «модель» или видел её?
Модели они, конечно, видели. В наше время термин «модель» входит в детское сознание и через игру в «моделиста-конструктора», и через рассказы учёных по телевидению о работе на моделях. Естественно, у детей нет научного понятия модели, да здесь оно и не требуется: достаточно, чтобы они понимали, что модель – «заместитель» реального предмета.
– Я сказала, что у нас теперь две модели – звуковая и буквенная. Чем же они различаются? Чтобы вам легче было решить задачу, я сейчас покажу два рисунка. В чём их отличие друг от друга?
На рисунках схематическое изображение легковой автомашины и конкретной машины «Волги».
Дети быстро схватывают разницу.
– На этом рисунке машина, похожая на все машины. А на другой – похожая только на «Волгу».
– Правильно. И та и другая – не настоящие машины, а их модели. Но в первом случае это модель машины вообще, а во втором – модель «Волги». Можете вы теперь сказать, чем отличается звуковая модель от буквенной?
– Звуковая годится для многих слов, а буквенная только для одного.
– Значит, не обойдёмся одной моделью – звуковой?
– Нет. Нужны две. У букв, наверно, тоже есть свои хитрости, как у звуков. Узнать надо…
Ясно, просто, убедительно. Просто? Всё сложное кажется простым, когда задача решена, когда ответ перед глазами. Психологам удалось подвести ребёнка к необходимости письма, отражающего всё богатство звучащей речи. От звука к букве (письмо) и от буквы к звуку (чтение). Два взаимосвязанных процесса, не противостоящих друг другу, как это обычно бывает. Теперь детям очевидно, что буква есть лишь одно из возможных обозначений звука, а правила орфографии есть не что иное, как правила перехода от звуковой к буквенной модели. Теперь они будут овладевать нормами письма, решая сложные задачи на таких, например, моделях:
Всё больше обостряется внимание детей не только к материальной основе языка – звуку, но и к буквенной его «одежде». Чтобы слово не выглядело нелепым, как пиджак от одного костюма, а жилетка – от другого, чтобы гармония сопровождала письмо точно так же, как она сопровождает звуковую речь.
– Мы хотим, чтобы письмо с самого начала было осознанным, необходимым. Только ориентируясь в звуковой структуре слова, ребёнок сможем понять, что же обозначается буквой. Поэтому звуковая структура выделяется как особый предмет познания, – так говорят психологи-экспериментаторы.
Но вот наступает самый важный момент. Даётся обычное, хорошо известное детям задание: сравнить между собой звуковые схемы слов «нос» и «нас». Дети сравнивают, устанавливая при этом, что изменение звука в слове привело к изменению и его значения: так бывало и раньше, и ничего нового они не узнали. Ещё одна такая же пара, ещё одна, и вдруг: «нос – насы». В чём дело? Результат получился неожиданный: звук в основе слова изменился, а значение осталось то же самое.
Чтобы для читателя была ясна задача, поставленная перед детьми, следует сказать, что они давно вместе с учителем установили необходимость ориентировки на звуковую норму. На бытовом языке этому научиться нельзя: одни люди «окают», другие – «акают», по-разному ставят ударение в слове. Поэтому в науке о языке устанавливается норма правильного произношения. Дети знают, что учатся не просто русскому языку, а языку литературному, на котором говорят, например, дикторы телевидения. Во множественном числе слово «нос» звучит в соответствии с нормой произношения как «насЫ». Значит, изменение звука в основе слова не изменило его значения. В обоих случаях речь идёт о части лица человека.
Почему же в одном случае можно менять звук в слове без ущерба для смысла, а в другом – нельзя? Дети в недоумении.
– Значит, мы были не правы раньше?
– Наверное, не правы… – обескураженно говорят они.
– Надо теперь узнать, почему в главной части слова звуки изменились. Кто заставил звуки меняться, не меняя смысл?
– У звуков есть своя позиция – место в слове, – говорит учительница. – Вы это знаете. Может быть, она виновата в смене звуков в словах, одинаковых по смыслу? Проверим…
Ученики сравнивают положение звуков «а» и «о» в словах и разницы в позиции не находят.
– Вы всё сделали правильно: оба звука стоят после согласных и перед согласным. В этом между ними никакой разницы нет. Так в чём же дело? Может быть, всё-таки разница есть, а мы её не заметили?
Напряжённо всматриваются дети в звуковые модели слов, и вдруг один ребёнок победно вскидывает руку, на его лице наслаждение открытия, он «нашёл». Но учительница медлит: «Думайте, думайте. Я хочу, чтобы и другие тоже нашли решение сами». Взлетает вторая рука, третья, четвёртая…
– Так! Говорите…
– Есть разница – ударение! Сначала ударение падало на первый слог, потом перешло на конец слова!..
– Молодцы! Оказывается, для гласного звука важно, падает на него ударение или нет. Ударение – важный признак позиции гласного звука. Под ударением – одна позиция, без ударения – другая. Что мы сегодня с вами узнали нового в языке?
– Мы узнали, что в одном слове, в одном месте работают разные звуки «о» и «а»… По очереди…
– Правильно. А командует ими позиция: это она призывает на службу то один звук, то другой. Такая смена звуков называется позиционным чередованием. Иногда звуки меняются, чередуются. Что заставляет их чередоваться?
– Удар… Позиция…
– Они чередуются в зависимости от позиции – ударной или безударной.
Теперь то, о чём узнали дети, надо зафиксировать как всегда на модели. Какой должна быть такая модель? Позиционное чередование в основе слова. Поэтому изменяемую часть можно отделить чертой. Знаки равенства и неравенства покажут, где происходит замена звука. Естественно, у детей возникает вопрос: а согласные звуки могут чередоваться? Надо проверить… ГрибОк – грипкА. Да, тут тоже есть чередование звуков в основе: б-п.
Значит, для согласных звуков самое важное, какой у них сосед справа: изменится он – изменится и позиция согласного. В первом случае, когда сосед справа – гласный звук, во втором – согласный. Значит, и позиции разные.
А сколько раз может меняться позиция в слове? И это можно выяснить на модели.
…Зубы, зуп, зупки, зуб-бы. Чередование: б-п-п-б. Виноват сосед справа. Вот сколько позиций у звуков «б» и «п»! И каждый раз надо им договариваться, кому выходить на работу. Путаницы быть не может, иначе нарушится всё движение, возможна авария – ошибка. Ребёнок регулирует движением, он хозяин своих слов, они ему подчиняются, потому что он хорошо знает их слабости и хитрости. Взмах жезла – изменение слова, и пошло чередование, правостороннее движение, о котором так весело рассказал детям поэт и психолог Вадим Левин:
Служат звуки «о» и «а» В слове «слово» и «слова», И выходят на работу Даже в праздник и в субботу. «А» сказал однажды: «Братцы! Надо нам чередоваться!» «О» сказало: «Я готово Поработать в слове «слово»! Слава тем, кто крепко дружит! Слава тем, кто честно служит! Слава звукам «о» и «а» В слове «слово» и «слова».Дети приходят к двум важнейшим выводам. Во-первых, слова различаются не отдельными звуками, а рядами позиционно чередующихся звуков. Буквы обозначают не звуки, а их ряды. Во-вторых, только буква, обозначающая сильную позицию ряда, однозначна. Остальные проблематичны. Никогда нельзя заранее сказать, какую букву надо писать, если звук находится в слабой позиции.
Весь смысл обучения орфографии, говорят экспериментаторы, заключается в том, чтобы ребёнок понимал, что далеко не каждому звуку можно доверять. Тот звук, который под ударением (сильная позиция), можно писать смело, а тот, что без ударения, пишут часто неверно. Встретилось слово, которое можно сказать так или иначе («трава – трова»), тут будь начеку. Пиши, как под ударением: «травы». Звук без ударения – сигнал к сомнению для ребёнка: и как его произнести, и как написать.
– Как мы открываем тайны слов? – спрашивает учительница. – Какой у нас появился волшебный ключ?
– Надо изменить слово, и тогда узнаем его тайны… Поставить звук в сильную позицию…
Здесь сделан решительный шаг к пониманию природы орфографии, познанию детьми её фундаментальных закономерностей.
Научить грамотно писать – это прежде всего научить обозначать буквами звуки в слабых позициях в соответствии с орфографическими нормами. Орфография в собственном смысле слова начинается там, где нужно обозначить звук в слабой позиции. Только теперь перед нами открывается вся сила и сложность замысла авторов эксперимента – сформировать у малышей научное, лингвистическое отношение к языку на основе фонемной теории письма.
Когда психологи и педагоги стремятся сделать обучение содержательным, они неизбежно обращаются к существующим научным концепциям в данной области действительности. А ведь такие концепции бывают весьма отличны друг от друга. В данном случае их внимание привлекла концепция московской фонологической школы, разработанная сотрудниками Института русского языка Академии наук СССР.
Огромная предварительная работа для выбора путей обучения орфографии, о которой можно было бы написать отдельную книгу, привела авторов к мысли, что применяемая в обучении так называемая морфологическая теория письма не позволяет осуществить экспериментальный метод обучения. Ведь морфологический принцип опирается на независимость письма от произношения. Здесь отдельное правило оказывается основной формой орфографического обобщения. Поскольку оно не раскрывает способа происхождения графических форм языка, то единственный смысл его – группировка, обобщение однородных орфограмм. Общая природа различных групп написания остаётся за бортом обучения. Но так как весь путь – это путь к невидимой цели, в систему они не складываются, о чём нам хорошо известно.
«Но путеводная нить есть!» – говорит доктор филологических наук И. Ильинская. Ею является основной принцип русской орфографии, раскрывающий закономерную связь между письмом и речью. В его основе лежит понятие фонемы – ряда позиционно чередующихся звуков. Фонема есть та языковая единица, которая обозначается на письме в соответствии с правилами графики по своей сильной позиции. Способ определения орфограммы, то есть буквы, отражающей фонему в слабой позиции, универсален и заключается в приведении фонемы к сильной позиции.
Отсюда вытекает правило, которое, как мы убедились, установили сами дети: чтобы без ошибки написать слово со звуком в слабой позиции, надо проверить его другой формой того же слова, в котором звук находится в сильной позиции. Если в это правило вместо «слова» поставить «морфема», то есть минимальную значащую единицу, то получится основное правило русской орфографии, регулирующее написание как гласных, так и согласных во всех морфемах: корнях (лисА – лИсы), приставках (подписАть – пОдпись), суффиксах (фОкусник – печнИк), окончаниях (на пАрте – на стенЕ). Знание этого правила достаточно для решения подавляющего большинства орфографических задач.
Таким образом, осознание ребёнком самого общего принципа письма оказалось возможным не в конце обучения орфографии, как это обычно бывает, да и то не всегда, а в его начале, что меняет всё дальнейшее обучение.
Но вернёмся в реальную школьную практику, к детям, которые, естественно, ни о какой теории не помышляют, а просто с увлечением работают на уроках русского языка. Получив в своё распоряжение ключ к орфографии, ребёнок обретает возможность сразу правильно писать любые слова и предложения без риска ошибки.
Чтобы это стало возможным практически, вводится новая модель, в которой звуки в сильной позиции, обозначаются буквами (здесь с самого начала всё ясно), а в слабой – пропусками: Л-са (лиса), л-пат-ка (лопатка). Благодаря работе с такой моделью навык правильного письма формируется ещё до изучения многочисленных частных орфографических правил. В чём соль этого парадокса?
Ребёнок уже знает, что буква, соответствующая звуку в слабой позиции, – всегда какое-то неизвестное, х-буква. Но прежде чем решить задачу по её нахождению, надо сначала это слабое звено в слове увидеть, зафиксировать в мысли! Именно от такого вИдения, утверждают психологи, прежде всего зависит грамотность. Ошибки в процессе письма часто возникают не из-за незнания или непонимания правила, например правописания сомнительных согласных. Человек просто не видит таких согласных в слове, а следовательно, не может правило применить. Тем более он перестаёт их видеть по мере изучения десятков новых частных правил, не связанных в систему.
Умение надёжно выделять орфограммы возникает только, если в его основе лежит глубокое понимание свойств звуковой материи языка, отражённой в буквенной модели слова, утверждают авторы эксперимента. Ребёнок ищет слабую позицию в слове, решает орфографические задачи. Постепенно развивается орфографическая зоркость: х-букву он начинает видеть издалека. Так закрепляется навык сознательного применения любого правила.
Этому способствует известное упражнение – списывание текстов. В любой школе списывание – наказание для малышей. Оно фактически превращается в механическое копирование образца, делает ненужной всякую мысль. Но здесь это интересная работа! Дети решают задачи: выделяют фонемы в слабой позиции, охотятся за х-буквами. Выделяя все орфограммы, все сомнительные моменты, они запоминают «по дороге» десятки и сотни правильных орфографических написаний.
Отсюда трамплин для быстрого развития письменной речи с самых первых шагов её становления. Дело в том, что письмо с опорой на образец не может решить всех проблем обучения грамоте. Нужно научить ребёнка писать самостоятельно, и чем раньше, тем лучше. Но ведь в начальной школе дети многих правил письма ещё не знают. Как обычно разрешается такое противоречие?
Когда выполняется письменная работа на «выученное» правило, учителя обязывают ребёнка придерживаться определённого, связанного с правилом круга слов. За ошибки в такой работе ему ставят оценки.
Но, с другой стороны, необходимо поощрять и свободный, творческий подход к изложению мысли. Достигается это тем, что ошибки «на неизученное правило» не принимаются во внимание. Но в конце концов, констатируют В. Репкин и П. Жедек, когда все правила выучены и любая ошибка идёт в зачёт, побеждает первая тенденция, порождая печально известные, безликие, но «правильные», типовые сочинения, кочующие из вуза в вуз.
В экспериментальных классах противоречие между знанием правила и свободным творческим подходом к письменной речи решается так: пиши сразу любые слова, но обязательно выделяй все орфограммы. Можешь проверить – проверь, не поддаётся проверке – напиши по памяти, остальные спроси у учителя или поставь чёрточку.
Но тогда умение думать над правописанием, превращаясь в привычку, не сковывает детскую мысль. Ребёнок свободно её выражает, не будучи ограничен узким кругом слов, правописание которых разучено заранее. Их тетради приобретают странный вид, и нужен немалый опыт, чтобы прочесть такой текст – криптограмму для детектива, но понятный и убедительный для ребёнка. Придёт срок – чёрточки исчезнут, но не раньше, чем будут заменены сомнительные буквы настоящими жильцами, имеющими ордера на жилплощадь в соответствующих словах. Потому так храбро здесь дети пишут длинные сочинения, рассказы, сказки, не испытывая страха перед орфографией, не стремясь втиснуть свою мысль в прокрустово ложе заранее выученных слов и конструкций.
…Второй класс – и новый виток в изучении языка, новая увлекательная область – грамматика, новые единицы языка – морфемы, носители грамматических значений.
– Я сейчас произнесу слово, а вы расскажете, о чём оно сообщает, – говорит на уроке учительница. – Книга…
Дети удивлённо переглядываются. «Дескать, вы сказали: книга, и больше ничего».
– Нет, я ещё о чём-то сказала…
Ученики в полной растерянности.
– Вы сегодня непонятливые, – нарочито сердится учительница. – Придётся вам помочь. Я сейчас назову ещё одно слово, и вы объясните, о чём сообщает первое… Книги…
Эврика! Книги – это много. Изменили форму и установили разницу по значению.
– Но откуда вы это узнали?
– Там было «а», тут «и».
Детям открылась связь между звуковой единицей и её значением. «А» и «и» – это не просто звуки, а части, значащие звуки, выполняющие свою работу.
– Отбросим «а». Будет ясно, о каком предмете идёт речь? А если отбросить «книг» и оставить одно «а»? У «книг» тоже есть своя работа. Представим на модели то, что мы сейчас узнали, – предлагает учительница.
Дети строят ещё одну модель, устанавливающую связь между формой слова и его значением. Модель показывает, что слово может быть разбито на две части: одна говорит о его вещественном значении (постоянный элемент – «о чём идёт речь»), другая – о числе (переменный элемент). Теперь начинаем работать с моделью, с разнообразием слов…
Всё отчётливее выступает перед детьми сущность выделенного отношения. Оказывается, слово имеет свою особую структуру, состоит из частей, каждая из которых выполняет особую работу. В слове нет ни одной случайной частички, грамматический строй языка неразрывно связан со значениями, которые мы хотим передать.
Форма, анатомия слова и его значение… Они идут рука об руку, никогда не теряя друг друга из виду. Стоит кому-нибудь из них зазеваться, отстать – и всё разрушается: люди перестают понимать и себя и других. Поэтому надо разобраться во всех этих винтиках, шестерёнках, приводных ремнях, связывающих воедино форму и значение слов. Отношение между ними – вот та подлинная исходная «клеточка», общая для всей системы языка и отдельных её частей. Выделить это отношение как предмет анализа – новая большая задача, которую ставит перед детьми исследовательский коллектив психологов под руководством Л. Айдаровой. Каждый грамматический элемент слова несёт какое-то сообщение, а все элементы группируются вокруг общего корня, подпирая и обогащая его.
Приставки, суффиксы, окончания – все они живут по законам языка, выполняют свою часть общей работы, согласовывают свои усилия, чтобы точнее, полнее, проникновенней шла человеческая мысль от человека к человеку.
Работа со словом… Дети уже хорошо знают, что открыть тайну можно только одним ключом – собственным действием. Если не откроешь дверь в неведомое – никто не откроет. Поэтому нужно изменить слово по значению, сравнить полученный результат с предыдущим, отметить, что изменилось, представить найденное отношение на модели, где формальные и смысловые различия выступают в виде абстрактных всеобщих схем.
А где же орфография? Она тут как тут, разворачивает стройные ряды частных правил, вытекающих из основного. Теперь фонеме стало вольготно. Раньше, до морфологического анализа, она должна была ютиться только в целых словах, теперь ребёнок получает возможность широкого применения основного правила русской орфографии. Орфографическое действие окончательно становится осознанным и предельно обобщённым, способным решать практически любую орфографическую задачу.
Итак, понадобилось три года, чтобы в основном решить проблему грамотного письма. Его уровень у «экспериментальных» детей удивительно высок. Как его проверить? Психологи выделяют для этого два основных критерия: орфографическую зоркость – умение самостоятельно обнаруживать орфографические трудности в любом новом слове и количество слов в самостоятельных работах детей.
Даётся контрольная работа… Нужно подчеркнуть в тексте все сомнительные орфограммы. Такая же работа даётся восьмиклассникам обычной школы и студентам третьего курса филологического факультета педагогического института. Её результаты: у студентов – 98 процентов правильных ответов, у восьмиклассников – 40 процентов, у «экспериментальных» третьеклассников – 96 процентов. В самостоятельных работах детей число смысловых единиц в два-три раза выше, чем при обычных условиях обучения.
Ну что ж, результаты вполне оправдывают затраченные усилия. Но главное в другом: практическая задача – обучение грамоте – решена нетрадиционными средствами! Дети не просто овладели способом грамотного письма. Они получили ещё теоретическое представление о языке как об объективной системе, открыли для себя язык и как средство мышления, и как средство общения, и как способ речевого действия.
Сочинения девятилетних детей по русскому языку – ученические тетради, лежащие толстой пачкой. Дети писали сочинение не дома, где умные родители могут помочь, подсказать, подсунуть энциклопедию.
Обычный школьный урок – сочинение на тему «Что я знаю о слове».
«Слово – это очень интересно. Потому что если вдуматься в смысл слова, то мы узнаем очень много. Бывают такие слова, которые несут два или три смысла. Одно слово можно заменить другим. Бывают слова, которые оттачивались веками. Со словом можно работать, составлять его звуковые и буквенные модели. Мы рассматриваем слово в школе с разных сторон, можно забраться во внутрь слова, узнать его состав. Что мы и делаем в школе. Каждое слово – это великое богатство. Бывают очень сильные слова, такие, как мир, свобода…»
«До школы я никогда не занимался работой со словом. Я знал о словах только то, что они изменяются по числу. Я знал также, что бывают слова, в которых есть одна особенность. Они в любом числе и в любом падеже звучат и пишутся одинаково (например, кенгуру, пальто). Я тогда очень мало знал о слове. Я даже не подозревал о падежах, о корне, об основе. Одним словом, в школе я узнал то, чего не знал дома. Без помощи слов люди общались бы знаками, а это не каждому понятно. Слова могут быть существительные, прилагательные, могут быть слова ободряющие, зовущие, оскорбляющие, унижающие и так далее…»
«Слово – это орудие, которым человек пользуется для выражения своих мыслей и общения с другими людьми. Мы привыкли к словам, и они кажутся нам простыми. На самом деле это не так. Слово – это система всех словоформ. Оно состоит из корня и аффиксов. Если углубиться в смысл слова, то можно узнать очень многие важные тайны, которыми богат русский язык. Каждая часть вносит в слово новое значение. Человек пользуется словом и выражает свои мысли и отношение к другим людям и событиям. Если его мысль длинная, то с помощью нужных слов человек может выразить её короче. Например, «гром начал греметь – гром загремел».
«Словом можно утешить человека, можно убить человека, можно подбодрить человека, но неужели можно выразить свои мысли только одной словоформой? Конечно, нет! Чтобы более точно выразить свои мысли, нужно очень и очень много словоформ. В 1-м и 2-м классе мы разговаривали и выражали свои мысли довольно точно. Но ни у кого из нас не возникал такой вопрос: мы употребляем новые слова или же словоформы? И вообще, что такое слово? В 3-м классе мы это узнали. Мы выяснили, что слово – это система всех его словоформ. Мы научились выражать свои мысли наиболее точными словоформами, которых так много в русском языке…»
Что удивляет в этих сочинениях?
Во-первых, уровень рассуждений детей, их свободное, ясное выражение мысли. Дети легко обращаются со сложными лингвистическими терминами; «словоформа», «орфограмма» – для них понятия содержательные. Они пишут о многозначности слова, его историчности, связи с человеческой культурой, общением людей.
«Глядя на такое обучение, можно сказать, что сбывается мечта нашего замечательного лингвиста, академика Щербы: грамматика для детей оказывается, наконец, не скучной обязанностью, а интереснейшей наукой, – так оценил труд экспериментаторов один из авторов фонетической теории письма профессор М. В. Панов. – Уроки русского языка для детей оказываются важнее всего, потому что это опыт наблюдения над собой: «Я так говорю, и я прислушиваюсь к себе, узнаю себя».
Перед детьми действительно открывается вся панорама науки лингвистики, но они всегда видят живое начало, клеточку, корень, из которого вырастало всё их многообразное знание.
Вслед за грамматикой – стилистика, переход от оценки слов как грамматических категорий к оценке их как единиц художественного текста: движение от слова-сообщения к слову-обобщению, слову-образу…
Каждое новое сложное теоретическое понятие оказывалось ими более или менее легко усвоенным, потому что было для них лишь конкретизацией, обогащением исходного теоретического отношения, которое они исследовали с первых дней пребывания в школе.
«Возрастные возможности усвоения знания» – под таким скромным заголовком в 1966 году вышла небольшая книга, ещё не монография, а всего лишь сборник научных статей под редакцией В. Давыдова и Д. Эльконина. Научные публикации… Сколько их оседает на полках библиотек, ни разу не востребованных читателями. Но есть книги с иной судьбой: они быстро становятся библиографической редкостью, и специалисты завистливо вздыхают, обнаружив у коллеги заветную книгу в потёртом переплёте. Научный сборник, о котором идёт речь, принадлежит именно к таким работам. После него было много других, были монографии, но этот стал первым, и поэтому он особенно дорог теперь, когда новая концепция обучения обрела контуры психологической теории. Но тогда нужно было прежде всего доказать другим и самим себе, что это действительно возможно – обучать семилетних детей алгебре, структурной лингвистике, давать им математическую, лингвистическую теорию без упрощений, без скидок на возраст. В этой книге на материале математики и родного языка, двух столпов начального обучения, психологи продемонстрировали метод, с помощью которого был взят барьер, ранее считавшийся неприступным. Подробнейшим образом, с обширными выдержками из конспектов уроков, образцов детских работ описывается процесс обучения на основе теоретического принципа обобщения учебного материала.
Возрастные возможности детей оказались совсем не теми, которые представлялись нам ранее. В них таятся, как выяснилось, огромные резервы умственного развития. Это и было главным выводом из проведённого исследования. Абстрактная теория оказалась вполне доступной маленьким детям. Но доступной благодаря особому способу обучения, особой организации собственных действий детей.
Теперь можно было двигаться дальше, раздвигая границы исследования, распространяя новый метод обучения на другие предметы: физику, биологию, географию. Причём не ради простого «охвата» школьных предметов, не считаясь с их спецификой. Необходимо было углубиться в психологические механизмы формирования теоретических интеллектуальных структур у ребёнка. Важно было утвердиться в мысли, что хотя специфика предмета играет роль и каждый раз необходима сложная аналитическая работа по выделению теоретических понятийных «единиц», последовательности их введения и т. п., но при этом проявляются общие психологические закономерности, лежащие в основе нового метода обучения.
Такой вывод требовал всесторонней и длительной проверки. Она и составила второй этап исследований, выполненных в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР, в лабораториях психологии обучения Харьковского университета, Харьковского и Тульского педагогических институтов, других лабораториях страны.
В глубь теоретического материка
Научная экспедиция под руководством И. Д. Папанина после многомесячной работы на Северном полюсе оказалась в опасности. В начале весны льдина, на которой они находились, раскололась. Она треснула во многих местах, в том числе под палаткой с провизией. Папанинцы очутились на небольшом пятачке, размеры которого не превышали 30-40 метров. Они сообщили в Москву о своём положении, о том, что не могут больше продолжать исследования. Немедленно им была направлена помощь. Их нашли, сняли с льдины и благополучно возвратили на Большую землю…
Идёт урок географии в третьем классе. В науку о Земле вплетается история, героические страницы первых советских путешествий на Северный полюс. Рассказ педагога сам по себе интересен и познавателен. Многое мог бы рассказать детям учитель и о физической стороне дела: о дрейфе льдин, коварных течениях, о всём пути, проделанном полярниками вместе с льдами. Но увлекательное повествование, как обычно здесь, только завязка. Теперь необходимо решить задачу: как нашли небольшую льдину в океане? Какие сведения сообщили папанинцы в Москву, чтобы их смогли обнаружить?
Конечно, сложность задачи воспринимается детьми не сразу. Живой детский ум выдаёт «на-гора» десятки решений. «Они подавали какие-нибудь сигналы». «Их искали самолёты. Сверху лучше и дальше видно». «Они пускали световые ракеты». Но учитель отметает одно предложение за другим.
– С самолёта долго искать, океан большой.
– Они сообщили: вот столько градусов северной широты, – говорит ребёнок.
– Что такое широта?
– Я ещё не знаю…
Они ещё не знают способа, с помощью которого можно решить задачу. Их географические сведения поверхностны, в памяти всплывают услышанные по телевизору слова «широта», «долгота». Это тот случай, когда опыт житейских знаний мешает, путает мысль.
– Они сообщили координаты и направление льдины.
– Что такое координаты?
– Это точка, в которой они находились.
– Как её найти?
– На глобусе есть градусы.
– Значит, папанинцев искали на глобусе, а не в океане? – иронизирует учитель.
Предложения иссякают. Явно ничего не получается, попадаешь всё время впросак, в смешное положение. Надо подумать.
– Думайте. Вас никто не торопит.
– Мы можем мысленно разграфить Землю на квадраты, чтобы легче было искать. Там, где линии пересекутся, будут точки – координаты. Но Земля большая… Можно всё сделать на модели. Поэтому, наверно, люди и придумали глобус.
Всё-таки они нашли верный ход. Модель – это уже мысленная абстракция, с ней можно работать, а не гадать – авось, повезёт.
– Пожалуйста, вот глобус. Работайте.
Пока он непривычно чист, ни широт, ни долгот – только материки и океаны. Дети должны повторить в сжатом виде поиск, который вёлся на протяжении веков отважными первопроходцами – путешественниками и создателями первых карт, атласов неба и Земли. Сейчас они начинают создавать новую для себя науку картографию. И поэтому так естественны первые их слова.
– Нужен прежде всего порядок.
– Что ты имеешь в виду?
– Глобус надо разделить на одинаковые расстояния. Сначала нарисовать большой круг – экватор. От него к полюсам прочертить ещё круги.
– Их можно чертить как угодно?
– Нет! Каждую следующую линию чертить так, чтобы она всеми концами была параллельна экватору.
Всеми концами параллельна… С точки зрения строгой логики это сказано, конечно, неверно. Но зато какой яркий образ, отвечающий, в общем, сути дела.
Наконец, пошла настоящая работа. Дети, сами того не подозревая, решают сейчас совсем не ту конкретную задачу, которая была им задана: как найти льдину? Они сами переформулировали её в новую, познавательную: найти способ конструирования карты, пригодной для решения многих других географических задач.
– Нужно ещё задать расстояние между линиями. Например, разделить глобус на 360 линий – градусов. 180 линий до одного полюса и столько же до другого.
– А между линиями нельзя провести ещё линии?
– Можно. Сколько угодно. Пока не будут смыкаться все линии.
– Но я ещё не всё поняла. Если мы проведём линии, параллельные экватору до полюса, то мы сразу сможем найти точку на Земле?
– Нет. Потому что мы не знаем, с какой стороны эта точка расположена.
– Что же нужно, чтобы знать?
– Надо провести ещё линии – от полюса до полюса. У нас тогда будут квадраты.
– Я ещё хочу добавить. Те линии, что параллельны экватору, нигде не сходятся, а те, что через полюс, – все встречаются.
– И я тоже заметил: чем больше к полюсу, квадраты становятся меньше. А последний круг, параллельный экватору, встречается сам с собой. Это полюс!
– Молодцы! Вы многое заметили, – говорит учитель. – Теперь я знаю, вы уже можете найти льдину.
– Ещё нельзя! – возражают дети.
– Чего не хватает?
– Названий. Без названий ничего не получится. Чтобы другим передать знания, нужны названия-слова. Иначе зачем язык?
В самом деле, если не пользоваться словами, о которых они так много теперь знают, как можно общаться через материки и океаны?
– Я бы назвал те линии, что идут параллельно экватору, горизонталями. Потому что они все горизонтальные, хотя и идут по кругу.
– А другие окружности как назвать?
– Вертикали… полюсопересекатели… меридианы… Есть такая песенка: мелькают города и страны, параллели и меридианы…
– Всё! Вы меня убедили, – говорит учитель. – Теперь льдину быстро найдут…
– Нет! – класс не согласен. – Чтобы быстро найти, надо хотя бы примерно знать, где искать: ближе к полюсу или, наоборот, подальше от него. Надо всем линиям дать номера, от одного полюса начать и другим кончить.
– А с какого начать?
– По-моему, всё равно с какого…
– А по-моему, лучше начать с экватора, чтобы он был нулевой линией. Тогда в два раза меньше будет названий, а значит, и меньше ошибок.
– Хорошо. Но чьё же предложение лучше – Пети или Коли?
Звонок на перемену прерывает начавшийся было спор.
– Ну что же, – сказал учитель, – к согласию мы так и не пришли. Вот и подумайте, откуда считать, как считать и как по счёту назвать эти линии…
Это не стенографическая (хотя и протокольная) запись урока, на котором мы присутствовали, чтобы вникнуть в замысел психологов, понять, как они намерены использовать географию для экспериментального подкрепления своих разработок. В действительности дети говорили немножко не так, как они говорят здесь. Но суть урока от этого не меняется, а она в том, что дети на этом уроке интеллектуально работали.
Карта. Чем она осталась в нашей памяти от школьного курса географии? Контуры материков, стран, условные обозначения городов с миллионным и более населением… Мы знаем, что голубой цвет обозначает водную гладь, а интенсивный коричневый – горную местность. С трудом, но в случае необходимости сможем всё-таки вычислить расстояние по масштабу. И это почти всё. А ведь сколько разных географий мы изучали: экономическую, физическую, политическую. Впрочем, географических знаний в нашей памяти немало, но извлекли их тогда из учебников. Зачем карта? К ней мы обращались только, чтобы «посмотреть», «показать». Карта выступала как иллюстрация при изучении географического материала, работать с ней мы так и не научились.
Мы привыкли рассматривать части карты как отдельные, не связанные между собой элементы: физическая карта – это одно, экономическая – другое. Пространственные и причинные географические связи не являются предметом специального усвоения, их нет в учебниках.
Уметь по-настоящему читать карту, то есть видеть за абстрактными обозначениями систему элементов поверхности нашей земной колыбели, не всегда могут даже студенты географических факультетов.
Исследования харьковских психологов показывают, что многие студенты-географы «прочитывают» на специальных картах в основном лишь те сведения, которые на них непосредственно даны. Они не усматривают связи между конкретными географическими явлениями и другими, на карте не обозначенными. Например, не могут по карте народонаселения соотнести его плотность с климатическими условиями, рельефом. То есть у них отсутствует объёмное географическое видение: такое, которое проявляется у географов-профессионалов высокого класса. И хотя карта, конечно, не «вся география», она – её альфа и омега, начальный и конечный момент географического исследования, как говорил видный советский учёный-географ К Н. Баранский.
Ещё с большей силой мысль о важнейшей роли карты утверждается в трудах сегодняшних теоретиков географии. Именно с помощью карты, считает заведующий отделом Института географии АН СССР А. Лютый, были установлены основные географические законы, введены теоретические модели пространственной структуры географических явлений. Карта даёт возможность изучать ненаблюдаемые географические объекты: температуру почвы, солёность вод, магнитное склонение и т. д.
По мнению А. Лютого, карта – важнейший инструмент эвристической мысли, позволяющий решать задачи на основе творческой интуиции: выдвигать гипотезы, вскрывать невидимые в натуре связи. Так, например, родилась идея о дрейфе континентов, по данным о циркуляции атмосферы учёные открыли неизвестный материк. По картам осуществляются прогнозы (например, определяются границы затопления при таянии полярных льдов) и т. д. Очевидно, что простая сумма конкретных географических знаний не даёт выхода на такое пространственно-временное видение географических явлений и объектов.
Таким образом, учёные-географы подсказывают психологам и педагогам путь обучения детей научной географии. Чтобы заложить прочный её фундамент, необходимо научить читать карту «теоретическими» глазами.
Итак, идея ясна: сформировать у детей с самого начала обучения теоретические представления о системе картографических понятий. «Опробовать» метод ещё на одном предмете – географии. А так как метод обучения здесь через собственные действия учеников, они должны сами «строить» карту, овладевать принципами такого построения и способами отображения на ней географических объектов и их связей.
Но прежде всего у ребёнка должна возникнуть нужда в построении карты, он должен сам прийти к объективной необходимости возведения нового научного здания.
Известно, что система картографических понятий отражает некоторые свойства земли как движущегося геометрического тела, условно принятого за шар. Поэтому овладение этой системой понятий должно опираться на некоторые предварительно усвоенные геометрические знания (линия, точка, окружность, градус). Таких знаний у учеников нет не только в начальной школе, но и в пятом классе, когда на уроках географии изучается градусная ось. Но «экспериментальные» дети имели уже представления об этих понятиях, поскольку ещё во втором классе познакомились с началами геометрии.
Вот где в очередной раз для учеников, да и для их педагогов обнаруживаются смысл и логика теоретической формы обучения. Мир един, и различные его стороны всё отчётливее выступают перед детьми в своих закономерных связях. Математика оказывается необходимой ученику не завтра, когда он вырастет, не на заводе, не в конструкторском бюро, а уже сегодня как средство решения любых познавательных задач. Ребёнка не нужно убеждать: «Учи математику, в жизни пригодится». Он сам убеждается в этом.
Но с чего начать обучение построению карты? Проблема. Традиционно обучение картографическим понятиям начинается с ориентировки на местности, с построения плана, то есть с решения эмпирической жизненной задачи. От плана – к карте, от неё – к глобусу. Как будто всё логично: нужно сразу соотнести условные знаки карты с конкретной действительностью. Наглядный образ должен возникать всякий раз, когда ребёнок смотрит на карту.
Но ведь это не всегда возможно. Такие понятия, как «полюс», «экватор», «меридиан», не сводятся и не могут быть сведены к зрительным представлениям. Это абстрактные, содержательные понятия. Естественно, в психике ребёнка образуется разрыв между реальной действительностью и абстракцией географических понятий. Преодолеть этот разрыв можно обратным движением: от общего к частному. Общее в данном случае – это глобус как модель Земли.
За партой дети космического века. Естественно поставить перед ними задачу: дать представление о Земле жителям другой планеты. Наглядное, ясное, чёткое, не требующее ни знания языка землян, ни чтения книжных фолиантов. Дети решают задачу однозначно: на космическом корабле должна быть Земля в уменьшенном размере, то есть модель Земли.
Принципы моделирования становятся для учеников естественным способом познания любой действительности. Они освоили его уже при изучении математики, языка. И теперь возвращаются к нему и на уроках географии. Как построить модель Земли? Надо, естественно, начать с выделения её наиболее общих свойств. Земля – вращающийся шар, следовательно, необходимо определить ось вращения, установить её единственность и, найдя точку пересечения с поверхностью шара, вывести понятие географического полюса.
Очевидно, что модель – это Земля, во много раз уменьшенная. Нужно выбрать меру (масштаб) уменьшения, чтобы точно изобразить величину Земли. Это для детей элементарно простая задача. Ведь понятиями меры величины, числа они уже владеют. Поэтому они довольно ясно представляют, что масштаб – это мера, с помощью которой устанавливается соотношение между двумя величинами: моделью и реальной Землёй.
Психологи, проводившие эксперимент, установили со всей определённостью: когда ясен источник знаний и способ их получения, сложные понятия в конце концов воспринимаются как простые.
Следующее понятие – градусная сеть. Ученикам предстоит воспроизвести её на модели земного шара – на глобусе. Задача учителя – не сообщать готовых сведений, а сконструировать проблемную ситуацию, очертить зону поиска. Искать же решение придётся им самим. И они ищут: только что на уроке мы наблюдали ход детской мысли.
Путь от более общего к частностям, от абстрактного (глобуса, нерасчленённой целостности) к конкретному – к карте, где всё более выпукло предстаёт перед ребёнком наука о земной поверхности, позволяет ему в случае неясности всегда вернуться к началу, к истоку, к клеточке.
В чём нужда изображения местности на карте? Детям даётся задача изобразить участок поверхности Земли в крупном масштабе.
– Неудобно работать на глобусе, – говорит ребёнок. – Слишком большую надо иметь модель: в классе не поместится.
– Что же делать?
Идёт оживлённое обсуждение. Предложений много, но все они одного плана.
– Можно как будто вырезать кусочек Земли. Нарисовать его на бумаге отдельно.
– Вы нашли правильное решение, – одобряет учительница, – люди давно так делают. Ещё в древности они придумали карты. Видели вы карты?
Дети, конечно, слышали раньше о картах, видели их, рассматривали. Но сейчас впервые они поняли для себя необходимость карты, уяснили её смысл в ходе решения познавательной задачи, которую перед ним поставил педагог.
– Что лучше – глобус или карта?
– Нельзя так ставить вопрос: смотря какая задача. Точнее глобус, так как на нём можно передать не только форму Земли, наклон оси вращения, но и поверхность. Но удобнее карта, потому что можно изобразить кусочки Земли в увеличенном масштабе.
Для детей уже очевидно, что на карте земная поверхность изображается с искажениями. Земля ведь не плоская. Масштаб карты, градусная сеть, полюсы, меридианы, параллели – всё это уже для них ясно и понятно, отработано на глобусе. Поэтому легко применить эти понятия для практической работы с картой.
Затем можно сделать ещё более дробный шаг: от карты – к изучению плана местности.
– План – это когда совсем небольшой участок принять за плоскость. На план наносим то, что видим, а видим плоскую поверхность.
Теперь, когда они постепенно научаются говорить на языке карты, можно начать возводить сложное здание основных географических понятий. И сделать так, чтобы дети осваивали их не при чтении учебника, а в ходе решения познавательных задач с помощью карты. Учебники и другая географическая литература лишь углубят эти понятия и расширят.
Понятие равнины, казалось бы, одно из самых простых в географии. Но при традиционном обучении дети часто ошибаются в его характеристике: например, они отождествляют её с низменностью, не признают в качестве равнины плоскогорье, потому что «это горы».
Как известно, существенным признаком равнины является относительно плоский рельеф большого участка суши, все точки которого расположены на относительно одинаковой высоте над уровнем моря (абсолютная высота при этом может быть любой). Именно этот особый признак равнины делается здесь предметом познавательной деятельности детей с картой.
– Решите задачу, – говорит учитель. – Опираясь на условные знаки высоты, определите форму поверхности суши между реками Обь и Енисей, между Чёрным и Каспийским морями…
Головы склоняются над партами. Сорок минут тишины, только время от времени шелестят большие простыни карт.
– Какие можете сделать выводы?
– В первом случае местность почти плоская. Во втором – гористая, большая разница в высотах отдельных точек…
– Объясните мне, как вы работали?
– Мы сопоставляли высоту над уровнем моря разных точек Земли. Определяли её рельеф.
– Есть ли какой-нибудь условный знак на карте, который отражает различный рельеф местности? Заметили вы такой знак?
– Заметили. Это цвет, разная окраска.
Ставится новая задача: найти по окраске несколько равнин и исследовать сходство и различия между ними. Дети делают новый вывод: равнина, оказывается, может быть расположена на любой высоте над уровнем моря.
Понятие «равнина» обогащается включением его в новые и новые познавательные задачи.
– Как можно узнать наклон равнины, не сравнивая высоты отдельных точек между собой?
Недоумение детей обращает их снова к испытанному средству исследования – работе с картой..
– Понял! – восклицает ребёнок. – По направлению течения рек! Река течёт сверху вниз. Значит, есть наклон земной поверхности. Можно не измерять высоты!
Карта позволила ученику выяснить ещё одну особенность географического объекта. Она становится источником знаний не только о конкретных реках и равнинах, но и о географических закономерностях. Разные понятия как бы сцепляются друг с другом, образуя прочную сеть взаимозависимостей. Но одновременно формируется умение вычерпывать из карты, как из бездонного колодца, всё новые и новые знания.
Насколько удаётся сформировать эти умения? Контрольная, позволяющая это выяснить, не похожа на привычную, направленную на то, чтобы определить наличие прошлых знаний и умений. Здесь задача определить умение самостоятельно добывать новые знания.
Дети внимательно слушают задание: описать географические особенности одного из морей Советского Союза без учебника, без рассказа учителя, только на основе карты! Новое знание ребёнком должно быть извлечено, обобщено, выражено в словесной форме с помощью единственного доступного ему средства – умения читать или, точнее, работать с картой.
С понятной тревогой и сомнением берём в руки результаты контрольной: всё-таки этим детям по 9 лет. Опасения напрасны: они умеют учиться узнавать новое. Крупным детским почерком дано полное и точное описание географического объекта. Положение моря, его протяжённость, изрезанность береговой линии, глубины, границы замерзания морей… Как много они увидели, какая сила таится в приобретённых ими умениях!
Дети выходят за пределы физической географии, делая самостоятельные выводы или, точнее, вводы в абсолютно новую для них географию – экономическую.
«Охотское море – очень важное море, потому что отсюда можно выйти в Тихий океан, к берегам Америки и Азии…»
«Чёрное море удобно для судоходства, оно связывается с Азовским и Средиземным морями и с Атлантическим океаном. Через Чёрное море можно вести торговлю со странами Европы и Африки».
Рассуждения этих детей – не пересказ сведений из учебника, они – результат той логики, которая подводит итог умственного поиска. Они обрели объёмное стереоскопическое зрение: научились заглядывать за горизонт наличного знания. И вновь очевидна диалектика связи теории с практикой, действительных знаний о предмете с умением обращаться с этим предметом практически.
Учёные убеждались: теоретическое обучение и на новых учебных предметах, которые в начальной школе никогда ранее не изучались, доказывало свою «работоспособность». Можно ли, например, задать малышу систему физических понятий, ввести его в начала теоретической физики? Задумавшись над этим, психологи и физики, принимавшие участие в эксперименте, неизбежно должны были прийти к выводу, что найденный метод обучения математике в своей основе годится и для физики.
Действительно, с чего начиналось изучение математики? С понятия величины, которое формировалось на конкретных, чувственно воспринимаемых предметах. Но ведь понятие величины – одно из основных и в физике, которая, как известно, является наукой о природе, о её свойствах и состояниях. Она – фундамент всего естествознания и в этом своём качестве не может обойтись без понятия «количество», без меры, без количественной оценки и характеристики свойств материальных объектов или явлений. В понятии физической величины как раз и проявляется единство качественной и количественной характеристики, что отличает специфику физических понятий от математических.
Объём книги, к сожалению, не позволяет автору подробно рассказать читателю, как на основе сформированного обобщённого действия по измерению физических величин вводились в третьем классе некоторые понятия из электротехники, такие, как электрический ток, сопротивление и другие. Как дети «изобретали» приборы по измерению физических величин, принципы действия которых оказались близкими к действительным, принятым в современной науке. Формируемое физическое мышление позволяло детям ставить и решать задачи по анализу новых, незнакомых ранее физических явлений, выявлять их сущность, составляющую содержание физических понятий.
При таком многостороннем теоретическом обучении различным предметам (математика, язык, география, физика) у детей отчётливо возникали системные представления о мире. Эти представления работали на мышление в целом, позволяя психологам с разных сторон исследовать его механизмы, уточнять условия их формирования у ребёнка, находить оптимальные пути управления процессом развития.
Мысль в движении
Заканчивается очередной урок. Класс пустеет, и учительница опускается на стул. Неужели она устала? Ведь говорила, в сущности, не она, говорили дети. Решали задачи, искали ответы на собственные вопросы. Работали. И роль педагога кажется незначительной. Она на первый взгляд сводилась лишь к участию в живой беседе с учениками, протекавшей, казалось бы, стихийно.
Но это только видимость стихийности, за которой жёсткая схема движения к цели. Её надо выполнять неукоснительно, сохраняя при этом возможность постоянного детского творчества.
Может ли учитель ошибаться? Не может, убеждены дети, на то он и учитель – всё знает.
Здесь учитель «ошибается» на каждом уроке.
– Падставка, – пишет он на доске.
– Неверно! – протестуют дети.
– Почему? Докажите, что неверно. Я проверяю словом «падать».
– Так нельзя! «Пад» – это корень. А надо проверить одноприставочным словом: «Подпись».
– Вы правы, я действительно ошиблась…
В другой раз учитель «забывает» дать все необходимые данные для решения задачи. Или, наоборот, даёт их с избытком. Однако вскоре ему приходится выслушивать нарекания детей.
– Задача не может быть решена…
– Потому что вы не знаете правила?
– Нет, потому что надо правильно задавать условия…
Программируема ли сама возможность детского творчества? Оказывается, да, если ясны психологические механизмы движения мысли. И только если идёт диалог равных.
Известно выражение, ставшее крылатым: «Динамо – это сила в движении». Динамо-машина, создающая направленный ток. Здесь сила, приведённая в движение, очевидна, наглядна, объективна. Образ безотказно действующей машины, перенесённый на человека, породил новый афоризм. Сила мышц, мускулов, связок, помноженная на цель, рождает рекорды, раздвигает человеческие физические возможности. Но и в этом случае сила в движении ясна нашему восприятию.
Другое дело – движение мысли, скрытой от постороннего глаза, бесплотной, изменчивой и капризной. Как научиться управлять ею, предсказывать и даже «провоцировать» импульсы озарений, устранять ухабы с пути мысли или, наоборот, создавать препятствия, которые ей необходимо преодолевать, чтобы сохранилась и упрочилась её сила?
Позади бесконечные проекты и эксперименты, находки и разочарования. Сколько раз бывало и такое: всё кажется продумано до мелочей, но урок не получается. Дети пассивны, подлинной работы мысли нет. В чём дело? Где просмотрели по дороге необходимый поворот? Неудачна задача? Непонятна или просто неинтересна детям? Или, может, было пропущено какое-то действие ребёнка?
Ещё и ещё раз заседает штаб эксперимента: учёные вместе с учителями ищут ответ.
…Вот ребёнок садится за парту, устремляя на учителя доверчивый взгляд. Он готов воспринимать любое слово учителя как приказ, как руководство к действию. Напомним, эта готовность отражает его новую социальную позицию, позицию ученика. До этого он был просто мальчик, теперь он – ученик. Он пришёл учиться. Но чему? Сам он об этом ничего сказать не может. Просто учиться. Интереса к содержанию знаний, к способам познавательной деятельности у него, конечно, нет. Есть основанный на чужом и освоенный с помощью родителей опыт: пришло время, и надо идти в школу, чтобы учиться. А как учиться, тоже ему в принципе известно: учитель будет рассказывать, объяснять, задавать задачки.
Исходный момент движения – практическое действие, больше ничего. И эмпирическое мышление, которое его обслуживает.
Прекрасно, говорят психологи, мы и дадим ему то, что он уже умеет, что ему доступно, по отношению к чему есть у него интерес. Дадим практическую задачу. Но как только он начнёт её решать – поставим перед неожиданным препятствием. Не сразу, конечно, а постепенно. Пусть правильно решит 10 практических задач, а вот на 11-й споткнётся. Внешне задача выглядит так же, как все остальные. Но почему-то перестаёт решаться известным ему способом. Ребёнок в недоумении – в чём дело? Он должен задать себе этот вопрос – в чём дело?
Чтобы вопрос с неизбежностью возник, должен быть, во-первых, интерес к предшествующей практической деятельности. Этот интерес обеспечивается стремлением к выполнению роли ученика, желанием заслужить одобрение учителя. Второе условие – наличие неожиданного препятствия в хорошо знакомой, казалось бы, ситуации.
До встречи с препятствием ребёнок знал, что придёт к цели – конкретному результату, чётко осознавая эту цель. Но вдруг он упирается в стену. Почему? Задал себе вопрос, значит, совершил поворот в мотивации на 180 градусов. Возникает новый мотив – не практический, а познавательный. Теперь он хочет узнать, в чём дело, забывая о возможном одобрении, отметке. Сейчас главное – выяснить причину затруднения, избавиться от беспокойства.
Это и есть шаг в нужном для психологов направлении: появился вопрос, значит ребёнок на пороге мышления. Возникает проблемная ситуация.
Наличие недоумения («феномена удивления», как говорят психологи) является наглядным свидетельством появления такой ситуации. Удивления нет – и нить диалога между учителем и учеником обрывается: обучение становится монологическим.
Доктор психологических наук А. Матюшкин, посвятивший свою книгу проблемным ситуациям в обучении, подчёркивает такие их особенности. Проблемную ситуацию отличает особое психологическое состояние, переживание потребности в новом знании, новых способах действий. Вторая особенность – наличие неизвестного для ребёнка общего принципа, а не единичного отношения. Наконец, он должен обладать необходимыми и достаточными возможностями для понимания проблемы и её решения. Эти условия и стремились реализовать учёные в процессе построения новых учебных программ. В сущности, искусство преподавания – в способности педагога создавать проблемные ситуации, такие, которые обеспечивают появление нового мотива – познавательного. Обучение, которое ориентируется на готовый результат, не учитывает проблемную ситуацию как необходимый и важнейший компонент мыслительного процесса при усвоении научных знаний. Этим и объясняется, почему никогда нельзя знать заранее, что помешало ребёнку решить задачу: потому что не хотел (не было «познавательной мотивации») или не смог выполнить, не разобрался в материале, что-то не понял, устал и т. п.
Экспериментальные исследования, направленные на формирование мышления, о которых идёт речь, показали, что проблемная ситуация – необходимое звено в обучении, основной узел, с развязывания которого начинается движение мысли ребёнка.
Поэтому науке создания проблемных ситуаций здесь уделяют особое внимание. Если нужно ввести новое теоретическое понятие, начинают с анализа конкретных условий, которые вывели бы на необходимую проблемную ситуацию.
Это очень сложная работа. Учёные пробуют много вариантов урока – на то и эксперимент. Поначалу может и не получиться: одни дети задумываются, другие нет. Значит, и подлинной проблемной ситуации ещё нет. Значит, не та практически задача, не тот ход к её прерыванию, не те учебные действия, которые совершают дети.
Сложность ещё и в том, что выход из положения всё-таки они должны найти сами, ликвидировать преграду, понять, что решают новую задачу, не старую, известную, обнаружить новый способ решения, воскликнуть «Эврика!», пережив тот же всплеск положительных эмоций, который сопровождает каждое открытие человеческой мысли и наполняет человека гордостью за собственный труд.
Здесь и эмоция должна быть определённого плана. При решении практической задачи человек в большей или меньшей степени руководствуется некоей «корыстной» целью. Познавательный же интерес в принципе бескорыстен. В обоих случаях есть эмоция, удовлетворение, но она разная, удовлетворение иное. В первом случае ребёнок ставит себя в положение объекта, зависящего от внешней оценки («Правильно решил»). Во втором – он субъект собственной деятельности: нашёл способ – значит, поумнел. Похвала приятна, но не это главное.
Всё это трудности, которые необходимо преодолеть. Как сделать так, чтобы и проблемную ситуацию создать и чтобы ребёнок нашёл из неё выход. Тут всё имеет значение, даже время, отведённое на недоумение. Затянется пауза – интерес уйдёт; не выдержать её «до кондиции» – не успеет сформироваться догадка. Но самое сложное – найти для ребёнка то познавательное действие, единственное и необходимое, которое и выведет его на тропу удачи. Поиск таких умственных действий, как мы уже говорили ранее, и есть построение логики такого обучения.
Когда нужное действие найдено, оно кажется элементарно простым. Только экспериментаторы могут сказать, сколько потов с них сошло, пока они его нашли.
– Я сказала «книга», о чём ещё сказала?..
Пауза, глазки бегают, значит, пробуют найти ответ. Но на первых порах не всегда это им удаётся сразу, у детей ещё нет опыта теоретического анализа, они ему только учатся. Поэтому нужна помощь. Но какая? Учитель даёт возможность выхода из тупика, но не сам выход.
– Можно как-то изменить слово «книга»?
Подсказано необходимое умственное действие.
– Конечно!.. Книга, на книге, книгой…
– Так о чём я сказала в первый раз?
– Вы сказали, что книга одна!..
Помощь педагога, хитрость его хода заставили мысль ребёнка работать в нужном направлении. Она ему показала ещё раз, что ответы на вопросы не падают с неба, не приходят по наитию, по угадке. Чтобы найти, надо действовать! Самому. Нужна собственная активность.
– Слово состоит из частей, каждая из которых выполняет свою работу. Это мы выяснили. Но как узнать, какие части в слове?
(То есть не просто узнать, какие части, а способ узнавания.)
Нужно привести слово в движение, сдвинуть предмет с мёртвой точки, увидеть, как он работает, функционирует. Преобразовать его, построить семейную генеалогию. Тогда открываются такие его свойства, которые до этого не были видны.
Итак, выход из проблемной ситуации – в собственной активности ребёнка. Но активность активности – рознь. Столкнувшись с препятствием, надо не суетиться, а искать средство выхода. Не манипулировать любыми предметами, а анализировать ситуацию с помощью целенаправленного изменения предмета. Это и есть разумное человеческое действие, его смысл – выяснение закономерностей существования предмета, которые проявляются только в процессе его функционирования. Изменил – выделил существенное отношение – установил суть дела.
Помните трудности с определением сказуемого, полученного на основе эмпирического обобщения? Попробуем их избежать, применив способ, о котором идёт речь. Дадим ребёнку такое предложение, говорит В. Репкин: «Девочка играла в мяч» – и попросим его перестроить: «Девочка играла бы в мяч». Сопоставим эти предложения. По содержанию они идентичны. Изменилось вот что: факт, о котором сообщается в первом предложении, относится к реальности, во втором – к возможности. Ирреальность определяется изменением только одного члена предложения, который, помимо информации, соотносит всё предложение с действительностью.
Таким довольно простым способом дети открыли специфическую языковую функцию: они её обнаружили, изменив несколько предложение. В структуре любого предложения есть слова, выполняющие особую функцию соотнесения всего высказывания с действительностью. Такие слова и есть сказуемые. В предложениях «Мне нездоровится (нездоровилось бы)», «Маленькая девочка играет (играла бы) в мяч», «Маленькая девочка моя сестра» в один класс – класс сказуемых – объединены такие, казалось бы, несхожие слова, как «нездоровится», «играет», «сестра» на том лишь основании, что они выполняют определённую функцию в предложениях.
Школьник новое для себя понятие получил при анализе соотношения между функцией и формой слова – соотношения весьма существенного, поскольку оно приложимо к любому предложению. У него появилась теперь возможность по-иному посмотреть на подлежащее. Почему, например, «играла», а не «играл»? Да потому что – девочка. Стало быть, форма (и только форма) сказуемого определяется другим членом предложения, то есть подлежащим. Но подлежащее в смысловом плане не всегда воспринимается ребёнком как главный член предложения. «Кто-то подарил девочке мяч». Кто этот таинственный кто-то – он или она? И тем не менее неопределённое «кто-то» оказало вполне определённое влияние на выбор формы сказуемого – «подарил». А в предложении, где подлежащего нет совсем («В лесу пахло весной»), форма сказуемого независима.
Сказуемое – чисто грамматическая категория. Таково обобщение, к которому пришёл ребёнок. Он сумел вычленить функцию сказуемого в предложении и установить отношение, благодаря которому такая функция возможна.
Итак, отношение найдено. Ребёнок, конечно, считает свою задачу выполненной. Но учитель ставит перед ним новую: как зафиксировать это отношение, найти символическую форму для того, чтобы все могли понять, что нового он нашёл. Иными словами, нужно построить модель этого отношения. И тогда ребёнок начинает новое действие – создавать модели.
Моделированию в развитии мышления психологи придают важнейшее значение. Почему? Здесь ребёнок освобождает отношение от второстепенных конкретных одежд, оно перед ним выступает в чистом, абстрактном виде. А следовательно, может быть спокойно изучена всеобщая форма его существования, определяющая все возможные варианты.
Этап перехода от внешних свойств предмета к существенному отношению – важнейший в теоретическом мышлении. Его результат – получение генетически исходной формы процесса, клеточки. По отношению к изучаемому предмету она выполняет функцию модели: это может быть природная модель либо созданная специально (модель электростанции). Суть та же – запечатление явления в упрощённом виде. Затем нужно вновь пройти путь от схемы (модели) к конкретному многообразию явлений. В процессе этого перехода и устанавливается истинность – закон развития. Только имея «чистую» зависимость, каркас закономерных связей, можно смело окунуться в гущу конкретных ситуаций, где эти закономерности проявляются, не боясь там потеряться. Модель – чёткий ориентир.
Трудности эмпирического обобщения в том, что понятие формулируется как сумма признаков, а не как модель. В конкретной задаче ребёнок не может обнаружить эталон. Модель выполняет функцию своеобразного рентгена: предмет воспринимается как структура.
Поэтому, обучая моделированию, мы учим мыслить. Язык динамических моделей, «заместителей» внешнего мира, и является основой продуктивного творческого мышления, считает доктор психологических наук В. Пушкин. С его помощью, полагает он, человек способен как бы видеть элементы проблемы в сложных многообразных отношениях. Есть такое внутреннее видение – значит, модель создана и действует [27].
Тем самым моделирование становится необходимым элементом, центром мыслительной деятельности ребёнка. Оно организует все его действия по анализу конкретной действительности, по выделению в ней тех свойств, которые имеют отношение к проблеме, даёт ему решительный толчок для понимания сути дела.
Ясно, что в теоретическом обобщении словесные определения, термины вторичны и, в общем, необязательны. Выполненное обобщение запечатлено в схеме. В ней же виден способ, которым была преобразована вещь. Постфактум можно описать теоретическое понятие в словесном выражении, что обычно и делается. Но постфактум! Надо сначала понять, а потом рассказать. Поэтому понятие у ребёнка формируется раньше, чем его словесное выражение. «А теперь, – говорят ему, – опиши подробно словами, что здесь на модели изображено».
Изучая на модели свойства предмета, ребёнок определяет границы его применимости. При этом он всё время контролирует себя. Но контроль этот совсем не тот, как при решении практических задач. Там – контроль по готовому результату, здесь – по способу действия. Он каждый новый шаг в анализе соотносит с открытым им способом, выясняет соответствие движения общему принципу, лежащему в основе предметных действий. Контроль – особое действие, которое он осуществляет.
Наконец, ещё одно важное действие – оценка. Особая мыслительная работа по отчленению данной области действительности, поддающейся объяснению с помощью найденной закономерности, от других областей, где она теряет свою силу. Оценка показывает, что учебная задача полностью решена, все варианты изучены, делать здесь больше нечего – пора переходить к новым.
Описанный нами процесс движения мысли охватывает целостный акт учебной деятельности. В центре его учебная задача, результатом её решения является теоретическое понятие об определённой области действительности (величина, число, фонема, морфема) и одновременно способ решения всех конкретно-практических задач, связанных с этим понятием.
– Ты знаешь, что такое морфема?
– Знаю.
– А умеешь решать грамматические задачи?
Конечно, раз он имеет понятие «морфема», а не просто его словесное определение. Для ребёнка, прошедшего такое обучение, естественно: знать – значит уметь, потому что знание получено с помощью его собственных действий, анализа предмета.
Таким образом, второй этап исследований позволил психологам обобщить опыт работы с теоретическим материалом на различных учебных предметах. Оказывается, есть чёткая последовательность стадий при решении учебных теоретических задач – система сложных учебных действий, с помощью которых ребёнок… обучает самого себя. Вся сложность развивающего обучения заключается в том, что надо не объяснять, не рассказывать ребёнку способ действия, правило, а так организовать его собственную деятельность, чтобы он сам пришёл к ним закономерно и неотвратимо.
Мы хотим ещё раз обратить внимание читателей на важнейший, можно сказать, решающий момент в таком обучении – на роль собственных действий ребёнка. Конечно, при любом методе обучения ребёнок действует сам: ведь не учитель пишет за него, решает задачи (хотя бывает и такое). Но в процессе формирования мышления ребёнок совершает принципиально другие действия. В первом случае это действие по образцу, сличение, сравнение. По сути, они несамостоятельны, ибо логика создания образца в ходе таких действий не выявляется.
Действия же при развивающем обучении иные: они направлены на выявление неизвестного принципа, лежавшего в основе решаемой задачи. Эти действия поисковые: «Ищу то – не знаю что, иду туда – не знаю куда», как говорили ещё древние философы, проникая в суть человеческого мышления. Найдено существенное отношение, и нужны новые специфические действия по его фиксации, моделированию (построению образца), контролю, оценке.
Авторы эксперимента, подводя его первые теоретические итоги, говорили о возможности разработки на основе полученных результатов теории учебной деятельности. Что позволяло им делать такое утверждение? Ими подчёркивалось, во-первых, различие между такими понятиями, как «учение» и «учебная деятельность». Учиться познавать новое, приобретать знания, умения можно в любой деятельности – в труде, игре. Но там учение – лишь средство, цель же труда, например, – получение определённого вещественного результата.
Учебная деятельность, по мнению В. Давыдова, Д. Эльконина и других учёных, – особая специфическая деятельность, основные цели которой, основной предмет – развитие способностей самого человека. Но полноценно осуществляться учебная деятельность может только в процессе работы теоретического мышления, на основе решения теоретических задач. Обучая детей решению задач практических, мы даём лишь сколок с учебной деятельности, поскольку не раскрываем происхождения понятий. Усвоение готовых знаний не требует включения в работу теоретического мышления.
Таким образом, теоретическое мышление проявляет себя (формируется) в полноценной учебной деятельности, которую необходимо специально строить после прихода ребёнка в школу.
Сначала она может существовать только в развёрнутой и распределённой форме, то есть учитель берёт на себя функции её организации, последовательного и тщательного формирования необходимых действий поиска, моделирования, контроля, оценки. Но развёрнутая форма учебной деятельности, как она предстаёт в образцах обучения математике и языку в этой книге, необходима лишь на начальных этапах формирования теоретического мышления. По мере того как дети всё более научаются теоретическим способам анализа материала, учебная деятельность начинает как бы свёртываться, функции её отдельных компонентов переходят к самим учащимся, встраиваются в их психику.
В конце концов учебная деятельность детей становится полностью самостоятельной, то есть они уже не нуждаются в том, чтобы их будущие действия раскладывались по полочкам: учителю тогда достаточно поставить перед детьми проблему, возбудить их познавательный интерес, и далее начинают работать механизмы учебной деятельности, механизмы сформированного теоретического мышления.
Как показали исследования, в полной мере это происходит уже за пределами младшего школьного возраста (в младшем закладывается лишь её необходимый фундамент). В средних и старших классах формы учебной работы здесь всё больше начинают напоминать вузовские: становятся необходимыми семинары, дискуссии, лекции и т. п. Так в один прекрасный день психологи вместе с учителями могут сказать: дети научились учиться! Что означает: они научились мыслить теоретически, творчески, обрели способность, позволяющую им решать новые задачи, которые поставит завтра перед ними жизнь.
Трудно так строить систему обучения? Конечно. Но разве традиционное обучение легче? Каждый учитель скажет, как тяжело бывает растолковать детям научный материал. Но трудности трудностям – рознь: в одном случае это трудности незнания психологических механизмов усвоения знаний, развития интеллекта, в другом – трудности научного подхода, который не терпит приблизительности, обманчивой лёгкости, как это нередко представляется в отношении педагогики.
Впрочем, до создания законченной теории учебной деятельности ещё далеко. Пока психологи говорят лишь о том, что в результате исследований последних лет стали более или менее ясными её структура и путь, которым должно идти её формирование. Но воспользуются ли этим путём, пока определённо сказать нельзя: во-первых, есть много нерешённых вопросов, во-вторых, сам по себе эксперимент далеко не всех убедил. Даже психологов, не говоря уже о педагогах, методистах и гигиенистах.
Что означает «ход конём»?
Урок во втором классе. На доске – числовая ось. Девочка построила её, откладывая вправо от нуля положительные величины, влево – отрицательные.
– А теперь скажи, Таня, можно ли считать нуль самым маленьким числом? – спрашивает учительница.
– Нельзя, конечно, – слегка удивляясь вопросу, отвечает она.
– Почему же нельзя?
– Потому что нуль меньше всех положительных чисел, даже самых маленьких. Но больше всех отрицательных.
– Допустим. А какое самое-самое маленькое число? Можешь сказать?..
Таня вначале пытается сразу ответить, но, как бы спотыкаясь, останавливается. Она на мгновение даже крепко-накрепко зажмуривает глаза, чтобы сосредоточиться.
– Нет, самых маленьких чисел нет, – убеждённо говорит девочка. – Даже если самые далёкие отрицательные числа, так всё равно есть ещё меньше ..
– Олег, а вообще, что такое нуль?
Теперь у той же доски с числовым лучом стоит мальчик в рубашке, запачканной мелом. Ему задан вопрос, на который и ученикам постарше нелегко ответить.
«Что такое нуль?..» Текут долгие томительные секунды, пауза затягивается. И взрослые, умудрённые опытом жизни люди, наблюдающие за этой сценой, начинают волноваться. Мальчик думает, об этом зримо свидетельствуют его отрешённые глаза, непроизвольное движение пальцев.
– Нуль – это граница между положительными числами… и отрицательными числами…
Всё! Камера выключена, все облегчённо вздыхают, режиссёр удовлетворён. Эпизод, о котором мы рассказали, – из документального фильма «2х2=Х». Требовалось показать зрителю, как новый метод обучения развивает мышление ребёнка. На экране уже побывали сложные схемы фонемного анализа, многоэтажные уравнения, с которыми легко справлялись девятилетние дети, эксперименты с физическими приборами. Промелькнули цифры контрольной – соревнование по языку между малышами и старшеклассниками и даже студентами пединститута. Но психолог с экрана всё твердил:
– И всё-таки цифры – это не главное.
– А что же главное? – спрашивал диктор.
– Главное, что они начинают творчески мыслить, – звучал ответ.
И чтобы показать на экране сам процесс творчества, режиссёр потребовал: «Задайте им вопросы принципиально для них новые по математике, языку. Хитрые вопросы…»
Попробуйте творчески мыслить в присутствии группы кинооператоров, осветителей, авторов эксперимента, когда камера – не скрытая, а самая что ни на есть громоздкая, на колёсах, – нацелена на тебя светлым огоньком. Волновались все: получится ли, смогут ли дети творчески работать в такой обстановке? Получилось! Смогли!
Одна из самых длинных в документальном кино пауз оказалась, как впоследствии писали кинокритики, самым ярким кадром этой небольшой ленты. Оказывается, нет ничего интереснее, чем наблюдать, как человек, в данном случае маленький человек, творчески мыслит.
Но то, что могло удовлетворить искусство, убедить зрителя, не удовлетворяло до конца учёных. Да, конечно, они уже поверили в силу нового способа обучения, получив количественные данные о высоком уровне теоретических знаний по основным предметам. Имелись и результаты исследований, показывающих, как формируются способности к теоретическому обобщению в конкретных областях знания – математике, физике, языке: такие способности действительно складывались у большинства ребят к концу начального обучения.
И всё же нужны были специальные исследования, в которых чётко бы фиксировались общие изменения в интеллекте ребёнка – качественные и количественные, показатели его развития.
Как же их оценить? Традиционная система оценки продвижения ребёнка в обучении для этой цели, естественно, мало подходит. Её недостатки давно понимала и практическая педагогика, ибо эта система держалась, в общем-то, на чисто формальной основе: выучил урок – не выучил. Предположим, ученик урок выучил, получил «пять». А что это дало ему для общего развития, как он этот урок выучил – вызубрил, чтобы тут же забыть, или усвоил с глубоким пониманием – так, что материал осел в его сознании надолго, если не на всю жизнь?
Ограниченность системы оценки знаний учащихся с помощью баллов побудила французских психологов Бинэ и Саймоне ещё в 1907 году заняться этой проблемой, то есть разработкой психологических критериев оценки результатов развития ребёнка. Так родились первые тесты – специальные интеллектуальные задания для детей.
В наши дни тесты стали модой, повальным увлечением. Что такое тест? Это кратковременное испытание, с помощью которого определяется какой-то психологический параметр: способность ума, качества личности. Ребёнку дают набор задач, относительно которых заранее установлено, что их решение свидетельствует о наличии этого свойства.
Что могут дать педагогу такие тесты? Они полезны для отчленения нормы от патологии, когда выявляются нарушения в психике, делающие невозможным обучение в нормальной школе. Здесь тест – благо. И для больного ребёнка, и для остальных детей. Полезны тесты и для определения способностей взрослых людей к выполнению какой-либо специальной профессиональной деятельности, требующей особых качеств психики: водителей, монтажников-высотников и т. п.
Практика показала, что применение же тестов в учебном процессе мало чем может помочь педагогу. Получит, к примеру, он результаты исследования способностей детей к математике. Но хороший учитель и без них легко узнает, кто способен к математике, а кто – нет. По меткому выражению Эльконина, психология возвращает учителю ту жалобу, которую он высказал, только окружает её наукообразием. Что реально учитель должен делать с результатами теста? Как они влияют на учебный процесс, могут ли его изменить? Тесты на такие вопросы ответа дать не могут. И тогда мы снова обращаемся к испытанному проверенному средству: «пять», «три», «два», скрывая за этими цифрами наше незнание истинного психического хода развития маленького человека. Значит, тест нам ни в чём не может помочь?
Кое в чём всё-таки может в том случае, если у нас уже есть представление о закономерностях развития личности. Задача психологии как науки – не констатация, а конструирование хода психического развития. И если сегодня формирование научного мышления является требованием общественной практики, задача психологии – обнаружить тот отрезок жизненного пути человека, когда это мышление с необходимостью может возникнуть, найти средства его формирования. Это значит понять, какие специфические психологические новообразования, структуры закономерно возникают в этот период и характеризуют ход психического развития.
Не нужно знать всё о личности ребёнка, заявляет Эльконин, а только ведущую структуру системы развитых способностей, которая для каждого периода развития личности своя. Вот для оценки показателей успешности развития, возникновения таких структур и нужны специальные тесты. Только для этого! Не для отбора и селекции (способные – неспособные, умные – глупые, как это делается в зарубежной психологии), а для контроля за ходом педагогического процесса, подлинный смысл которого – формирование психики. Важно измерить не результаты, а элементы самого процесса мышления. Ведь способность, говорил известный советский психолог Б. Теплов, понятие динамическое. Она существует только в движении, в конкретной деятельности [28].
Для учителя тесты – вспомогательное средство, с помощью которого он может наблюдать скрытый повседневным учебным трудом процесс становления структур в целом всей группы детей и каждой отдельной личности. Результаты такой диагностики являются материалом для действий, для работы.
Итак, диагностические тесты. Какими они должны быть для контроля за формированием теоретического мышления детей? Этот сложный вопрос был темой многих специальных исследований. Проследим за их логикой.
Чтобы сконструировать тест, нужно выделить структуру той способности, которая позволяет ребёнку относиться к действительности теоретически. Мы уже знаем, что учебная задача требует определённой системы психических действий. Во-первых, это анализ, поиск общего принципа, существенного отношения. Важно, совершается ли он ребёнком самостоятельно или под влиянием и контролем педагога. Степень такой самостоятельности (или, как говорят психологи, произвольности) и характеризует одну сторону такой способности. Затем необходима способность человека взглянуть на процесс решения со стороны, то есть обратиться к анализу собственных действий: нет ли в них пробелов, насколько полно они соответствуют задаче. Такая рефлексивная способность – душа теоретического мышления. Она возникает лишь там, где внимание направлено на стержень, на существенное отношение, стягивающее воедино многообразие конкретных явлений.
Рассудку рефлексия не нужна, так как он действует по готовым схемам, разуму необходима: ведь способ решения здесь не существует до решения задачи, способ открывается и осознаётся в процессе решения.
Наконец, третий, главный параметр связан с возможностью планирования своих действий «в уме» до их реального воплощения. Мысленно проигрываются варианты изменений предмета, что позволяет ребёнку отвязаться от наглядности. Мышление становится свободным, обретает силу предвидения.
Эти три параметра и должны изучаться: как они формируются, развиваются, укрепляются, завязываются в единый узел той общей способности ума, которую мы характеризуем как разумность, как способность действовать по логике вещей, а не по их внешней видимости.
Ребёнку даётся несколько слов, против каждого из которых набор цифр (мир – 28288, пир – 82288…). Задача: сравнить слова и числа и определить, какой букве соответствует число из перечисленного ряда цифр – 2, 8, 28, 88, 22.
– Решил задачу? Молодец. Теперь запиши числом слова: парта, Марина… И наоборот, угадай слово по определённой группе чисел.
Психолог внимательно изучает результаты теста. Задача решена правильно, значит, ребёнок смог установить отношение между буквой и цифрой, выделить принципы их связи, а затем применил его для решения однотипных задач.
Ещё одна проверка. Ребёнок получает набор задач, причём их условия внешне выглядят одинаково. В действительности ему дали задачи двух разных типов. Потом просят их свести в группы.
– Расскажи, как решил первую задачу? – спрашивает психолог. – Как вторую? Есть ли разница между задачами или они одинаковые?
– Решил, и всё… – отвечает мальчик, – думал, писал… считал.
А другой объясняет: задачи разные. Сначала понял, что разные, потом думал, чем отличаются. Отличия вот в чём…
Психолог видит: группировки нет или она сделана по внешним признакам. Значит, нет и рефлексии, способности взглянуть на своё дело со стороны процесса его выполнения. Или, наоборот, чёткое осознание способа решения.
Шахматная доска. Неистощимый источник для моделирования хода мышления.
– Умеешь играть в шахматы?
– Нет.
– Неважно. Эта фигура называется «конь». Ему разрешено ходить только вот так, – психолог показывает, как ходит конь. – Теперь попробуй перевести фигуру вот с этой клетки на эту за четыре хода, потом за три, потом за два. Но сначала подумай, куда ставить. Подумал? Пробуй. Не получилось? Не беда, подумай ещё раз.
Один ребёнок совершает полсотни попыток, другой – 5-6… Работает «внутренний план действий», умение «проигрывать» варианты в уме. Задачи, о которых мы рассказали, придуманы доктором психологических наук Я. Пономарёвым и использованы А. Заком. Психолог видит, как от класса к классу формируются различные стороны способности к теоретическому мышлению, как отдельные ручейки, вытекающие из общего источника – теоретического материала, сливаются по мере обучения в общий поток, крепнущий день ото дня теоретический способ работы.
Теперь необходимо измерить его глубину, скорость и силу течения.
Вероятно, многим известна игра в «5»? На панели 6 клеток и 5 фишек с цифрами от 1 до 5. Всё очень просто: надо расставить фишки в определённом порядке. Ребёнку задают ряд таких перестановок. Все они имеют один и тот же оптимум (кратчайший маршрут). Очень интересно, как будет вести себя ребёнок, анализируя условия, на какой попытке поймёт принцип, с помощью которого можно быстро решить любую задачу серии? Или, может быть, не поймёт вообще, пробы и ошибки будут сопровождать все его решения? Впрочем, рано или поздно принцип скорее всего будет им обнаружен, а вот осознан ли? Постепенное сокращение числа попыток (20, 15, 10…) свидетельствует: да, принцип найден, но явно не осознан, поскольку наиболее простого способа решения всё ещё нет.
Если бы теоретический способ работы действительно стал орудием мышления ребёнка, решение задачи достигалось бы за одну-две перестановки. И большинство девятилетних детей его уже находят.
Сопоставляя данные по различным тестам, находя математическую корреляцию между ними, психологи убеждались, что к концу младшего школьного возраста отдельные структурные компоненты формирующегося мышления начинают сливаться воедино. Для изучения степени их слияния применялись и специальные тесты, например тест, придуманный психологом В. Слободчиковым на оценку специфической стороны опыта ребёнка, – способа, который он применяет, чтобы составить определённое представление о вещи или предмете. Здесь важно, по какому принципу объединяет ребёнок отдельные признаки любого предмета, предмета вообще.
Выясняя это, автор книги просил детей дать определения таким предметам: ручка, костюм, пустыня, страна, мужество, зло, число, слово. Мы видим, в этот список включены названия обиходных предметов, распространённые понятия действительности, понятия, относящиеся к нравственности и входящие в содержание учебных предметов.
Важно, как ребёнок будет конструировать определение: на основе выделения функции предмета или с помощью набора случайных, внешних его признаков.
«Ручка – это предмет, который служит для записи мыслей».
Удивительное определение! Не просто для записи, а для записи мыслей. Такую неожиданную связь находит ребёнок экспериментального класса между утилитарным предметом и смыслом человеческого письма. Но эта ведь связь не по сходству-различию: пишет-не пишет предмет. Ручка и мысль – это нечто совершенно разное, но ребёнок находит между ними глубинную связь, тот общий корень, который придаёт сугубо человеческий смысл такому неодушевлённому предмету, как ручка.
В определении фиксируется подлинный человеческий опыт, опыт человеческой деятельности, опыт мышления: письмо возникает как универсальный способ передачи опыта человеческим поколениям. Связав предмет письма и мысль, ребёнок совершил содержательное обобщение. Даже в простом обиходном предмете он увидел, разглядел, понял сокровенное, скрытое, неочевидное, но подлинное его естество, а не только практическую сторону.
«Ну и что? – может спросить читатель. – Разве такое определение не может дать какой-нибудь мальчик или девочка в обычном классе?» Конечно, может. Всё дело в том, на что оно опирается – на способность мышления, сформированного в обучении или за его пределами. И сколько же учеников могут его дать? Здесь, конечно, без статистики, показывающей влияние обучения на развитие мышления, не обойтись. И психологи её широко применяют.
Вообще говоря, математизация психологии идёт стремительными темпами. Корреляционный анализ, факторный анализ, подсчёт достоверности полученных результатов – всё это сегодня необходимые атрибуты любого психологического исследования. И всё-таки если в естественных науках применение математики – один из решающих критериев их научности, в гуманитарных науках ситуация несколько иная. Математика здесь – формализация уже найденного. Сама математика ничего не может дать психологии, она является для неё лишь одним из средств анализа полученных результатов. Да и то далеко не всяких. Есть феномены психики, в принципе неформализуемые, – совесть, моральные качества, например. Поэтому в психологии глубокая качественная оценка результатов исследований имеет особое значение. Итак, какие определения автор считал содержательными?
«Ручка – это орудие письма». Ручка – это орудие. Орудие человеческой мысли!
«Костюм – одежда, выпускаемая из материала. Он бывает школьный, военный, рабочий, выходной». То есть сначала общее определение, а потом раскрывается многообразие его проявлений, причём и в самом перечне подчёркиваются существенные особенности, функциональные характеристики.
«Пустыня – это оголённое место, где нет воды. Песок и зной». Как говорится, ни убавить, ни прибавить.
«Мужество – это сила воли».
«Зло – ненависть к чему-нибудь».
И в этих сложных абстрактных нравственных понятиях мы видим стремление к обобщению. И конечно, это обобщение наиболее содержательно там, где ребёнок находит определения, непосредственно связанные с его деятельностью. «Слово – это грамматическая единица, которая служит для общения людей»,-«…Это часть речи, которая изменяется и не изменяется по грамматическим формам».
«Число – это единица измерения, единица счёта, которая служит для измерения мерок».
Статистика показывает, что такие полные содержательные определения в третьих экспериментальных классах даёт по первой группе предметов (быт) 92 процента детей, по второй (действительность) – 40 процентов, по третьей (нравственность) – 40 процентов, по четвёртой (учебные предметы) – 65 процентов. Причём количество содержательных определений вырастает вдвое от второго к третьему классу и продолжает расти в дальнейшем[10].
Очевидно, что под влиянием обучения на основе содержательного обобщения постепенно качественно перестраивается весь круг представлений ребёнка о предметном мире. Они поднимаются на более высокий уровень, который характеризуется наличием у ребёнка способа выведения частных проявлений системы из их всеобщего основания. Он стремится в определении указать такие свойства предмета, которые характеризуют его функцию, способ существования.
Наши исследования показали: там, где нет такой специальной работы по формированию теоретического обобщения, в большинстве случаев функция предмета либо не выделяется (определение заменяется перечнем существенных свойств предмета), либо подменяется определением другого предмета, в которое заданный предмет входит в качестве подкласса, либо фиксируются частные свойства предмета, не определяющие его специфического существования.
Определения здесь у многих детей фрагментарны, набор свойств предмета носит в большинстве случайный характер. В этих определениях предмет предстаёт как вещь прежде всего потребляемая, функция предмета рядоположена с его физическими характеристиками. Часто дети вообще не дают определений, а обходятся своим житейским представлением о том или ином предмете.
«Костюм – это одежда, которую мы надеваем, когда идём в гости».
Хотя ребёнок и определяет костюм как одежду, но в определение выносит характеристику частной ситуации, переводит разговор в плоскость личностной ценности, субъективной оценки. Он любит ходить в гости, тогда родители и он сам обращают внимание на его костюм. «Костюм» и «гости» объединяются в случайную группу, признаки объединения несущественные. В остальное время костюм как предмет не является фактом сознания ребёнка. Функция костюма в другой ситуации попросту не осознаётся. Поэтому здесь нет даже эмпирического обобщения.
«Ручкой можно писать» «Костюм можно надеть», «Слово мы говорим и пишем», «Числа мы считаем», «Мужество есть у людей», «В пустыне очень жарко, много песка», «Зло – человек, злой на собаку, кошку»…
Обращение к статистике показывает, что в этих условиях полное содержательное определение по первой группе предметов даёт 44 процента детей, по второй – 10, по третьей – 8, по четвёртой – 8 процентов. Характерно, что наибольшее число содержательных определений дано по группе предметов быта.
Различия мыслительной деятельности очевидны: здесь она ещё очень конкретна, приземлена, не оторвалась от пуповины конкретных житейских связей, за которыми скрыта их подлинная сущность. Причём число содержательных определений растёт от класса к классу очень незначительно.
Проверка по специальным математическим критериям показывала, что полученные различия не случайны. Контрольные классы, как и в других подобных проверках, подбирались так, чтобы они были по возможности одинаковыми по всем, что называется, показателям, включая опыт и квалификацию учителей. Поэтому вряд ли есть основания сомневаться, что эти различия – следствие различных способов обучения.
Итак, диагностика позволила уточнить процесс становления теоретического типа мышления, окончательно установить: оно действительно формируется не у одного способного ребёнка, а у подавляющего большинства детей. Способности, оказывается, можно воспитывать!
А как же проявляет себя в этих новых условиях обучения психический процесс, который во все времена служил надеждой и опорой школы, – память? Мышление – это хорошо, но есть же в конце концов сведения, которые нужно просто запомнить? Значит, мышление и память – два процесса, живущие сами по себе?
Мы помним чудное мгновенье
В пестроте городских афиш, извещающих о симфонических концертах, театральных постановках, спортивных состязаниях, время от времени появляются красочные плакаты, сразу привлекающие наше внимание. В городе даёт сеансы человек с необыкновенными психическими способностями. Это либо «отгадчик» мыслей, либо «мнемонист» – человек, почти мгновенно запоминающий колонки цифр, тесты, стихотворения.
Мы обычно испытываем к нему острое чувство зависти, представляя, какой лёгкой стала бы наша жизнь, учение, работа, обладай мы такими способностями. В публикациях, рассказывающих о людях с феноменальной памятью, можно встретить утверждения, будто такие люди – гости из будущего. Придёт время, и все будут обладать такими способностями… Так ли это на самом деле?
Известный советский психолог А. Р. Лурия в течение трёх десятков лет систематически наблюдал человека, обладавшего самой выдающейся памятью, из когда-либо описанных. Любой материал Ш. запоминал сразу и навсегда, через многие годы он мог воспроизводить старые тексты слово в слово с середины, с конца, как угодно. Память его была практически безгранична. Значит, это и есть память человека будущего?
Но вот психологи, работающие с Ш., предложили ему ряд слов, в число которых входило несколько названий жидкостей. После того как он их без труда запомнил, ему предложили элементарную задачу: отдельно перечислить эти названия. Поразительно, но задача избирательно выделить слова оказалась для него непосильной! Сходство определённых слов, пишет Лурия, оставалось Ш. незамеченным и осознавалось только после того, как он «считал» все слова и сопоставил их между собой.
Вывод, который следует из этого примера: память выдающихся мнемонистов не имеет ничего общего с логической памятью, свойственной каждому из нас. В чём же секрет? Любое слово мгновенно сопровождается образом соответствующего предмета. Почему – именно этого Ш. сам не мог объяснить. «Когда я слышу слово «зелёный», появляется зелёный горшок с цветами… Даже цифры напоминают мне образы… Вот «1» – это гордый стройный человек… «7» – человек с усами» и т. д. Наглядные образы связывались в цепочки и возникали всякий раз, когда Ш. нужно было что-либо вспомнить. Конечно, существование подобной памяти ещё во многом загадочно. Важно отметить лишь то, что ни в быту, ни в работе (Ш. вначале был журналистом) такая память ни в чём не помогала ему. А иногда существенно мешала. Так что не надо особенно завидовать такого рода феноменальным способностям. У нас с вами есть всё, что требуется для жизни, труда, действия.
Главная особенность нашей памяти заключается в том, что мы запоминаем лишь то, что имеет для нас какой-то смысл. Причём запоминаем без всяких усилий, легко и просто. Мы живём, и то, что связывается с нашей жизнью непосредственно и прямо, что переживается нами, осмысливается, оседает на дне души, всплывая тогда, когда возникает в нём необходимость. Мы не запомним то, что проходит мимо нас, не задевая ума и чувства. Мы можем смотреть и не видеть, слушать и не слышать, осязать и не чувствовать. А следовательно, и не помнить! Но если что-то задело за живое, тогда рождается:
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты. Как мимолётное виденье, Как гений чистой красоты.И сколь ни мимолётно виденье – как много мы успеваем запомнить! Мельчайшие детали, запах цветов, капли дождя. «Вы помните, вы всё, конечно, помните…»
Непроизвольная человеческая память. Какая логика лежит в её истоках? И есть ли вообще здесь какая-то логика? Традиционная психология видела в ней случайное, малопродуктивное запоминание, неуправляемое извне.
При всей прелести и силе непроизвольное запоминание оставалось чем-то сугубо личным, интимным и не имело никакого отношения к системе обучения. Обучение имело дело с другой, настоящей памятью, произвольной. Память считали такой же автономной, независимой способностью человека, как восприятие, мышление и т. п. Элементарная модель процесса усвоения знаний отражена, как отмечал советский психолог П. Зинченко, в классической схеме: восприятие – понимание – запоминание – применение знаний. Запоминание знаний (специальное их заучивание) выступало здесь в качестве центрального момента.
Будучи наиболее управляемым звеном, произвольное запоминание становилось инструментом управления всем процессом. Не случайно поэтому успешность усвоения знаний обычно ставилась в зависимость от памяти ученика, а не наоборот. В условиях стихийного формирования способов действий учащихся по отношению к материалу, который надо было усвоить, такое смещение центра тяжести в обучении на память становилось причиной второго серьёзного недостатка: формализма знаний и задержки умственного развития.
Ставка на произвольную память в том виде, в котором она выступала в традиционной форме обучения, перестала удовлетворять многих психологов. Начались поиски иного подхода, иного типа обучения. Причём наступление психологи повели как бы с двух сторон: со стороны разработки новой психологической теории усвоения знаний и со стороны идеи использования непроизвольной памяти в учебном процессе.
Сначала необходимо было раскрыть природу этого вида памяти, выявить её основные закономерности. Это было сделано в пятидесятых годах П. Зинченко. Его монография «Непроизвольное запоминание» является классической и приобрела мировую известность. Зинченко доказал, что непроизвольное запоминание – не случайное и не механическое, оно – продукт активной деятельности человека (зависит от её мотивов, целей, способов). Особенно хорошо запоминает человек то, что является основной целью его познавательного действия. Вот здесь-то и открывался новый подход к решению старой проблемы – память и обучение. Возникала задача использования огромных возможностей непроизвольного запоминания знаний в самом процессе их усвоения.
Таким образом, основные положения новой концепции обучения смыкались с исходным принципом исследования непроизвольной памяти: способ обучения, рассчитанный на развитие мышления учащихся, неизбежно отказывался от произвольной памяти по крайней мере на первом этапе его становления. Произвольное запоминание необходимо было убрать с дороги как препятствие, мешающее выйти на простор интеллектуального поиска. Поэтому новый способ обучения нуждался в непроизвольном запоминании материала. Непроизвольная же память получала в теоретическом способе обучения ту истинную опору, с помощью которой она могла обрести свою подлинную силу. И способ обучения, и непроизвольное запоминание имели общий источник: систему собственных познавательных действий детей. Поэтому принцип «Ничего не заучивать, всё усваивать только в действии» выступал здесь в чистом виде.
Гипотеза требовала убедительных экспериментальных доказательств, и они были получены в исследовании психолога Г. Середы.
Урок математики во втором экспериментальном классе. Детям предлагается задача: измерить длину комнаты спичкой. Сразу же лес рук: неудобно, слишком маленькая мерка! Дети легко обнаружили нерациональность предложенного способа, они ведь уже хорошо овладели действием измерения, и у каждого под рукой много других мерок.
– Пожалуйста, – соглашается учитель, – я не возражаю. Но ищите способ измерения, сохраняя в качестве исходной меры спичку. Назовём её единицей.
Перед детьми возникает ряд последовательных задач. Найти вторичную меру, большую, чем спичка. Измерить ею стену. Определить число единиц в мерке. Перевести полученное число мерок в единицы (спички). Способ окончательного решения: измерение мерки с помощью единицы и повторение полученного числа в качестве слагаемого столько раз, сколько было мерок. К концу этапа ребёнок сам формулирует сущность умножения как определение величины не путём прямого измерения а через отношение двух мерок.
– Почему результат умножения называют произведением?
– Потому что его получают не прямо, а производят из сравнения двух мерок.
Учение обретает смысл! Термин «произведение» осмысливается детьми.
– Что и как изменилось бы, если бы мы выбрали другую мерку?
Дети определяют величину произведения, в котором мерка, равная 2 единицам (мерка 2), повторяется дважды (2×2=X). Способ решения – сложение мерок (2+2=4).
Вот, оказывается, где зарыта пресловутая очевидность произведения дважды два. Действительно, 2×2=4, если мерка равна 2 единицам. А если увеличить число мерок на одну единицу? Способ решения ребёнку ясен: надо к полученному уже произведению прибавить одну новую мерку: (2×2)+2=4+2.
Важный момент движения мысли ребёнка: полученный предыдущий результат (4) не «отбрасывается», а выступает как средство получения следующего, включается в него и соотносится с ним «по вертикали». То, что было целью одного действия, стало средством достижения новой цели. Но ведь, как показал П. Зинченко, это и есть механизм непроизвольного запоминания. На каждое полученное произведение ребёнок смотрит не как на конечный результат, а как на промежуточный, который ещё пригодится в будущем.
На этом пути выявляются опоры (например, 2х5=10). Соседнее произведение определяется сначала с помощью таких опор (2х9=20-2). Вскоре все произведения таблицы, составленной детьми, начинают выполнять роль взаимосвязных опор и, наконец, прочно запоминаются непроизвольно: ученик уже не развёртывает действие по их соотнесению, а просто узнаёт их.
– Ты знаешь таблицу умножения?
– Конечно.
– А ты её учил?
– Нет.
– Откуда же ты её знаешь?
На лице ребёнка недоумение.
– Я не знаю, откуда, но. я её знаю.
«Знаю» – значит значительно больше, чем помню наизусть. Ребёнок понимает смысл действия умножения и может построить сам любую таблицу для любого числа. Запоминание таблицы умножения явилось не основным, а побочным продуктом непроизвольного запоминания условий и результатов собственных действий детей.
Таким образом, классический объект произвольного запоминания – таблица умножения, которая во все времена заучивалась детьми наизусть, вошла в память ребёнка непроизвольно – через его мысль. Следовательно, любые знания, если мы строим их как собственные, осмысленные действия детей, могут запоминаться непроизвольно!
«Минуточку! – может сказать, прочтя эти строки, читатель. – Допустим, в физике, математике можно организовать такую систему задач, чтобы получить запоминание как побочный результат их решения. Но есть материал, который детям нужно просто запомнить. Стихи, например…»
Попросим читателя пройти на урок русского языка.
– Как вы думаете, чем отличается стихотворение от рассказа? – спрашивает учительница у детей.
– В стихах всё складно, – отвечает ребёнок.
– Все так думают? А может быть, кто-то думает иначе?
Инакомыслящих нет.
– Хорошо. Я вам сейчас прочту стихотворение, а вы мне потом скажете, какое настроение оно у вас вызовет.
Снежок порхает, кружится. На улицах бело. И превратились лужицы В прозрачное стекло. В саду, где пели зяблики, Сегодня – посмотри, - Как розовые яблоки, На ветках снегири.– Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?
– Весёлое.
– Бодрое.
– Радостное.
– А почему у вас возникло такое настроение?
– Потому что стишок весёлый.
– Кто докажет, что стихотворение весёлое? Найдите те слова, которые это подтверждают.
– Снежок порхает, кружится…
– Как розовые яблоки…
– Почему снегири похожи на яблоки?
– У них грудки розовые, как бока у яблок…
– Они тоже круглые, как яблоки.
– Что такое порхает?
– Он, как бабочка, порхает.
– А самолёт может порхать?
– Самолёт не машет крыльями, у него есть мотор.
– А орёл? Ведь он, когда летит, машет крыльями. Можно сказать про орла, что он порхает?
– Нет, нельзя. Орёл большой, а порхать, наверное, может только что-то маленькое, лёгкое. Как ласточка, например. Вот она, по-моему, может порхать.
– Какие ещё слова у вас вызывают весёлое настроение?
– То, что лужицы стали прозрачными, как стекло.
– А чему мы радуемся больше всего?
– Всегда первому, неожиданному…
– Когда снег неожиданно появляется.
– Правильно. Мы радуемся первому слову, первой детской улыбке, первому майскому дню. Но ведь стихи о зиме. А зимой всё замирает…
– Это только кажется, что природа замирает. А в действительности всё живёт. Только ожидает весны.
– И лужицы… И стекло… Это звучит очень весело.
– Мы с вами сегодня хорошо поработали. До конца урока осталось десять минут. Чем бы нам ещё заняться? Может быть, кто-нибудь запомнил стихотворение и хотел бы нам его прочесть?
Весь класс поднимает руки. Никто ничего специально не заучивал, но, оказывается, все дети выучили стихотворение.
Но они не просто его выучили, они обогатились мыслью и чувством поэта, писавшего эти стихи.
Читатели, конечно, уловили идею организации действий ребёнка, облегчающей непроизвольное запоминание стихотворения. Психологи исходили из предположения, что здесь должны встречаться «понимание» и переживание настроения, которое вызывается художественными образами. Поэтому учитель организовал такую систему действий, которая рождала определённые представления, чувства и мысли детей.
Путь этого процесса – от общего настроения до максимально возможной его конкретизации, постепенное приближение и слияние содержания с формой стиха. В конце пути ведущая идея, пропущенная учеником «через себя», открывается ему вторично в конкретно-образной форме. Если воспользоваться словами Д. Ушинского, эта форма вырастает для ребёнка из идеи, как кожа из организма, а не натягивается на неё, как перчатка из чужой кожи.
Завершающая задача, которую учитель ставит перед детьми: как это прочитать, чтобы настроение зазвучало? Как его выразить в слове? Для ребёнка становится понятной необходимость «читать с выражением». Иначе читать просто бессмысленно. В результате каждое слово стихотворения осознаётся детьми так, как сказал один ребёнок: «Как будто я сам делал (!) эти стихи».
Непроизвольное запоминание для детей в младшем школьном возрасте – это возможность входить в мир научных знаний легко и свободно. Оно позволяет мышлению окрепнуть, стать, как принято говорить, на ноги. Это одновременно и путь совершенствования самой памяти.
Тот факт, что мышление ведёт за собой развитие личности в младшем школьном возрасте, заставляет предположить, что все остальные психические процессы: внимание, память, восприятие и другие – подчинены логике формирования основного психического образования. Можно сказать, каково мышление у младшего школьника, такова его психика[11].
Идея о системном характере человеческой психики, когда какое-то свойство, вырываясь вперёд, определяет весь путь развития, высказывалась ещё Л. Выготским. Важно выяснить, в чём состоит эта связь. Особенно интересно это сделать в отношении памяти.
Мы уже показали, что специальная организация учебного материала облегчает и ускоряет непроизвольность запоминания материала. Значит ли это, что произвольная память вообще человеку не нужна? Разумеется, не значит. Произвольность обеспечивает ту степень свободы, которая позволяет ребёнку на новом витке своего развития ставить собственные цели и задачи.
Задачи на произвольное запоминание решает каждый из нас. Весь вопрос в том, как он решает, с какой затратой сил, нервов, времени. А главное, каким способом он это делает, какими приёмами владеет.
– Как улучшить свою память? – часто спрашивают школьники, студенты.
– Пожалуйста! – отвечают им психологи. – Есть многочисленные пособия, в которых даются приёмы запоминания, по ассоциации например. Но другие психологи делают упор не на частные искусственные приёмы, а на универсальные способы. Можно запоминать механически, а можно при запоминании опираться на логику, которая отражает содержательный анализ и обобщение тех явлений действительности, которые и нужно запомнить.
Как строят свои действия по запоминанию такие ученики? Они начинают с анализа материала, то есть решают вначале мыслительную задачу. А затем так организуют материал, чтобы вся логическая конструкция выступила отчётливо и полно, чтобы классификационная схема выводила на суть дела, а не выступала в памяти как случайная ассоциативная связь «парус – папа».
Рассказывают анекдот о том, как человек во время остановки поезда пошёл в буфет. Используя приём ассоциаций, он связал номер поезда с годом рождения Наполеона: они совпадали. Через некоторое время, когда по радио начали объявлять об отправлении поездов, его видели бегающим по платформе и спрашивающим у всех встречных: «Вы не помните год рождения Наполеона?»
Ситуации, в которые попадает такая память, часто чреваты подобными неприятностями. Поэтому наличие или отсутствие содержательных способов запоминания свидетельствует не только об уровне произвольной памяти, но и отражает тип мышления, тесно связанный со способом обучения.
Проводится простой эксперимент: детям в обычном классе медленно дважды прочитывается текст, составленный из нескольких разных по смыслу предложений. Текст нужно запомнить и воспроизвести с максимальной полнотой.
Ребёнок вслед за психологом шепчет про себя слова. Цель этого действия очевидна: механически запомнить текст. Не удивительно, что большинство предложений искажено, часто это просто набор слов, выхваченных памятью из тех фраз, которые были предложены для запоминания.
Иной результат получается, если действие ребёнка направлено не на механическое запоминание, а на усвоение текста по смыслу.
Тип мышления действительно оказывается той призмой, через которую преломляются способы произвольного запоминания. Ещё раз подтверждается мысль Выготского о системном характере человеческой психики: другой тип мышления рождает другое восприятие, другую память, другую личность. А следовательно, другие потребности, интересы – то, что побуждает человека к действию, придаёт смысл любому его поступку.
Интересы детей, которых окунули в море теории. Каковы они? И как соотносятся с обычными детскими интересами, к которым мы привыкли?
Бегство от чуда
Рядовое школьное сочинение. Даётся оно обычно для проверки грамотности, умения связно изложить свои мысли. Но сегодня малышам в экспериментальном классе предлагают написать сочинение на выбор. Пожалуйста, пиши, что хочешь. Временем не ограничивают, будущей отметкой не пугают, ошибки считать не будут. Требование одно: выбери ту тему, какая тебя больше всего интересует.
Психолог ходит между партами, заглядывает в листочки. Наконец, появляются первые заголовки: «Что я знаю о слове», «Что я знаю о математике», «Чем я люблю заниматься»… Опять о слове. Дети выбирают школьные темы!
Это очень важный показатель. Но не следует спешить с выводами, ещё больше должно рассказать нам содержание сочинений.
«О математике я знаю не много, но выбрал для сочинения мой любимый предмет. Математика рождалась много веков, а мы за 10 лет в школе должны выучить её почти всю. Вероятно, люди придумали математику для того, чтобы считать дичь, свои стада. Для этой цели они изобрели сложение и вычитание. Благодаря математике в наше время лошадь не нужна!»
«Я узнал о математике много с тех пор, как пришёл в школу. Я узнал, что, кроме икса, есть игрек и зет. Узнал я и о множествах, об отрицательных и положительных числах. Я узнал, что математика – наука сложная и точная. А дома, когда ещё был маленький и ходил в садик, я этого даже от старших товарищей не слышал, а они уже ходили в школу. И когда я пошёл в школу, я всё это узнал».
«Много замечательных людей говорили о математике так: «Математикой можно объяснить существование всего на свете». Может быть, это и так, я не знаю, но многое математика объяснить может.
В литературном кружке наш руководитель сказал, что нет профессии без наблюдательности. Я хочу это переиначить. Нет профессии без математики».
Дети пишут о фонемах, частях речи как о самом главном для них, самом необходимом, будто вся их жизнь наполнена только этим, хотя они, как и все нормальные дети, бегают в кино, играют в футбол и т. д. В чём же тут дело? А в том, что для этих детей интересно прежде всего то, что составляет предмет их основного дела – учения. Учение постепенно стало смыслом их жизни и не только с внешней стороны (тетради, отметки), но и со стороны содержания школьных предметов.
Но что привлекает их в этом содержании? Может быть, голый результат, готовые знания или принцип, закон, отношение, определяющие специфику предмета?
Нужно проверить. Новая серия экспериментов, смысл которых – столкнуть два вида интереса: развлекательный, репродуктивный и содержательный, бескорыстный, творческий.
Психолог предлагает детям хитро составленные тексты. В них увлекательное повествование незаметно переходит в научное объяснение фактов действительности.
В другой раз вместо текстов даются задачи. Все их надо решить известным способом. Но одна задача составлена так, что если ребёнок её решит, то он откроет новый способ решения не только этой задачи, но и всех предыдущих. Словом, эта задача на творчество, на самостоятельность мышления.
Экспериментатору важно узнать, какой текст запомнят дети – «развлекательный» или «научный» и с какими задачами им интересно повозиться – с теми, которые знают уже, как решать, или с теми, над которыми надо поломать голову.
Психолог спрашивает:
– Умеете решать примеры на сложение?
Странный вопрос, конечно, они умеют.
– Примеры, которые сейчас дам, кажутся очень простыми. В них есть сумма и число слагаемых. Сами же слагаемые неизвестны, их надо найти. Но чтобы эти задачи правильно и быстро решить, нужна сообразительность…
Как дети будут действовать в такой ситуации – сразу начнут подбирать слагаемые или будут думать? Психологу всё важно: паузы, волнение или равнодушие ребёнка, процесс решения, его результат.
– Прочти внимательно вопросы, которые написаны на этом листочке. Можешь задать только один вопрос из этого списка по поводу своего решения.
А в списке такие вопросы: «Правильно ли я решил?», «Хорошо ли я соображаю?», «Хорош ли мой способ решения?», «Есть ли лучший способ?»…
На лице ребёнка – вся гамма переживаний: идёт процесс выбора. Наконец он задаёт первый вопрос:
– Хорош ли мой способ решения?
– Он неплох. Но может быть и лучше…
Как решён пример? Слагаемые подобраны равные: 24=6+6+6+6. Но можно иначе, лучше, как? Ребёнок задумывается. Стрелка его интереса явно направлена на решение познавательной задачи: найти лучший способ. Он медлит. «Ага! Вот оно!» На листочке быстро возникает решение: 24=24+0+0+0+0. Психолог не может сдержать улыбки: молодец! Действительно, найден оптимальный принцип решения. Теперь сколько бы ребёнку ни задавали таких задач – делать ему с ними нечего. Оказывается, интерес тоже имеет теоретическую природу: по содержанию он чётко направлен на обобщённые способы действий.
Дети, которые обучаются по старинке, выбирают из списка, как правило, вопросы, относящиеся не к способу решения, а к конечному результату: «Правильно я решил?» или «Быстро я решил?»
Серия экспериментов, проведённых автором книги, показала, как постепенно развивается интерес детей в учебной деятельности: вначале он возникает к отдельным учебным предметам, к их содержательной стороне. Потом становится всё более широким и устойчивым, обретает силу.
Если интерес второклассников ограничен практически математикой и языком, то в третьем классе диапазон интереса резко расширяется, далеко выходит за рамки школьных предметов. Они сами обращаются к другим областям действительности, торопят время, заглядывая в учебники, с которыми в школе им предстоит познакомиться ещё не скоро.
«Я люблю заниматься химией, неорганической химией. По-моему, она очень интересная наука, но это только с моей точки зрения. Химия – основа технологии, биохимии, астрономии, физической химии, кристаллографии, радиохимии, геобиохимии и т. д. В будущем я мечтаю стать аналитиком-неоргаником и работать в лаборатории, открывать ещё неизвестные химические элементы и впоследствии стать, если, конечно, получится, мастером в этой области».
«Я люблю заниматься историей древних греков и римлян. Я достала много книг о них. Очень много подруг тоже занимается историей. Мы часто спорим, какое государство, Рим или Афины, имело более талантливых, смелых и находчивых полководцев. Мне хотелось бы узнать побольше о походах и биографии Александра Македонского. Мне непонятно, почему в одних книгах пишут, что его никто не побеждал, а в других, что его победил фиванский полководец Эпанимонд. Мне хочется стать археологом и поехать на раскопки древних городов».
«Я люблю заниматься уймой вещей. Но больше всего я люблю читать. Я волнуюсь за судьбу героев книги, радуюсь, когда книга хорошо заканчивается. И после того как книгу прочитаешь, долго обдумываешь её и делаешь какой-то вывод – как правильно поступить, а как неправильно, что справедливо, а что нет».
«Я люблю играть на пианино, потому что когда играешь, то забываешь все свои невзгоды и горести и входишь в мир звуков. И для меня уже ничего не существует – только то, что хотел сказать композитор той или иной мелодией. Мечтать я люблю, потому что переносишься в то, о чём думаешь. И представляешь то, что будет, и чего ещё нет».
Все эти сочинения, тестовые задания, помимо эмоциональной оценки, поддаются и количественному анализу. И цифры здесь оказываются весьма показательными: например, если во 2-м экспериментальном классе узкие содержательные учебные интересы зафиксированы примерно у 75 процентов детей, то в 4-м классе на первом плане уже интересы широкие познавательные – до 70 процентов. Развлекательные же интересы, как ведущие в мотивации личности, составляют в обеих возрастных группах не более 13-17 процентов. В контрольных классах данные таковы: узкие учебные – 15 и 18 процентов, широкие познавательные – 5 и 13 процентов. Основную массу, к сожалению, продолжают составлять именно интересы развлекательные.
Ранговая корреляция (сопоставление результатов по разным методикам) подтверждает вывод о том, что в экспериментальных классах к концу младшего школьного возраста формируются содержательные, обобщённые (то есть проявляющиеся по отношению к любому теоретическому материалу) и осознанные интересы детей. И это коренным образом меняет проблему стимуляции учения.
Психолого-педагогические исследования повсеместно показывают, что если у ребёнка нет устойчивых познавательных интересов к содержательной стороне знаний, основным внешним стимулом, своеобразным кнутом или пряником в учении становится отметка. В ответ на вопрос: «Может быть, стоит вообще отменить отметки?», один десятилетний ребёнок написал: «Если не будут ставить плохих отметок, зачем же тогда учиться? Не было бы плохих отметок, к учёбе относились бы тяп-ляп, в школу тогда ходить не надо было бы». Точка зрения, можно сказать, классическая. Подростки ещё более её конкретизируют: «Без отметок невозможно определить знания ученика»; «Без отметок не знали бы, хорошо или плохо выучили урок»; «Без отметок всюду будет беспорядок. У школьника не будет ориентира для того, чтобы улучшить свои знания».
Но вот меняется способ обучения. Теория властно привлекает к себе внимание и интерес малыша. И здесь обнаруживается неожиданная вещь: отметка быстро теряет своё значение как побуждающий учение фактор. «Учёба без отметок воспитывает в человеке честность, – замечает подросток. – Каждый ученик должен сам отвечать за своё обучение». «У каждого человека есть самокритика. Он чувствует (во всяком случае должен) цену своим поступкам. И безусловно, я всегда чувствую правильность своего ответа».
В этих зрелых суждениях мощно проявляет себя рефлексия – свойство всякого разумного мышления. Обогатившись опытом совместной деятельности на уроке, в процессе обучения, рефлексия становится средством развития самосознания растущей личности, одним из главных критериев которой является ответственность перед самим собой.
Не удивительно, что дети, у которых пробуждается творческий интерес к наукам, любят учиться. Вначале эта любовь неконкретная: «Люблю учиться, потому что узнаю что-то новое». Потом ребёнок замечает, что ему «нравится думать, рассуждать, смекать». Ему не нравятся пустые уроки, когда он бездельничает. «Я люблю трудные уроки. Бывает, что сразу всё получается – тогда не очень интересно. А когда надо пробовать, думать – тогда интересно».
Всё глубже он узнаёт себя, свои способности, возможности, и это доставляет радость. «Мне нравится, как мы учимся. Мне нравится, что я сам стараюсь узнать тайны разных наук. Больше всего мне не нравится, когда мне что-то не понятно и мне сразу берутся объяснять, вот этого я больше всего не люблю».
И уже в 9 лет ребёнок чётко формулирует своё отношение к учению: «Если не учиться, то, хотя и можно спокойно прожить на свете, это будет не настоящая жизнь. Человек не будет понимать других людей, не сможет с ними общаться, работать вместе. И никто не сможет ему помочь».
Он растёт, превращается в подростка, уже на пороге юность, но всё равно возникшая любовь не погасла, как это иногда бывает. «В школе мне никогда не скучно ни на одном предмете. Занимаюсь в день не более двух часов утром, времени свободного у меня много. Просто я стараюсь всё понять, до всего докопаться самой. Неинтересно зазубривать непонятное правило, а лучше, когда мы на уроке его разберём, добавим в него новое; сам будешь участвовать в работе – сам найдёшь новое. А вообще, я ведь не вундеркинд, не всегда у меня всё идёт хорошо».
Да, они не особо одарённые, а обыкновенные дети. И не всегда всё у них идёт хорошо. И конфликты бывают, и тройки, и даже двойки. Впрочем, их суждения о том, что учатся они не ради отметок, решили тщательно проверить.
Известен многолетний грузинский эксперимент по безотметочному обучению в младших классах. Но то в младших! Отменить же отметки в 7-х и 8-х классах не пробовал ещё никто. Такой эксперимент психологи и специалисты-предметники В. Репкин, Н. Матвеева и Р. Скотаренко провели не ради экзотики. Как иначе могла быть проверена гипотеза, что ребёнок научился самостоятельно учиться, что его ведёт в учении потребность в познании, а не любые, самые заманчивые внешние стимулы?
Целый год они учились без отметок по физике и географии. Ходили на уроки, отвечали на вопросы, выполняли домашние задания. И вот настала минута, когда можно подвести итог: обсудить, что сделано за год каждым, сумели ли они овладеть предметом или остались на том же уровне, что и в самом начале.
Размеры книги не позволяют привести протокол такого обсуждения. Точно, логично и самокритично они оценивали свои знания и знания своих товарищей. Что сделано, что упущено без боязни обидеть: как будто все годы учёбы они только и делали, что по-деловому обсуждали итоги года. Вначале скрупулёзный разбор знания теоретического материала: устройство и принцип действия электродвигателя, телефона, телеграфа, свойство постоянных магнитов, явление электромагнитной индукции… Потом отношение к практической работе в физической лаборатории, умение решать задачи. И конечно, общая характеристика знаний по предмету. Наконец, если нужно оценку выразить в интегральной форме – пожалуйста.
«Материал усвоил хорошо. Знания выше средних, но не на отлично. Заслужил четвёрку».
«В общем программу по физике усвоил. Одно время работая энергично, кое-что запустил в середине четверти, а в конце наверстал. Ставлю себе три».
«Всё, что я знаю, – я знаю. Это оценка моим знаниям. Но работал я не блестяще. Кое-что учил не вовремя, хотя потом подгонял. Но это уже не то. Четыре».
«Задания повышенной трудности решал всегда. К экзамену готов. Пять».
Можно быть уверенным, что отметку он себе не завысит. «Тройка» – это твёрдые, нормальные знания, но без блеска, без чтения дополнительной литературы, без посещения географического кружка и т. п. Но большинство из них учились на «отлично», и это лишний раз свидетельствует о том, что их ведут вперёд внутренние мотивы учения.
«В развитии человека моего склада, – писал А. Эйнштейн в «Автобиографических заметках», – поворотная точка достигается тогда, когда главный интерес жизни понемногу отрывается от мгновенного и личного и всё больше концентрируется в стремлении мысленно охватить природу вещей».
Как точно А. Эйнштейн выразил психологическую природу потребности в познании, глубоко и интимно связанную с личностью и со всем миром. Именно этим – ранним формированием такой потребности – озабочена ныне наша психологическая наука. Уже выращены ею первые весомые плоды – результат того типа обучения, которое превращает процесс познания нового в цепь запрограммированных открытий. Совершая открытия на каждом уроке, на всех предметах, дети приучаются к тому, что думать интересно! Развитие их умственного мира представляет собой «в известном смысле преодоление чувства удивления» – непрерывное бегство от «удивительного», «от чуда».
«Бегство от чуда» – удивительно ёмкая художественная характеристика научного поиска, данная А. Эйнштейном. Именно «бегство от чуда» – тайны, загадки. Но сначала должно быть чудо! Удивление, поглощающий всё внимание человека интерес, а потом поиск истины, сути дела.
Д. Эльконин, давая психологическую характеристику переменам в развитии личности, происходящим под влиянием формирования внутренних мотивов учения (то есть интереса к самому содержанию знаний), отмечал: «Теперь позиция школьника – это не просто позиция ученика, посещающего школу и аккуратно выполняющего предписания учителя и домашние уроки, а позиция человека, совершенствующего самого себя и тем самым осуществляющего общественно значимую деятельность» [29].
Закономерно, что в этом случае к концу подросткового возраста осуществляется процесс осознанного выбора профессии. Именно процесс, потому что подросток начинает «обдумывать житьё», взвешивать свои склонности и способности, сопоставляя их с теми областями деятельности, где с наибольшей пользой для общества можно их применить.
Как показывают материалы, имеющиеся у автора, выбор профессии у большинства подростков осуществляется не из утилитарных или сиюминутных побуждений, не под влиянием советов друзей или родителей, как это часто бывает. Выбор профессии является для них самостоятельным выбором, сознательным выбором в соответствии с общественной потребностью и собственным стремлением выразить себя в наиболее значимых сферах жизни.
И это может быть одним из самых важных результатов развивающегося обучения, особенно важного потому, что сегодня требуется от системы образования, как это следует из партийных документов, подвести подростка «ко времени окончания неполной средней школы к обдуманному выбору профессии».
Что такое человек
Есть вопросы, которые как бы прямо и непосредственно связывают жизнедеятельность каждой человеческой личности со сложными философскими вопросами бытия. Один из таких вопросов: что такое человек?
Стоит задать его, и мы никогда не получим быстрого ответа. Это может показаться странным, ведь, казалось бы, речь идёт о самом простом понятии, данном человеку в ощущении, в восприятии, в мышлении, в действии. Человек – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет, говорит Сатин в пьесе Максима Горького «На дне». Человек – это звучит гордо!
Но сказать, что «человек – это звучит гордо», ещё ничего не сказать о человеке. И поэтому герой пьесы вынужден разъяснять: «Чело – век», мышление и история, я и всё человечество – вот границы и масштабы этого понятия. Я и всё человечество – не меньше. В этом образном ответе художественное отражение сложной проблемы.
Поэтому очевидны трудности каждого, к кому обращаются с этим вопросом. Понятие, которое кажется элементарно простым, неожиданно вырастает а проблему, когда требуется не просто уяснить его для себя, для своего житейского опыта, а выделить то основное, что составляет его сущность.
Чтобы ответить – хочу я этого или нет, но я как бы раздваиваюсь. Обдумывая вопрос, я объективирую своё понимание, обращаюсь к науке или к опыту истории, отстраняюсь от себя как представителя человеческого рода. Но одновременно я конкретизирую его в своей собственной личности, переживаю свою принадлежность к этому понятию. В моём ответе – синтез объекта и субъекта, рационального и эмоционального, обобщение, которое выходит за рамки только конкретно-научного или художественного. Я так понимаю, что такое человек, потому что я сам человек. Моё понимание человека – это и моё мышление, и мои чувства, в нём – вся моя личность.
Следовательно, задав вопрос: «Что такое человек?» и получив ответ, мы многое можем узнать о данной конкретной личности. Это хороший личностный тест. Но как любой тест, он должен быть корректно задан и корректно истолкованы его результаты. Надо суметь прочесть, что за ним стоит. Поэтому, когда возникла необходимость оценки движения личности ребёнка в логике формирования теоретического типа мышления, автор обратился к такому внешне простому средству оценки этого движения.
Что интересовало психологов? Прежде всего какова степень устойчивости познавательных мотивов ребёнка. Если действительно, как об этом говорили предыдущие исследования, у него складывается новая система познавательных интересов и если эти интересы становятся ведущими на этапе развития личности в младшем школьном возрасте, то они должны распространяться на те области, которые непосредственно не затронуты учением, то есть они должны обращать его к самостоятельному познанию, к самостоятельному поиску нового. Это – с одной стороны.
С другой стороны, если по содержанию познавательные мотивы оказываются теоретическими, то отражение новых знаний должно осуществляться не непосредственно («Это так, потому что я вижу явление таким»), а опосредовано («Это так, потому что я нашёл источник явления, способ его объяснения»). Обращение к корням, способам, источникам и должно составлять душу такого интереса, если, конечно, он действительно достиг такого уровня развития.
Итак, что такое человек? Задавая этот вопрос детям, автор учитывал, кроме вышеизложенного, ещё одно важное обстоятельство. Ответы могли дать материал о характере устойчивости интереса только в том случае, если ребёнок не сталкивался с этим понятием в теоретическом плане. Если у него не формировалось понятие «человек», как это осуществлялось, например, при обучении русскому языку или математике.
С самим этим понятием ребёнок неизбежно сталкивается повседневно, осваивает его на уровне житейского опыта.
Раскроем учебник «Природоведение» для третьего класса. Здесь есть сведения о человеке. Рассказывается о его физическом строении, происхождении, трудовой деятельности. Все эти сведения предельно наглядны, очевидны для ребёнка. Человека создал труд? И правда: все взрослые, кого он знает, работают. Человек произошёл от обезьяны? «Я видел в зоопарке (в цирке) обезьян – они хоть и смешные, но ведут себя иногда, как малые дети».
И разглядывая с малых лет себя, учась ходить, познавая мир, ребёнок выделял тот очевидный факт, что у человека есть руки, ноги, голова и ещё кое-какие органы или части целого, которое он называет «я» и которое обобщено им в понятии «человек». Интересно узнать: изменяются ли – обогащаются, расширяются – и в каком направлении представления детей о человеке по сравнению со школьным курсом и их личностным опытом? А в конечном счёте понуждают ли их познавательные мотивы к самостоятельной поисковой деятельности и насколько эта деятельность содержательна?
Автор исследования исходил из предположения, что рождение такой познавательной направленности не могло не обратить ребёнка ещё раз на самого себя на новом витке своего развития: «Что есть я?» А значит, направить его на поиски ответа к таким источникам информации, которые удовлетворили бы его любознательность и послужили средством лучшего понимания себя.
Поэтому однажды на обычном уроке, без всякого специального предупреждения в экспериментальном классе детей попросили раскрыть тетрадки, сосредоточиться, подумать и написать свободное сочинение на тему «Что такое человек?» Время работы не ограничивалось, при необходимости оно могло быть продолжено на следующем уроке. Обстановка была спокойной, сочинение не связывалось ни с какой контрольной.
Словом, была создана нормальная творческая атмосфера: твори, выдумывай, пробуй!.. Конечно, психологов интересовал вопрос и о том, какие результаты будут в условиях другого типа обучения, не теоретического. Там тоже детей предупреждали о возможности полной свободы творчества, не грозя никакими карами по русскому языку.
Вот лежат эти сочинения, и психологу не терпится поскорее прочесть их, сравнить с теми, что писались в контрольных классах, постараться увидеть в строчках и между строк то, что позволяет с уверенностью судить об особенностях интересов ребёнка из класса, где обучение строится на иных принципах.
Но прежде чем рассказать о результатах эксперимента, автор должен сделать одно отступление. Оно необходимо, чтобы лучше понять психический феномен, который мы собираемся далее анализировать.
В пятидесятых годах состоялась своеобразная заочная дискуссия между советскими философами Э. Ильенковым и К. Наумовым и известным французским писателем Веркором. Поводом для неё послужило издание в русском переводе его романа-памфлета «Люди или животные».
…В дебрях Новой Гвинеи обнаружено племя, стоящее на границе между животным и человеком. Необходимо установить: животные это или люди. Чисто научные интересы здесь сразу же тесно переплетаются с самыми прозаическими. Если это животные, то гибель их от рук человека не должна повлечь никакого наказания. А если люди – действие это уголовно наказуемо.
Установление истины поручено специальному суду, который, естественно, привлекает для консультации видных учёных, зоологов, психологов, антропологов. Но чем дольше заседает суд, тем сложнее оказывается прийти к какому-то однозначному решению. С какими же затруднениями встречаются господа присяжные заседатели и эксперты, которых они допрашивают?
Основное затруднение в том, чтобы определить, что такое человек, чем он качественно отличается от обезьян. Конечно, они прекрасно понимают, что между дикарём и Эйнштейном есть нечто общее, что отличает обоих от шимпанзе. Но вот по какому признаку мы узнаём, что это так?
Признак! Вот о чём без конца говорят в романе. Главный герой убеждён в том, что необходимо раз и навсегда определить, что такое человек, то есть дать полное и исчерпывающее определение, которое не допускало бы различных кривотолков. Если у него есть душа, то надо будет установить, по какому признаку мы определяем её наличие. Если его отличает что-то другое, надо будет установить, что же именно.
Итак, всё дело в поиске отличительных признаков. Очевидно, надо сравнивать признаки человека и животных и находить отличие. Но путь прямого сравнения по параметрам заводит в тупик. Руки, ноги, голова, мышление – всё это, оказывается, есть и у человека и у ряда животных.
Один из экспертов утверждал, что отличительный признак может быть выделен путём анализа мозговых связей.
– Мозг часто сравнивают с гигантской телефонной станцией, которая с неслыханной быстротой связывает тысячи различных центров. Итак, человеком следует считать всякое существо, мозг которого объемлет всю сумму перечисленных выше связей, а животным – существо, мозг которого этими связями не обладает, – утверждает антрополог.
– Но ведь количество этих связей различно у разных людей, как быть с этим обстоятельством? – задают вопрос эксперту.
– Это так, – соглашается он, – но всё равно сумма связей у самого отсталого из людей несравненно больше, чем у самого развитого шимпанзе. Поэтому можно взять количество и качество мозговых связей дикаря за тот минимум, которым должен обладать индивид, чтобы иметь право называться человеком.
Умный судья качает головой:
– Мы строим классификационный признак, приняв за необходимый минимум связи самого отсталого человека, а затем, исходя из той же классификации, считаем его человеком, поскольку он обладает этим минимумом. Получается заколдованный круг. Кроме того, те, кто не обладает некоторыми из этих связей, – уже не люди? Но разве их отсутствие нельзя объяснить спецификой умственных особенностей конкретного индивида?
Увы, ни антрополог, ни зоолог не в состоянии установить точной границы, отделяющей человека от животного. Но тогда, может быть, нужно учитывать не один признак, а целый их комплекс? Таким увлекательным путём действительно идут в романе некоторые учёные. Например, из 1065 отличительных признаков человека, обнаруженных одним представителем науки при сравнении анатомии человека и обезьяны: величина черепной коробки, число спинных позвонков, зубных бугорков, – две трети, оказалось, принадлежит и человеку, и животному. Остальные характерны только для человека. Но опять возникает вопрос: если у конкретного индивида отсутствует хотя бы один из этих признаков, например количество нейронов серого вещества или форма и строение зубов, соотношение групп клеток и позвонков, то мы уже не вправе считать его человеком в полном смысле слова?
– Трудно поверить, но это так, – сокрушался один из персонажей романа, – что люди до сих пор не смогли определить этот отличительный признак.
«Человек есть человек, что тут можно ещё сказать?» – буквально так говорит в романе обыватель, но точно так же отвечают «научными» словами некоторые учёные. Человек, конечно, коренным образом отличается от животных. Но чем? Разве мы не видим людей, доводящих себя до животного состояния? Или не видим проблеска ума в глазах собаки, которая преданно смотрит на хозяина и ждёт его приказа?
Поэтому резонны рассуждения персонажа вокруг некоей границы (переходного состояния), отделяющей одно качество от другого.
– Если вам дадут горячую и очень холодную воду, мы не станем колебаться. Ну а как быть с тёплой водой? Как её определить, если, конечно, предварительно не договориться точно, при скольких градусах воду следует считать горячей.
Человека с шимпанзе тоже не спутаешь – слишком велика разница. А между шимпанзе и плезиантропом, между плезиантропом и синантропом и т. д. расстояние каждый раз приблизительно одинаково. Где кончается обезьяна и начинается человек?
Но ведь можно предварительно договориться! Увы, существует слишком много разных мнений. Лучше просто бросить жребий. Бросить жребий – это значит отказаться от научного решения вопроса.
Правда, предлагается и такой «действенный» выход.
– Граница пройдёт там, где её захотят провести «сильные мира сего».
Их решение, их голос превращается при таком мышлении в критерий истины.
Веркор в блестящей форме довёл до абсурда реальное противоречие, в которое попадает эмпирический тип мышления, пытаясь решить вопрос о сущности собственными средствами. Но разрешить его он сам оказался не в силах, потому что, по сути, встал на ту же самую формальную логику при оценке результатов дискуссии о природе человека. В ответ на упрёки К. Наумова, что понимание Веркором человеческой солидарности не строится на реальных связях и отношениях людей в процессе материального производства, Веркор заметил: «Это зависит от точки зрения… Я знаю, что на свете существует немало племён, чья человеческая солидарность строится не на материальном производстве, а на охоте, войнах или на фетишистских обрядах… Отрицая существование и такого рода солидарности, мы невольно поставили бы эти племена вне рамок человеческого общества…»
Возражая так, Веркор фактически отказывается вообще от рассмотрения вопроса: «Что есть человек?», ибо не видит путей его решения. Его ответ абстрактно бессодержателен, говорит Ильенков. Таким образом, сложнейший философский вопрос, решаемый с помощью средств формальной логики, приводит к тавтологии: «Человек есть человек». Но марксисту очевидно, что этот вопрос и логический, и мировоззренческий, диалектический. Он может быть решён только в рамках материалистического марксистского мировоззрения и средствами другой логики – диалектической.
«…Сущность человека, – писал К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе», – не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [30]. Это значит, что эта сущность не может быть обнаружена в отдельных абстрактных признаках, взятых при рассмотрении отдельного индивида, отдельного Ивана или Петра. На этом пути содержательное понятие «человек» получить невозможно.
Только анализ закономерностей рождения человеческого общества, исследование совокупности общественных отношений может вывести нас на эту сущность, пишет Ильенков И если коллективное производство орудий труда есть первая историческая форма человеческой жизни, она и является реальным всеобщим основанием в человеке, который есть продукт собственного труда. Всё остальное может быть понято из неё: и физические качества (например, прямохождение, анатомические особенности руки, мозг и т. п.), и его мышление, сознание и т. п. Поэтому краткая дефиниция понятия связана с утверждением: «Человек есть существо, производящее орудия труда».
Проще вообще отказаться от решения вопроса: «Что такое человек?», как предлагают некоторые в романе, да и в реальной жизни. «Нечего искать определение человека, – говорят они. – Здесь нет никаких проблем». Как написал один психолог применительно к понятию личности: не нужно искать, где проблема возникает, ибо ребёнок до трёх лет ещё не личность, а в три – уже несомненно личность. Искать границу перехода неличности в личность бессмысленно.
Границы между ними искать, конечно, бессмысленно. А вог понять генезис, становление личности, когда количество переходит в качество, когда противоречия разрешаются на другом витке развития, показать необходимость этого перехода, то есть выяснить действительные закономерности превращения ребёнка в личность, необходимо, хотя это и трудно.
После такого отступления в область философии и литературы, вероятно, вдвойне интересно, как подошли к решению проблемы человека дети, которых специально воспитывали на логике не формальной, а диалектической.
Но сначала посмотрим, как определяют понятие человека те дети, способ обучения которых не был специально направлен на формирование теоретического мышления. Вот, например, типичное для девятилетнего ребёнка суждение о человеке.
«Человек – это живое существо. Ему необходимы воздух, свет, тепло, пища. Человек очень умный и грамотный, он всё слышит и видит. Он строит шахты, заводы, фабрики. Человеку, как и животному, нужна вода. Без воды живое существо не может прожить. Если человек неграмотный, то он не может читать и писать или поступить в институт, на завод. Если человек расстраивается, он начинает нервничать».
«Человек – это тело, которое живёт, умирает, размножается. Человек состоит из органов тела. Органы тела – это лёгкие, печень, сердце, мозг. Ещё есть у человека конечности».
«Человека создала природа. Человек покорил всю природу, всё, что есть на земле. Он открыл недра земли, разведал космическое пространство. Он может совершить самое невероятное. А произошёл человек от обезьяны. Эта обезьяна была совсем как человек… Сначала с обезьяны начала слезать шкура (т. е. шерсть). Потом умные обезьяны стали понемногу одеваться. Эти обезьяны называются человекообразными. Вот что такое человек».
Правда, нельзя удержаться от улыбки, читая эти сочинения? В них много чисто детского, парадоксального, наивного. Так и хочется ещё раз сказать: дети есть дети. Но мы уже знаем, как много стоит за этими неопределёнными словами. Поэтому пойдём по логике психолога-экспериментатора, который должен эти сочинения проанализировать. Что он может из них извлечь? Оказывается, немало интересного.
Во-первых, целесообразно было бы, вероятно, определить тот набор признаков человека, с которым оперируют дети. Мы видим, что дети упоминают такие признаки, как физические данные человека, его происхождение, мышление, моральные качества, трудовая деятельность и некоторые другие. Но одни признаки встречаются чаще, другие – реже. Например, большая часть детей говорит о его происхождении, третья часть – о физических данных и о мышлении. Остальные признаки встречаются значительно реже.
Во-вторых, мы можем поинтересоваться, а сколько же детей дали определение человека и что лежит в основе этого определения. Увы, у девятилетних детей мы встречаем таких определений сравнительно немного. Но самое главное – это то, что лишь немногие из них указали в определении на существенные признаки – мышление и труд как характеристику человека.
Наконец, нас может заинтересовать, насколько содержательно раскрывается это понятие. Связано ли оно с последующим изложением, является ли оно тем корнем, из которого выстраиваются все остальные характеристики человека? Выясняется, что мало кто из детей способен на такую логическую операцию. Они просто дают определение человека, а затем безотносительно к этому определению перечисляют другие признаки, которые они относят к человеку. Причём делают это, как правило, в случайном порядке, опираясь на свой житейский опыт или разрозненные сведения, полученные из различных источников.
Таким образом, для психологов становится очевидным, что у девяти-десятилетних детей имеет место типично житейское понятие о человеке.
Сочинения эти ещё раз показали, что и за пределами учебных ситуаций познавательный интерес детей имеет преимущественно неустойчивый, эмпирический характер и не обладает силой, понуждающей их к самостоятельной деятельности по расширению и углублению своих знаний. Следует при этом заметить, что родители этих детей – грамотные и культурные люди, и поэтому поверхностные, стандартные знания и представления детей никак нельзя отнести за счёт недостатков семейного воспитания.
Теперь обратимся к работам детей, прошедших курс теоретического обучения.
«Я считаю, что человек первым делом существо, гораздо дальше стоящее по своему умственному развитию от всех других существ нашей планеты. В отличие от животных человек усовершенствует орудия труда, делает жизнь лучше, познаёт окружающий мир. Человек не может просто видеть что-то и знать, что это. Например, когда первобытные люди видели солнце, то они объясняли это тем, что по небу ползёт черепаха с огненным панцирем. И хотя они объясняли это явление неправильно, но они всё-таки его объясняли. И сейчас, например, когда мы видим что-то новое, то пытаемся разобраться или спрашиваем у старших. В общем, о человеке можно говорить много, но, главное, по-моему, то, что он регулирует свои действия».
Что самое существенное в этом сочинении девятилетнего мальчика? Прежде всего живая мысль, далёкая от абстрактных, ходульных рассуждений. Это его собственная мысль, и недаром он начинает и кончает сочинение с собственной оценки: «я считаю», «по-моему».
Его пример о том, как первобытные люди объясняли явление солнца, обезоруживающе прост, убедителен и диагностически точен в характеристике человека. Дело ведь не в том, что они неправильно объясняли это явление. Главное, что они всё-таки его объясняли! А объяснять стремятся только люди. И как последний штрих – замечание о регуляции собственных действий как определяющего признака человека.
Следовательно, по мнению этого мальчика, людьми можно назвать тех, кто совершенствует орудия труда, регулирует при этом свои собственные действия (то есть обладает рефлексией, мышлением) и фиксирует (объясняя) найденные способы действий.
Конечно, не все дети здесь поднимаются до такого уровня теоретического, подлинно философского обобщения. Но большинство к нему подходят близко. Впрочем, сочинения детей говорят сами за себя.
«Раньше у человека был гораздо меньший мозг, чем у современного. Мозг человека увеличивался от внимательности и от умения думать. А пальцы стали ловчее и умелей, потому что человек умеет работать. Думать заставляет труд».
«Я живу в человеческом обществе. Меня всюду окружают люди. Люди многим отличаются от обезьян. Человек намного умнее животных. Человек умеет изготовлять орудия труда, а животное нет. Если человек попал на необитаемый остров, как это писалось в книге «Робинзон Крузо», то он не стал поддаваться панике, а начал строить себе жилище. Человеку очень трудно быть одному… У человека развито письмо, а у животных нет. Человек – мыслящее существо, а животное нет. У животных вообще нет культуры, а у человека есть. Человек очень многим отличается от животных».
«Трудно поверить, что когда-то не было человека. Была земля, был животный мир, а человека не было. И вот постепенно из этого мира выделилось особое существо – человек. И главное, что отличает человека, – это его сознание, способность мыслить. Разум человека – это его способность не только видеть окружающий мир таким, какой он есть, но и представить его другим, лучшим и стремиться к этому».
«Человек создан для того, чтобы мыслить, а потом воплощать задуманное в жизнь. Отнимите у человека руки – он останется человеком, отнимите ноги – он тоже останется человеком, но если человек потеряет разум – это не человек, им будут руководить инстинкты, в нём появится животная алчность, он будет думать только о наживе. Человек не полностью осознаёт свою роль в природе. Он продолжает вести войны и сейчас. Но скоро он станет действительно разумным человеком, человеком с большой буквы. Говорят, когда падает звезда – умирает человек. Но на земле остаются его дела, его мысль, люди с уважением вспоминают его имя. Если же человек прожил жизнь для себя, его ждёт забвение».
Человек. Труд. Разум. Общение… Дети связывают эти понятия воедино. Они не только дают этим понятиям содержательные определения, но и раскрывают их, применяя способ выведения частных свойств человека из его всеобщих оснований. Всё, что дети пишут о человеке, ими самостоятельно найдено, прочитано, продумано, стало фактом их сознания. Налицо тенденция к теоретическому, научному обобщению понятия «человек». Об этом же свидетельствуют и количественные данные: например, смысл трудовой деятельности связывают с другими существенными признаками человека – мышлением, творчеством 73 процента детей в 3-м экспериментальном классе, в контрольных – 20-30 процентов.
Ильенков, который один из первых обратил внимание на необходимость воспитания разумного мышления у детей, мог бы удовлетвориться этими сочинениями.
Я, ты, он, она… Мышление и личность
Единство обучения и воспитания – фундаментальный принцип педагогики. Но как часто в педагогической практике действительно единый процесс распадается на два параллельных и независимых: обучение – процесс передачи знаний, воспитание – приобщение к моральным нормам, которое зачастую приобретает характер педагогических назиданий.
Но вот дети решают принципиально новую, теоретическую задачу не каждый порознь, а все вместе – порознь её не решишь. Поодиночке можно складывать три и два, понять же принципы, законы математики можно по-настоящему только в диалоге друг с другом, с учителем, который направляет поиск в нужное русло, в совместном мышлении. Коллективно-поисковая деятельность – цепочка мысли и действия, идущая от учителя к детям, от каждого к соседу по парте, по классу. Вначале она выступает в зримом, наглядном виде: ещё не сформировались у каждого внутренние психологические механизмы анализа проблемных задач. Поэтому так эмоционально бурно протекает учение детей. Каждая догадка буквально подхватывает ребёнка со стула: «Спросите меня, спросите!..»
Но ведь фактически спрашивает не учитель, спрашивает весь класс, ответ или решение оценивается всеми.
– Выпишем на доске все поступившие предложения. Чьё лучше?
Разберём по порядку. Доказывайте, доказывайте!
– Итак, все согласны, что самое удачное решение у Вовы?
Теперь возражений нет. И не потому, что Вова отличник, а отличники будто бы всегда правы. Во-первых, Вова – обычный ученик, «хватающий» с неба ровно столько звёзд, сколько и другие дети. Дело в том, что решали задачу все. Предложение Вовы кажется им вполне логичным, потому что их мысли шли в том же направлении. И разве так важно, кто его высказал первым – ты или твой товарищ? Важнее то, что это мысль верная, позволяющая ответить на вопрос, который возник перед каждым. Это – общая мысль, отражающая итог коллективной работы.
Очевиден нравственный аспект такого обучения. Самоутверждение в учебном труде достигается не за счёт каких-то особых способностей по сравнению с недостатками или тупостью других. Открыл новый способ не я, открыли мы, потому что вместе работали: мысль одного стала продолжением догадки другого. Я только это открытие сформулировал, зафиксировал.
Дети хорошо себя чувствуют в таком коллективе. Их не подавляет авторитет одноклассников, проявляющих поначалу лучшую ориентировку в изучаемом материале. Все равны перед иксом задачи, открытий хватит на всех – и на самых поначалу робких, нерешительных, интеллектуально заторможенных. Нет робости и перед «всезнающим» учителем. Идёт диалог равных, поэтому нет и не может быть ориентации на мнение старшего только потому, что он больше знает.
Таким образом, способ развивающего обучения задаёт определённые нормы отношений между всеми его участниками, определённый стиль делового сотрудничества. Ошибки и неудачи подстерегали психологов и педагогов как раз там, где почему-либо не удавалось создать ту приподнятую атмосферу открытия нового, поражавшую всех, кто оказывался свидетелем эксперимента. Организация диалогического, личностного общения оказывалась здесь важнейшим признаком новой педагогической квалификации.
Учитель не просто объясняет, растолковывает правило, закон, проверяет его понимание и усвоение. Он руководит сложным ансамблем, где нет солистов, или, точнее, где солистом в любой момент может стать каждый. Надо лишь уловить момент, увидеть заблестевшие глаза, подсказать, если произошла заминка, организовать коллективную помощь остальных детей. И при этом полифонизме мыслительной деятельности учитель должен вести нужную тему, постоянно иметь в виду цель, каждый раз устанавливать допустимые пределы отклонения от неё.
По мере развития экспериментальных исследований становилось всё более ясным: чтобы воспитывать мышление, творческой должна стать не только учебная деятельность детей, но и сама деятельность педагога. Да, конечно, учитель знает, чему он должен научить своих подопечных, но, идя на урок, он никогда не может предположить, как будет совершено открытие, какими путями пойдёт детская мысль.
Более того, бывает, что дети «замечают» такие особенности задачи, о которых педагог и не догадывался раньше. Приходится откровенно говорить, что он должен подумать над этим их «открытием» и на следующем уроке вернуться к нему и обсудить ещё раз. Поэтому каждый урок, даже если он повторяется в десятый раз, становится уникальным, не похожим на остальные. Здесь в научную организацию педагогической деятельности естественно вплетаются элементы искусства, отражающие неповторимую индивидуальность, личность педагога.
Метод обучения не только не подавляет учителя жёсткой инструкцией, наоборот, он обретает силу, лишь когда учительская индивидуальность полностью проявляет себя, сталкиваясь с индивидуальностью каждого отдельного ребёнка. В этом взаимном со-творчестве, обогащающем личность и учителя и ученика, кроется секрет воспитывающего характера такого обучения.
Даже простые наблюдения показывали экспериментаторам, что в ходе его реализации происходят очень интересные изменения в развитии личности ребёнка помимо тех изменений в мышлении и мотивации учения, о которых шла речь выше. Прежде всего они касаются характера общения между детьми.
Доктор психологических наук Я. Коломинский и другие учёные, изучавшие межличностные отношения между сверстниками в обычных условиях обучения, подчёркивали такую их специфику в младшем школьном возрасте. Эти отношения летучи, поверхностны, едва возникнув, тут же распадаются. И только начиная с подросткового возраста, появляются более устойчивые товарищеские связи.
В условиях же экспериментального обучения невооружённым, так сказать, взглядом было видно, что дети быстро сходятся между собой, начинают встречаться компаниями и за пределами школы, вместе делают уроки, играют, делятся впечатлениями о прочитанных книгах. То есть происходит как бы возрастной сдвиг в характере межличностных отношений: они завязываются и устанавливаются уже в начальных классах, что не может не сказаться на особенностях развития личности ребёнка и классного коллектива на последующих возрастных этапах.
Результаты наблюдений подсказывали необходимость глубокого научного анализа этих особенностей. Но здесь мы вторгаемся в новую сложнейшую область возрастной, педагогической и социальной психологии, тем более что исследования, связанные с таким анализом, по сути, только начинаются.
В известной монографии «Психологическая теория коллектива» академик АПН СССР А. Петровский отмечал парадоксальность такого факта, что подлинные коллективные формы отношений в школе складываются в настоящее время главным образом в трудовых формах деятельности: «В форме посильного участия в производительном труде, имеющем коллективный характер, в общественно полезной деятельности, в кружковой работе, в пионерской и комсомольской работе, наконец… в различных видах внеурочной учебной деятельности, где возможно реальное (разрядка моя. – А. Д.) взаимодействие и взаимопомощь».
И далее учёный говорит о необходимости решить проблему использования обучения для создания коллектива, построения межличностных отношений между детьми, которые оказывались бы «реально опосредованными содержанием и ценностями совместной деятельности».
Психологи предполагают, что теоретический способ обучения как раз и создаёт такие условия, ибо в учебной деятельности, основанной на коллективном творческом поиске истины, с самого начала возникают потребности и способности, общественные по форме: стремление к постоянному изменению, умение самостоятельно брать знания. Отсюда, кстати, и растущее стремление этих ребят к проявлению своих способностей в других видах общественно полезной деятельности.
Очень быстро обнаруживается, что детям недостаточно одной учебной деятельности. Само её формирование начинает требовать реального практического выхода. Усвоив идею реостата или вольтметра не как готовую, вычитанную в книге, а добытую собственной умственной работой, ребёнок начинает испытывать потребность создать реальный прибор своими руками. Он идёт в технические кружки, но с ещё большей радостью он пошёл бы в цех, где изготовляют такие приборы.
В этом случае переход к трудовой деятельности является естественным и личностно необходимым. Но тогда сразу же возникает вопрос, а каким методом обучать детей трудовым операциям: давать, как обычно принято, практические конкретные знания или, может быть, попробовать и здесь теоретический способ обучения? Ведь принцип политехнизма в наши дни распространяется на всю систему общественного производства.
Сотрудники факультета психологии МГУ З. Решетова и И. Калошина на кафедре, руководимой членом-корреспондентом АПН Н. Ф. Талызиной, ещё в конце шестидесятых годов убедительно доказали, что и при обучении ручным операциям, рабочей технологии можно применять тот же теоретический способ обучения, сформировать с его помощью знания и умения не узко практического, а политехнического характера.
Их работа была выполнена в профессионально-техническом училище, что ещё более подчёркивает принципиальный характер полученных результатов.
Задача решалась на примере обучения токарей принципам выполнения так называемых комплексных работ по металлообработке. Анализ практики существующего обучения показал психологам, что ученики такими обобщёнными умениями не владеют. Дело в том, что комплексная работа предполагает последовательную обработку нескольких поверхностей детали: от выбора последовательности зависит сама возможность выполнения необходимых технических требований. Но конфигурация деталей может быть настолько различной, а следовательно, и условия их выполнения могут быть настолько разные, что всякий раз для того, чтобы выбрать рациональную технологию, требуется специальный анализ, учитывающий общие зависимости между отдельными технологическими условиями.
Способность к такому анализу, как правило, и отличает рабочих высокой квалификации.
Большинство же новичков обучены только конкретным операциям: в каждом отдельном случае ученик получает технологию обработки детали в готовом виде от мастера, а выполнение комплексной работы превращается в повторение ранее пройденных отдельных операций. Но работа по готовой технологической карте, без понимания объективных условий производственного процесса значительно обедняет производственную деятельность рабочего в интеллектуальном отношении и делает его труд не только неинтересным, нетворческим, но и менее производительным. Здесь, как показывают многочисленные социально-психологические исследования, следует искать причину пока ещё значительной текучести кадров молодых рабочих и брака в их труде.
Каким же путём шли психологи в решении поставленной задачи? Прежде всего ими была исследована и выделена общая схема анализа всех технологических условий, которая пригодна для любого задания на комплексную работу. Оказалось, что она должна включать анализ детали – принадлежность её к определённому классу, требования к взаимному расположению поверхностей, анализ заготовки (её размеров, припусков), соответствующие расчёты (количество установок заготовки, способов её закрепления), выбор последовательности обработки (составление технологической карты).
Именно такому технологическому анализу психологи совместно с мастерами производственного обучения учили будущих токарей. Показывали на одной детали сам принцип работы, а затем проверяли его действенность при решении конкретных практических задач. При этом тщательно отрабатывалась вся последовательность действий, которые должен совершить ученик, что обеспечивало полную и сознательную его ориентировку в материале.
Схема анализа условий при выполнении комплексных работ была общей для деталей всех классов. Но её усвоение происходило лишь на основе выполнения деталей, принадлежащих к классу «валы». Психологи вправе были ожидать, что, если они действительно сформировали у учеников теоретическое обобщение (способность к обобщённому анализу любой комплексной работы), ученики смогут самостоятельно применить свои умения при обработке деталей других классов, с которыми они раньше не сталкивались в обучении.
Ученикам был дан чертёж новой детали – втулки и было предложено выбрать технологию её обработки. Никаких указаний, что эта деталь принадлежит к другому классу, не давалось.
Чтобы решить задачу, ученикам надо было «увидеть» за своеобразием технологических условий обработки новой детали обобщённую схему анализа, пригодную и в данном случае. А затем, отталкиваясь от него, учесть то своеобразие, которое отличает технологию обработки вала от технологии обработки втулки.
Результаты контрольной проверки полностью удовлетворили экспериментаторов: самостоятельно справилось со сложной задачей 98 процентов учеников. Показательно, что они решительно отклонили попытки объяснить им, как надо выполнять новое задание, поскольку все зависимости при выборе последовательности обработки им были ясны. При этом ученики явно испытывали гордость за возможность изготовить деталь по собственной технологии.
Таким образом, оказывается, что в ПТУ или в школьных мастерских детям можно задать не только конкретные практические умения, но и обобщённые способы анализа производственной деятельности. Основы мастерства, которым отличаются рабочие высокой квалификации, могут быть в принципе сформированы в специальном «теоретическом» обучении. Ещё раз была доказана его эффективность, которая всегда оборачивается в оба конца – развивает способности человека и одновременно повышает производительность его труда.
Эту идею впоследствии подтвердили исследования Э. Фарапоновой и других психологов по теоретическому трудовому обучению в младшем школьном и подростковом возрасте. Они показали, что техническое мышление, политехнические умения возникают при обучении не вообще технологии, а оптимальной технологии, то есть той, которая даёт ученику средства широкой и свободной ориентировки в технологических процессах. При этом он приобретает способность не просто «вкалывать», давать продукцию, но и рационализировать, оптимизировать свой труд, что и должно быть свойственно рабочему эпохи НТР.
Наиболее интересными в этом направлении оказались результаты экспериментального обучения широкопрофильному труду в области радиоэлектроники, выполненные в последние годы З. Решетовой и С. Мищик на знаменитом ныне московском опытно-экспериментальном школьном заводе «Чайка».
Идея эксперимента состояла в том, чтобы представить ученикам старших классов предмет радиоэлектроники как целостную теоретическую систему, охватывающую все стороны её существования: проектирование, конструирование, производство радиоэлектронной аппаратуры многоцелевого назначения, её эксплуатацию. То есть с самого начала теоретический системный принцип обучения был нацелен на модель специалиста широкого профиля, умеющего составлять технологические карты (проектировать систему), осуществлять монтаж, наладку оборудования, контроль за функционированием системы (управление и ремонт).
Как это могло быть осуществлено? Оказалось, что такие широкие знания и умения возникают лишь в том случае, если ученики, решая специальные познавательные теоретические задачи, обнаруживают закономерную связь между физическими параметрами системы: энергетической составляющей, пространственной (радиус действия), гравитационной (масса) и другими и элементами технического её воплощения: центрами приёма, хранения, передачи и уничтожения информации, разнообразными связями между центрами, со средой и т. п.
Получив такую широкую теоретическую ориентировку в предмете, ученик при решении частной задачи на конструирование или наладку системы обретает способность видеть все функциональные связи: проектируя элемент, отчётливо представляет будущую его эксплуатацию; эксплуатируя, задаётся вопросом о возможности улучшения конструкции аппарата. Широкая ориентировка в предмете труда порождает широту мышления, когда оно, освобождаясь от тесных рамок частнопрактических знаний и умений, становится способным к творчеству. Здесь зримо выступает сращение инженерного, управленческого и исполнительского труда. Но одновременно (и это, может быть, самое главное) появляется возможность воспитания более широкого, мы бы сказали, государственного взгляда на собственный труд. Системное мышление со временем рождает у ученика отчётливое понимание последствий его производственной деятельности, действительных связей между ним как работником и другими людьми, участвующими в едином производственном процессе. Так, овладение системным теоретическим анализом может помочь поднять на новую нравственную ступень всю личность в целом.
Но, может быть, одним из наиболее важных результатов такого обучения является тот факт, что знания и умения, обеспечивающие несоизмеримый с традиционным способом обучения диапазон практических возможностей ученика, были приобретены… в 6 раз быстрее. Даже хорошо понимая «ёмкость» и практичность теории, каждый раз удивляешься её действительным возможностям[12].
Так ещё до вступления в трудовую деятельность раскрывается для подростка смысл любого труда – умственного или физического – как труда производительного, интеллектуального, творческого.
В партийных документах подчёркивается «значение правильного соединения профессиональной подготовки с политехническим образованием, которое в условиях научно-технической революции позволяет значительно повысить способность работника к перемене труда, к освоению смежных, а то и совсем новых профессий, к постоянному самосовершенствованию» [31]. Отсюда следует требование усилить политехническую направленность содержания образования, совершенствовать формы и методы обучения, помогать ученикам вырабатывать самостоятельность мышления [32]. И чем раньше мы можем ввести ребёнка в этот политехнизм мысли, тем больше шансов на то, что такое образование действительно выполнит свою роль в воспитании гармонично развитой личности.
Разумеется, сложнейший и многогранный процесс обучения и воспитания не сводится, да и не может сводиться лишь к формированию теоретического мышления. В процессе обучения и воспитания есть большое число проблем, которых мы не касались в этой книге. Однако в современных условиях в школьной практике, в психолого-педагогических исследованиях связь между воспитанием разумного мышления и воспитанием личности становится всё более очевидной. Эту связь прекрасно выразил В. Ленин в лекции о государстве в Свердловском университете: только научившись самостоятельно разбираться в вопросах теории, говорил он, можно «…считать себя достаточно твёрдыми в своих убеждениях и достаточно успешно отстаивать их перед кем угодно и когда угодно» [33].
В этой ленинской формуле – принцип действительного единства процессов обучения и воспитания личности.
Творцами быть!
«Беру на себя смелость предположить, что и талант, и предрасположение к творчеству в решающей мере тоже предопределены генетически. Человек ещё не родился, а членство его в союзе композиторов уже записано в его генетическом коде», – в такой обнажённой форме высказал свою точку зрения одарённый популяризатор науки в дискуссии под названием «Всем ли быть творцами?»
«В храме творчества скамеек всегда меньше, чем желающих разместиться на них… Призвание человека в том, чтобы развить свои истинные потенции. Важно, какие способности достались тебе в жизни».
«Миф: творцами быть хорошо, а не творцами – плохо. В истории не существовало раньше представления об исключительной почётности или выгодности творческого труда».
В истории, конечно, раньше такого представления не существовало – в этом автор статьи под афористичным названием «Власть мифа» прав. Но на то она и история, чтобы менять представления о престижности той или иной человеческой деятельности. Так же как и о возможностях самого человека, творящего эту самую историю своими руками. «…Наука о мышлении, – писал Ф. Энгельс в «Диалектике природы», – как и всякая другая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления. А это имеет важное значение также и для практического применения мышления к эмпирическим областям. Ибо, во-первых, теория законов мышления отнюдь не есть какая-то раз навсегда установленная «вечная истина», как это связывает со словом «логика» филистерская мысль» [34].
Эмпирический «здравый смысл» на природу человеческой одарённости и таланта стойко держит свои позиции. Очевидность, наглядность различий в творческих способностях людей застилают глаза на истинные причины этих различий, а следовательно, тормозят решение важнейшей задачи современности – воспитание творческих способностей.
Для марксистской философии аксиоматична мысль, что природа творчества, так же как и сущность человека вообще, коренится в системе общественных отношений. Сущность человека как «особой личности» составляет не её борода не её кровь, не её абстрактная физическая природа, а её социальное качество…» – писал К. Маркс в работе «К критике гегелевской философии права» [35]. И «искусство оперировать понятиями не есть нечто врождённое и не даётся вместе с обыденным, повседневным сознанием…» (Ф. Энгельс) [36].
Советский генетик академик Н. Дубинин утверждает, что никто ещё не смог доказать, будто различия нормальных людей по интеллекту зависят от генов. По мнению К Дубинина, никаких генов духовного содержания личности не существует и существовать не может: человеческая психика формируется под влиянием общественно-исторического опыта.
Человеческий мозг и биологическое тело человека универсальны. Эта универсальность и служит предпосылкой способности всех нормальных людей к неограниченному духовному развитию.
Ложные представления о связи генетического и социального, считает академик АН БССР П. Рокицкий, покоятся на некорректных попытках своеобразие социального развития индивида выдать за генетическую предопределённость. Но даже серьёзные физические недостатки (отсутствие зрения, слуха, речи), как показывают психологические исследования, при определённых условиях компенсируются целенаправленным воспитанием.
Фатальности нет даже для слепоглухонемого от рождения ребёнка[13]. Ибо его развитие определяется не анатомо-физиологическими задатками (неспецифическими и универсальными по отношению к любым способностям) и даже не просто социальной средой, задающей нормы культуры и способы овладения ими, а деятельностью самого человека.
Советская психологическая наука подтверждает своими исследованиями: личность формируется в той мере, в какой проявляет активность. Ребёнка могут окружать с детства величайшие творения человеческой мысли, но если он не осуществит по отношению к этим творениям работы собственной души, он так и останется невеждой.
В том, что человек творит себя в своей деятельности, – суть ответственности человека перед самим собой и перед обществом. Прямолинейный биологический (или социологический) детерминизм снимает с него эту ответственность. Как показывают социально-психологические исследования, такая «научная» позиция вполне устраивает некоторых закоренелых тунеядцев. Если им приходится держать ответ за свои антиобщественные действия, они ссылаются на якобы плохую наследственность: в век средств массовой информации «грамотными» становятся все; а другие, становясь в позу, демагогически требуют: а вы перевоспитайте меня…
В «самотворении» человека – ответ на вопрос о великом разнообразии человеческих способностей. Очевидные факты появления одарённых людей с высоким общим уровнем интеллектуального развития вне системы обучения свидетельствуют лишь о той простой истине, что жизненная практика шире любой системы образования. Разумное начало нужно ведь не только в решении теоретических задач, но и в повседневной жизни. Здесь отражается общая современная тенденция, когда стихийно воспитываются способности, которые мы должны научиться формировать целенаправленно.
Прав был поэтому С. Рубинштейн, который считал, что при отрыве от «родовых» свойств человека (а таким родовым свойством является его способность к труду вообще) выдающиеся способности неизбежно мистифицируются и путь для их изучения обрывается. Изучению различий надо предпослать изучение природы общечеловеческих задатков. Тогда и талант будет понят не как количественное различие в уровнях развития людей, а как «качественно новое свойство психики, связанное с коренным, принципиальным изменением в типе и характере труда… – пишет Э. Ильенков. – Это качество -- результат гармонического и всестороннего развития человека… личности, сосредоточенной на решении больших, общественно значимых задач» [37].
Да, все люди разные: одни талантливы, другие же не в состоянии решить элементарной задачи. Но «исключительная концентрация художественного таланта в отдельных индивидах и связанное с этим подавление его в широкой массе есть следствие разделения труда», – коротко резюмировал К. Маркс в «Немецкой идеологии» суть проблемы [38]. То есть талант воспитывает не всякий труд, а только тот, где есть действительные возможности творческой самостоятельности.
Труд, по Марксу, есть положительная творческая деятельность [39]. Он органично связан с творчеством, как дыхание с кислородом. И если человека лишают этого кислорода, то виновата в этом не природа, а исторические обстоятельства, в которых он живёт.
В творческом труде как раз и обнаруживаются не «случайные» (термин Маркса) различия между людьми, а подлинно человеческие различия. Они лежат не в генетической обусловленности «способных – неспособных», а в сущности самовыражения человеческой личности как уникальной, ни на что не похожей. В творческом труде человек создаёт и внешний уникальный (новый, небывалый до него) продукт, и собственную индивидуальность (непохожесть, небывалость). Нетворческий, рутинный труд «стёсывает» индивидуальность, ограничивает возможности её внутреннего развития. И тогда различия переносятся вовне – в одежду, в манеру поведения, в моду.
В основе таланта лежит тяжёлый труд. Но эту «каторгу» настоящего труда ни на что не променяют люди, познавшие её вкус. «Я… столяр… Вооружённый топориком, долотом и стамеской, с рубанком в руках, я царю за моим верстаком, над дубом узлистым, над клёном лоснистым… Сколько в них дремлет форм, таящихся и скрытых! Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только, как её возлюбленный, проникнуть в древесную глубь… Радость разума, который повелевает силами земли, который запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную прихоть своей благородной фантазии!» – утверждал роллановский Кола Брюньон.
Рабочему человеку вторит поэт:
Во всём мне хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте. До сущности протёкших дней, До их причины, До оснований, до корней, До сердцевины. Всё время схватывая нить Судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья.Для поэта творчество, конечно, – не миф. Его не удовлетворяет внешняя поверхностная форма существования (недаром ещё Шекспир утверждал: «Сведя к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным»). Он понимает и чувствует, что за ней лежат истинные причины, закономерности. Он хочет проникнуть в механизм процесса во всём. Сквозь обманчивый глянец оболочки заглянуть внутрь вещи, не скрывая детского желания сломать игрушку, чтобы узнать, что есть внутри.
А вслед за поэтом то же неистребимое желание «дойти до самой сути» проявляет учёный. «Как это чудесно, когда тебе открывается единая природа комплекса явлений, которые при непосредственном чувственном восприятии кажутся совершенно независимыми друг от друга», – говорил Эйнштейн [40].
И конечно, стремление к постижению мира, в котором мы живём, было присуще людям, творившим всесторонне, показавшим своим собственным примером, какие возможности заложены историей в каждом разумном человеческом существе.
«…Маркс постигал суть вещи. Он видел не только поверхность, он проникал вовнутрь, он исследовал составные части в их взаимном действии и в их взаимном противодействии. Он выделял каждую из этих частей и прослеживал историю её развития… Он видел перед собой не отдельную вещь самоё по себе, вне связи с окружающей её средой, но весь сложный, находящийся в постоянном движении мир» [41].
В этом небольшом отрывке воспоминаний П. Лафарга о К. Марксе изложена вся соль диалектического способа мышления, выражающего суть творческого процесса. Разум и творчество неразделимы – где бы они ни проявлялись: в искусстве, в науке, за станком или в сфере человеческих отношений, которые тоже надо уметь строить творчески, учитывая их диалектику.
Таким образом, действительная проблема заключается не в способности или неспособности людей овладеть достижениями культуры. А в том, чтобы каждый человек получил практическую возможность вступить на путь ничем не ограниченного развития. Ибо «чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу» (К. Маркс) [42].
В. И. Ленин считал, что борьба за подлинную культуру труда, мышления – одна из важнейших задач пролетарской революции. Обращаясь к будущему, к молодой комсомольской смене, в «Задачах союзов молодёжи» он выдвигает программу обучения и воспитания, основанную на единственно научной концепции мышления – диалектической логике. «…На место старой учёбы, старой зубрёжки, старой муштры мы должны поставить уменье взять себе всю сумму человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые являются неизбежными с точки зрения современного образования» [43] (Курсив мой. – А. Д.). Эти выводы тем более неизбежны сегодня, в новых исторических условиях, когда наука становится непосредственной производительной силой.
В партийном документе, определяющем пути развития нашей школы, говорится: «Грандиозные задачи конца нынешнего и начала грядущего столетий будут решать те, кто сегодня садится за школьную парту… Предстоит вывести все отрасли народного хозяйства на самые передовые рубежи науки и техники, осуществить широкую автоматизацию производства, обеспечить кардинальное повышение производительности труда, выпуск продукции на уровне лучших мировых образцов. Всё это требует от молодого человека, вступающего в самостоятельную жизнь, – рабочего, техника, инженера – самого современного образования, высокого интеллектуального и физического развития, глубокого знания научно-технических и экономических основ производства, сознательного, творческого отношения к труду» [44]. Ставится задача формирования способности к самостоятельному творческому мышлению.
Обществу развитого социализма нужны творцы во всех сферах жизни, люди с активной жизненной позицией. Найти пути воспитания таких людей – важнейшая задача психологической и педагогической науки. И они будут найдены, ибо ничто так не способствует развитию науки, как действительные потребности общества.
Афоризм Декарта «Мыслю, следовательно, существую» уже сегодня можно было бы выразить по-иному: «Разумно мыслю, действую, творчески преобразую мир и самого себя на благо Человека, следовательно, действительно существую на нашей прекрасной Земле».
Литература
На многие полезные для читателей работы по освещённой в книге проблеме автор ссылался по ходу повествования (см. список ссылок на источники, а также постраничные примечания).
I
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20.
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41.
О реформе общеобразовательной и профессиональной школы. М., Политиздат, 1984.
Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М., Политиздат, 1981.
Волков Г. В. Истоки и горизонты прогресса. М., Политиздат, 1976.
Зимянин М. Следуя ленинским принципам развития народного образования. – Коммунист, 1984, № 7.
Научно-техническая революция и человек. М., Наука, 1977.
Трапезников С. П. Интеллектуальный потенциал коммунизма. М., Политиздат, 1976.
Филиппов Ф. Р. Социология образования. М., Наука, 1980.
Философско-психологические проблемы развития образования. М., Педагогика, 1981.
Фролов И. Т. Перспективы человека. М., Политиздат, 1983.
II
Выготский Л. С. Собр. соч., т. 4. М., Педагогика, 1984.
Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы). М., Просвещение, 1966.
Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном форсировании умственных действий. – В кн.: Исследования мышления в советской психологии. М., Наука, 1966.
Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., Педагогика, 1972.
Давыдов В. В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. – В кн.: Возрастная и педагогическая психология. М., Просвещение, 1979.
Зак А. З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. М., Педагогика, 1984.
Калошина И. П. Проблемы формирования технического мышления. М., МГУ, 1974.
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., Политиздат, 1984.
Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М., Просвещение, 1983.
Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности. М., Изд-во АПН СССР, 1983.
Формирование учебной деятельности школьников. М., Педагогика, 1982.
Эльконин Д. Б. Как учить детей читать. М., Знание, 1976.
Ссылки на источники
[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 204.
[2] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 7.
[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 209.
[4] Коммунист, 1980, № 15, с. 34.
[5] Вопросы философии, 1963, № 4, с. 70.
[6] Литературная газета, 1975, 25 июня.
[7] Литературная газета, 1978, 17 мая.
[8] Коммунист, 1980, № 14, с. 58.
[9] Неделя, 1972, 23 января.
[10] Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., Педагогика, 1972, с. 138,
[11] Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах. М., Политиздат, 1968, с. 203.
[12] Турченко В. H Научно-техническая революция и революция в образовании. М., Политиздат, 1973, с. 188.
[13] Коммунист, 1984, № 3, с. 58.
[14] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. М., Наука, с. 158-159.
[15] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 14.
[16] Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика, с. 155.
[17] Литературная газета, 1971, 21 апреля.
[18] Вопросы философии, 1969, № 1, с. 39.
[19] Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах, с. 166.
[20] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 517-518.
[21] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 79.
[22] Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах, с. 206.
[23] Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 110.
[24] Там же, с. 98-99.
[25] Кант И. Соч. в 6-ти т., т. 3. М., Мысль, 1964, с. 206.
[26] Возрастная и педагогическая психология. Пермь, 1974, с. 90-91.
[27] Семья и школа, 1970, № 7, с. 23.
[28] Психология индивидуальных различий. М., МГУ, 1982, с. 133.
[29] Эльконин Д. В. Психология обучения младшего школьника. М., Знание, 1974, с. 46 (Серия: Педагогика и психология, № 10).
[30] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 3.
[31] Правда, 1984, 13 апреля.
[32] Правда, 1984, 14 апреля.
[33] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 65.
[34] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 366-367.
[35] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 242.
[36] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 14.
[37] Коммунист, 1977, № 2, с. 79.
[38] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 393.
[39] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 2, с. 113.
[40] Зелиг К. Альберт Эйнштейн. М., Прогресс, 1964, с. 45.
[41] К. Маркс и Ф. Энгельс о воспитании и образовании. Т. 2. М., Педагогика, 1978, с. 350-351.
[42] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 476.
[43] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 306.
[44] Правда, 1984, 14 апреля.
Примечания
1
Пиаже Жан (1896-1980) — швейцарский психолог, создатель операциональной концепции интеллекта и генетической эпистемологии (теории познания). Внёс значительный вклад в психологию мышления, детскую психологию, в разработку проблем взаимоотношения психологии и логики; недостатки его концепции (переоценка роли логического в психологическом анализе мышления и др.) были подвергнуты критике в советской психологии (см.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 492).
(обратно)2
Ж. Пиаже со своими сотрудниками написал 100 томов! Изложить его концепцию в сжатом виде чрезвычайно сложно. Подробнее читатель может с ней ознакомиться в книге Л. Ф. Обуховой с многозначительным названием «Концепция Жана Пиаже: за и против» (М., Изд-во МГУ, 1981).
(обратно)3
Здесь и далее в квадратных скобках указаны номера литературных источников, список которых приводится в конце книги.
(обратно)4
Подробнее с постановкой проблемы мышления в марксистской философии читатель может ознакомиться, в частности, по работам: Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерк истории и теории. М., Политиздат, 1984; Садовский Г. И. Диалектика мысли. Минск, Вышейшая школа, 1982; Швырёв В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном мышлении. М., Наука, 1978.
(обратно)5
Ныне газеты нередко публикуют размышления педагогов о том, как надо наилучшим, с их точки зрения, образом добиваться решения проблем, связанных со школьной реформой. Недавно один из таких думающих педагогов высказал очень удачную, на наш взгляд, мысль: надо учить подростка умению защищаться от «детских страхов» перед большой жизнью.
(обратно)6
См.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., Политиздат, 1975; Проблемы развития психики. М., Изд-во МГУ, 1972; и другие работы.
(обратно)7
Исследование по обучению детей письму на основе теории планомерного формирования умственных действий было осуществлено в МГУ психологом Н. Пантиной.
(обратно)8
Разумное мышление, постигающее, диалектическое, творческое, — всё это в определённой степени синонимы разумности, и не случайно в философских и психологических трудах можно встретить тот или другой термин. Постигающее — значит, проникающее в сущность предметов или явлений. Но сущность всегда противоречива, диалектична. Творческое — значит, преобразующее мир. Но в ходе преобразования как раз и постигаются диалектические законы этого мира. Применительно же к научному способу освоения действительности (кроме научного, философы выделяют духовно-практический, художественный и религиозные способы) разумное мышление — синоним мышления теоретического. Ибо процесс познания мира средствами науки воплощается в теоретических понятиях в противовес мышлению эмпирическому, то есть житейскому, отражающему эмпирию жизни, внешнюю сторону вещей и явлений.
(обратно)9
Подробнее об этом можно прочитать в книге доктора психологических наук А. Матюшкина «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» (М., Педагогика, 1972).
(обратно)10
Читателю следует иметь в виду, что приводимые здесь и далее количественные показатели отражают лишь определённые тенденции в развитии мышления и личности ребёнка. Их нельзя рассматривать как абсолютные характеристики, как некие нормы развития в тех или иных условиях обучения.
(обратно)11
Частичное подтверждение этой гипотезы было получено ещё в экспериментах Г. Бурменской: формирование понятий по методу П. Гальперина сказывалось у детей на развитии всех психических процессов.
(обратно)12
Результаты этого показательного эксперимента подробно изложены авторами в статье «Формирование политехнического мышления в условиях подготовки школьников к широкопрофильному труду» (Вестник МГУ. Психология, 1984, № 1).
(обратно)13
О поразительных результатах, полученных в психологических экспериментах со слепоглухонемыми детьми, можно прочесть в специальной подборке материалов под общим названием «Выдающееся достижение советской науки». — Вопросы философии, 1975, № 6, с. 63-84.
(обратно)




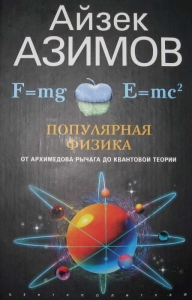
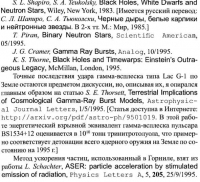

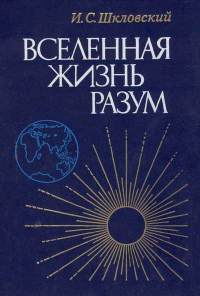
Комментарии к книге «Дважды два = икс?», Александр Константинович Дусавицкий
Всего 0 комментариев