Яна Всеволодовна Погребная Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-книга на границе миров
От автора
Название предлагаемой монографии представляет собою сознательный парафраз названия новеллы X.-Л. Борхеса «Поиски Аверроэса», первоначальный замысел которой был определен автором как стремление «описать процесс одного поражения» /34,с.253/. Но по мере развития философских поисков автора, намеренного показать тщету попыток Аверроэса, который, «будучи замкнут в границах ислама» /34,с.253/, толкует «Поэтику» Аристотеля, не имея даже отдаленной возможности постичь смысл понятий «комедия» и «трагедия», обнаруживается тщета попыток самого автора уяснить и передать образ самого Аверроэса, который ускользает от воссоздания и исчезает, едва автор перестает в него верить, поскольку исторически ограничен тот материал, которым оперирует Борхес, создающий Авероэса, даже зеркало не может отразить лицо философа, «потому что ни один историк не описал его черт» /34,с.252/. Книга, озаглавленная «Лолита», призванная явить зримый образ героини, обеспечивающая ей бессмертие и спасение в реальности искусства, книга, герой-рассказчик которой просит, требует, заклинает читателя вообразить его самого, поскольку иначе он лишится бытия, телесности, наличности; книга, которая показывает героев, погружает их в поток движущегося времени и меняющегося пространства, постоянно заставляет сомневаться в истинности запечатленной в ней и возникшей в сознании читателя и исследователя реальности.
И дело не только в игровом характере текста, приглашающего читателя к литературной игре, разгадыванию кроссворда, сличению рекуррентных ходов в ткани романа, и априори заложенной в этом процессе «различения» (термин Ж. Деррида) возможности ошибки. Как в лекциях об «Улиссе» Набоков подчеркивает, что «очень приблизительная и очень общая перекличка с Гомером… существует наряду со многими другими присутствующими в книге классическими аллюзиями», поэтому поиск прямых параллелей с Гомером «в каждом персонаже и каждой сцене «Улисса»» – «напрасная трата времени» /143,с.370–371/, так и отслеживание многочисленных реминисценций в «Лолите» самостоятельный аспект чтения книги, не особенно приближающий к ее пониманию. Но, несмотря на очевидность того, что анализ литературных и внелитературных источников, проактуализированных в полицитатной ткани набоковского романа, не может выступать самоцелью, тем не менее, игнорировать этот аспект интерпретации романа невозможно – это первоначальный этап его освоения. Причина ускользания набоковской реальности в ее одновременной телесности, вещественности, зримости и приблизительности этой вещественности. Таковы два взгляда Гумберта на Лолиту, один из которых сводим к набору «общих терминов», а другой воссоздает «объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт» /152,т.2,с.20/, причем один взгляд не перечеркивает другой, а, скорее его дополняет, индивидуализирует, но при этом очевидно существенное несовпадение, нетождественность обоих образов, воспроизведенных зрительной памятью.
Перечитывая «Лолиту» много раз, парадоксальным образом забываешь о шокирующем сюжете, на второй план отходят эротические сцены книги, затемняющие ее смысл при первом чтении, затем и литературная игра с читателем начинает восприниматься как некоторый вспомогательный фактор, и тогда на первый план выходит проблема осознания романа как второй реальности, как самостоятельного мира, который к тому же определен самим рассказчиком как область «бессмертия», как явленная в слове вечность, обеспеченная и поддерживаемая самим этим словом. В этом контексте сама игровая природа текста идентифицируется как один из способов, приемов создания его, как реальности, причем, возможно, не самый главный. По мере оживления текста, его постепенной воплощаемости в процессе его чтения и понимания в качестве конструктивной доминанты исследовательского поиска выдвигается необходимость выявления, осознания и анализа тех приемов, способов, методов организации словесной ткани книги, которые сообщают ей самостоятельное онтологическое качество состоявшейся обособленной, но одновременной диалогически сконструированной реальности, в которой особым статусом наделена категория времени, трансформированного в вечность.
«Лолита» – активная, действенная часть мира, созданного словом Набокова, мира, который, являя читателю героев протагонистов и антогогинистов, обнаруживает, утверждает, космизирует присутствие самого автора. «Лолита» – это Набоков в той же мере, что и «Другие берега» или «Strong Opinions». Форма бессмертия героев, как «предсказание в сонете» или «спасение в искусстве», обещанные рассказчиком Лолите, разделяется самим автором. Разумеется, речь идет не о биографизме текста, явном или скрытом, поскольку «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» или глава о Чернышевском в «Даре» убеждают в приблизительности и несоответствии творцу его биографического или автобиографического описания: факты не умещают полноты творящей индивидуальности, факты сами подвержены многообразной интерпретации в чужих и/или своих описаниях, метаописаниях или автометаописаниях. Демиург многолик, воплощаясь во множестве обличий, он единичен и неуловим одновременно, но, тем не менее, созданные им миры являют его «Я» как парадигму, как цепь отражений и воплощений единого. Именно поэтому Набоков характеризовал себя одновременно как автора своих книг и как их лучшего читателя. «Лолита» – один фрагмент, одна, бесспорно чрезвычайно важнейшая часть лика автора, образуемого мозаикой его творений, слагающихся однако в единую парадигму, составляющих однако единый художественный космос, который носит имя – Набоков. Новелла Борхеса об Аверроэсе завершается утверждением неидентифицируемости ни героя, ни автора, которая принципиальна в силу необратимости времени: «…мой рассказ – отражение того человека, каким я был, пока его писал, и, чтобы сочинить этот рассказ, я должен быть именно тем человеком, а для того, чтобы быть тем человеком, я должен сочинить этот рассказ, и так – до бесконечности» /34,с.253/. Набоков напротив утверждает единство и непрерывность человеческого бытия, что дает возможность возвращения в область уже состоявшихся события или состояния, обратимость времени нематериальна, но вещественна, поскольку погружение в прежнее «Я» осуществляется в границах настоящего, тем самым временно размыкая их или приостанавливая ход внешнего времени и развитие событий внешней действительности. Текст, таким образом, являет автора не как целостную категорию, а как часть целого, этот принцип узнавания целого по части, универсализации детали мира находит выражение в подробном прописывании ближайшего вещественного окружения и размывания фона.
Зримость и вещественность набоковского космоса парадоксально сочетающаяся с его ускользанием, призрачностью, обусловлена вненаходимостью демиурга, прочитывающейся на уровне конкретного текста как вненаходимость истины, как распыление смысла. Ориентация на феноменологические качества искусства, на витализм Набокова нуждается поэтому в подкреплении стратегией психологической герменевтики, направленной на понимание не столько героя или текста, его являющего, но и творца, скрывающего в творении и за творением. Этими соображениями продиктовано включение теоретических глав, открывающих данное исследование, в которых анализируются способы сотворения Набоковым словесной реальности, исходя из той концепции «литературы», которая оформляется в художественных и исследовательских текстах Набокова.
Вместе с тем, не подлежит сомнению игровой характер набоковского текста, его бытие в реальности литературы, рассмотренной как диахронически углубленный, развивающийся процесс создания вымысла и вымышленной действительности. Раскодирование литературных шифров, участие в литературных играх, отслеживание аллюзий – компонент диалога автора с читателем, обеспечивающий чтению характер поиска, освоения, открытия, придающий ему статус увлекательной интеллектуальной игры и, как мы убедимся позднее, рискованного приключения: читатель поглощается текстом, вовлекается в его реальность, его бытие за пределами текста подвержено аберрации под действием текста. Читатель – не только участник диалога, сотворяющий по оставленным автором «следам» (термин Ж. Деррида) реальность текста, но и участник создаваемого космоса, вынужденный в конце концов жить внутри текстуальной реальности, по утверждаемым в ней игровым и ролевым правилам.
«Лолита» – действенный художественный космос, видоизменяющий мир, лежащий за его пределами, вносящий этот мир в свои границы. Именно это качество текста заставляет поднять проблему его мифологизма, поскольку природе мифа отвечает и действенность и единичная реальность текста, исключающего иную действительность за своими пределами. Текст «Лолиты» – это мифологически воссозданное пространство, частями которого выступает и мир читателя и мир внешней действительности. Мифологизм как принцип пространственного устройства внутрироманного космоса и как онтологическое качество текста «Лолиты» актуализировал необходимость выявления архаических смысловых компонентов в ткани романа. Архаические кельтский и германо-скандинавский эпосы и их ближайший наследник – рыцарский роман выступают активными участниками сотворения космоса «Лолиты» и на уровне прямых цитат и сюжетных аналогий и на уровне скрытых аллюзий и реминисценций. Раскодирование архаических реминисценций в ткани романа, бесспорно, не могло выступать самоцелью, не было самодостаточным изначально. Наша исследовательская задача состояла не в выявлении и описании архаических реминисценций в ткани романа, а в анализе их значения в аспекте организации космического пространства «Лолиты». Архаические реминисценции выступают средством и способом идентификации героев романа как в аспекте их мифологического протеизма и интеграции, так и в аспекте их дифференциации. Архаические мифологические сюжеты, участвуя в организации ситуаций романа, определяют их направленность к единой цели – созидания героем-протагонистом и рассказчиком особого романного мира, обеспечивающего бессмертие своим героям. Способ анализа той или иной парадигмы реминисценций, работающих на создание того или иного содержательного аспекта романа, нам представляется важным и плодотворным только в контексте более общей и широкой исследовательской стратегии. Так, анализ архаических реминисценций в ткани романа в аспекте их смыслопорождающего значения выводит к проблеме способов организации пространства книги как области бессмертия.
Космос «Лолиты» построен в первую очередь как космос пространственный, разделенный на части, отдельные миры, принадлежащие отдельным персонажам, организованные к тому же по законам конкретного литературного рода. Принцип соответствия героя и мира, выступающего частью реальности книги, выступает, на наш взгляд, универсальным принципом сотворения всего космоса книги. Именно этот универсальный принцип со-творения пространства книги и будет проанализирован в предлагаемом исследовании на разных смысловых уровнях пространства текста. При подобной организации исследовательского материала неизбежны повторы, поскольку семантически значимый фрагмент пространства текста будет анализироваться в аспекте разных содержательных уровней единого космоса романа.
Исследовательская стратегия в предлагаемой вниманию читателя работе строится на комплексном сочетании различных исследовательских практик от феноменоменологической в теоретических главах, к стратегии интертекстуального прочтения романа, построенной по принципу углубления диахронических аналогий: от русской классики в главе «Принцип соответствия героя и мира в аспекте функций набоковских героев как «палачей» и/или «жертв»» к архаическим мифо-ритуальным текстам, идентификация которых обнаруживает глубинное смысловое качество космизма пространства «Лолиты». При этом мифопоэтическая интерпретация текста «Лолиты» будет выступать как обобщающая и доминирующая не только в силу демиургичности самого текста, создающего иную реальность и прочие миры включающего в ее орбиту, но в силу мифо-ритуальной идентификации способов сотворения космоса, который озаглавлен «Лолита».
Разумеется, предлагаемый способ прочтения «Лолиты» – одна из версий понимания книги Набокова. Мифологизм романа – одна из его смысловых граней, бесспорно важная, но далеко не единственная. Вместе с тем, пристальное внимание именно к этому важному смыслопорождающему компоненту «Лолиты» позволяет плодотворно обосновать концепцию демиургичности космоса книги, прояснить то понимание бессмертия, которое «Лолита» призвана обеспечить героям и явить читателю и ради обретения которого собственно и написана набоковская книга.
Автор выражает огромную благодарность профессору Л.П. Егоровой за проявленное к работе внимание и предоставленные материалы периодики, а также за плодотворные критические замечания, способствовавшие оформлению исследовательской стратегии.
1. Философско-эстетическая идентификация понятия «Литература» в космосе В. Набокова
Курс «Литературы 311–312» в Корнельском университете, посвященный анализу шедевров мировой литературы, В. Набоков открывал лекцией «О хороших читателях и хороших писателях», в которой предлагал собственную, сугубо индивидуальную идентификацию феномена литературы как вида искусства. Набоков сразу же принципиально отказывается от определения литературы как социально или философски и религиозно значимого явления, указывая, что суть литературы и ее назначение иные. Набоков предлагает собственную версию генезиса литературы и искусства, подчеркивая, что искусство вообще и литература, как его наиболее полное воплощение, в частности, этимологически идентифицируются как вымысел: «Литература родилась не в тот день, когда из неандертальской долины с криком: «Волк, волк!» – выбежал мальчик, а следом и сам серый волк, дышащий ему в затылок; литература родилась в тот день, когда мальчик прибежал с криком: «Волк, волк!», а волка за ним и не было» /143,с.27–28/.
Обращаясь к студентам-слушателям курса, Набоков прибегал к следующему парадоксальному примеру: «Что может быть скучнее и несправедливее по отношению к автору, чем, скажем, браться за «Госпожу Бовари», наперед зная, что в этой книге обличается буржуазия» /143,с.23/. Далее В. Набоков расшифровывает, с какой целью следует браться за чтение книги, в том числе и названного шедевра Г. Флобера, формулируя при этом основополагающее положение, выступающее ключом к собственной эстетической концепции художника: «Нужно всегда помнить, что во всяком произведении искусства воссоздан новый мир, и наша главная задача – как можно подробнее узнать этот мир, впервые открывающийся нам и никак впрямую не связанный с теми мирами, что мы знали прежде. Этот мир нужно подробно изучить – тогда и только тогда начинайте думать о его связях с другими мирами, другими областями знания» /143,с.23/. Этот фундаментальная сентенция наделена статусом аксиомы, данное В. Набоковым уже в первой лекции определение искусства литературы и искусства чтения выступает руководящим для анализа и адаптации не только избранных для лекционного курса шедевров мировой литературы, но и для восприятия и понимания творчества самого В. Набокова и как писателя и поэта, и как критика и литературоведа. В данном контексте принципиально важно подчеркнуть, что Набоков не преподает истории мировой литературы, конкретные факты биографии художника его мало интересуют, он не рассматривает творческую эволюцию писателя, как это традиционно принято в университетских курсах, а предлагает анализ избранных произведений, так, например, Ч. Диккенс представлен романом «Холодный дом», Ф. Кафка новеллой «Превращение», a P.Л. Стивенсон новеллой «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Лектор, формирующий содержание курса, учит читать, учит видеть мир, созданный художником слова, поэтому сознательно абстрагируется от социально-исторического и биографического контекста. Произведение искусства самоценно, оно заключено в себе самом, тождественно себе, и объяснения, идущие извне, только отдаляют от его смысла, затрудняют его понимание. Набоков избирает для анализа те книги (собственное определение художника), которые являют собой мир писателя наиболее полно, ощутимо, зримо; вот почему для понимания мира Диккенса избран роман «Холодный дом», а не «Домби и сын», непременно акцентируемый в учебниках по зарубежной литературе с точки зрения актуального социального и нравственного пафоса романа.
Искусство литературы, согласно определению Набокова, состоит не в отражении действительности посредством художественных образов. Это псевдогегелевское определение было поставлено под сомнение уже русскими формалистами, ближайшими предшественниками В. Набокова, причем В. Шкловский выдвинул определение искусства как приема /209,с.63/, которое Л. Выготский дополнил познавательным и эмоционально-нравственным аспектами /41,с.267–295/. Однако, Набоков вырабатывает собственную эстетическую концепцию, исходя из собственной, принципиально своеобразной идентификации феномена искусства вообще и литературы, в частности. Л.Н. Рягузова, подчеркивая, что философско-эстетическая концепция Набокова соприкасается с позициями русского формализма, структурной поэтики и семиотики, указала на принципиально оригинальное содержательное наполнение таких категорий и понятий как «форма», «прием», «структура», получающих новое «оязыковление» в тезаурусе В. Набокова /173,с.341–353/. Новое содержательное наполнение получило в философии, эстетике и онтологии В. Набокова и понятие «литература», которое отождествляется у художника с феноменом искусства вообще. Эктропическая концепция текста как присутствия, формы бытия автора, точнее одного из воплощений автора, сотворяющего новый мир, иную реальность созвучна мифопоэтическому пониманию текста как действенного, реально сущего начала.
Основания и принципы для этой идентификации нуждаются в прояснении. Набоков избирает искусство объектом и субъектом изображения, показывая и процесс созидания параллельной реальности и саму созидаемую реальность как его результат. Осознанно и разносторонне пользуясь словесной пластикой, в полной мере реализуя универсальные возможности слова как материала литературы, Набоков созидает в своих произведениях уникальный, самостоятельный мир, в границы которого вписываются и действительность и преображающее ее искусство, воплощенное в разных видах и формах. Синэстезия искусств выступает не задачей набоковского искусства, а следствием присущего художнику сенсуалистско-феноменолистического мировосприятия, не отделяющего обыденное от эстетического, а направленного на выявление эстетического, вписанного в пределы повседневного.
Убедительной иллюстрацией зримости и весомости набоковского слова выступает тот факт, что в романах Набокова нет портретов-персоналий знаменитых произведений архитектуры, шедевров живописи или скульптуры, не передаются словесными средствами звуки известных музыкальных произведений или представляемый на сцене спектакль, вошедший в историю мирового театра. В романах Набокова средствами словесной пластики описываются вымышленные произведения невербального искусства, существующие однако только в слове: только словесной экзистенцией наделена песенка о Кармен, звучание которой описано в «Лолите», или фильм с участием Магды в «Камере обскура». В романе «Дар», воссоздавая архитектурный облик Петербурга, протагонист обращается к «лучшим картинам художников» /151,т.3,с. 19/, не называя ни одной из них конкретно. При этом, воображая рецензию на свой первый стихотворный сборник, Федор замечает, что «может быть именно живопись, а не литература с детства обещалась ему» /151,т.3,с.26/, иллюстрируя это замечание стихотворением, в котором показан сам процесс создания рисунка.
Прозаическое слово Набокова неуловимо в своей многозначности, недоговоренности, оставляет впечатление «тайны», смысла, возникающего в «скважинах» между словами, тем самым, сближаясь со словом поэтическим, которое мносмысленно априори. Способ правильного чтения стихов «по скважинам» предлагает Федор («Дар»), позже эти смысловые лакуны в текстовой ткани сам Набоков определит как «лазейки для души», «просветы в тончайшей ткани мировой» («Как я люблю тебя» /150,с.261/), а в стихотворении «Влюбленность» из романа «Посмотри на арлекинов!» идентифицирует их как проявление истины, знания, знаки иного бытия – проявлением и появлением «потусторонности», точнее, – «может быть, потусторонности» /150,с.448/.
Ускользаемость набоковского вербального образа парадоксально сочетается с его зримостью, скульптурной осязаемостью, пространственной протяженностью, живописностью. Художественные средства изображения образа и выражения содержания, присущие зримым и пространственным видам искусств, включая кино и театр, Набоков применяет к организации вербального пространства прозы.
Общеизвестно стремление Набокова избежать классификации, уйти от идентификации в ойкумене какой-либо традиции или творческого влияния. Подчеркивая принципиальное новаторство «письма» Набокова,
Н. Берберова выделяла два основных момента: «Набоков сам придумал свой метод и сам осуществил его» /26,с.239/ и «Набоков не только пишет по-новому, он учит также и читать по-новому, он создает нового читателя» /26,с.236/. Хотя в беседе с Пьером Домергом сам Набоков утверждал, что лучшего своего читателя он каждое утро видит в зеркале, когда бреется, и добавил, что, хотя и имеется десяток ценителей, по-настоящему понимающих его книги, даже если б их не было, он придумал бы себе читателей сам, сколько захотел/27,с.61/. Ю. Апресян указывал, что в «колеблющейся призрачности» набоковских книг автор-невидимка может «мастерски разыгрывать с читателем свою любимую обманную игру» /8,с.6/, а современная исследовательница Е. Иванова охарактеризовала отношения между Набоковым и читателями как «игру в прятки» /89,с. 155/. Набоков настойчиво отрицал взаимосвязь своих произведений с той или иной традицией. Такое положение, скорее всего, имеет целью направить своего читателя во внутренний мир своих книг, приглашает разгадывать их тайну изнутри.
Свою философскую концепцию В. Набоков выстраивает также сугубо индивидуально, отказываясь от терминов какой-либо предшествующей или современной философской школы. А. Пятигорский, анализируя философскую платформу гносеологии и эстетики В. Набокова, выдвигает две принципиальных особенности, определяющих оригинальность восприятия и мышления автора и его персонажей: во-первых, Набоков и его герои сами знают, что с ними происходит и не нуждаются для объяснения в чужих философских или психологических теориях («Хамперт Хамперт сам знает, что с ним происходит. Ему для этого не нужен ни Фрейд, Ни Юнг, ни Лакан, ни Маркс с Энгельсом, ни черт в стуле», – так темпераментно выражает свою мысль исследователь /167,с.341/); во-вторых истина, знание, если и существуют объективно, то добывается только индивидуально, причем знание, истина добываются извне, из области, запредельной миру, в котором телесно пребывает автор-создатель своих миров.
К этим двум положениям, на наш взгляд, необходимо добавить принципиально значимое третье. Формой самопознания, самоидентификации и выхода и приобщения к истине выступает искусство слова, литература, понимаемая Набоковым как явление синтетическое, фокусирующее в себе изобразительные и выразительные средства других видов искусств, выступающая, таким образом, квинтэссенцией искусства, некоторым феноменом сверхискусства. Гумберт Гумберт (А. Пятигорский сохраняет английскую транскрипцию имени) пишет дневник, потом тюремную исповедь, Цинциннат Ц., также упоминаемый исследователем, пытается описать свое состояние, хотя потом рвет написанное («Приглашение на казнь»), Адам Фальтер («Ultima Thule»), чей опыт добывания и обладания истиной проанализирован А. Пятигорским как обобщающий философскую систему В. Набокова, обращается к Синеусову с запиской, в которой тщательно вымараны две последние строки, содержащие судьбоносно важное для героя сообщение. Герман («Отчаяние») сам описывает свою историю, герой-протагонист («Подлинная жизнь Себастьяна Найта») собирает материалы для биографии брата-писателя, роман «Дар» представляющий собой «метароманное обобщение всей русской прозы Набокова», – как указывает М. Липовецкий /120,с.645/, это роман, создаваемый героем-протагонистом. Набоков рассматривает литературу как демиургический феномен, считая результатом словесного творчества возникновение особого мира, причем, мира автономного, самостоятельного, развивающегося, живого, открытого для диалога и понимания и одновременно самодостаточного, замкнутого в себе. Именно поэтому Набоков утверждает, что может придумать себе читателей и что лучший читатель – это автор книги.
Однако, Набоков, обращаясь и к студенческой аудитории (предлагая представить во всех подробностях черты Эммы Бовари /143,с. 192/) и к собственным читателям («Читатель, прошу тебя! Как бы тебя ни злил мягкосердечный, болезненно чувствительный, бесконечно осмотрительный герой моей книги, не пропускай этих весьма важных страниц! Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не вообразишь…», – восклицает Гумберт, и таким образом сливаются голоса героя-рассказчика и автора-создателя «Лолиты» /152,т.2,с. 160/), предлагает дополнить созданный им или другим художником мир во всей бытийной полноте, выделив концептуально значимые детали, которыми редуцированно представлен в литературе образ мира, опираясь на них, как на знаки и указания, воссоздать полный, плотный, непрозрачный мир, явленный в художественном слове. Набоков зовет, приглашает, а иногда провоцирует читателя своих или чужих текстов, то есть словесных миров, найти то, что скрывается за словами, назвать неназванное, договорить недоговоренное. «При чтении Набокова, – как утверждает М.Шульман, – не оставляет чувство, что будто он знал что-то «из-за плеча невидимое нам», и что проза его представляет собой некое линзовое стекло или зеркало, помогающее взглянуть в область, недоступную прямому взору… Тайна окружает прозу Набокова» /216,с.236/. В интервью журналу «Плэйбой», отвечая на вопрос о своей вере в бога, Набоков совершает удивительное признание: «…я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего» /194,с.241/. Итак, выраженное в слове, воплощенное в литературе и искусстве – часть некоторого большего мира, некоторой большей истины. Все, не выраженное словами, но заявленное, обнаруживается, выявляется, дополняется читателем, который ищет полноты мира, разгадки тайны, явленной, но не названной в слове.
Читателю сообщается уверенность в присутствии тайны, наличия в «скважинах» словесной реальности мира большего, лишь отчасти явленного в книге. Имманентность этой уверенности обеспечивается двумя принципиальными условиями – основаниями и причинами творчества: метаморфозой мира, готового к трансформации в мир литературы, и метаморфозой творца книги, готового к созданию этого мира. Таким образом, набоковский текст априори длительнее любого объекта реальности, поскольку с течением времени наращивает свой смысловой потенциал, обогащаясь новыми читательскими прочтениями, новыми интерпретациями, которые вписываются в ауру бытия текста. В. Руднев, обозначая это качество текста как эктпропийное, противостоящее энтропии линейного времени и погруженных в него объектов, указывает, что «текст с течением времени… стремится обрасти все большим количеством информации» /171,с. 18/, причем, эктропийность текста выступает гарантом его культурного бессмертия. Обещание Гумберта, данное в конце его книги о Лолите, состоит в создании бессмертия для него и его героини, спасения в искусстве, подлинного бесконечного бытия в тексте. В пределах текста, созданного героем, Лолита обретает истинную ахронную жизнь, героиня рождается как текст после своей физической смерти, вместе с создавшим ее поэтом – Гумбертом, который, чувствуя приближение конца, хочет продержаться подольше, чтобы заставить ее «жить в сознании будущих поколений» /152,т.2,с.376/. Таким образом, набоковский текст наделен открытой, прямо заявленной установкой на преодоление, а точнее, трансформацию времени в вечность, предлагает и показывает выходы за пределы ограниченных временем реальности и сознания. Последствиями этой трансформации времени выступают изменение субъектно-объектных отношений между автором и его героями, сотворение персонажа как семиотического факта, а не характера, а также, закономерное изменение фактора пространства, одним из параметров которого становится преобразившееся время.
Творческое сознание не только способно выделить неповторимые, индивидуально значимые детали мира, но и поместить их в охватываемый по всей горизонтальной широте пространственный мир, определяемый в романе «Лолита» как мир «единовременных явлений» /152,т.2,с.26/. Герой-протагонист в романе «Ада», выражая суть соприкосновения времени с пространством, подчеркивает: «Для обретения вечности Настоящему приходится опираться на сознательный охват нескончаемого простора (курсив мой)» /152,т.4,с.529/. Охват «нескончаемого простора» по горизонтали и по вертикали глазами непосредственно переживающего и воспринимающего мир в момент настоящего субъекта и глазами, накладывающими на мир настоящего образы, запечатленные и сохраненные в памяти, означает объединение единовременных и отстоящих во времени явлений. В стихотворении «Разговор» писатель рассказывает о своей способности воспринимать одновременно происходящие, но пространственно отстоящие явления:
где-то вот сейчас любовь земная ждет ответа иль человек родился; где-то в ночи блуждают налегке умерших мыслящие тени; бормочет что-то русский гений на иностранном чердаке /150,с.401/.Федор («Дар»), ожидая появления Зины, осознает одновременность протекающих в разных точках пространства явлений в образах зримых, расширяя при этом границы обозримого мира: «…вода в огнях, Венеция сквозит, – а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит» /151, т.3,с.159/. Синхронизация единовременных явлений выступает началом творческого преображения мира, его переноса в реальность вымысла: Федор, воспринимая зримые объекты, увеличивает их пространственную отдаленность, заполняя весь охват пространства вширь.
При этом космическая синхронизация единовременных явлений, епифания (термин В. Александрова) /4,с.39/, как определяющее качество гносеологии и эстетики В. Набокова охватывает как явления материально наличного мира, осуществляющиеся в земных времени-пространстве, так и ирреальные, принадлежащие к миру запредельному – вечности: в контекст синхронизируемых явлений в стихотворении «Разговор» включены и «умерших мыслящие тени» /150,с.401/. В стихотворении «Гекзаметры» выражается уверенность, что умерший отец, «погруженный в могилу, пробужденный, свободный, // ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока спящими» /150,с.336/. В искусстве литературы, во внутреннем мире книги заключено особое состояние времени, соотносимое с категорией вечности. В лекции «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков указывает на слияние в состоянии вдохновения «не только прошлого и настоящего, но и будущего» /140,с.474/. Один из наиболее авторитетных сегодня исследователей психических процессов Л.М. Веккер указывает, что особенностью сенсорного времени выступает симультанное присутствие в нем трех характеристик: последовательности, длительности и одновременности /36,с.527/.
Возможность воспринимать таким образом время обеспечивается в свою очередь метаморфозой физического и духовного состояния творца. В рассказе «Тяжелый дым» переживание момента вдохновения описано как растворение героя в пространстве, причем, состояние слитности с миром сопровождается и особой способностью воспринимать мир одновременно в его целостности и детальности: герой «воображал то панель у самых ног, с дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака, то рисунок голых ветвей на совсем еще бескрасочном небе» /151,т.4,с.341/. В стихотворении «Око» редукция человеческого состава до одного тотального зрения («исполинского ока») приводит к изменению качества и состояния воспринимаемого мира: исполинское око, к которому «наконец-то сведен человек» видит сверху иную землю («совершенно несхожую с той, что, вся пегая от океанов, улыбалась одною щекой»), ему открыт качественно новый состав бытия, возникший в результате преодоления границы между временем и вечностью, между миром внешним и миром искусства: «Дело в том, что исчезла граница // между вечностью и веществом» /150,с.270/.
Открытие этого состояния мира, достижения этой качественной человеческой метаморфозы и выступают результатом чтения, которое приобретает статус рискованного приключения, вхождения в иной, чужой мир. В стихотворении «Какое сделал я дурное дело» о себе, как создателе мира книги «Лолита», Набоков говорит как о чародее, который способен погубить читателя, вступившего в чуждый ему мир, полный искушений:
О, знаю я, меня боятся люди, и жгут таких, как я, за волшебство, и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства моего /150,с.287/В «Предисловии» к «Лолите», приписанном вымышленному профессору доктору Джону Рэю, названа цена, выплачиваемая за мир вечности, за бессмертие в искусстве: «…пойди наш мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психологу, никакой беды бы не случилось. Все это так, – но ведь тогда не было бы этой книги» /152,т.2,с.13/. Ироничность замечания не отменяет его трагичности: искусство рождается из трагедии судеб человека и мира, из принесенной в жертву искусству человеческой жизни. О.А. Светлакова, анализируя лекции В. Набокова о «Дон Кихоте», подчеркивает, что «главный набоковский тезис о том, что «Дон Кихот» – не смешная книга, а книга полная жестокости и жестокой игры, «мистификации»…., на деле является обнажением до тех пор не сказанной правды об этой книге – правды о жестокой сущности литературы, слишком понятной самому Набокову» /177,с.44/. Ускользание действительности от героев и читателя «Лолиты», постоянно сопутствующее чтению сомнение в действительности происходящих событий: от прямого признания Гумберта Шарлотте в том, что «Дневник» – заметки для романа, до наблюдения А. Долинина, что Гумберт, совершивший убийство в одном из восточных штатов, не мог оказаться в нью-йоркской тюрьме, – создают модель многовариантного, ненадежного и неустойчивого мира, вписываемого в реальность романа. Проблематично, остается ли бытие за пределами этой реальности, поскольку герои остаются только в границах книги, а во внероманном мире умирают все главные участники событий. Гумберт, создающий свою Лолиту, оговорится: «Я должен ступать осторожно. Я должен говорить шепотом. О, ты заслуженный репортер по уголовным делам, ты старый и важный судебный пристав, ты, некогда всеми любимый полицейский, ныне сидящий в одиночном заключении (…), ты, в страхе живущий отставной профессор, у которого отрок служит в чтецах! Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились в мою Лолиту!» /152,т.2,с.166/. Однако, состояние благопристойных граждан описано таким, каким бы оно стало после запретной любви к Лолите и наказания за нее. Творимый словом мир опасен: чем совершеннее творение, тем гибельнее его воздействие. В стихотворении «Неродившемуся читателю» контакт читателя из будущего с забытым поэтом описан как страшное и неотвратимое появление призрака:
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен. К тебе на грудь я прянул через мрак. Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк из прошлого… Прощай же. Я доволен /150,с.412/.Забытый и умерший поэт воскресает, когда его творение воспринимается читателем, который беззащитен («укрыться ты не волен») перед текстом, воплощающим автора. В чрезвычайно глубокой и емкой статье И.Е. Филатова о способах идентификации автора и героя в прозе Набокова подчеркивается, что «автор осознается Набоковым как текст», что ведет к «децентрации категории автора как субъекта речевой деятельности», а творчество имманентно нравственно, поскольку оно оправдывается не извне, а изнутри /198,с. 183/. Чтение оживляет призрак автора, воплощенный внутри текста, который набирается жизни, прикоснувшись к плоти читателя («к тебе на грудь я прянул через мрак»). Открывший книгу человек ощущает холод, сквозняк: его тепло и жизнь уходят к другому, к призраку. Открытая страница со стихотворением идентифицируется как открытый путь в иномир, отнесенный к миру прошлого, то есть мертвого; читатель чувствует сквозняк из отверстия в настоящем материальном вещественно-жизненном бытии. В стихотворении «Какое сделал я дурное дело» изображая целый мир, попавший под гибельное очарование нимфетки («я, заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей»), Набоков подчеркивает смертоносное, гибельное влияние искусства на действительность, если таковая еще остается за пределами искусства.
Архаический ритульно-мифологический текст не знал зазора между словом и делом, означаемым и означающим, вымыслом и действительностью. Произносимый текст и отправляемый ритуал были самой действительностью, точнее мир сотворялся из мифа и одновременно был мифом. Вне мифа реальности не существовало, повторение ритуала сообщало миру-мифу гарантию длительности. Именно такими качествами текста, заключающего в себе Вселенную, равного этой Вселенной, с ее ускользающей многовариантностью, наделяется текст романа, воплощающий не героя, а автора-демиурга, который в свою очередь имманентен Вселенной.
Чтение превращается в опасное предприятие, познание мира книги угрожает потерей покоя, нравственных ориентиров, своего «Я», растворяемого в чужой индивидуальности. Но при этом мир книги остается в границах вымысла, поэтому создание этого мира несет на себе печать виртуозного трюка, фокуса, обмана. «Всякий писатель – большой обманщик», – замечает Набоков /143,с.28/. А в стихотворении «Слава», сравнивая себя со сказочным волшебником «с птичьей головой, в изумрудных перчатках», Набоков горестно признается, что «бедные книги», возникшие из мира памяти и воображения, растают в «дымчатом воздухе», поскольку возникли из ничего, как трюк «базарного факира» /150,с.272/: реальность книги призрачна, заключает в себе возможность подлога: она заявлена, наличествует, но и одновременно отсутствует, неоткрытая или непонятая читателем.
Но читатели – действительные или вымышленные, наличествующие или предполагаемые, понимающие или чуждые, тем не менее, задуманы, и в стихотворении «Слава» в том числе, и им даны в руки ключи от тайны, действительной или отсутствующей, и именно им предназначено ее нащупать и разгадать. Читая художественный текст, в том числе, набоковский, читатель получает право и даже испытывает настоятельную необходимость быть активным участником творческого процесса, то есть проделать путь, обратный пути автора. Сам читатель оказывается в роли автора. Формируя нового читателя, Набоков создает и новую реальность, в которой «своей…жизнью живут не только люди и вещи, но и символы, созданные людьми, – Имена, книги, теории, ереси, догадки…Человек живет в мире символических форм, не менее реальных, чем так называемые реальные предметы, и реализуется через эти формы» /110,с.56/. Литература сама становится действительностью. «Авторская позиция предстает, таким образом, как супер– или метапозиция по отношению к положению героя, – указывают Ю.Гаврилова и М.Гиршман, – Человек, стоящий «по ту сторону произведения», скажем Софокл, и человек, пребывающий во всей наличности своего трагического положения, скажем Эдип, по сути дела – одно и то же» /42,с.41–42/. Так герой – автор – читатель приобретают качества нерасторжимого единства и почти полного тождества, действительность разворачивается и созидается из текста, а автор – демиург, причем триединый автор – герой – читатель, а не только и не столько фактический автор текста, является создателем нового способа существования в новой, созидаемой текстом из текста реальности.
Книге и литературе, подчеркнем эту неотчуждаемую амбивалентность снова, вместе с их открытостью присуща не менее яркая тенденция закрыться от дознания читателя и исследователя, которые могут исказить или же вообще не понять тайны, выраженной автором. Поэтому, вполне закономерно, что в эстетике Набокова совершеннейшим читателем книги выступает ее настоящий творец, а читателей безопаснее выдумать, чем иметь в реальности. Книга побуждает к диалогу («и для ума внимательного нет границы там, где поставил точку я», – так завершается «Дар»/151,т. З,с.330/, по тому же побуждению сам Набоков продолжает пушкинскую «Русалку»), но, с другой стороны, стремится закрыться, замкнуться, стать тождественной самой себе, и, скорее всего, именно поэтому круговая структура – излюбленный композиционный прием Набокова – художника.
Набоков показывает книгу, в частности, а литературу и искусство, в целом, которые ищут читателя-интерпретатора, конгениального автору, воплощенному в тексте. Ф. Шлейермахер, как замечает П. Гайденко, подчеркивал, что интерпретация должна быть направлена на понимание «не столько содержательно предметных мыслительных образований, сколько мыслящих индивидуальностей» /44,с. 136/. Ф. Шлейермахер указывал, что «человек связан с человечеством не в той своей «точке», которая обща у него со всеми остальными представителями человеческого рода, а, напротив, в той, что составляет его своеобразие, отличие от других», причем, «каждая личность… на свой лад выражает и осуществляет бесконечное» /210,с.334/. Таким образом, в терминах психологической герменевтики Шлейермахера возможно сформулировать набоковское понимание феномена литературы: литература, а точнее отдельное произведение каждого отдельно взятого писателя – это средство, а фактически искусство создания мира, не совпадающего с внешним миром читателя и обособленного от миров, созданных словесным искусством в других произведениях того же художника или в других произведениях других художников; при этом, мир, созданный искусством слова, намечен, но не полон, представлен, явлен, но не выявлен окончательно, поэтому предназначен для читательского до-создания.
В монографии С.Н. Зотова «Художественное пространство – мир Лермонтова» /86/ основополагающим тезисом выступает принцип телесности, воплощенности автора в его творениях, представляющих форму авторского бессмертия. Лермонтов явлен во всем, что им создано, сознание творца воплощается в художественной Вселенной, выступающей формой его присутствия, его бессмертия. Обосновывая концепцию телесности искусства, исследователь обращается в том числе и к пониманию Гоголя, явленному в эссе В. Набокова. Однако, способ организации набоковского лекционного курса, построенного на анализе одного избранного шедевра, одного художественного мира, предполагает актуализацию не всей совокупности творений художника, а проникновения в глубинный смысл единого и единственного избранного художественного космоса. Если весь массив текстов художника являют целиком его бытие, хронологически ограниченное началом и концом, как некоторый концентрат времени, объединяющий конец и начало, то отдельный текст как форма бытия автора, его воплощенное и неопровержимое бессмертие, являет его единичный дискретный облик, некоторую его ипостась, часть единого создателя единого творческого космоса. Г ерой-протагонист у Набокова, выступая тенью, маской, отражением точным («Дар») или искаженным («Отчаяние», «Лолита», «Посмотри на арлекинов!») автора, акцентирует то или иное начало, качество своего создателя, поэтому отчасти состоит в оппозиции к целостной реальности, создаваемой демиургом в результате объединения отдельных компонентов целого творческого космоса, поскольку Набоков сам в пределах конкретного текста устанавливает связи с предшествующими и последующими текстами. Так, сюжет «Лолиты» рассказан Щеголевым в «Даре», а способ написания биографии художника, обсуждаемый в «Даре» становится повествовательной моделью в «Подлинной жизни Себастьяна Найта».
Художественная Вселенная Набокова многочастна, многомирна, каждый мир самостоятелен и целостен, но при этом диалогически связан с другими мирами, образующими парадигму ликов автора-демиурга. Сам способ организации художественного космоса как целостного, но при этом множественного, многокомпонентного выдвигает проблему соответствия между мирами, его составляющими, а внутри этих миров соответствия протагониста и автора, героев и миров, в которых они творят и действуют. Множественность творческого космоса как целого сохраняет актуальность и на уровне отдельного компонента множества, отдельного текста или родового образования (лирики, драмы), объединяющего некоторый ряд текстов: в романах взаимодействуют несколько миров, которые сопрягаются с разными героями, но объединяются в пространстве повествования героя-протагониста или автора-демиурга. Многочастный, разбитый на семиотические фрагменты пространства мир внутренне конфликтен, децентрирован, соответствие как стремление к единству мира, находится в состоянии постоянного становления, достигаясь в некоторой точке художественного пространства и одновременно снимаясь в следующей. Этот руководящий принцип многочастной целостности как способа бытия набоковского текста и выступит основой анализа романа «Лолита» на различных уровнях соответствия героя самому себе, героя и мира, протагониста и автора.
2. Феноменологические качества метапрозы В.В. Набокова
Соотнося на примере романа «Дар» прозу В. Набокова с категорией «метапрозы», М. Липовецкий приводит два определения этого феномена, принадлежащие Дж. Лоджу и Р. Имхофу. Первый предлагает под метапрозой понимать сплав разных художественных методов и текстов различных типов, второй – «саморефлективное повествование, которое повествует о самом процессе повествования» /120,с.643/. Эти определения не исключают и даже не дополняют друг друга: истолкование Имхофа отвечает на вопрос: «Что?», а понимание метапрозы, предложенное Дж. Лоджем, отвечает на вопрос: «Как?». Иными словами, перед нами определение феномена и парадигма приемов его художественной реализации. К последним кроме переключения методов интерпретации содержания и переплетения двух или нескольких текстов, а соответственно
– двух или нескольких реальностей, двух или нескольких повествователей необходимо добавить синкретизм метапрозы, состоящий в объединении в пределах системы одного художественного целого компонентов, корреллирующих с разными родовыми литературными образованиями. Феномен филигранной прозы В. Набокова складывался постепенно, адаптируя неэпические средства и приемы формирования и выражения содержания, отрабатываемые в драме, лирике, малых эпических жанрах, а также в других, невербальных видах искусства – живописи, архитектуре, музыке, в искусствах, синтетических по своей природе, – театре, кино. Синкретизм набоковской прозы порождается синэстезией разных видов искусства, разных литературных родов и жанров. В пределах единой романной композиции происходит переключение доминирующего способа организации повествования, соотносимого с конкретным родом литературы, или же конкретным видом искусства. Проза Набокова выступает, таким образом, как явление синтетическое, выражающее глубинное единство творческого космоса Набокова, онтологии и эстетики художника. В контексте синкретизма набоковской прозы выявляется и ее ориентация на феноменологические качества и свойства искусства как такового, вне его родовидового членения.
Однако, если театральное начало реализуется в подтексте набоковской метапрозы, редко принимая форму выстроенных по модели драмы фрагментов текста, то поэтически организованная речь чередуется с прозаической, занимая в тексте романа равноправное по отношению к прозе положение. В начале романа «Дар» герой-протагонист, перечитывая свой первый стихотворный сборник, дает стихам прозаический комментарий, погружая каждое стихотворение в пространство полного, подробного воспоминания, лишь центральные образы или впечатления которого воссозданы в стихотворении. Поэтический образ – результат редукции воспоминания, поэтому Федор указывает, что «надобно читать стихи» «по скважинам», выражая надежду, что «все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь стихи, удержалось в них и замечено читателем…» /151,т. З,с.26/. Позже в вымышленном диалоге с Кончеевым стихи будут определены как «модели… будущих романов» /151,т. З,с.65/.
Читателю предлагается восстановить полноту картины мира, возникшей перед мысленным взором художника. Проводя параллели, между феноменологической и акмеистической (отмечая яркую вещественность, осязаемость, чувственность, плоть набоковской реальности («реальнейшей реальности»), М. Липовецкий указывает, что на структуру художественного миропонимания у Набокова накладываются элементы акмеизма /120,с.663/) концепцией предметности, К.Э. Штайн так характеризует путь читателя: «Что делает читатель? Отталкиваясь от языкового строя текста, он идет к смыслу, одновременно ему на этом пути предстоит сопережить представленное перед умственным взором автора. Он прочитывает, концептуализируя сказанное и одновременно переживая зрительные, слуховые осязательные впечатления от активизированных в процессе прочтения предметов, «сцен», «картин», и т. д. Это и есть «переживание предметности»» /214,с.71/. В романе «Ада» находим такое обращение к читателю: «Как бы мне хотелось, чтобы все, кому пришлись по душе мои мемуары, кто от души восхищен ими, тоже увидели бы ее ирландский профиль…» /137,с.430/. Портрет, предмет воссоздаются в метапрозе Набокова средствами разных видов искусств, обретая при этом новые качества. П. Прехтль, поясняя значение термина «предметность» указывает, что его «следует понимать в широком смысле, следовательно, не только в качестве вещно-реального и пространственно воспринимаемого предмета, но и в смысле положения тел, логического закона, короче, в логическом смысле, когда субъекту приписывается предикат» /165,с.28/. Таким образом, предметный состав бытия в метапрозе Набокова реализуется не только в образах вещей, но и в их соотношении, их изменчивости и постепенной выявляемости в ходе этой изменчивости.
Конкретный образ вещного мира в лирике Набокова наделяется объемностью, рельефностью, он зрим, почти осязаем. Именно детальность зрения Набоков определяет как критерий поэтически пересоздающего мир творческого мышления. С выделения мелочей, незначительных, но одухотворенных индивидуальным восприятием, начинается, по убеждению Набокова, истинная любовь к литературе: во вступительной беседе к своему лекционному курсу в Корнельском университете Набоков обращался к студентам в первую очередь, как к читателям, призывая их «замечать подробности и любоваться ими» /143,с.23/. С умения выделять подробности мира и хранить их в памяти, преображая их своим индивидуальным видением начинается не только искусство чтения и понимания литературного произведения, но и собственно художественное творчество, создающее из случайных мелочей и подробностей мира параллельную поэтическую вселенную, в которой незаметные и незначительные предметы, выделенные из контекста обыденных взаимосвязей, становятся символически объемными по смыслу. Творчество, согласно эстетической концепции Набокова, выступает выражением сугубо индивидуального, неповторимо личностного восприятия мира, основанного на двух принципах: детализации, конкретизации предметного состава бытия и способности наделить выделенные детали парадигмой, одно впечатление от вещи, один ракурс соотнести с другими, возможными подчас за пределами данного среза реальности (места, времени и метафизического статуса).
Но детализация, а фактически индивидуализация предметного состава внешнего мира, сохранение его неповторимых подробностей во внутренней области воображения и памяти, это подготовительный этап накопления образов, начало работы воображения. В романе «Дар» Набоков утверждает, объясняя причины бездарности Чернышевского: «Как и слова вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало» /151,т.3,с.215/. Разные ракурсы сообщает видению вещи ее интерпретация выразительными средствами разных родов литературы, разных видов искусства. В феноменологии Э. Гуссерля высказывается положение о бесконечности раскрытия смысла эйдетически воссозданного предмета: «…восприятие помещается в непрерывный ряд (поток), но не произвольный, а такой, в котором один и тот же предмет проявляет себя постепенно все в новом и новом виде» /52,с.31/. Понятие парадигмы воображаемых образов предмета идентифицируется у Набокова с понятием склонения, объединения разных ипостасей предмета его эйдосом. М. Хайдеггер характеризовал феноменологический способ обхождения с предметами как дескрипцию, т. е. «выявляющее членение того, что созерцаемо в себе самом» /203,с.85/.
Роман «Дар» открывается рецензией, которую Федор сочиняет за несуществующего критика, перечитывая свой первый поэтический сборник «Стихи». Поэтически редуцированный образ вкладывается в подробный прозаический комментарий, получает пространственно-временную идентификацию: «плоть поэзии» окружается ореолом «призрака прозрачной прозы» /151,т.3,с.10/. Поэтический образ приобретает дополнительные качественные характеристики, новые смысловые измерения. В поэтическом восприятии вещи осуществляется ее вербальное высказывание, передающее ее полноту лишь отчасти. Поэтому словесный образ дополняется живописным, архитектурным, музыкальным. Таким образом, горизонт понимания образного мира сборника движется и изменяется вместе с изменением местоположения субъекта и объекта. Федор, погружаясь в мир сборника, воскрешает мир прошлого, впечатления цвета («синеет, синего синей» – тень от валуна в поле), звука (тишина надутой шины велосипеда, пение двух заводных игрушек), пространства (комнаты дома в Лешино и Петербурге), заполняющих его предметов. Каждое стихотворение сборника – особое, обособленное пространство, самостоятельный мир, в котором пребывают воссозданные поэтом предметы.
Принцип редукции образа внешнего мира, получающего новое бытие в новой поэтической реальности, нашел наиболее полное выражение в способе моделирования Набоковым внутреннего жилого пространства. В романе «Дар» герой-протагонист, только что сменивший место жительства, осваивает новое пространство: комнату, дом и улицу, и при этом находит себе такое «развлечение»: «Какие-то знакомые, уехавшие на лето в Данию, недавно оставили Борису Ивановичу радиоаппарат. Было слышно, как он возится с ним, удавляя пискунов, скрипунов, переставляя призрачную мебель. Тоже – развлечение» /151,т.3,с.158/. Грохот и шум, издаваемый передвигаемыми предметами, дают герою возможность представить их, а потом наделить подробностями, расцветить, оживить. Но материальная полнота и детальная конкретность выдуманных предметов не отменяет их призрачности, неизбежного, запрограммированного ситуацией несовпадения с действительной мебелью в действительной комнате, невидимой герою. Речь может идти о большей или меньшей степени точности наложения вымышленного мира на невидимый, но действительный, можно предположить даже их полное совпадение, которое, однако, не отменяет призрачности мира, созданного воображением. Предметный мир, воссозданный в космосе метапрозы Набокова, существует только в этой вымышленной, поэтической реальности, воспроизведенные в нем вещи – эйдосы, а не копии материальных оригиналов. Путем феноменологической редукции осуществляется «интенциональная экспликация сознания», в результате которой теряет актуальность вопрос о действительном бытии объекта /52, с.32/.
Погружение в область памяти и творчества связано для Набокова с отменой объективного внешнего времени и внешнего объективного пространства. В романе «Дар» для Федора на время чтения собственного сборника стихов ход внешнего времени приостанавливается, при этом вскользь сообщается о том, что стрелки часов героя «с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени» /151, т. З,с.27/. Чувствуя приближение вдохновения, Федор абстрагируется от окружающих его деталей интерьера: «На коврике у кушетки-постели валялась вчерашняя газета и зарубежное издание «Мертвых душ». Всего этого он сейчас не видел, но все это было тут: небольшое общество предметов, прирученное к тому, чтобы становиться невидимым и в этом находившее свое назначение, которое выполнить только и могло оно при наличии определенного состава» /151,т. З,с.140/. Таким образом, осуществляется приостановка внешнего мира, его феноменологическое «вынесение за скобки» на период работы памяти, воображения и творчества. Трансцендирование реальных времени-пространства, а вместе с ними и мира действительных вещей в область памяти и воображения выступает следствием феноменологического исключения объективного времени. Поэтический образ Набокова возникает в результате редукции образа внешнего мира, осуществляемой, как правило, в направлении, противоположном всеобщему взгляду на этот же предмет. Феноменологически эта редукция выражается в принципе Epoche, который, согласно Э. Гуссерлю, «полностью освобождает… от использования всякого суждения, касающегося пространственно-временного наличия бытия» /52,с.31/. Результатом epoche становится возникновение «мира как коррелята субъективности сознания» /52,с.42/. Феноменологически редуцированный предмет одновременно уничтожается (как часть внешнего мира) и созидается (как образ поэтической реальности). Причем, как указывает Гуссерль, «явление вещи» в этой новой феноменологически очищенной реальности «не имеет какого-либо пространственного положения и каких-либо пространственных отношений» /53,с.7/.
Предмет воссоздается в метапрозе Набокова как носитель качества, а не количества: пространственные характеристики и локализация в пространстве заменяются передачей индивидуализированных сознанием поэта свойств предмета, внешняя оболочка растворяется в его субстанции. Этими феноменологическими свойствами редуцированного предмета объясняется символичность и ускользание вещественных образов в набоковской метапрозе. Вместе с тем в результате видоизменения объективных свойств и качеств предметов в метапрозе Набокова, предметному миру его художественного космоса сообщается динамизм, способность к метаморфозе. П. Прехтль, останавливаясь на этих свойствах феноменологически очищенных предметов, указывает: «Вместе с фактически воспринятым приходит сознание того, что в пространстве окружающего поля следует ожидать тот час же или же пока в возможности. Эти неявные допущения, «определенные предтолкования» «пустого внешнего горизонта», в дальнейшей последовательности восприятия могут стать эксплицитно созерцаемыми и понятыми в качестве дальнейших возможностей опыта» /165,с.47/. Во втором вымышленном диалоге с Кончеевым Федор («Дар») предлагает следующую концепцию времени-пространства: «Бытие, таким образом, определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, – призрачный, в сущности, процесс, – лишь отражение вещественных метаморфоз, происходящих в нас» /151,т.3,с.307/. Феноменологическая эйдодология – внутреннее состояние предметности и выступает точкой соприкосновения внешних времени-пространства с внутренним «Я» рассказчика, автора и читателя.
Набоков созидает в своей метапрозе самостоятельный мир, в границы которого вписываются и действительность и преображающее ее искусство, воплощенное в разных видах и формах. Способность различить и выделить эстетическое в обыденном определяется направленностью взгляда, качеством восприятия мира, состоянием всей сенсорной сферы, вбирающей, запечатляющей и воссоздающей образ мира. Такой способ восприятия бытия предполагает имманентную противоречивость последнего: набоковский мир бесконечно многообразен. Причем, противоречивость мира не означает его хаотичности, а, напротив, описывается системой строго структурированных бинарных оппозиций: всеобщее, известное и доступное всем, не подлежащее открытию, и сугубо индивидуальное, автономное, постоянно открываемое и обновляемое, банальное и оригинальное, видимое и незримо присутствующее, забытое и сохраненное в памяти. В фундаментальной работе М. Хайдеггера «Время и бытие» бытие определяется через систему бинарных оппозиций: «одновременно пустейшее и богатейшее, одновременно всеобщнейшее и уникальнейшее… одновременно стершееся от применения и все равно впервые лишь наступающее, вместе надежнейшее и бездоннейшее, вместе забытейшее и памятнейшее, вместе самое высказанное и самое умолчанное» /201,с. 174/, при этом подчеркивается, что многообразная противоречивость мира обусловлена глубинной внутренней связью противоположностей, которая при безразличном отношении к бытию остается незамеченной /201,с. 168/.
Феномен гениальности определяется Набоковым через категории зримого: в романе «Смотри на арлекинов!» гения отличает «способность видеть вещи, которых не видят другие, или, вернее, невидимые связи вещей» /152,т.5,с.134/. М. Хайдеггер, обращаясь к проблеме амбивалентности бытия как многообразия и целостности, выдвигает положение о первичности взаимосвязи вещей /202,с.216/ в качестве основы единства внешнего предметного мира. Вместе с тем, философ подчеркивает, что именно взаимосвязь вещей «явно не осознается собственно как взаимосвязь» /202,с.216/. Ю.Д. Апресян, анализируя концепцию действительности в философии и эстетике Набокова на материале романа «Дар», подчеркивал, что «в жизни же он (Набоков) различал видимую реальность и глубоко сокрытую действительность», причем, внутренняя действительность не тождественна только незримым взаимосвязям вещей, но и включает параметр их внутреннего строения, сокрытого состава. Обращаясь для иллюстрации своего тезиса к «любимому предмету ученых занятий Набокова», исследователь указывал, что «видимая реальность – это, например, бабочка в летний день порхающая над вашей головой», причем даже ее точное определение не ведет «дальше внешней и мертвой оболочки»; «действительность – это, парадоксальным образом, подробности строения бабочки, которые открываются при ее детальном исследовании под микроскопом» /8,с.6/. На двойное зрение Набокова указывает и Л.H. Рягузова, конкретизируя его в понятиях внутреннего и фасеточного зрения /173, с. 349–350/. Сравнивая два взгляда Гумберта на Лолиту, один из которых воспроизводится как схематический набор «общих терминов» /152,т.2,с.20/, а другой возникает перед внутренним оком «как объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в естественных цветах» /152,т.2,с.20/, исследовательница приходит к выводу, что внутреннее зрение, как одна из форм зрительной памяти, «подобно художественному зрению» /173,с.350/. Но образ внутреннего зрения не отменяет, а дополняет образ, составленный схематичным фасеточным зрением, они не тождественны, но выступают разными способами преломления в памяти и воображении одного и того зримого образа, который сохранен в памяти уже потому, что он эстетически важен.
Примечательно, что в набоковском определении гениальности, приведенном выше, в качестве инструмента постижения скрытой связи вещей называется именно зрение, актуализируется способность гения не только видеть невидимое, подмечать частное, «ласкать детали», по определению В. Набокова /143,с. 17/, но и воспринимать зрением то, что не обладает приметами видимого: объемом, формой, цветом – не сами вещи, а их взаимосвязь между собой. Таким образом, феномен зримого обретает в онтологии Набокова два аспекта: первый реализуется в индивидуализации зрительного восприятия мира, а второй наделяет зрение гностическими качествами, возводя зрение в статус метафоры знания. Причем, зрительный образ находит воплощение только в слове, которое у Набокова имманентно наделено приметами зримого: объемностью, формой, протяженностью, цветом, тактильно обозначенной поверхностью, близостью или удаленностью. Федор Годунов-Чердынцев («Дар»), перечитывая свой первый сборник стихов, ощущает объемность стихотворений, поэтому «читает как бы в кубе» /151,т. З,с.13/. В стихотворении «Поэт» Набоков называет стихотворца «звуковаятелем» /150,с. 136/. В стихотворении «Тень» удары курантов преображаются в свет и плоть, обретая последовательно объемность и зримость /150,с.236/. В стихотворении «Прелестная пора» качество поэтического слова измеряется его цветом и весомостью: «Пишу стихи, валяясь на диване, и все слова без цвета и без веса, не те, что в будущем найдет воспоминанье» /150,с.219/.
Герои-путешественники Набокова, выступающие двойниками автора, сознательно игнорируют общедоступные туристические красоты. Путешествуя по Америке с Лолитой, Гумберт для нее выбирает в путеводителях достопримечательности, отмечая в скобках – «слоновое слово» /152,т.2,с. 192/, ориентируясь на ее трафаретно-журнальное восприятие мира, а сам замечает в открытом для всех и общеизвестном произведении искусства или исторической реликвии видимое только ему – «след ноги английского писателя Р.Л. Стивенсона на потухшем вулкане» /152,т.2,с. 195/, или «апрельские горы с шерсткой по хребту, вроде как у слоненка; горы сентябрьские, сидящие сидьмя, с тяжелыми египетскими членами» /152,т.2,с.193/. Этот процесс индивидуализации всеобщего Набоков характеризует как «внезапное потрясение сознанием бытия» /150,с.115/. Самоценность, суверенность восприятия действительности обеспечивает конгениальность созерцающего субъекта и созерцаемого объекта, открывающую непосредственную поэзию бытия, присущую его предметному составу, включающему и «object of art».
Конкретный образ внешнего мира, воплощенный в слове В. Набокова, наделяется объемностью, рельефностью, он зрим, почти осязаем. Именно детальность, выделяющую дробность зрения Набоков определяет как главное качество поэтически пересоздающего мир воображения. Взгляд героя, обращенный на вещи, внешне наличные, возвращает ему его же собственную неповторимость, его постепенно выявляемую индивидуальность. В этом и состоит существо сенсуалистски-феноменолистического мировосприятия. М. Хайдеггер указывает на то, что «ближайшим образом и в повседневности чаще всего мы встречаемся с самими собой, отталкиваясь от вещей, и таким образом, становимся разомкнутыми для себя в нашей самости» /202,с.211/. Разомкнутое для восприятия феноменологическое обстоятельство размыкает и личность воспринимающего. Подчеркивая эстетизированность этого принципа восприятия мира, Оге Хансен-Леве, указывает, что «самоценный взгляд непосредственно соединяет тождество созерцаемой действительности (ее «аспекта») и тождество созерцающего (его «перспективы»), как только он заменяет свое транзитивное, обусловленное временем отношение к жизни установкой эстетической автономности» /205,с.561/.
Быть поэтически отмеченным может быть любое обстоятельство бытия, любая мелочь, входящая в его предметный состав. Набоков не преобразует традиционную, пребывающую априори взаимосвязь предметов, «утвари мира», он выявляет эту связь, наделяя ее качествами зримого, осязаемого феномена. Взаимосвязь вещей в прозе Набокова опредмечивается, становясь вещественной. Овеществление незримой связи предметов достигается через метаморфозы вещи, динамично видоизменяющейся в пространстве и во времени. Так, мир стихотворений Федора Годунова-Чердынцева имеет ночную и дневную проекции: бросок детского мяча, описанный в первом стихотворении сборника, повторяет скачок тени от шара с изножья постели, промелькнувшей «как черная, растущая на ходу голова» /151,т.3,с.12/. Соотнесение разных впечатлений от вещи, динамика образа предмета образует парадигму его состояний, воспринятых героем или автором.
Парадигматичность свойственна не только эйдосам вещей, но выявляющейся по мере прохождения пространства мира связи индивида и вещи. Невидимая связь художника и мира вписана на равных правах с рядом предметов в экзистенцию и в бытие. Именно изменение этой незримой, но воспринимаемой внутренним зрением и передаваемой вербально связи, выступает у Набокова источником эстетического. Герой, погруженный в медиумическое творческое отчуждение от мира, ощущает заключенность мира внутри себя: «и как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так все проникало через него» («Тяжелый дым») /151,т.4,с.341/. Герой, вбирая в себя мир, чувствует, как расширяются границы его телесного существа, растет и преображается его телесная форма: «форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ» /151,т.4,с.341/. Таким образом, Набоков не только опредмечивает незримые связи вещей, но и свою связь с миром, тоже выявленную парадигматически и выраженную эйдетически.
Набоков наделяет героев-художников остротой зрения, слуха, тактильного ощущения, вкуса, обоняния. В напряженной сенсорной сфере у набоковских героев выделяется подчас доминанта, как правило, связанная с особой способностью героя видеть мир и помнить увиденное. Оге Хансен-Леве указывает, что момент эстетического отчуждения воспринимающего мир субъекта, «воплощен в герое набоковской повести «Соглядатай», который в конце концов находит свое самосознание в состоянии тотального зрения» /205,с.561/. Аналогичным образом в стихотворении «Око» посмертная метаморфоза человека состоит в его превращении в чистое зрение – око.
Зрение набоковских героев не только индивидуализирует состав бытия, ему открыты объекты, для такого восприятия недоступные. Гумберт Гумберт, впервые увидев Лолиту, видит «темно-коричневое пятнышко у нее на боку», скрытое под платком /152,т.2,с.53/. Мартын («Подвиг») продолжает видеть дырку на носке Черносвитова, уже скрывшуюся под ботинком, хотя, сосед выбирал «из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец – залог невидимости» /151,т.2,с.175/. Герой рассказа «Тяжелый дым» пытается увидеть то, что ощущает кончиком языка, с внутренней стороны ощупывая зубы («Сколько уже раз в продолжении двадцатилетней жизни менялась эта невидимая, но осязаемая обстановка зубов», – замечает герой /152,т.4,с.341/). Гумберт Гумберт, глядя на Джоану, видит то, что увидеть обычными человеческими глазами невозможно – «зачаток рака, от которого должна была умереть два года спустя» /152,т.2,с.131/. Набоковский герой-протагонист или двойник автора видит не только объекты не зримые, но доступные для зрительного восприятия, но и то, что не воспринимается зрением.
Вполне закономерно, излюбленный участник набоковского интерьера – шкаф. В стихотворениях «Комната», «За полночь потутттив огонь мой запоздалый», в стихах Федора в «Даре», шкаф не только маркирует заполненность пространства, но указывает на его неотчуждаемую неполную раскрытость. Сборник Федора Гоуднова-Чердынцева открывается стихотворением, пространство которого сосредоточено вокруг комода, в заключительном стихотворении сборника этот комод приходит в движение, возвращая герою потерянный много лет назад мяч. Федор, воссоздавая полноту мира, отраженного в его стихотворном сборнике, вспомнит, как прятался в шкафу и как менялось при этом его видение внешнего пространства: взгляд из щели в платяном шкапу преображает проходящего мимо слугу, «становившемся до странности новым, одушевленным, вздыхающим, чайным, яблочным…» /151,т.3,с. 15/. Новое обличие и новый угол зрения выступают средствами преображения мира. В поэме «Бледное пламя» в шкафу принц и Олег обнаружат тайный ход, по которому потом скроется переодетый король. Внутреннее пространство шкафа – объем, заключенный внутри объема комнаты, незримый, но присутствующий, участвующий в организации пространства комнаты. М. Хайдеггер, размышляя о свойствах пустоты, заключенной в скульптурном объеме, о степени ее участия в моделировании пространства по принципам разграничения и отграничения, приходит к выводу: «Пустота не ничто. Она также и не отсутствие», замечая, что «объем уже не будет отграничивать друг от друга пространства, где поверхности облекают что-то внутреннее, противопоставляя его внешнему» /201,с.315/. Функционально полые предметы, заключающее в себе внутреннее пространство, будут не столько организовывать внешнее, сколько указывать на наличие еще одного пространственного мира. Так ящики, шкафы, комоды для Набокова будут не столько моделировать пространство комнаты или же просто маркировать его границы, сколько выступать знаками постоянного присутствия иной реальности, скрытой от фасеточного зрения, нематериальной, но наличествующей, доступной внутреннему зрению. В стихотворении «Сновиденье» лирический герой засыпая, «в сумрак отпускает, // как шар воздушный, комнату мою» /150, с.233/, и на смену реальным времени-пространству (комната, эмиграция) приходит мир сновиденья, встреча за «туманным столом» с «убитым другом».
Взгляд набоковских героев проходит сквозь время, то движется против времени вспять, то опережает время: видя скрытое, герои видят то, что откроется позже, но сокрыто сейчас. Опережение линейного времени сопровождается трансформацией пространства: приближением отдаленного, становящегося зримым, и отдалением близкого, утрачивающего видимость. В рассказе «Весна в Фиальте» герой-рассказчик, глядя на автомобиль Нины, вдруг видит то, что еще не случилось: «… я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что в действительности произошло через полтора часа: как они втроем усаживались… прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись, тронулись, уменьшились» /151,т.4,с.318/. Чтобы увидеть будущее (Нина и ее спутники еще недовоплотились – сквозь тела прозрачных призраков из будущего виден цвет настоящего мира), герой оглядывается назад. Перемещение взгляда во времени связано с трансформацией последнего: будущее находится позади.
Пространство и время замкнуты в индивидуальной экзистенции, развитие которой не совпадает с ходом линейного времени и общепринятыми категориями измерения пространства. Открытие будущего, его зримое обнаружение подчиняется принципу «исторической инверсии» – взгляд назад зримо открывает будущие события. В романе «Другие берега» герой замечает «один просвет в огромном небе», при этом «глазу представилась как бы частная даль, с собственными украшениями, которую только очень глупый читатель мог принять за запасные части данного заката», на самом деле герою явлен «фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне, мой завтрашний сказочный день» /151,т.4,с.257/. Открытие будущего времени совершается через восприятие пространства, причем пространства живописно зримого, открытого для всех (в том числе и для очень глупого читателя), но индивидуализированного восприятием рассказчика, увидевшего свое неповторимое, «сказочное» завтра. Таким образом, способность индивидуально видеть пространство находит продолжение в способности видеть время.
Герои-протагонисты наделяются способностью преодолевать взглядом расстояние, видеть отдаленные объекты, бытие которых протекает синхронно с текущим моментом времени в данной точке пространства. В романе «Другие берега» описан момент ясновидения: герой вспоминает, как мальчиком, видел мать, отправившуюся за диковинным подарком. В рассказе «Тяжелый дым» состояние ясновидения и способности видеть отдаленные объекты соотнесено с медиумическим переживанием момента сотворения, когда герой растворяется в пространстве и измеряет его антропоморфными категориями: «рука – переулок по ту сторону дома, позвоночник – хребтообразная дуга через все небо» /151,т.4,с.341/. Состояние слитности с миром сопровождается и особой способностью зрения видеть одновременно и далекое и близкое, воспринимать мир одновременно в его целостности и детальности.
Физические возможности человеческого зрения преображаются вписанностью эстетического в границы бытия: герой-протагонист обретает способность воплощать зримое внутренними глазами в действительности. В романе «Другие берега» первое видение Тамары описывается как воплощение: «… она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения» /151,т.4,с.258/. В рассказе «Весна в Фиальте» герой-рассказчик увидел Нину, проследив за взглядом туриста-англичанина, будто внезапно материализовавшуюся на улице приморского городка /151,т.4,с.306/. Гумберт, рассматривающий задания по сценическому искусству, предлагаемые Лолите, обнаруживает интересные упражнения по «симуляции пяти чувств», в которых «осязательная тренировка» заключалась в необходимости вообразить, как «берешь и держишь пинг-понговый мячик, яблоко, липкий финик, новый пушисто-фланелевый мяч, горячую картофелину, ледяной кубик, котенка, карманный фонарь цилиндрической формы» /151,т.2,с.282/. Отсутствующие предметы должны, таким образом, зримо воплощаться по особенностям наличнобытийного тактильного ощущения. Зримое в памяти или ощущаемое тактильно воплощается в форме зримой материальной телесности, бывшее в прошлом или же присутствующее только в воображении находит предметное воплощение в настоящем.
Ушедший в прошлое и потому утраченный мир воплощается снова через воспоминание, переживание минувшего, причем воплощается материально и зримо. Завершая перечитывать свой поэтический сборник, Федор в романе «Дар» представляет себе возможных читателей, увидевших мир его стихов полностью, воссоздавших до полноты редуцированные в стихотворении образы, увидевших «все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь стихи» /151,т.3,с.26/. Живописно зримые, детально воссозданные в стихах предметы выступают частью иной реальности, сосредоточенной в памяти главного героя. Материя этой реальности ткется между стихами, «сквозь стихи», в наполняющих их смысловых лакунах, в том мире, общий абрис которого вырастает из целостного, последовательного соединения. Но новый мир, зримо возникающий за поэтической строкой в воображении читателя не только не совпадает с миром прошлого, сохраненным автором: сам Федор заполняет невспомненное, утраченное по приметам общедоступного (петербургские пейзажи, например, по картинам художников). Явленный в слове и через слово перед взором читателя мир не совпадает с миром, состоявшемся когда-то в прошлом – это новая реальность, пребывающая в настоящем. Несовпадение зримого внутренним взором и его воплощения или конкретного источника выступает источником трагедии Гумберта в романе «Лолита», который наделяет Долорес качествами, как внешними, так и внутренними, перенесенными из прошлого, которые ей ни в коей мере не свойственны.
Окружающие главный, выделенный Набоковым предмет, «озаренные неясности» («Слава», /151,с.272/), материализуются или в комментарии (ореолом подробного воспоминания окружает свои стихотворения Федор) или в затекстовой реальности, в сознании и воображении читателя, в самом же тексте эти фоновые предметы редуцированы. Этот фон угадывается, он как туман окружает один ясно увиденный глазами памяти образ, это «скважина», смысловая лакуна, пространство обозначенное, заполненное, но эта полнота не конкретизирована. Полный образ мира вырисовывается за пределами текста, составляет окружающий его воздух, прозрачность которого обманчива, поскольку таит в себе не материализованные памятью, но присутствующие предметы. Прозрачность окружающего воздуха таит выходы в иные миры, она заполнена присутствующей рядом иной жизнью, а точнее, – жизнями. В стихотворении «Как я люблю тебя» находим прямое указание на мнимую прозрачность воздушной стихии:
Есть в этом вечернем воздухе порой лазейки для души, просветы в тончайшей ткани мировой /151, с.261/.Неуловимость образу мира придает и его освещение в дневной и ночной проекции. В стихах Федора («Дар») свет свечи оживляет темноту в первом стихотворении сборника («трепещущую темноту»), сообщает движение тени от неподвижного предмета во втором («метнулся шар с левого изножья кровати»), тень от валуна отчетлива «как днем». Ночная реальность не тождественна дневной, игра света и тени преображает мир, размывает точность представлений о времени, а также точность местопребывания предметов. Вещь теряет тождественность самой себе, принадлежащая ей тень живет настолько самостоятельной жизнью («своим законным образцам // лишь подражая между прочим» /151,т. З,с. 12/), что образ мира, зримый и конкретный начинает дробиться, сливаясь с фоном, не буквализированным, но заполненным не выделенными зрением вещами. Само слово отделяется от репрезентируемого им предмета, означаемое и означающее разводятся по полюсам, связь между ними разрывается. В лекции «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков так описывает творческий процесс: «…творческий процесс, по сути дела, состоит двух стадий: полное смещение и разъединение вещей и соединение их в терминах новой гармонии. Первая стадия предполагает способность художника заставить предмет выделиться из общего ряда – увидеть, к примеру, почтовый ящик как нечто к отправке писем никакого отношения не имеющее… В определенной мере этой способностью обладают дети… играя с самым обычным словом, например, «стул», пока постепенно оно не потеряет всякую связь с обозначаемым предметом; его значение сползает, как кожура, и в сознании остается голая сердцевина слова, нечто более полновесное и живое, чем любой известный стул, а иногда еще и цветное, возможно, что-то бледно-голубоватое и кожаное, если ребенок наделен способностью воспринимать услышанное в цвете» /151,с.70/. Вещь растворяется в индивидуальном восприятии, воспринимается через субъективный признак (восприятие услышанного в цвете), общие признаки нивелируются частными, причем, выделенными сугубо индивидуально. Предмет, известный всем по названию и набору качеств, трансформируется в абсолютно индивидуальную вещь, обретающую реальность и наименование только в личном восприятии субъекта. Вещь отчуждается от самой себя, от набора своих категориальных качеств, наделяясь новыми признаками в мире детской игры со словом и его значением, или игры творца с впечатлениями и образами своей детской памяти. Слово не называет, оно намекает, создает зрительный и звуковой образ, не указывая при этом прямо на конкретный и всеми узнаваемый предмет, за которым данная номинация закреплена. Поэтому вещь в «Стихах» Федора, с одной стороны, зрима, осязаема («слагается шершаво сад» /151,т.3,с.26/), слышима, а с другой, неуловима, материальна и призрачна одновременно.
Неуловимость образов мира придает его напечатлению в слове импрессионистическую динамичность, делают его живым, меняющимся, неуловимом в этой изменчивости. Поэтика импрессионизма сочетается с сюрреалистическим, по сути, принципом подачи вещи: случайные предметы произвольно соединяются в пространстве памяти, зависая потом в воздушном объеме стихотворения. В первом стихотворении из сборника Федора о пропавшем мяче, кочерга из-под комода «пуговицу выбивает, // а погодя полсухаря» /151,т. З,с. 11/. Случайные, забытые предметы, соединенные не логикой быта, а детальностью воспоминания, образуют в своем соединении то качество реальности, которое Набоков определял, как «узор», то есть обнаружение в случайном и временном закономерности развития судьбы. «Парижская поэма», посвященная судьбе писателя-эмигранта, в которой узнается и судьба Набокова, завершается строками:
В этой жизни, богатой узорами (неповторной, поскольку она по-другому, с другими актерами, будет в новом театре дана), Я почел бы за лучшее счастье так сложить ее дивный ковер, чтоб пришелся узор настоящего на былое, на прежний узор /151,с.277/В англоязычном рассказе «Знаки и символы» безумие героя носит абсолютно беспрецедентный характер: в каждом явлении мира, в каждом предмете, случайно оказавшимся рядом с другим, герой видит некую криптограмму, шифр, который необходимо разгадать: «Камушки, пятна, блики солнца складываясь в узоры, каким-то ужасным образом составляют послания, которые он обязан перехватить. Все сущее – шифр, и он – тема всего» /149,с.235/. Доктора болезнь молодого человека определяют как «манию упоминания». Случайность избранных памятью творца сборника «Стихи» предметов оборачивается закономерностью их поэтического соединения. Первый шаг к оживлению реальности и ее перевоплощению в новое качество сделан в области зримой: в одном из последних стихотворений сборника Федора герой рисует дом и сад, переданный средствами, воспроизводящими тактильное и звуковое ощущение («слагается шершаво сад»), звук, осязание, цвет группируют вокруг себя ткань слова, и так создается мир стихотворений. Реальность памяти материализуется в цвете и звуке, расчленяется на отдельные предметы: тень отделяется от оригинала, отражение от отражаемого, обретает форму, объем, а затем составляющие ее предметы соединяются в новый порядок в автокомментарии Федора.
Вместе с тем, такой ракурс вещам, освещаемым в дневной и ночной проекции, придает воля художника, черпающего образы из глубин памяти. Конкретности вещи поэтому сопутствует ее локальная неопределенность: указаны дом и комната, но ни положение этой комнаты в доме, ни положение вещи в комнате никак не конкретизировано. Предмет точен, материален, но погружен в разреженный воздух – пространство стихотворения, находясь в котором он и не нуждается в более точной локализации. Так, мир «Стихов» Ф.К.Годунова-Чердынцева наполняют не действительные вещи, а их фантомы, отражения в памяти автора. На уровне образной организации сборника этот принцип подчеркнут взаимным отражением предмета в предмете, при котором один выступает продолжением и дополнением для другого. Причем, это дополнение обусловлено не логикой обыденных взаимосвязей, а произволом воображения и памяти автора, слагающим новые узоры из старых впечатлений.
Аберрация, неизбежно возникающая между образом памяти и его источником, между прошлым образом мира и его настоящим воспроизведением и составляет основу эстетического, как вписанного в мир состояния явлений и предметов. Субъективность зримого как в наличном внешне бытии, так и в наличном внутренне раскрывает трансцендентный характер эстетического в тезаурусе Набокова. Трансцендентность эстетического, как качества, присущего наличному бытию, но вычленяемого из его состава индивидуально, раскрывается во взаимосвязи эстетического с категориями времени-пространства, поскольку последние у Набокова взаимообратимы и взаимозаменяемы. «Сама временность, как указывает Н.А. Кормин, – есть такой универсальный акт, который препятствует воспроизводству устоявшегося порядка и требует способности к изменению и развитию» /102,с.87/. Само качество воспоминания даже от буквально сохраненных в памяти объектов подвержено изменению и развитию во времени.
Наличие эстетического в бытии, его вписанность в мир подготовлены, таким образом, двумя факторами: индивидуализацией предметного состава бытия, онтологичностью пространства, неотделимого для Набокова от экзистенции, и субъективностью и трансцендентностью времени, вытекающих из индивидуально-феноменолистического восприятия пространства как части наличного бытия. Причем, наличное бытие и в его пространственном и в его временном составе осваивается у Набокова в формах зримого. Парадигма форм зримого у Набокова и героев, выступающих двойниками автора, включает трансформацию зрения от индивидуализации и выделения неповторимых деталей к расширению физических возможностей зрения от зрения скрытого к созерцанию невидимого, отдаленного в пространстве и во времени. Собственно зрение, как внутреннее состояние памяти и воображения, интерпретируется символически как метафора зримости того, что принципиально не может быть обретено зрением: Гумберт видит у Джоаны зачаток рака, от которого та должна умереть через два года («Лолита»), Соединясь с категорией времени, зрение выступает у Набокова синонимом знания: провидения будущего («Весна в Фиальте»), воскрешения прошлого («Дар»), создания художественного мира («Другие берега»). Таким образом, имманентно присущая зрению гносеологичность выступает у Набокова способом снятия оппозиций далекого-близкого, настоящего-прошлого, явленного и скрытого, повседневного и эстетизированного. В тезаурусе Набокова не остается объектов, не доступных для зрения: взгляду открыты полнота пространства и глубина времени. Зримостью характеризуются синхронический срез пространства и диахроническая ось времени. Именно как метафору знания следует понимать зрение (способность видеть) в определение феномена гениальности, актуализирующего предпринятое нами исследование категории зримого.
Особые возможности зрения, его инварианты от ясновидения до демиургичности и знания, сообщают набоковской реальности качество проницаемости, а предметам, ее составляющим прозрачности. Вездесущность, всепроникаемость зрения размыкает границы набоковского мира, сообщает его диахроническому измерению, проницаемому, обозримому с начала до конца, статус обратимости. В романе «Bend Sinister» профессор Круг однажды в шутку прочитал лекцию о пространстве «задом наперед», но никто из студентов не прореагировал. Примечательно, что об этой шутке вспоминает друг профессора, когда тот сообщает о смерти жены /152,т. 1,с.237/. Шутка, названная Эмбером «чудовищной», онтологически и гносеологически показательна: мир, созданный Набоковым обозрим не только во всех направлениях пространства, но по вектору времени, причем, взгляд объемлет этот мир симультанно, синхронизируя прошлое и будущее, отдаленное и ближайшее. Но, наделяя зримое качествами онтологическими, а зрение атрибутируя как инструмент гносеологический, Набоков автоматически эстетизирует зрение, придавая ему статус того виталистического в своей основе фундамента, на основании которого вырастает художественный мир творений В. Набокова.
3. Принцип соответствия героя и мира – как основа космизации пространства «Лолиты»
В набоковской прозе действие развивается в двух или нескольких мирах, сообщающихся друг с другом. Л. Токе называет романы Набокова приглашениями в другие миры, создаваемые воображением и автора, и читателя /230,с. 176/. Д.Б. Джонсон, сводя набоковское многомирие к традиционному двоемирию, подчеркивает: «Оба мира воображаемы, но один относительно похож на наш, в то время, как другой, часто явно фантастический представляет собой антимир. Каждый из них может служить площадкой для романного действия, но при этом невдалеке всегда маячит образ другого мира» /225,с.155/. Синкретизм набоковской прозы находит выражение не только во внешних композиционных приемах, разводящих повествование по параллельным реальностям, но и во внутренней смене доминирующего способа организации повествования, соотносимого с конкретным родом литературы.
3.1.Принцип соответствия героя и мира в аспекте категории литературного рода
В контексте синкретизма набоковской прозы, ее ориентации на феноменологические качества и свойства искусства слова анализ драматургии писателя приобретает особое значение для понимания феномена творческого метода Набокова-романиста. Драмы Набоков создает на протяжении ограниченного промежутка времени (1923–1938), позже к драме как таковой не обращается, но способы организации содержания и приемы выразительности, присущие драме как литературному роду, полностью адаптирует к эпическому повествованию.
Творческий путь Владимира Набокова начинается со сборника стихотворений, выпущенного в 1914 году и, скорее всего, безвозвратно утраченного, следующий сборник вышел в 1916 и, как известно, был неодобрительно встречен поэтическими мэтрами. В 20-ые годы Набоков обращается к драме, в период с 1923 по 1938 им написано девять пьес, из которых полностью опубликованы по-русски: «Смерть» /1923/, «Полюс» /1923/, «Дедушка» /1923/, «Скитальцы» /1923/, «Событие» /1938/, «Изобретение Вальса» /1938/, «Агасфер» («драматический монолог, написанный в виде пролога для инсценированной симфонии» /148,с.281/) /1923/; полные тексты пьес «Человек из СССР» /1925-1926/ и «Трагедия господина Морна» /1924/ сохранились в архиве писателя, а отдельные фрагменты (первый акт пьесы «Человек из СССР» и отрывки текста драмы, приведенные в рецензии на пьесу «Трагедия господина Морна») были опубликованы в Берлине в газете «Руль». После 1938 года непосредственно к драме как роду литературы Набоков больше не обращается, хотя стихи продолжает писать параллельно с прозой. О.А. Дашевская высказывает мысль, что лирика Набокова «представляет самостоятельный интерес и может изучаться автономно как лирическая система» /58,с.5/, нам представляется, что и лирика и драма художника находились в притяжении его прозы, выступая то в роли комментария, то в роли содержательного компонента, некоторого фрагмента романной реальности, коррелирующего с лирикой или драмой, в метаромане В. Набокова. Ив. Толстой отмечает, что обращение к драме носило для Набокова экспериментальный характер /148,с.5/, а герой романа «Дар», характеризуя первый сборник стихотворений героя-протагониста Федора Годунова-Чердынцева, указывает, что «очень замечательные стихи» это – «модели будущих романов» /152,т.3,с.65/. Таким образом, и сам художник и современные исследователи творчества Набокова лирику и драму расценивают как своеобразную творческую лабораторию, в которой выразительными средствами неэпических жанров вырабатывались принципы и приемы моделирования художественного космоса в набоковской прозе. Анализ драматической художественной системы, эстетической концепции и творческого метода Набокова-драматурга в предложенном аспекте представляется даже более плодотворным, чем исследование набоковской лирики, поскольку лирика как литературный род в творчестве Набокова всегда продолжала сохранять самостоятельность, хотя и не была автономной.
Объективность драмы как рода литературы, актуальная для раннего творчества Набокова, вплоть до романа «Дар» /1938/, эволюционирует в зрелой прозе Набокова к объективности драматического как эстетической категории, драма переживает очевидную трансформацию из рода литературы в явление искусства. Определение Ю. Апресяном атмосферы набоковских романов как «пульсирующего тумана, который начинает вдруг говорить человеческими голосами» /8,с.6/, созвучно открытию, сделанному братом и биографом писателя Себастьяна Найта: «И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобой душе, в любом количестве душ… Стало быть – я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене… как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть» /152,т.1,с.191/. Набоков понимает драму как синтетическое эстетическое явление, как искусство театра, даже шире – свойство действительности. Видоизменяемость набоковских героев, перемещающихся из одной реальности в другую, соотносима с искусством актера, перевоплощающегося во множество разнообразных ролей. Набоков выступает в том числе и как драматург, моделируя художественный мир своих романов, а не только создавая непосредственно драму. В интерпретации Набокова понятие «драматург» идентично понятию демиурга, творца вымышленной реальности, «…драматург тогда лишь творец театра, когда он создает спектакль, а не литературу, когда его материал не слово только, а бутафория, декорация, машины, свет и главное – актер», – к такому выводу приходит С. Радлов /168,с. 17/. Художественный космос Набокова театрален, причем театральность выступает как способ и прием создания образа человека и мира.
Понятие театральности в современной науке интерпретируется в двух аспектах: как «язык театра как искусства» (Ю. Лотман) /187,№ 3,с. 102/ и как «образная трансформация жизненных впечатлений… присущая всем видам искусства» (М. Яблонская) /187,№ 4,с.104/, как «определенная грань самой жизни» (Вс. Хализев) /204,с.65/, так и М. Мамардашвили указывает, что «реальной жизни глубоко свойственен некоторый артистизм» /187,№ 4,с.107/. Понимание театральности как эстетического приема, общего для всех видов искусства и как онтологической категории восходит к работам Н. Евреинова, истолковывающего театральность как принцип жизнетворчества, как исконное свойство человека, который всегда «стремится быть или казаться чем-то, что не есть он сам», указывающего, что «первый девиз театральности – не быть самим собой» /71,с.89/. Результат театрализации быта и бытия состоит при этом в «обращении желания будущего изменения (действительности) в некий факт настоящего, эфемерный, но убедительный» /72,с.52/. Условность реальности, в которую погружены набоковские герои, находит выражение в ее декоративности; поиски героями мира, им соответствующего, выражаются во внешнем приеме смены обличий (таково в романе «Соглядатай» перевоплощение героя из безымянного маленького человека в загадочного Смурова), или обретения соответствующего их обличию мира (таков выход Цинцинната в тот мир, «где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему» /151,т.4,с.130/ в финале романа «Приглашение на казнь», уход Мартына в картину в романе «Подвиг», метафизическое путешествие Пильграма, совершенное после его физического ухода («Пильграм»), уход Василия Ивановича, уставшего быть человеком («Облако, озеро, башня»), отбытие профессора Пнина («Пнин»)).
Сменяя обличие, герой моделирует новый мир, причем, если предшествующий метаморфозе мир существовал независимо от героя, то новый выступает уже как мир, созданный героем для себя. Смуров («Соглядатай»), изобретая для себя новый образ, придумывает и любовь Вани, «душераздирающие свидания по ночам» /151,т.2,с.345/ с нею, о которых ни муж, ни, главное, сама Ваня, никогда не узнают; Антон Петрович («Подлец»), струсивший перед дуэлью, сочиняет тем не менее счастливую развязку событий: струсил Берг, жена, узнав об этом, вернулась к нему, о бегстве самого Антона Петровича никто не знает. И хотя такая версия происходящего не совпадает с действительностью («Таких вещей в жизни не бывает», – замечает Антон Петрович /151,т.1,с.363/), инициальная часть рассказа ставит под сомнение материальное наличие в действительности всех описанных в нем событий (измена, дуэль, трусливое бегство), вещей, которые «бывают в жизни». В экспозиции рассказа указывается, что «проклятый день» знакомства Антона Петровича и Берга «существовал только теоретически: память не прикрепила к нему вовремя календарной наклейки, и теперь найти этот день было невозможно» /151,т.1,с.340/. Объективная для эпоса конкретная наличность единичного героя в единичной реальности в набоковской прозе принимает форму театрального расщепления единичного «Я» на множество обличий, корреллирующих с разными, актуализированными в повествовании мирами. Смуров ставит под сомнение саму свою единичность: «Ведь меня нет, – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают» /151,т.2,с.344/. Для Цинцинната напротив непреложна его единичность, он утверждает: «Но меня у меня не отнимет никто» /151,т.4,с.51/, – за пределы прозрачного мира Цинциннат выносит именно эту единственную и неповторимую свою непрозрачную суть, отличающую его от прозрачных «призраков, оборотней, подобий» /151,т.4,с.22/ того мира, в котором он по ошибке, онтологической случайности оказался.
В романе «Приглашение на казнь» действительность, в которой вынужден пребывать Цинциннат, подчеркнуто условна. Эммочка указывает герою на окно в стене, которое оказывается вовсе не окном, а витриной, открывающей вид на Тамарины Сады, «намалеванный в нескольких планах», напоминающий «не столько террариум или театральную макетку, сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр» /151,т.4,с.43/. В камере Цинцинната подвешен за нитку искусственный паук, Марфинька приходит на свидание к мужу со всей семьей, а также с домашней утварью, мебелью. Небрежность устройства декорации (места действия романа) находит продолжение и в ошибках актеров, неточностях в костюмах и репликах. В первую очередь, сам Цинциннат ведет себя вопреки предписанному сценарию. Матери, пришедшей на свидание, Цинциннат указывает: «И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие, – ведь это небрежность. Передайте бутафору» /151,т.4,с.75/. Реалистически точные объяснения матери («Да я же была в калошах, внизу в канцелярии оставила, честное слово») и слишком тривиально обоснованная цель визита («Я пришла потому, что я Ваша мать») не согласуются с отведенной ей в сценарии казни ролью, на что Цинциннат замечает: «Только не пускайтесь в объяснения. Играйте свою роль, – побольше лепета, побольше беспечности… Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма» /151,т.4,с.75/. Постоянно обнаруживающая себя сделанность, условность мира, в котором Цинциннат осужден и приговорен, находит закономерное разрешение в его финальном крушении, равно, как и перемещение Цинцинната в предназначенную ему реальность подготовлено не только его несоответствием миру, но и не полным присутствием героя в декоративном мире романа. Приговоренный к казни Цинциннат, очутившись в камере, восклицает: «Какое недоразумение!» – и, рассмеявшись, начинает раздеваться «Он встал, снял халат, ермолку туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что осталось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух» /151,т.4,с. 18/. Цинциннат исчезает задолго до казни, до распада искусственного мира, в финале Цинциннат как раз не исчезает, а обретает себя. Эта метаморфоза героя поддается идентификации в терминах теории театральности, суть которой С. Вермель определил как «волю человека от жизни дарованной к жизни, им самим для себя созданной» /37,с.44/.
Сцена раздевания Цицинната повторяется в романе «Под знаком незаконнорожденных» уже как разоблачение перед зрителями на сцене недавно умершей жены Круга: «Вспышка, щелчок; обеими руками она сняла прекрасную голову…» /153,т.1,с.270/. Ольга, уже ушедшая, раздевается, растворяясь, перед классом, в котором учились вместе Падук и Круг, в мире сна Круга о прошлом, то есть в мире, нереальность которого удвоена, возведена в степень. Удвоение призрачности мира вымысла акцентирует условность мира внешнего. На собрании университетских ученых имена подменяются науками и предметами, которые те репрезентируют. Условность происходящего выражается в условности действующих лиц: Экономики, Богословия, Новейшей Истории, в числе которых находится и Драма. Причем Драма-профессор рассуждает о драме-действии: «Они нашли запасы свечей и плясали на сцене. Перед пустым залом» /153,т. 1,с.236/. Интерпретация сценической драмы наукой о драме, персонифицированной в человеческом образе, удвоение приема создает тот же эффект призрачности происходящего, неуловимости истинной реальности. Мир, окружающий Круга, распадается после смерти жены, также как и реальность, окружающая Цицинната. Отправляющийся на ночное собрание профессор видит на пустынной улице ряженого молодого человека, вернувшись домой, Круг застает на крыльце юношу в костюме американского футболиста, застывшего «в последнем, безысходном объятии с маленькой, эскизной Кармен» /153,т.1,с.251/. В романе «Бледный огонь» король, покидающий мир, больше ему не принадлежащий, фактически тоже распавшийся, переодевается шутом и проходит через театральную уборную.
Театральный костюм набоковского не равнозначен только его новому обличию и соответственно новой роли, театральная маска – сама телесная оболочка героя, смена роли равнозначна смене души или формы бытия. Набоковские герои существуют как функции некоторой постоянной бинарной оппозиции ролей палача и жертвы: Дедушка и аристократ де Мэриваль в драме «Дедушка», Русалка и Князь в драматическом фрагменте в стихах, завершающем драму Пушкина, Смуров и Кашмарин в романе «Соглядатай», Цинциннат и месье Пьер в романе «Приглашение на казнь», Куильти и Гумберт в «Лолите», Круг и Падук в романе «Под знаком незаконнорожденных». Причем герои взаимозаменяемы в пределах функций: палачи и жертвы меняются местами. М. Липовецкий указывает на «некоторый устойчивый ансамбль», который составляют герои русскоязычных романов Набокова: «герой – носитель дара, его отец, девушка, предельно чуткая ко всему незаурядному» /120,с.645/. В прозе Набокова, таким образом, объективно существует некоторый набор ролей, которые заново исполняются новыми героями в новом романном тексте. Ролевая организация системы эпических персонажей отражает одну из граней категории театральности, как способа и приема создания вымышленного мира в набоковской прозе.
Декоративность места, а точнее – фона действия подчеркнута разной степенью индивидуализированности главных и второстепенных героев: герои главные рельефно очерчены, персонифицированы, в то время как второстепенные сливаются с фоном действия, выполняя функцию сценических статистов. В романе «Приглашение на казнь» толпа, окружающая эшафот, выполняет функцию атрибута казни, она безлика и неперсонифицирована: за первыми отчетливо зримыми рядами зрителей следуют «слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там – отдаленнейшие уже вовсе были дурно намалеваны на заднем фоне площади» /151,т.4,с. 128/. Одинаковость, фоновая функциональность второстепенных героев акцентируется звуковым подобием имен, звучащих как взаимное эхо: Родриг, Родион, Роман. В пьесе «Изобретение Вальса» одиннадцать старых генералов, собравшихся на военный совет, носят едва различимые на слух имена: Герб, Гроб, Граб, Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг, причем «последние трое представлены куклами, мало чем отличающимися от остальных» /148,с. 189/. Главные герои совершают перемещение из одной реальности в другую, при этом видоизменяясь качественно, герои второстепенные в пределах одного условно театрального, сценичного мира перетекают друг в друга, видоизменяясь количественно: их число незаметно возрастает. В пьесе «Изобретение Вальса» покашливание Берга («Грах, грах, грах» /148,с. 189/) звучит как имя еще одного генерала.
Неуловимость сути набоковских героев, вечно перемещающихся между вымышленными мирами, вписывается в рамки театральности самоизменения, которая «демонстрирует окружающим совсем не то, что он (человек – Я.П.) являет на самом деле» /204,с.67/. Принцип театральности реализуется и в способе создания образа действительности. Декоративность действительности, готовой к распаду и уже ему подверженной (Цинциннат видит, как один за другим падают тополя) в романе «Приглашение на казнь» подчеркнута смещенностью центра (лампочка в камере Цинцинната слегка смещена от центра потолка, эшафот смещен относительно центра площади). «Отсутствие маркированного центра лишает происходящее смысла», – делает вывод В. Линецкий /118,с.179/. Децентрация пространства, как прием создания театрально-условного мира, отрабатывается Набоковым именно в драме.
В драмах и драматических фрагментах Набокова центр действия, непосредственно представленный на сцене, постепенно развенчивается в качестве центра, хотя формально он наделен признаками неизменности и постоянства (Набоков, как правило, соблюдает принцип единства места). В драме «Смерть» /1923/ центр действия сосредоточен в комнате Гонвила: здесь развиваются настоящие, явленные на сцене события, и здесь же состоялось то внесценическое событие прошлого (объяснение в любви Стеллы и Эдмонда), которое послужило толчком к развитию сценического действия. Но постепенно выясняется, что ни объяснения в любви как такового, ни тем более измены не было, а «был один лишь взгляд», «как вечность обнаженная» /148,с.55/.Главное действующее лицо – Стелла – на сцене не появляется, более того, в начале пьесы объявлено о ее смерти (как позже выяснится, возможно, смерти мнимой). Степень обманчивости происходящего на сцене постепенно возрастает: может быть, комната Г онвила – лишь плод воображения умершего Эдмонда, который продолжает грезить после смерти, а подлинное место действия (и центр мира) – невидимая зрителям «могила под каштаном» /148,с.57/. Так, глухая периферия дома и города – могила и кладбище – постепенно меняется местами с центром.
Мнимость центра, его перенесенность из пространства в сознание героя сохраняется и в следующей пьесе Набокова – «Дедушка» /1923/. Современные события развиваются в крестьянском доме, но центр мира однако сосредоточен не в доме, а на эшафоте в Лионе, в моменте казни, которая должна была состояться двадцать лет назад. Событие, не состоявшееся в прошлом, не происходит и в настоящем: прошлое не может быть исчерпано до конца, оно подчиняет себе настоящее. Лица из прошлого продолжают разыгрывать одно и тоже событие, причем и ход действия и его результат неизменны: палачу вновь не удается обезглавить аристократа де Мэриваля. Более того, бывшая жертва теперь выполняет функцию палача – умирает Дедушка.
Местом действия в обоих драмах выступает дом, но дом – чужой для главных героев. В драме «Смерть» Эдмонд – гость в доме Гонвила, а жену Стеллу Гонвил привез из Венеции, для нее чужды и дом, и город, и страна, а, возможно, и шире – земная реальность: в драме неоднократно обыгрывается значение имени Стелла – «звезда» («мерцающее имя в темном вихре» /148,с. 45, 53/). Дом крестьян в драме «Дедушка» – последний и случайный приют для впавшего в детство лионского палача. Аристократ де Мэриваль в этом доме тоже случайный гость, искавший приют на время дождя. В пьесе «Скитальцы» /1923/ бездомность героев проакцентирована уже в названии, место действия – постоялый двор, который по определению не может быть домом. Вдали от дома находятся герои пьесы «Полюс» /1923/ и драматического фрагмента «Человек из СССР» /1926/. Дом правительства, а не родной дом Вальса – место действия в пьесе «Изобретение Вальса» /1938/.
В пьесе «Событие» /1938/ действие происходит казалось бы в родном доме героев, но в этом доме их едва не убили пять лет назад (гадая Любови по руке, Мешаев Второй замечает: «Собственно, вы должны были умереть давным-давно» /148,с. 167–168/), и в этом же доме пять лет назад умер единственный сын Любови и Трощейкина. Дом, предназначенный для живых людей, таким образом, превращается в склеп, населяется мертвецами (Любовь, ее сын) или куклами, марионетками, «крашенными призраками» /148,с. 145/, лишь внешне похожими на людей: таковы детектив Барбошин – жалкая копия настоящего Барбашина, Мешаевы Первый и Второй, вдова Вагабундова и прочие гости на фарсовых именинах писательницы Опояшиной. Стремясь отделить живых людей от человеческих подобий, Набоков прибегает к приему приостановки текущего действия, выводя на авансцену диалог душ и сердец Любови и Трощейкина. Главное событие в этой пьесе тоже состоялось в прошлом.
В драме «Полюс» центр мира заявлен уже самим названием. Но полюс – как цель экспедиции капитана Скэта – цель мнимая: он уже отмечен норвежским, а не английским флагом. Из палатки, в которой сосредоточено действие, мысль героев устремляется к кораблю, на родину (точнее – в Лондон), а, в конечном счете, в область неизведанного (свой путь герои сравнивают с путешествием Синдбада), в иномир. Понятие центра, таким образом, все более размывается, пока не теряет конкретной локализации в фантазиях обреченных на смерть Скэта и Флэминга (неважно, действительного или воображаемого Скэтом). В драматическом фрагменте «Человек из СССР» основные события должны были развернуться за сценой, в Советской России, действие, происходящее на глазах у зрителей, их только подготавливает и приближает. Центр, из которого этими событиями управляют, сосредоточен в Берлине. В поздней драме «Изобретение Вальса» центр мира, из которого смертоносное оружие Вальса вершит судьбы мира, находится где-то на его отдаленной окраине, да и уничтожает оно сначала периферийные объекты. Позже, однако, выяснится, что оружие спрятано на Вальсе, а, возможно, это и сам Вальс, если, конечно, оружие существует вообще. Сцена не выступает центром действия, равно, как и представленный на сцене дом, не является для героев домом действительным.
Героев драм Набокова можно разделить на две условных ролевых категории: скитальцев и домоседов. Странствия скитальцев не имеют цели, а возвращение домой, в то место, которое выступало ранее в качестве центра мира, невозможно. Гонвил возвращается домой из путешествия по Италии с женой и таинственными ядами, но жена не принадлежит ему и дом перестает быть домом: он больше не защищает и не дает отдыха («Смерть»), аристократ де Мэриваль по-прежнему называет себя «странником» /148,с.70/, хотя и вернулся к брату в родовой замок Мэриваль («Дедушка»), В драме «Скитальцы» и прошлое и то место, где оно было сосредоточено (дом Фаэрнэт), недостижимы для двух братьев – разбойника и странника. Однажды состоявшееся изгнание («Дедушка») или намеренный уход («Полюс», «Скитальцы») делают возвращение в родной дом (и истинный центр мира) невозможным: пространство растворяется во времени и утрачивается вместе с прошлым.
В драматическом фрагменте «Агасфер» /1923/ главное событие уже состоялось в прошлом, в том его моменте, когда герой обрел бессмертие, в эту точку на диахронической оси и стремится вернуться герой. Ось времени совмещается с линией пространства, на которой существуют где-то утраченный рай, истинный дом, центр мира, место вечно желаемого, но абсолютно невозможного возвращения. Путь отдаляет героя от центра мира, а не выводит к нему, поскольку центр мира сосредоточен в моменте прошлого, а не в точке пространства. В пьесе «Событие» главные герои заключены в доме, населенном призраками, как в склепе: бежать из этого дома невозможно, даже за город Любовь не может уехать, а Трощейкин только мечтает о том, что его талант откроет ему путь в столицу. «За границу, навсегда» /148,с. 168/ уезжает Барбашин, который не является членом дома, представленного на сцене. Однако этот отъезд означает для героя утрату дома навсегда, возращение домой становится теперь также невозможно, как новое обретение юности.
Секрет устройства своего драматургического хронотопа Набоков открывает в «Предисловии к американскому изданию «Изобретения Вальса»» /1945/: «Если с самого начала действие пьесы абсурдно, то потому, что безумный Вальс – до того, как пьеса началась – воображает себе ее ход» /148,с.250/. Отказ от линейного времени ведет и к отказу от точной «разметки» пространства на периферию и центр. Синонимом сакральности мира становится его воображаемость, отнесенность в прошлое, центр мира локализуется в пространстве памяти героя, принимая форму однажды состоявшегося и бесконечно повторяемого вновь события. Герои-домоседы, прочно прикрепленные к определенному пространственному локусу, оказываются заложниками этого события, они обречены на блуждание по метафизическому кругу, а герои-скитальцы, освобождаясь из этого плена, обрекают себя на невозможность возвращения, вечные скитания и бездомность, а, следовательно, и утрату центра мира как цели странствий. В набоковских драмах последовательно соблюдается правило единства места, хотя место сценического действия не является центром мира, но именно оно наделено качествами центра: неизменностью, постоянством. Таким образом, место, представленное на сцене претендует на то, чтобы стать центром, подобная подмена подчеркивает окончательную утрату героями подлинного центра мира. Центр и периферия в набоковской драматургии не меняются местами, как это происходит в лирике и эпосе, согласно наблюдениям Ю. Левина /111,с. 326 и далее/, но взаимно отменяют друг друга: они не могут присутствовать на сцене одновременно. Центр обретает статус события, память о котором локализована не в реальном пространстве, а в воображаемом – памяти героев. Характер отношения героев к этому событию определяет их поведение (неподвижность, прикрепленность к определенной точке пространства или же скитания без надежды на обретение цели).
Регулятивный принцип формирования упорядоченной картины мира реализуется в членении пространства на сакральные центры и профанную периферию. Центр мира имеет точную пространственную локализацию, будучи отмеченным «алтарем храмом, крестом, мировым деревом, axis mundi, пупом Вселенной, камнем, мировой горой, высшей персонифицированной сакральной ценностью (или ее изображением)» /193,с.485/. Центр выступает носителем позитивных качеств, сообщающих постоянство, процветание и возможность возобновления через повторяемые промежутки времени миру людей. В свернутом виде центр концентрирует в себе вненачальные пространство и время, энергией которых через регулярно отправляемые ритуалы «подпитывается» мир людей. В.Н. Топоров подчеркивал, что в «ключевых ситуациях» измерение времени неразрывно связано с тремя измерениями пространства: «отсутствие пространства – отсутствие времени, завершенность (полнота) пространства – завершенность (полнота) времени, центр пространства – центр времени». На этом основании исследователь делает вывод, что «любое полноценное описание пространства предполагает определение «здесь – теперь», а не просто «здесь»» /193,с.461/. Герой основного мифа – субъект космогонического ритуала, достигает центра мира, преодолевая препятствия, нередко изменяясь при этом качественно. В том, чтобы совершить путь к центру, состоит главное назначение героя.
Сохраняя неизменной мифологическую оппозицию сакрального центра и профанной периферии, автор-демиург в литературе «нового времени» наполняет новым содержанием категории священного и мирского. В тезаурусе В.В. Набокова оппозиция центра – периферии трансформируется в противопоставление чужбины – родины, с одной стороны, и мира вымысла – мира действительного, с другой. Ю. Левин приходит к выводу о том, что ««двумирность», или «двупространственность», биспациальность стала инвариантом поэтического мира Набокова» /111,с.325/. Принципиально важно в данном случае отметить то, что мир России, причем не современной, а России прошлого, поры детства, юности и первой любви, и мир вымысла выступают для Набокова в качестве «своих», в то время, как мир изгнания (Европы и Америки) и мир реальности маркированы как «чужие» и даже «чуждые», а особенно чуждой оказывается «советская сусальнейшая Русь» /150, с.279/. Главный член оппозиции – родина – оказывается фиктивным, он заявлен, но не имеет конкретного пространственного локуса, пребывая в памяти, творчестве и воображении, т. е. в области внепространственной. Он оказывается подобным космосу художественного произведения, принадлежа уже к области творчества, в реальном пространстве не локализуемой. Таким образом, оппозиция центра и периферии вмещает у Набокова и другую, более общую, категориальную мифологическую оппозицию «своего – чужого». Необходимо отметить, что указанные закономерности приобретают ряд особенностей, находя воплощение в конкретной художественной форме.
Проза Набокова адаптирует художественные приемы порождения текста и выражения содержания, разработанные в драме и лирике, приобретая при этом новые эстетические качества. В ткань прозаического повествования органически вплетаются стихотворные фрагменты, представляющие редуцированный вариант прозаического комментария к ним же или смысловой концентрат прозы. Набоков неоднократно подчеркивал, что между стихами и прозой нет непреодолимой границы, указывая, что можно «определить хорошее стихотворное произведение любой длины как концентрат хорошей прозы с добавлением или без добавления повторяющегося ритма или рифмы. Волшебство стихосложения может улучшить то, что мы именуем прозой, полнее выставив весь аромат смысла…» /226,с.44/. В «Комментариях к «Евгению Онегину»», противопоставляя «безрифменный свободный стих» силлабической, метрической (у Набокова тоже, что силлабо-тонической) и акцентной поэзии, Набоков подчеркивает, что свободный стих, «если бы не типографские заставы, незаметно переходил бы в прозу…» /142,с.956/.
Динамика набоковской прозы обратная: проза незаметно перетекает в стихи. В «Жизни Чернышевского» («Дар») компендий «Святого семейства» К. Маркса принимает форму безрифменного трехдольника: «…ума большого // не надобно, чтобы заметить связь // между ученьем материализма //… и коммунизмом», – стихотворный фрагмент сопровождает замечание героя: «Перевожу стихами, чтобы не было так скучно» /151,т. З,с.219–220/.
В романе «Король, дама, валет» стратегия карточной партии акцентирует внимание на числовой символике: Марта умирает в комнате с номером 21 – равным карточному очку, а в Таро символизирующим «Мир», «Вселенную». Число символизирует доигранность партии, завершение сюжетной линии романа. Необычайно интересен поиск Джокера, Магистра, управляющего игрой, который идентифицируется в старичке-фокуснике, выполняющем функции провиденциальную и демиургическую, так старичок создает роман Марты и Франца, а затем отменяет реальность Франца, говоря: «Вы уже не существуете» /151,т.2,с.254/. Но карточная игра, соотносимая с игрой уникальных манекенов, предлагаемых Драейру, не единственная игровая стратегия в набоковском романе. Однажды Франц, наблюдающий за перемещениями Марты, сравнивается с «шахматистом, играющим вслепую», который «чувствует, как передвигаются один относительно другого его конь и чужой ферзь» /151,т.1,с.203/. Кроме того, рядом с числом 21 находится число 13 – в романе XI11 глав. Вся карточная масть (13 карт) выстраивается в пасьянсе, старшая карта накрывает младшую: Марта – Франца, Драйер – Марту. Пасьянс завершен – мир достиг полноты и гармонии: Франц свободен от Марты, Драйер оставляет проект с движущимися манекенами. Хотя проблематична возможность отнесения всех героев к одной масти. Актуализируя идею колоды, как объединяющего карты начала, нельзя успукать из вида более иерархичный и тесный способ объединения карт – масть. В стихотворении «Святки» находим ситуацию синонимичную романной: «стареющий сосед» берется гадать молодым героям:
Все траурные пики Накладывает он На лаковые лики Оранжевых бубен /150,с.224/.Гадание не сулит «прелестного обмана», пики символизируют негативные начала: смерть, тюрьму, разорение, болезнь, одиночество. Вместе с тем, в красный цвет и красная масть – атрибуты Драйера, он рыжий, невесте он дарит белку, на нем ярко-желтая пижама, у него рыжий чемодан, на новогодней вечеринке у него краснеет лицо, сначала любовники думают застрелить Драйера и представляют его кровавые глубокие раны. Знаки Дайера – огонь, солнце. Темноволосая Марта напоминает Францу большую белую жабу, смертельно заболевает Марта в лодке, а план расстрела Драйера меняется на утопление. На Франце большие синие очки, на Марте красный с синим халат. Марта и Франц по всем признакам принадлежат не к красной масти, их знаки не солнце, а вода и земля. Несоответствие героев друг другу обнажает обреченность союза Марты и Драйера, принадлежащих к разным мастям, но и союз Марты и Франца не может состояться из-за несовпадения иерархического статуса. Аналогичную ситуацию: невозможности соединения с возлюбленной находим в стихотворении «Пьяный рыцарь»: атрибуты рыцаря «смуглый кубок жарко-рдяного вина» /150,с. 163/ и пес относят его к красной масти, красавица появляется на сером коне в зеленом платье и оставляет рыцарю лишь одно – «под трефовой листвой жемчуговые подковы, оброненные луной» /150,с.163/, она принадлежит к черной масти. Таким образом, той руководящей силой, знание которой фигурам романа недоступно, выступает принцип гармонии и соответствия на уровне иерархии и масти, как начал, превосходящих отдельные фигуры. Стихотворение «Святки» выступает квинтэссенцией содержания романа, оттеняя стратегию гадания и паясьнса как способов упорядочивания, гармонизации романного мира.
Стратегия шахматной игры в романе «Защита Лужина» еще более многозначна, чем карточная игра в предыдущем романе. В. Александров указывает на связь шахмат с темами музыки и любви, тот же комплекс находим в «Трех шахматных сонетах»:
Увидят все, – что льется лунный свет, Что я люблю восторженно и ясно, Что на доске оставил я сонет /150,с.375/.Ложась спать, Лужина обыгрывает значения слова партия: «хорошая партия», «найти себе хорошую партию», «недоигранная, прерванная партия». П ознакомившись с невестой, Лужин ощущает запрограммированность этой встречи и осознает, что обещалось ему нечто большее. В своей смерти Лужин обретает свою вечность, ту, которую хотел обнаружить рассказчик в романе «Другие берега». Однако этот выход равнозначен его отсутствию, таким образом, жизнь героя может развиваться только в игре. Как стихотворение «Святки» обобщает содержание романа «Король, дама, валет» средствами лирики, так и стихотворение «Шахматный конь» /150,с.394–395/ показывает ситуацию фатальной невозможности бытия за пределами игры:
И потом в молчании чистой палаты, куда черный конь его увел, на шестьдесят четыре квадрата необъяснимо делился пол. И эдак, и так, – до последнего часа — в бредовых комбинациях, ночью и днем, прыгал маэстро, старик седовласый, белым конем /150,с.395/.Оба стихотворения, в которых концентрированно выражается основной смысл романа о тотальности игры, акцентируют тему судьбы: в стихотворении «Святки» описывается ситуация гадания, допрашивания судьбы, узнавания будущего, причем, результат получить невозможно:
Сам худо я колдую, а дедушка в гробу, и нечего седую допрашивать судьбу /150,с.224/.Седая судьба – воплощение дедушки по принципу метонимии – седина дедушки переносится на его символическое воплощение в облике судьбы. Реальность шахмат, поглощающую и материальное и потустороннее бытие Лужина, в стихотворении ограничена смертным часом маэстро, в романе шахматный мир продолжается и в облике той вечности, что «угодливо и неумолимо раскинулась» /151,т.2,с. 155/ перед героем, однако в обоих текстах воспроизводится знак, примета этой вечности, связанная с членением пространства: на шестьдесят четыре квадрата делится пол, расстилающийся перед маэстро, сначала в кабачке, затем в сумасшедшем доме, бездна, принимающая Лужина, распадается на сакраментальные, фатальные шестьдесят четыре квадрата. Стихотворение в самом деле выступает не комментарием, не развитием темы романа, а его сгущенной смысловой моделью. Сочиняя за несуществующего, но заявленного рецензента отзыв о своем стихотворном сборнике Федор Годунов-Чердынцев («Дар») находит такое определение для характеристики собственного творчества: «Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы» /151,т. З,с. 10/. Определяя стихи как непрозрачную плоть, а прозу как прозрачный призрак, герой-протагонист подчеркивает ту смысловую сгущенность, которая отличает стихи от прозы, но при этом указывает и на их нерасторжимое единство, одновременное пребывание в мире сборника. В прозе Набокова стихи сгущают пространство прозы, выявляют организацию ее «нервной системы», «тайные точки» /152,т.2,с.384/, так определяет Набоков «подсознательные координаты начертания» «Лолиты».
Выделенные и не обозначенные строфически фрагменты стихотворной речи органически вплетаются в ткань романа. Список класса Лолиты Гумбертом прочитывается как «лирическое произведение» /152,т.2,с.67/, «сущая поэма» /152,т.2,с.68/, утрату Лолиты Гумберт оплакивает в стихотворении, обвинение и приговор Куильти Гумберт облекает в форму белых стихов. Гумберт Гумберт покупку «прелестных обнов» для Лолиты орнаментирует четверостишием, рефлексия первых строк которого кодируется двояко: в них оживает и литературная традиция любви, зародившейся в детстве и пронесенной через всю жизнь, и сугубо личные воспоминанья Гумберта о первой Лолите – Аннабелле Ли (в стихотворении названной Вирджинией Э. По), при этом заранее актуализируется чрезвычайно важный для героя мотив оправдания:
Полюбил я Лолиту, как Вирджинию – По, И как Данте – свою Беатриче…Вторые две строки:
Закружились девчонки, раздувая юбчонки: Панталончики – верх неприличия!/152,т.2,с.134/ – знаменуют перемещение во времени: из прошлого, как всеобщего, маркированного в качестве художественного, так и из индивидуального, с всеобщим непосредственно соотнесенного и выраженного его языком, в настоящее, из мира поэзии и фантазии в реально-бытовую плоскость покупок и размеров. Ироническая антитеза двух частей катрена обнажает не только контраст быта и бытия Гумберта, но и трагическое несоответствие взрослого героя миру детей, в который он вступает, не изменяясь ни количественно, ни качественно, и не менее трагическое несоответствие Лолиты и Аннабеллы, реализованное на всех уровнях смысла, прежде всего по отношению к Гумберту, как внешнему возрастному, так и внутреннему.
В конце предсмертной своей исповеди Гумберт возвращается к теме, прозвучавшей в катрене, обозначая область «единственного бессмертия», которое он может разделить с Лолитой, как «предсказание в сонете», «спасение в искусстве» /152,т.2,с.376/. Сонет как форма гармоничного и исцеляющего инобытия незримо ткется уже за пределами последней написанной Гумбертом страницы. Роман «Дар» завершен сонетом, не разбитым на сегменты-строки, таким образом, будто бы продолжающим прозаическую речь: «…продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка» /152,т.3,с.330/. В «Предисловии к английскому переводу романа «Дар» («The Gift»)» Набоков замечал: «Интересно, как далеко воображение читателя последует за молодыми влюбленными после того, как автор отпустил их на волю» /147,с.50/. Стихотворная речь, сменяя прозаическую, трансформирует повествование в иную реальность, не локализованную и не материализованную нигде, пребывающую только в воображении автора и читателя. В сонете «Страна стихов» /1924/, поэтическая реальность вынесена за рамки земного бытия и локализована на особенной планете, «где не нужен житейский труд», где в качестве разменных монет выступают рифмы и сонеты, «где нам дадут за рифму целый ужин // и целый дом за правильный сонет» /153,т. 1,с.630/. Сонетная форма в поэтической системе Набокова выступает как высшее и наиболее полное выражение поэзии, как квинтэссенция выразительных возможностей стихотворной речи. Именно поэтому переход из мира бытового и обыденного в реальность искусства, область воображения и чистого вымысла ознаменован трансформацией прозаической речи в стихотворную, обличенную к тому же в форму сонета.
Роман «Лолита» окружен поэтическим эхом: стихотворениями «Лилит» /1925/ и «Какое сделал я дурное дело» /1959/, пересоздающими языком поэзии определенные эпизоды романа. В конце романа Гумберта посещает видение, а точнее мелодия из иного мира, – мелодия рая, поднимающаяся со дна «ласковой пропасти» и не принадлежащая расположенную там реальному «горнопромышленному городку». Эта райская мелодия «составлялась из звуков играющих детей, только из них», и Гумберт, вслушивающийся в эту «музыкальную вибрацию, эти вспышки отдельных возгласов на фоне ровного рокотания», с полной ясностью осознает, что его вина, не покидающий его «пронзительно-безнадежный ужас» состоят не в том, что Лолиты нет с ним рядом, а в том, что «ее голоса нет в этом хоре» /152,т.2,с.374/. В стихотворении «Лилит» убитый вчера и попавший в иную реальность, герой оказывается в мире, населенном только детьми. При этом сам герой, попадая в качественно иную реальность, не меняется:
И вот теперь, в том самом фраке, в котором был вчера убит, с усмешкой хищною гуляки… /150,с.251/Дети для героя – взрослого «гуляки» окружающие – не просто дети, а фавны, а девочка в дверях – ожившее эротическое видение из юности: «И вспомнил я весну земного бытия…. как дочка мельника меньшая шла из воды, вся золотая…» /150,с.251/. Несоответствие героя обретенному раю, а именно так в начале стихотворения определяется им новый мир, открывшийся после смерти, приводит к трансформации рая в ад: двери Лилит закрываются перед ним и на улице окружают «мерзко блеющие дети». Та же амбивалентность рая и ада присуща и замечанию Гумберта: «невзирая на ее гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадежность, я все-таки жил на самой глубине избранного мной рая – рая, небеса которого рдели как адское пламя, – но все-таки, рая» /151,т.2,с.206/. Дистрибуция мира детства, начала пути в лирике Набокова двояка: в аспекте временном это мир прошлого и памяти, в аспекте пространственном – область, локализованная внизу на первой ступени лестницы («Лестница»), у подножия горы («Мы с тобою так верили»). Мелодия детского рая долетает до Гумберта снизу, свое собственное место в раю-аду Гумберт определяет как «самую глубину». Пространственная дистанцированность детского рая в начале романа принимает символическое выражение в образе «очарованного острова» нимфеток: «острова завороженного времени, где Лолита играет с ей подобными» /152,т.2,с.26/. Возраст нимфетки – 9-14 лет – образует внешние, «зримые очертания» этого острова, который «окружен широким туманным океаном» /152,т.2,с.26/. Временные характеристики символически выражаются в форме пространственных. Гумберт отменяет дистанцию, не преодолевая ее – в мире нимфеток и фавнов он не фавенок, влюбленный в Аннабеллу, он входит в него «под личиной зрелости (в образе статного мужественного красавца, героя экрана)» /152,т.2,с.53/, в том обличии, в котором впервые предстал перед Лолитой. Более того, герою кажется, что его нынешняя мужественная красота, о которой Гумберт не раз напоминает на протяжении романа, должна привлечь девочку Долорес.
Несоответствие героя миру – метатема набоковской прозы, варьируемая в сюжетных приемах смены формы («Соглядатай») или места бытия («Приглашение на казнь»). Стихотворение «Лилит» акцентирует ключевой мотив романа: несоответствия взрослого героя миру детского рая, им же для себя избранного, как источника трагической вины героя. Искупление вины приводит к трансформации рая в ад.
Стихотворение «Какое сделал я дурное дело» продолжает диалог с читателем, ведущийся в романе. Образ Лолиты, созданный Гумбертом, динамичный, ускользающий, возвышенный поэтическими аналогиями, находится в явном противоречии с реальным образом Долорес Гейз, о которой Шарлотта говорит следующее: «Моя капризница видит себя звездочкой экрана, я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка» /152,т.2,с.83/. Воспевая свою Лолиту, Гумберт оговаривается, обращаясь к почтенным членам общества: «заслуженному репортеру по уголовным делам», «старому и важному судебному приставу», «некогда всеми любимому полицейскому», «отставному профессору, у которого отрок служит в чтецах»: «Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились бы в мою Лолиту!» /152,т.2,с.166/. Приводя критические отзывы на роман Набокова, Н. Берберова воспроизводит и такой: «Необыкновенная книга, неотвязная, страшная. Дьявольский шедевр» /25,с.304/. В первой строфе стихотворения создается образ «бедной девочки», постепенно перерастающий в дьявольское наваждение:
Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и злодей, я, заставляющий мечтать мир целый, о бедной девочке моей /150,с.287/.Очарование Лолиты гибельно: в начале романа Гумберт называет нимфетку «маленьким смертоносным демоном в толпе обыкновенных детей» /152,т.2,с.27/, тема Лолиты переплетается в романе с темой Кармен, темой смертоносной любви, свою первую любовь, трагически предопределившую будущую жизнь, Гумберт сравнивает с отравой, оставшейся в ране /152,т.2,с.27/. Образ Лолиты, переживающий в стихотворении метаморфозу из «бедной девочки» в гибельное наваждение, развивается в стихотворении через те же концептуальные приметы демонизма и отравы, примененные уже не к судьбе героя, а к судьбе читателей:
О, знаю я, меня боятся люди, и жгут таких, как я, за волшебство, и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства моего /150, с.287/.Отвечая на вопросы журнала «Плэйбой», Набоков согласится с тем, что Лолита затмила другие его произведения, написанные по-английски, но добавит при этом: «…но я не могу осуждать ее за это. В этой мифической нимфетке есть странное нежное обаяние» /194,с.233/. Действие романа продолжается за пределами созданного в романе мира, причем благодаря этой нелокализованности вымышленного мира, его неидентифицированности по отношению к конкретному носителю (автор-герой-читатель) обретается гарантия качественного перемещения во времени и пространстве не только героя, но и автора. Стихотворение завершается образом тени от «русской ветки» на «мраморе руки» автора-изгнанника.
Подчеркивая, что он не виновен в убийстве Шарлотты и не мог бы совершить этого убийства, Гумберт говорит от первого лица во множественном числе: «Мы не половые изверги! Подчеркиваю – мы ни в коем смысле не человекоубийцы. Поэты не убивают» /152,т.2,с.111–112/. Свою принадлежность к реальности, не совпадающей с внешними временем-пространством, Гумберт неоднократно подчеркивает, называя себя то «художником и сумасшедшим» /152,т.2,с.27/, поэтом, «чужаком» /152,т.2,с.111/ однажды Гумберт говорит о своей стране – «лиловой и черной Гумбрии» /152,т.2,с.205/. В комментариях А. Люксембурга указано, что «если фамилию Гумберт (Humbert) прочесть на французский манер, то она может восприниматься как омоним слова ombre (тень). Вместе с тем она омонимична испанскому слову hombre (человек)» /152,т.2,с.602/.
Семантика имени и его удвоения в фамилии интерпретируется как тень человека, поскольку «к моменту опубликования своей книги повествователь уже мертв», а в плане эстетическом Гумберт – тень автора, «как и любой другой повествователь у Набокова» /152,т.2, с.602/. В романе «Другие берега», распределяя звуки в соответствии с их колористическим восприятием, Набоков интерпретирует «Г» как «крепкое каучуковое» /152,т.4,с. 146/. Страна Гумбрия – лиловая и черная. Призрачность, почти потусторонность (на которую указывают траурные цвета его страны и начальной буквы имени) Гумберта – тени человека, «светлокожего вдовца» /152,т.2,с. 11/ (психиатрический термин, по наблюдениям А. Аппеля, встречающийся в историях болезни) имеет два плана выражения: в аспекте онтологическом Гумберт – тень нормального человека, тень обычного взрослого человека (однажды Гумберт замечает, что он и ему подобные «…достаточно приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в присутствии взрослых» /152,т.2,с. 111/), в аспекте эстетическом Гумберт – художник, наделенный поэтическим видением мира, не совпадающим с внешним, прозаическим восприятием, которым наделена Долорес.
Смена модусов стиха и прозы как в пределах единого романного повествования, так и за его пределами сопровождается подобными же переключениями повествования с языка драматургической ремарки на язык эпического описания, с драматургически действенного диалога на повествовательно-информативный диалог эпоса. Гумберт, приглашая читателей «снова разыграть» /152,т.2,с.74/ сцену, которую назовет позже «сценой тахты» /152,т.2,с.80/, так обрисовывает место, время и участников действия: «Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка. Время действия: воскресное утро в июне. Место: залитая солнцем гостиная. Реквизит: старая полосатая тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки…» /152,т.2,с.74/. Лаконизм сценической ремарки вообще свойственен «Дневнику» Гумберта: «Дзинк. Блестящая штриховка волосков вдоль руки ниже локтя» /152,т.2,с.55/; «Вторник. Никаких озер (одни лужи)» /152,т.2,с.58/; «Понедельник. Дождливое утро» /152,т.2,с.65/; «Вид со спины. Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками» /152,т.2,с.71/. Номинативные предложения разных типов со стремительностью драматургической ремарки воссоздают место, время действия и облик главных действующих лиц. Затем в «Дневнике» появляются предикативные конструкции и начинается действие как таковое. Обмен репликами между Гумбертом и неперсонифицированным голосом из темноты перед первым соединением Гумберта и Лолиты, тоже организован по принципу драматического диалога, динамичного, не сопровожденного ремарками: «Как же ты ее достал?» – «Простите?» – «Говорю: дождь перестал» /152,т.2,с. 157/. Драматургическое начало в романе найдет окончательное выражение в репетициях пьесы «Зачарованные охотники», которые научат Лолиту, по словам Гумберта, «всем изощрениям обмана» /152,т.2,с.282/. Задания по «симуляции пяти чувств», предлагающие воспринимать воображаемую реальность («Перебирай концами пальцев следующие воображаемые предметы: хлебный мякиш, резинку, ноющий висок близкого человека, образец бархата, розовый лепесток» /152,т.2,с.283/), однако научили Лолиту обманывать, ускользать от цепкого внимания Гумберта, но не сообщили ей возможности моделировать иную реальность, не совпадающую с внешней.
Смена доминирующего родового модуса романного действия: эпического на драматургический знаменует смену одной романной реальности на другую: Лолита и Куильти, сближенные репетициями пьесы, перемещаются в мир, для Гумберта недоступный, причем восполнить утрату прежнего мира тоже становится невозможным. Проблематична сама действительность Куильти (в фильме Кубрика Гумберт стреляет в портрет), его неуловимость выступает знаком пустоты, отсутствия героя, а точнее – его вненаходимости для мира Гумберта. Параллельность бытия героев акцентируется избранными ими литературными родами и формами: лирика и вымысел принадлежат Гумберту, драма – Куильти. Лолита живет в романе, ей обещано бессмертие в сонете, но драма, стихия естественная для Долорес, чужда для Лолиты, созданной поэтом Гумбертом. Став героиней драмы, Лолита освобождается от Гумберта, но при этом перестает быть Лолитой – письмо Гумберту пишет Миссис Ричард Ф. Скиллер. А Куильти, в отличие от Г умберта, нужна была не одна единственная Лолита, а очередная девочка, не единственная, а одна среди многих. «Дикие вещи, грязные вещи» /152,т.2,с.339/ на ранчо Куильти снимались камерой: киносъемка выступала продолжением драмы, ее внешним, упрощенным воплощением.
Герои романа соотнесены с разными мирами, которые коррелируют с конкретными литературными родами и жанрами: поэзия (причем не только лирика, как род литературы, но и поэтическое как эстетическая категория, синонимичная «возвышающему обману») – область Гумберта, драма и кино принадлежат Куильти, проза жизни и ее интерпретация в микроэпических формах (реклама, комиксы, собственная судьба как инвариант реалистической повести об американской «бедной девочке») – Долорес Гейз. Вспоминая свои странствия с Лолитой, Гумберт дает такую характеристику ее мировосприятию: «Это к ней обращались рекламы, это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката» /152,т.2,с. 183/. Сама Долорес идентифицирует свое бытие с кино (она надеялась, что сыграет эпизодическую роль в фильме по пьесе Куильти «Золотые Струны», что будет дублировать знаменитую актрису) и с романом, воспринятом сразу же как кинематографическая интерпретация эпоса: «…жизнь – серия комических номеров, Если бы романист описал судьбу Долли, никто бы ему не поверил» (курсив мой) /152,т.2,с.334/.
Разведенность героев романа по параллельным мирам, маркированным к тому же признаками конкретного рода литературы, закрепляется недостижимостью, вынесенностью за пределы реальности центра действия. Центр действия (княжество у моря) не локализуется в пространстве, он сосредоточен в воображении и памяти Гумберта. Пространственные характеристики центра вновь заменяются временными. Гумберт подчеркивает, что не нуждался в морском пейзаже, чтобы окончательно сублимировать в Лолите Аннабеллу. Найденные пляжи или слишком солнечны, или слишком многолюдны, а, обретя, однажды уединение с замерзшей Лолитой на пляже, Гумберт единственный раз имеет к ней «не больше влечения, чем к ламантину» /152,т.2,с.207/.Невозможность вернуться к центру равнозначна невозможности возвращения к началу: Гумберт не может стать влюбленным мальчиком, он взрослый чужак в мире детей, и несоответствие героя миру, им самим для себя избранному, становится причиной распада этого мира.
В набоковской прозе действие развивается в двух или нескольких мирах, сообщающихся друг с другом. В «Лолите» эти миры соотнесены с конкретным героем, существующим к тому же в границах конкретного рода литературы. Гумберт, идентифицируемый в реальности лирики, вольно переносит прошлое в настоящее, опираясь на этот принцип инверсии, вовлекает других героев в свою реальность. Испытывая жгучее раскаяние после последней встречи с Лолитой, Гумберт вспоминает, что «взял в привычку не обращать внимание на состояние Лолиты» /152,т.2,с.350/, пока был с ней вместе, осознав смысл слов Лолиты об одиночестве смерти, Гумберт вдруг понимает, что не знает «ровно ничего о происходившем у любимой моей в головке» /152,т.2,с.347/. Куильти наделяет Лолиту ролью сначала ведьмы-чаровницы в пьесе «Зачарованные охотники», потом примитивной ролью, сводимой только к действию, в порнографическом фильме, который снимается на его ранчо, таким образом, Лолита перемещается из лирики в драму, но по-прежнему не обретает себя: Гумберт не считается с тем, что она его не любит, Куильти с тем, что она его любит, оба отводят ей строго определенную функцию в созданной ими реальности. Лолита же прямо идентифицирует свою судьбу с эпосом, организованном в форме романного сериала. Каждый из героев существует в реальности, организованной по законом маркированного им рода литературы.
Синкретизм набоковской прозы находит выражение не только во внешних композиционных приемах, разводящих повествование по параллельным реальностям, но и во внутренней смене доминирующего
3.2. Принцип соответствия героя и мира в аспекте функций набоковских героев как функции «палачей» и/или «жертв»
Игровая природа набоковских текстов не подлежит сомнению. Игровые отношения охватывают и затекстовую реальность, распространяясь на интертекстуальную область и на исследовательские и читательские интерпретации. Ю. Апресян чтение набоковских текстов квалифицирует как «обманную игру» автора с читателем, подчеркивая, что в строгом смысле литературных героев в произведениях Набокова нет /8,с.6/. В. Линецкий определяет набоковских героев и их мир в терминах деконструкции Ж. Дерриды как «функции языка», а сами набоковские тексты как асемантические, исключающие диалог с читателем /118,с. 178, 179/. К такому же выводу приходит и П. Кузнецов в ходе анализа гносеологии и онтологии В. Набокова: «Встреча «Я» и «Ты» все менее возможна в его мире… любой диалог для Набокова может быть только воображаемым» /106,с. 247, 248/. Герои Набокова не обладают необходимой для литературного персонажа независимостью от воли автора. На уровне сюжетной организации текста это выражается в их полной или частичной взаимозаменяемости в пределах некоторого набора ролей, заданного в тексте. Даже абсолютно уникальному в своей страсти к нимфеткам Гумберту Гумберту находится замена, правда, неполноценная – Куильти. Это один из игровых аспектов «Лолиты», выделенный А. Аппелем во вступительной статье к роману /223/. Поведение героев непостоянно, в результате, герои становятся функциями постоянных ролей, причем, нередко один и тот же герой разыгрывает противоположные роли, заменяя своего антагониста.
Роли «палача» и «жертвы» принадлежат к числу постоянных и при этом варьируемых и обновляемых в системе взаимоотношений набоковских героев. Это конструктивный тип взаимоотношений, распространяющийся на весь художественный мир Набокова, включая и «русский довоенный метароман» (по определению В. Ерофеева) /74,с. 134 и далее/, и англоязычные романы, и «малую прозу», а также драматургию и лирику.
Взаимодействие «палача» и «жертвы» разворачивается, как правило, по одному сценарию, включающему этап традиционный – торжество палача, мучающего жертву, за которым следует рокировка, этап реванша жертвы, ставшей палачом, далее – этап рефлексии палача, казнящего самого себя, и в заключении – этап рефлексии жертвы, осознающей несчастье палача или же переживающей беду, внешне не связанную с предшествующими событиями (пока жертва была в плену у палача и искала свободы и возмездия). В полной мере приведенной схеме отвечают взаимоотношения героев «Лолиты»: Гумберта и Лолиты, Гумберта и Куильти, Гумберта с самим собой. Но Ганин и Алферов («Машенька»), Драйер, Франц и Марта («Король, дама, валет»), Кашмарин и Смуров («Соглядатай»), Герман и Феликс («Отчаяние»), Круг и Падук («Bend sinister»), Кинбот и Шейд, Кинбот и его доамериканское «я» («Бледный огонь»), вписываются в систему развития отношений «палача» и «жертвы». В том же ключе можно с некоторой поправкой на самостоятельность жертвы интерпретировать отношение Г одунова-Чердынцева к Чернышевскому как своему герою, а также взаимосвязь Годунова-Чердынцева и Кончеева («Дар»), взаимоотношения Демона, Марины и Аквы; Демона, Ады и Вана; Вана, Ады и Люссет («Ада»),
«Жертвы», не ставшие «палачами», Лужин, Пнин, Себастьян Найт или же фальшивомонетчик Романтовский («Королек») и разночинец Иннокентий («Круг»), герой – рассказчик и критик – литератор Солнцев (может быть, Катя) («Адмиралтейская игла») в равной степени, как и их палачи, не обратившиеся в жертвы (родители, одноклассники и Валентинов в «Защите Лужина», Лиза в романе «Пнин», Нина из «Подлинной жизни Себастьяна Найта», братья Густав и Антон в рассказе «Королек», Таня из рассказа «Круг», отчасти, Катя-Солнцев) в контексте почти непременного перевоплощения и смены ролей прочитываются неоднозначно. Это связано не только с принципом незавершенности текста, с тем «продленным призраком бытия», который «синеет за чертой страницы» /151,т. З,с.330/, но и причастностью героев-жертв к «тайне», «потусторонности» (точнее, «может быть, потусторонности» /150,с.448/), их способностью быть создателями и выразителями иной формы бытия. (Этой способностью не обладает Иннокентий («Круг»), но при этом самоидентификация героя в статусе жертвы изначально ошибочна и вступает продолжением узости, социальной обусловленности его мировосприятия, а не исключительной одаренности.) Принципиальная ненаделенность этими же качествами палачей дает право отчасти интерпретировать последних как жертв.
Вместе с тем, в самой способности героя эстетически воспринимать действительность, не важно – вымышленную или реальную, а в понимании Набокова это означает, в первую очередь, выделение деталей, скрыт если не топор палача, то орудие более тонкое, но при этом не менее смертоносное. «Читатель должен замечать подробности и любоваться ими. Хорош стылый свет обобщения, но лишь после того, как при солнечном свете заботливо собраны все мелочи», – утверждает Набоков – исследователь литературы, университетский лектор /143,с.23/. Набоков-поэт пишет:
Мой друг, я искренне жалею того, кто, в тайной слепоте, пройдя всю длинную аллею, не смог приметить на листе сеть удивительную жилок, и точки желтых бугорков, и след зазубренный от пилок голуборогих червяков /150,с.85/.«Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером… Как ученый (а он именно ученый и потому энтомолог, а не наоборот) он каждый день вглядывался в строение мира, а как художник наблюдал Творение», – так мир Набокова характеризует А. Битов /29,с.242/. В стихотворении «Оса», детально описывая, как пытливый отрок расчленяет осу, познавая ее устройство, Набоков делает вывод:
Так мучит отрок терпеливый чудесную осу; Так, изощряя слух и зренье, взрезая, теребя, — мое живое вдохновенье, замучил я тебя /150,с.403/В вопросах интервьюера «Парис Ревью» к Набокову проводится та же аналогия: «Вы энтомолог, который подкрадывается к жертвам?» /194,с.242/. В рассказе «Весна в Фиальте» на Нину – потенциальную жертву (Фердинанда, рассказчика, себя самой) безымянный турист-англичанин смотрит «с тем же упрямым вожделением» /151,т.4,с.319/, что и на «ночную бабочку с бобровой спинкой» /151,т.4,с.320/, которая в конце концов становится его добычей. Собственно, следуя за взглядом англичанина, который «самым кончиком языка молниеносно облизнулся» /151,т.4,с.306/, рассказчик сам обнаруживает Нину. Таким образом, функции «палача» и «жертвы» приобретают статус метафоры, трансформируясь из области этической в реальность эстетическую. Эта метаморфоза заложена изначальным смещением, сдвигом этических оценок: палачи несчастны (Гумберт Гумберт), а жертвы эстетически неполноценны (Лолита). Отвечая на вопросы «Парис Ревью», Набоков подчеркивал: «Нет, это не на мой взгляд отношения Гумберта Гумберта с Лолитой являются глубоко аморальными: это взгляд самого Гумберта. Ему это важно, а мне безразлично. Меня не волнует общественная мораль в Америке или где бы то ни было» /194,с.242/. «…герой набоковской «Лолиты» Хамперт Хамперт сам знает, что с ним происходит,» – обобщает А. Пятигорский, приступая к характеристике философских взглядов В. Набокова /167,с.341/. Палачи сами назначают себя палачами и определяют своих жертв, исходя из своих моральных принципов, онтологии и эстетики. Палачи сами обращаются жертвами, это не превращение, а закономерный, отчасти необходимый этап их развития.
Взаимозаменяемость ролей «палача» и «жертвы», их обращенность к миру сконструированному, вымышленному, в котором собственно и осуществляется взаимная метаморфоза «палача» и «жертвы», отчасти объясняет, почему именно пушкинскую «Русалку» Набоков берется завершить. Продолжая пушкинскую драму, Набоков, казалось бы, показывает то, что очевидно, и не нуждается в демонстрации и декларации: возмездие для князя неизбежно и его характер совершенно недвусмыслен. Набокову в пушкинской «Русалке» представляется необычной не судьба самой Русалки или безумие старого мельника, его занимает изменение статуса князя – бывшего палача, будущей жертвы, – оставшееся «за кадром» в драме Пушкина. Судьба князя интересна для Набокова потому, что тот не сумел обрести счастья там, где оно было для него запрограммировано. К тому, что считается в его мире забавой (любовь с крестьянкой), князь так и не сумел отнестись, как к забаве. Русалочке это дает основание сказать: «Только человек // боится нежити и наважденья, // а ты не человек. Ты наш, с тех пор // как мать мою покинул и тоскуешь. // На темном дне отчизну ты узнаешь, // где жизнь течет, души не утруждая. // Ты этого хотел» /150,с.426/. Князь виновен, и этой вины Набоков не отменяет. Но в первую очередь виновным чувствует себя сам князь, который готов поддаться безумию и погибнуть. Перемещение в иную реальность означает и перевоплощение князя в некое новое существо. Возмездие для прежнего, земного князя-человека состоялось, а теперь начинается иная жизнь князя, уже не человека, в ином, не человеческом мире. Набоковскую «Русалку», таким образом, можно теперь продолжить также, как и ее прототекст – «Русалку» пушкинскую.
Обратимость «палача» и «жертвы», их взаимозаменяемость в пределах бинарной оппозиции приводит к отсутствию однозначных определений: Набоков избегает прямой идентификации героя в качестве жертвы или палача. В стихотворении «Удальборг» палач так и не назван прямо, по профессии:
Хоть бы кто-нибудь песней прославил, как на площади, пачкая снег, королевских детей обезглавил из Торвальта силач-дровосек /150,с.414/.Контекст программирует оговорку, ошибку в воспроизведении: «силач» рифмуется с неназванным палачом, функцию палача исполняет дровосек. Но в сказочной реальности вымышленной страны (в подзаголовке сообщается, что стихотворение переведено с зоорландского) палачей вплоть до изгнания искусства и наступления немоты (инициальная строка: «Смех и музыка изгнаны» /150,с.414/) не было. Поэтому в роли палача на плаху всходит сказочный силач-дровосек, потенциальная жертва будущего палача-профессионала, которому, очевидно, не должна быть свойственна функциональная заменяемость с жертвой, поскольку профессиональный палач не самостоятелен: он действует по приказу, сообразно с государственно узаконенными принципами права и морали.
Таких палачей-профессионалов в набоковском космосе двое: м-сье Пьер из романа «Приглашение на казнь» и безымянный Дедушка из одноименной драмы. «Приглашение на казнь» Набоков определял как «самый сказочный и поэтический из своих романов» /139,с. 173/. Заключение означает для Цинцинната обретение свободы: он может наконец быть самим собой, не притворяясь прозрачным в угоду общественным принципам. Ж. Нива темницу Цинцинната поэтому называет счастливой, а развязку романа определяет как «happy end», «ведь гильотина выводит в лучший мир» /155,с.304/. Именно в темнице Цинциннат получает надежду на освобождение: гигантская ночная бабочка, принесенная тюремщиком Родионом на завтрак пауку, чудесным образом избегла своей участи и исчезла, «словно самый воздух поглотил ее» /151,т.4,с. 118/, и только «Цинциннат отлично видел, куда она села» /151,т.4,с. 118/. «И сразу после этого происшествия Цинциннат… находит силы вычеркнуть слово «смерть»», – наблюдает за развитием событий Дейвид Бетея, определяющий бабочку как существо, являющееся не только «вестником извне: растворяясь в окружающем мире, оно также обладает высшей способностью к мимикрии, которая служит у Набокова метафорой трансцендентной логики» /128,с.170/. Смерть для Цинцинната, таким образом, упраздняется.
Принадлежащий к прозрачному миру м-сье Пьер просто не может его казнить, как бы палача не старались уподобить жертве: м-сье Пьер вводится в роман как такой же осужденный и узник, как Цинциннат. Но Цинциннат, переставший быть жертвой, выходящий в мир существ, «подобных ему», за спиной оставляет разрушающийся мир. Мир распадается, умирает вместе с героем, которого осудил на казнь: иную жизнь в ином мире начинает другой Цинциннат. Не м-сье Пьер, а сам Цинциннат, признающий свою непрозрачность, выступает своим освободителем и при этом – палачом. «Один Цинциннат считал, а другой… подумал: зачем я тут? отчего так лежу? – и задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся… Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору». /151,т.4,с. 129/. По мере освобождения Цинцинната начинает распадаться мир, которому тот не соответствовал. Разрущающийся в конце романа мир, по определению В. Линецкого, заключает в себе «основную модель набоковских текстов, инсценирующих в разных масштабах апокалипсис: порожденные текстом герои гибнут, когда кончается текст» /118,с. 178/. Так, казнь все-таки состоялась, Цициннат-жертва казнил себя, точнее, удалился из не соответствующего ему мира, а новый Цинциннат, в новом качестве (возможно, палача) освобожден тем самым для жизни в новом мире. Таким образом, профессионалу м-сье Пьеру, даже побывавшему в роли жертвы, не удается своей прямой функции – функции палача – осуществить: Цинциннат сам становится своим палачом.
Но если в романе «Приглашение на казнь» необходима поправка на условность, сказочность места и времени, то в драме «Дедушка» обе категории конкретизированы указанием на исторические и географические реалии. Великая французская революция, террор Робеспьера, казнь в Лионе, – вот события, ретроспективно воссозданные в драме в рассказе Прохожего. Хотя исторические реалии играют скорее роль комментария к событиям драмы, чем детерминируют их. Анализируя драму Набокова «Полюс» и материалы экспедиции капитана Скотта, Н.И. Толстая подчеркивает ту же аберрацию: «Это драма по поводу случившийся в 1912 трагической гибели исследователей Антарктиды. И автор намеренно подчеркивает разницу между событиями в драме и реальными» /188,с. 133/.
Кроме того, само название драмы буквально повторяет название поэмы Некрасова о возвращении домой помилованного декабриста – «Дедушка». Таким образом, одни революционные события проецируются на другие, история одной страны на историю другой. Повторяемость судеб героев получает разрешение в повторяемости судеб мира, закономерность взаимозаменяемости функций палача и жертвы проецируется на закономерности развития мировой истории.
Необходимо подчеркнуть, что ранняя драма «Дедушка» /1923/ отражает процесс формирования, становления эстетических и философских принципов Набокова. Вместе с тем, в лирике и драме, как периферийных областях творчества Набокова, художественные методы и приемы, законы создания и распада поэтической вселенной предстают более очевидно, обнажается внутренний механизм действия того или иного конструктивного эстетического принципа. Поэтому драму «Дедушка» можно рассматривать как своего рода творческую лабораторию, в которой вырабатываются принципы взаимодействия нового текста и предшествующих, сопряжения нескольких реальностей, соотношения судьбы героя и его имени и, в том числе, метаморфозы палача и жертвы, столь важной для понимания и интерпретации романа «Лолита». Анализ амбивалентной оппозиции палача и жертвы в дальнейшем будет равзренут через реминисценции из архаических эпосов, которые оттеняют эту взаимообратимую пару в «Лолите», сама же модель взаимодействия палача и жертвы и их функциональной обратимости будет проанализирована на материале драмы «Дедушка», интертекстуальные источники которой хронологически менее дистанцированы, чем в «Лолите» и восходят к русской классике, причем актуализируют традицию, Набокову эстетически и этически чуждую.
Действие драмы начинается уже после того, как главное событие – казнь в Лионе – уже произошло. Главные герои драмы уже пережили кардинальное изменение: аристократ де Мэриваль стал странником, Прохожим, палач – «прекрасным стариком» /148,с.76/, ничьим Дедушкой, безумцем. До несостоявшейся по прихоти стихии казни (внезапно начинается пожар, и приговоренному удается избежать гильотины) нынешний Прохожий был не только «господином де Мэриваль, аристократом» /148,с.73/, но внутренне «был рассеян, // и угловат, и равнодушен» /148,с.75/, нынешний старый младенец, «добрый» и «ласковый» /148,с.71/ Дедушка – был не просто палачом, а «художником», «ловким, старательным» /148,с.73/.
Свое спасение Прохожий называет прозрением, он обретает поэтическое видение мира:
Жизни, цветных пылинок жизни нашей милой я не ценил – но увидав так близко те два столба, те узкие ворота в небытие, те отблески, тот сумрак… /148,с.75/За многоточием скрыты слова о собственном перерождении, прозрении, об утрате отчизны, обращении из грубоватого аристократа в скитальца и мыслителя, почти поэта (способность отмечать, ценить и хранить в памяти мельчайшие подробности жизни, по мнению Набокова, отличает поэтическое, эстетическое видение мира от обыденного). Но внутренне став тоньше и сложнее, внешне герой уже не может остаться прежним, расшитый камзол аристократа узок для поэта.
Так Прохожий утрачивает родину и имя. Фамилию «де Мэриваль» Прохожий относит только к себе прежнему, тому, кем он был до казни. На вопрос: «Вы из наших мест?» – отвечает: «Нет – странник я…» /148,с.70/. В родовом замке он только гостит: «Живу у брата, в замке // де Мэриваль» /148,с.70/. Таким же бесприютным и безымянным скитальцем становится и палач – ныне безумный Дедушка. «Он имени не помнил своего», – вспоминает крестьянин появление старца в деревне /148,с.70/. Таким образом, несостоявшаяся казнь уравняла обоих героев: палач и жертва одинаково бесприютны, вынесены за скобки текущей истории. Прохожий затрудняется объяснить, почему ему был вынесен смертный приговор:
за то ли, что пудрил волосы, иль за приставку пред именем моим, – не знаю: мало ль, за что тогда казнили… /148,с.73/Палач, узнавший ускользнувшую от него жертву, также плохо понимает, почему этого человека нужно лишить жизни: «Так приказано… Я должен…» /148,с.80/. Роли палача и жертвы, таким образом, не имеют конкретно-исторического, социального, правого или какого-либо иного обоснования, они объективны имманентно.
Закономерно не вынесение приговора, а невозможность его исполнения: казнь, не состоявшаяся в прошлом, не происходит и в настоящем. Смерть приходит не к «приговоренному громами Трибунала» /148,с.73/, а к его палачу, который не вершит судьбы, а только исполняет чужую волю. Такой палач не может казнить человека по фамилии «де Мэриваль» (merveille по-французски – чудо). Вспоминая свое спасение, Прохожий говорит: «Случилось чудо…» /148,с.74/. Чудо, зашифрованное в имени героя, дважды материализуется в его судьбе: дважды палач располагает полной возможностью казнить приговоренного и дважды тот избегает смерти. Первый раз пожар уничтожает эшафот, и в пустоту «рухнул нож, огнем освобожденный» /148,с.75/. Во второй раз вмешательство стихии уже излишне: палач действует сам по себе, а не как часть государственного порядка, на его стороне только внезапность. Не одинокий человек противостоит системе, а человек – человеку. В этом поединке Прохожий дважды одерживает верх: в первый раз стихия уравняла обоих – палача и жертву на охваченном пламенем эшафоте, во второй Прохожий борется с Дедушкой и постепенно узнает «пальцы голые, тупые» /148,с.80/ и вспоминает, что уже однажды «так боролся» /148,с. 80/. Судьба дважды предоставляет палачу преимущество – сначала – он отправитель официального ритуала казни, на стороне палача трибунал, тюрьма, стража, безмолвные зрители казни, потом он получает возможность первым узнать бывшую жертву, в порядке компенсации за отсутствие официальных атрибутов казни. Тем не менее, казнь так и не состоялась.
Жертва находится вне досягаемости палача. Прохожий, обретя способность видеть мир во всей полноте деталей и подробностей, испытывает «остранение» от социально-бытовой конкретики мира: несправедливости, голода, бездомности. Мир, который раньше принадлежал аристократу де Мэривалю, теперь утрачен им навсегда. Пламя, поглощающее эшафот, в судьбе героя равнозначно вселенской, мировой катастрофе, сметающей мир с лица земле. Из тигеля казни и огненной стихии выходит внутренне преображенный человек, с изменившимся социальным статусом: бродяга и поэт. Поэтическое видение мира и себя в мире разрешается в словах благодарности «за трудности, изведанные мной, – // за шорохи колосьев придорожных, // за шорохи и теплое дыханье // всех душ людских, прошедших близ меня» /148,с.76/. В числе последних оказывается едва ли не в первую очередь и лионский палач. «Через него-то мир // открылся мне. Он был ключом, – невольно…» /148,с.76/. Свою функцию палач все же выполнил: приговоренный к казни человек кардинальным образом изменился, прежний аристократ де Мэриваль исчез, перевоплотившись в Прохожего, странника, почти поэта. Но метафизическое исполнение приговора для палача не существенно: для него действительно только его материальное совершение.
Безумный Дедушка, внешне напоминающий то «малое дитя» /148,с.71/, то «обиженного ребенка» /148,с.78/, продолжает разыгрывать в мире своего безумия роль палача. Крестьянка, описывая безумие Дедушки, говорит: «Мне кажется, – он верит, // что души мертвых в лилиях, в черешнях // потом живут» /148,с.72/. Прохожий, наблюдая за стариком, отмечает: «Он пропускает // сквозь пальцы стебель лилии – нагнувшись // над цветником, – лишь гладит, не срывает /148,с.77/. А крестьянка продолжает: «Да, лилии он любит, – ласкает их и с ними говорит» /148,с.77/. Казалось бы, палач пережил такое же прозрение, как и его бывшая жертва. Тот, кто лишал жизни, теперь ее возвращает. «Он врачевать умеет… Знает травы // целебные. Однажды дочку нашу…», – начинает рассказ крестьянка /148,с.77/. Но ее речь прервало появление Джульетты, равно, как раньше рассказ крестьянина о встрече с грабителями.
Крестьянин хочет сравнить свои переживания с чудесным спасением и прозрением Прохожего: «Тот, кто смерть увидел, // уж не забудет… Помню, как-то воры // в сад забрались. Ночь, темень, жутко… Снял я // ружье с крюка…» /148,с.75/ – и тут его «задумчиво перебивает» Прохожий. Испуг крестьянина остается в границах одной материальной реальности, не знаменует прозрения, обретения нового восприятия мира, поэтому аналогий с пережитым Прохожим быть не может. Крестьянин не видел смерти, а просто прогнал воров, встреча с ними не заключала в себе чуда, то есть выхода героя в иную реальность и обретения им нового качества.
Так и излечение Джульетты не было чудом: Дедушка не стал знахарем, он не знает целебных трав. Лилиям «он имена придумал, – каких-то все маркизов, герцогинь /148,с.77/» – то есть раздал им имена бывших жертв. Корзинку, выпачканную вишневым соком, старик бросает в реку. Прохожий рассуждает: «Так – корзинка, // обитая клеенкой, покрасневшей // от ягод – мне напоминает…» /148,с.77/. Прохожий не договаривает, но еще до идентификации Дедушки, до выяснения его прошлого статуса, в контексте рассказа о казни, отчетливо предстает видение отрубленной головы в окровавленной корзине палача. Дедушка-палач продолжает жить в мире казней, приговоров и крови. Он беседует не с лилиями, а со своими бывшими жертвами, поэтому и цветы не срывает – они уже сорваны, в цветах живут души казненных «маркизов и герцогинь». Бывший палач сразу узнает бывшую жертву и незамедлительно приносит топор.
Поэт-Прохожий, отмечающий «дым золотой» – солнечные лучи сквозь пелену дождя, замечающий детский чепчик в руках хозяйки, не узнает своего бывшего палача до тех пор, пока не начинает бороться с ним.
Взгляд поэта и странника направлен на иные детали мира, чем взгляд палача, для него вплоть до последних мгновений действия драмы Дедушка – «прекрасный старик» /148,с.76/, «нежный юродивый» /148,с.72/. А вот палач, сразу узнавший жертву, испытывает полное счастье («Э, – он совсем веселенький теперь!» – замечает Прохожий /148,с.79/) – в коллекции бывших жертв, поселенных в лилиях, недоставало одной, чудом избежавшей казни.
Судьба в разное время лишила палача и жертву социального статуса, отчизны и имени. Прохожий скитается всю жизнь, а безумный старик появился в деревне только прошлой весной. Время скитаний Прохожего – это эпохи правления диктаторов: «и Франции чуждался, // пока над ней холодный Робеспьер // зеленоватым призраком маячил, – // пока в огонь шли пыльные полки // за серый взгляд и челку корсиканца…» /148,с.75/. Палач – непременный и необходимый спутник диктатора. Эпоха тиранов закончилась – скиталец вернулся на родину, а палач остался не у дел. Вот причина безумия палача, утратившего смысл жизни, не находящего применения своему искусству: «…тележку он завел // и головы отхваченные – так же // раскачивал, за волосы подняв…» – вспоминает об артистизме палача Прохожий /148,с.73/. Палач не может не казнить, не находя возможности казнить в действительности, он продолжает вершить смертные приговоры в условном мире своего безумия. Но едва появляется реальная жертва – человек, Дедушка забывает о своих цветах и деревьях.
Палач, не переживший метаморфозы, не знающий рефлексии, не может уничтожить героя, способного к прозрению. Палач-Дедушка и жертва-Прохожий скользят в параллельных мирах, но Прохожий – герой динамичный. Странник путешествует, скитается по миру, в то время, как палач остается во Франции, Странник способен воскресить прошлое, палач живет одним настоящим, точнее распространяет минувшее и в настоящее и в будущее. Прохожий способен перемещаться из одной реальности в другую, эта способность подчеркнута его перемещением во внешнем пространстве. Палач пребывает только в одной реальности – эпохе тиранов. Для Прохожего время движется, не случайно он, едва переступив порог, отмечает, какие в крестьянском доме часы («часы стенные с васильками на циферблате» /148,с.70/.), а для палача – время остановилось: тираны ушли в прошлое, а он так и остался палачом. Поэтому, если жертва для палача недосягаема, то палач вполне достижим для жертвы: Прохожий сшибает Дедушку и тот погибает. Так, замена героев в пределах постоянных ролевых функций состоялась, не смотря на благодарность и примирение Прохожего с людьми и с миром.
Казалось бы, неуязвимость Прохожего и его превосходство над Дедушкой очевидны. Но в фигуре Дедушке, который «весь серебрится на солнце» /148,с.76/, в его «мечтательных движеньях» /148,с.76/ тем не менее заключено поэтическое начало. Поэзия облика Дедушки обманывает всех окружающих: Джульетта обожает старика и привела его в семью, крестьянка называет его «другим младенцем» /148,с.76/, под «одним», первым подразумевая своего будущего ребенка, сам Прохожий узнает палача только во время поединка, завороженный поэтичностью внешнего облика Дедушки. Поэтичность была свойственна и палачу-виртуозу, «художнику», по словам бывшей жертвы. Нынешнее безумие палача – фактически представляет собой творческое перевоссоздание мира в соответствии со своими функциональными задачами. Иное дело, что в этой вымышленной реальности Дедушка остаться не может, отдавая предпочтение материальной казни человека перед символическим убиением души, живущей в цветке.
Герои драмы «Дедушка» группируются попарно: хозяева-крестьяне – муж и жена, чужие в их доме Дедушка и Прохожий, палач и жертва. Без пары остается Джульетта, хотя к Рождеству у нее появится брат или сестра. Пока же вместо не рожденного младенца, который в сознании матери отождествляется с Дедушкой, рядом с Джульеттой находится Дедушка. Брошенный, бесприютный, всем чужой, безумный старик-скиталец, напоминающий младенца, к тому же явно когда-то знакомый с лучшей долей: «Он неженка, сластена», – замечает муж /148,с.71/, по-настоящему любимый только одной девчушкой, вызывает ассоциации с безумным Лиром. Бывший государственный человек стал бродягой, вершитель судеб – безумным старцем, играющим с цветами и деревьями. В ореоле шекспировских реминисценций входит в текст драмы и Джульетта. Едва прозвучало ее имя, Прохожий спрашивает: «Джульетта, // душа, где твой Ромео?» /148,с.71/.
Проекция пары Джульетта – Дедушка на шекспировских героев придает героям глубину и масштабность и подчеркивает особенности их расположения на оси времени. Время Лира и безумного Дедушки истекло, они принадлежат к прошлому. Джульетте принадлежит будущее – место Дедушки рядом с ней займет сначала настоящий, родной младенец, а позже – Ромео. («Что такое – // «Ромео»?» – спрашивает Жена, а Прохожий отвечает: «Так… Она сама узнает // когда-нибудь…» /148,с.71/.) Но параллель с шекспировской героиней заставляет предположить возможность конфликта Джульетты с семьей и ее трагической гибели. Трагедия отставшего от времени старца может как в перевернутом зеркале отразиться в судьбе героини, обгоняющей время. Так, объединенная реминисценциями из Шекспира, пара героев не являет собой органического единства, герои прочитываются из художественного мира разных трагедий, поэтому Шекспир скорее разводит их, чем соединяет.
Проекция этой же пары героев на весь контекст творчества Набокова дает право интерпретировать как Ромео Дедушку, и тогда потенциальная трагедия героини – это трагедия Лолиты, а пара Дедушка-Джульетта объединяет палача и жертву. Появление более ранней жертвы Дедушки не дает возможности состояться жертве будущей. И хотя имя связывает Джульетту не с «Королем Лиром», по отношению к Дедушке в ипостаси шекспировского героя она выполняет роль Корделии, дочери. Гумберт и Лолита официально – отец и дочь, хотя и не родные. Любимые дедушкой лилии вызывают отчетливую фонетическую параллель с имением Лолиты. Первое появление героини в романе связано с упоминанием лилии во фразе матери: «Это была моя Ло… а вот мои лилии» /145,с.38/. Возможно, вмешательство Прохожего аннулировало более значительную трагедию, которая назревала в крестьянской семье, поскольку привело к тому, что события стали развиваться как продолжение минувшего, не захватив область грядущего.
Дедушка, представленный в ореоле аллюзий из Шекспира, хотя внутренне он по-прежнему остался палачом, внешне начинает принимать черты жертвы и фигуры трагической, отставшей от времени, не сумевшей найти себя в изменившейся исторической эпохе и избравшей поэтому безумие как единственно возможный способ продолжения жизни. Параллели с еще не написанными в 1923 году романами самого Набокова открывают для героя область будущего, казалось исключенную его профессиональным статусом. Поэтому в область будущего герой входит уже не как буквальный, а как метафорический палач. Так намечена потенциальная возможность полной метаморфозы героя, меняющего роль палача на роль жертвы.
Необходимо учесть еще одно любопытное обстоятельство. Обращаясь к поэме Н.А. Некрасова «Дедушка», буквально воспроизводя в заголовке ее название, Набоков сохраняет ту же расстановку действующих лиц. У Некрасова Дедушка возвращается в родную семью. Внук Саша, его отец и мать встречают Дедушку, и именно мальчик Саша становится вечным спутником и слушателем Дедушки. Обратим внимание на половую нейтральность имени некрасовского героя, равно применимого и к девочке и к мальчику. В драме Набокова мальчик Саша трансформируется в юную Джульетту. Это изменение подтверждает правомочность параллели между парами Дедушка-Джульетта и Гумберт-Лолита: для Набокова важно, чтобы любящей спутницей для его героя была девочка-подросток, почти девушка, которой скоро суждено встретить своего Ромео.
Набоков меняет местами свой и чужой миры: аристократ показан как гость в крестьянской семье, и Дедушка крестьянам не родной. Зажиточная и счастливая крестьянская семья в драме Набокова воспроизводит опоэтизированный дедушкой-декабристом крестьянский мир, вынесенный за пределы освоенной государственной территории – «Тарбагатай, // Страшная глушь, за Байкалом» /154,т.2,с. 140/, в котором крестьяне свободны и поэтому богаты и счастливы. Таким образом, необходимость борьбы за народную волю в драме Набокова снимается: действие разворачивается в том мире, за осуществление которого призывали бороться некрасовские герои и их создатель.
Набоков, казалось бы, вводит дополнительного героя – собственно Дедушку. Но внешность Дедушки-декабриста («Кудри пушисты и белы, // Как серебро борода; // Строен, высокого роста, // Но как младенец глядит…/154,т.2,с. 137/) Набоков воспроизводит в облике своего героя, давая возможность разным персонажам выделить ту или иную деталь его облика. Судьба же некрасовского Дедушки, построенная на основе фактов реальной биографии декабриста С.Г. Волконского, помилованного манифестом 1856 года, героя, осужденного и изгнанного, а теперь возвращенного в родной дом, повторяется в судьбе бывшего аристократа, а теперь Прохожего. Он, как и некрасовский герой, который то шьет, то копает грядки, то пашет, не чурается никакого труда, вспоминая, что был цирюльником, матросом, поваром, портным. Заметим, кстати, что Дедушка-палач ничего не умеет делать, только казнить. Некрасовский герой свое возвращение домой знаменует словами примирения: «Днесь я со всем примирился, // Что потерпел на веку» /154,т.2,с.136/. Как примирение можно интерпретировать эстетическое «остранение» набоковского Прохожего. Впрочем, речи некрасовского дедушки о свободном народе и борьба Прохожего со своим бывшим палачом – примирение первого и «благодарность» второго ставят под сомнение. Для Некрасова это знаменует продолжение борьбы за народную волю, для Набокова выступает основанием для трансформации функции героя: из жертвы в палача.
Некрасовского Дедушку Набоков представил не как одного, а как двух разных героев – палача и жертву. Декабрист – жертва с течением времени трансформируется в революционера – диктатора. В реальной истории восставший, потерпевший поражение, становится жертвой, одержавший победу – палачом. В стихотворении «О правителях» Набоков ход истории характеризует беспощадно и лапидарно: «За Мамаем все тот же Мамай» /150,с.280/. А итог русскому освободительному движению не менее лапидарно подведен в романе «Дар»: «Отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении «к свету» таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот «свет» горит в окне тюремного надзирателя, только и всего?» /150,т.3,с.157/.
Выбор поэмы Некрасова «Дедушка» в качестве прототекста для одноименной драмы Набокова продиктован полемикой не столько с первоисточником, сколько с автором, стремящимся к свету и призывающим за него бороться. В том же «Даре» Некрасов-поэт отделяется от Некрасова – общественного деятеля: Годунов-Чердынцев восхищается музыкой некрасовского стиха: «…пятистопный ямб Некрасова особенно чарует нас своей увещевательной, просительной, пророчащей силой и этой своеродной цезурой на второй стопе…, которая у Некрасова становится действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в провал, или словно обе части строки растянулись, так что после второй стопы образовался промежуток, полный музыки» /151,т.3,с.226/. Но там, где набоковский герой слышит музыку, читая стихи «по скважинам» /151,т.3,с.26/, смысловым лакунам, наполненным звуками, герой – сторонник Некрасова – идеолога народного восстания – Чернышевский в той же музыке слышит объяснение своих отношений с женой, а позже собственной судьбы («Не говори, забыл он осторожность…»), то есть читает не по «скважинам», не по воздушным пробелам, не проникая в область недосказанного, переданного в музыке, а буквально, воспроизводя и применяя к собственной судьбе только содержание. Такая интерпретация, по мнению Набокова, губит поэзию и характеризует «плохого» читателя, который отождествляет себя с героями, а в произведении ценит социальную злободневность /143,с.25/.
Парафраз широко известных некрасовских строк «от ликующих, праздно болтающих, // обагряющих руки в крови, // уведи меня в стан погибающих // за великое дело любви» в «Парижской поэме» звучит так:
От кочующих, праздно плутающих уползаю, и вот привстаю, и уже я лечу, и на тающих рифмы нет в моем новом раю /150,с.275/.Набоков сохраняет мелодию некрасовского стиха, дактилические рифмы, сохраняет и идею смены реальности, но наполняет последнюю принципиально противоположным по отношению к некрасовскому тексту смыслом. «Свет» находился совсем не там, где его привыкли искать русские революционеры и народные заступники: область света принадлежит к миру внутреннему, она заключена в свободе творчества, а не в социальном равенстве и гражданских правах. Таким светом наделен Прохожий – герой драмы «Дедушка» и отчасти его антагонист Дедушка-палач, предстающий в ореоле шекспировских реминисценций и воспоминаний о былом профессиональном артистизме. Но если первый владеет своим «светом», областью снов, воспоминаний и поэтического отражения мира, то для второго – внутренняя область – мир, закрытый и недоступный, также, как и мир будущего. Поэтичность, детскую наивность Дедушки видят и чувствуют окружающие – крестьяне, их дочь Джульетта, Прохожий, не чувствует только сам Дедушка, продолжающий в своем поэтическом по сути безумии разыгрывать роль палача. Герой отчужден от поэзии, даже присущей ему самому, фактически отчужден от самого себя.
Интертекстуальный анализ драмы Набокова «Дедушка», роли «палача» и «жертвы» проецируя на творчество Набокова в целом, а также на вечность (Шекспир) и время (Некрасов), позволяет увидеть следующие закономерности: «палач» и «жертва» – роли, существующие объективно, имманентно, они детерминируются внутренней динамикой героя, а не социально-историческими обстоятельствами; «палач» и «жертва» пребывают в качественно разнородных реальностях, поэтому для жертвы исключена внешняя казнь, а существует только одна – внутренняя; «палач» и «жертва» не могут встретиться в пределах одной реальности, поскольку, перемещаясь из одного мира в другой, они трансформируются друг в друга; «палач» и «жертва» – постоянные роли, функции, в пределах которых исполнители заменяют друг друга; «палач» и «жертва» – категории метафизические, а не нравственные, поэтому герои, способные к рефлексии, наказывают и прощают себя сами.
В романе «Лолита» взаимная обратимость и тождественность палача и жертвы реализуется в полной мере в обоих бинарных оппозициях «Гумберт-Лолита», «Гумберт-Куильти», но этимологическое обоснование получит не только из литературных источников, просвечивающих в системе взаимосвязей жертвы и палача, но и из глубинных архаических контекстов, принимая статус компонента демиургической функции героя-рассказчика. Таким образом, функционально обратимая оппозиция палача и жертвы получит обоснование в контексте космической необходимости деяния составляющих ее героев.
3.3. Принцип соответствия героя и мира в аспекте оппозиции мира детей и мира взрослых
Прошлое и для Набокова и для его героев категория действенная, впечатления минувшего никогда не могут быть исчерпаны до конца и никогда не могут быть в полной мере раскрыты, их может охватить только способ вербального бытия, осуществляемого вне памяти в форме устного рассказа или воспроизведения в стихах и прозе.
Прошлое, особенно связанное с впечатлениями детства, юности, первой любви не только не может быть признано завершенным, его события могут подвергаться изменению. Прошлое переносится в настоящее и будущее. В романе «Другие берега» находим сакраментальное признание: «Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям… С неизъяснимым замиранием я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг…» /151,т.4,с. 139/. Отдаление от ранних детских впечатлений означает по существу их эстетическую трансформацию. Набокову принадлежит утверждение: «… память – есть род воображения» /138,с.60/. Стихотворение «Мы с тобою так верили в связь бытия…», обращенное к юности, завершается строчками: «Ты давно уж не я, ты набросок, герой //Всякой первой главы…» /150,с.265/. Из момента текущего времени, настоящего юность кажется чужой: «по цветам не моей, по чертам недействительной» /150,с.265/. Отчуждение находит выражение в форме диалога со своим прежним «Я», обращением к нему, как к «Ты». Это отчуждение связано и с эстетическим дистанцированием от совершенного, гармоничного, прекрасного. Развивая мысль о непосредственной эстетизации мира чудом детского восприятия в романе «Другие берега», Набоков утверждает, что «первичные чувства… с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности» /151,т.4 с.139/.
Детство не просто принадлежит к области воспоминаний, это некоторая временная константа, к которой постоянно можно вернуться, изменив ее внутренний статус на внешний. Войти в мир детства можно из любого момента настоящего, растянутого между юностью и старостью. «Парижская поэма» В Набокова заканчивается утверждением возможности «очутиться в начале пути»:
Но, с далеким найдя соответствие, Очутиться в начале пути, Наклониться – и собственном детстве Кончик спутанной нити найти /150,с.278/.Изначальная поэтичность детских впечатлений сообщает им не только статус временной константы, характеризуемой в виде пространственной модели «вечного возвращения», но и фактор эстетической непредсказуемости. Возможность повторения прошлого придает последнему качества незавершенности, изменяемости. Герой рассказа «Соглядатай», пережив смерть и вернувшись в мир в новом качестве романтического, загадочного героя, находит душевную отраду в том, чтобы, «…оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы… заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни… вырастает дивное розовое событие…и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извивы по огненному полю прошлого» /151,т.4,с. 159/.
В позднем романе В. Набокова «Ада» главный герой Ван работает над книгой «Текстура времени», в которой прошлое определяется «как накопление ощущений, а не иссякания времени… прошлое – это постоянное накопление образов. Его легко наблюдать и слушать, испытывать и наугад пробовать на вкус, так что оно перестает обозначать правильное чередование связанных между собой событий» /137,с. 516, 517/. Ван размышляет о том, «существовала ли когда-нибудь «примитивная» форма времени, в которой…Прошлое не отделялось еще достаточно отчетливо от Настоящего, так что тени и лики проглядывали сквозь все еще вялое, медлительное, личиночное «теперь»» /137,с.510/. Три лекции о трех типах времени Ван прочитал «у мистера Бергсона…в одном солидном университете» /137,с.520/. Набоковская концепция незавершенности прошлого, приводящая в итоге к мысли о том, что существует только один тип времени – минувшее, события которого переносятся в настоящее и будущее (М.М. Бахтин подводит этот феномен под определение «исторической инверсии», суть которой состоит в том, что в мифе и литературе «изображается, как уже бывшее в прошлом то, что на самом деле может быть осуществлено только в будущем…» /16,с.297–298/), действительно созвучна теории памяти как виртуального состояния в философской системе А. Бергсона.
Ван в «Текстуре времени» определяет прошлое по впечатлениям звуковым, осязательным, обонятельным, вкусовым. Приемы расцвечивания и озвучивания И. Паперно выделяет как доминирующие в создании художественного космоса романа «Дар» /160,с.501–507/. А. Бергсон, давая определение памяти и погружению в прошлое, указывает: «В действительности память – это вовсе не регрессивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движение от прошлого к настоящему» /24,с.310/. Прошлое реставрируется, оживляется в настоящем, благодаря случайному наслоению впечатлений, сцеплению предметов или внутреннему состоянию творчества, на период которого ход реального времени отменяется или приостанавливается для творца в момент творения: его внутренние часы отсчитывают иное время, не совпадающее с линейным. Погружение в прошлое, как самостоятельную реальность памяти, Бергсон описывает как процесс, охватывающий несколько этапов: «Первым делом мы помещаем себя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого «виртуального состояния», которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими словами, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигурирует наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание» /24,с.310/
В начале романа «Дар» Федор Константинович Годунов-Чердынцев, перечитывая за воображаемого рецензента свой первый поэтический сборник, снова восстанавливает во всей полноте и подробности те места и события, которые в редуцированном поэзией виде нашли отражение в стихах. Комментарий точнее и подробнее, чем стихи воссоздает мир детства героя. Стихотворный образ выступает только как часть, хотя, несомненно, часть – самая существенная, общей картины, хранящейся в памяти, прозаическое слово также не способно передать ее во всей полноте. Воскресение во всей полноте миров, редуцированных стихами,
Федор сравнивает со взглядом возвратившегося путешественника, который «видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и все, все» /151,т.3,с. 11/. Полнота увиденной путешественником картины скрыта в фигуре умолчания – удвоенном «все», которое вмещает в себя целый мир, целую эпоху из прошлой жизни героя, не ограничиваясь одним конкретным, зримым образом. Мир воспоминания процессуален, динамичен, поэтому живописная зримость нуждается в динамическом словесном дополнении. А. Бергсон это переключение времен описывает таким образом: «… прошлое, актуализируясь в непрерывной прогрессии, стремится отвоевать свое утраченное влияние» /24,с.242/.
Погружение в мир сборника, связанное с приостановкой для героя течения внешнего времени (стрелки часов Годунова-Чердынцева «с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени» /151,т.3,с.27/), перемещение из реальности настоящей в реальность детства, прошлого, теперь ставшую реальностью поэтической, в романе показано буквально: «Сборник открывался стихотворением «Пропавший мяч», – и начинал накрапывать дождик. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой» /151,т.3,с. 11/. Дождь начался между тем и в мире настоящего и прозаического, но его герой заметит, только покинув мир сборника и закрыв книгу: «…пока он мечтал над своими стихами, шел по-видимому дождь» /151,т.3,с.27/. Внутренний мир сборника «Стихи» точно локализован в пространстве (Петербург, Лешино) и во времени («По четвергам старик приходит…»). Неточность измерения времени в мире внешнем (часы Федора, идущие «против времени») оттеняется правильностью организации хронотопа в мире вымышленном, извлеченном из памяти создателя и продолжающим развиваться в ее пределах. Часы Федора, оглядывающегося назад, ткущего из реальности памяти новую поэтическую реальность, ход времени оборачивают вспять, «двигаясь против времени». Так конкретная будничная деталь из реальности внешней (отстающие часы) обретает статус символа, материально и точно воссоздавая особенности течения времени для художника, живущего одновременно и в мире памяти, творчества и в мире внешнем, организованным линейным ходом времени.
Движение часов Федора против времени – буквализация метафоры, осуществленной в образе материально-конкретном, зримом, обнажение приема «исторической инверсии». В. По дорога, характеризуя опыт автобиографического письма на примере М. Пруста, подчеркивает, что «все время, насколько оно может быть отражено в языке, поступает в распоряжение автобиографического субъекта» /102,с.338/. В результате сам «акт автобиографического письма оказывается борьбой против времени внутри самого времени», а «событием оказывается не чистое переживание времени, а то, что переживается в пространстве языка» /102,с.338–339/. Время далекого прошлого, сосредоточенное во впечатлениях раннего детства мыслится Набоковым пространственно в категориях «начала пути», «подножия», «глубины». В романе «Bend Sinister» упоминается в высшей степени характерная для онтологии и метафизики В. Набокова шутка профессора Круга, прочитавшего однажды «задом наперед… лекцию о пространстве, желая узнать, прореагирует ли хоть один из студентов. Никто не прореагировал…» /152,т. 1,с.224/. Данное событие не столько демонстрирует невежественность студентов, сколько обнажает феномен обратимости времени-пространства в художественном космосе В. Набокова.
Однако обратимость времени, возможность осмысления его в категориях пространства возможна только при условии единства и непрерывности накопления жизненных впечатлений, от раннего детства до определенной точки настоящего, проактуализированной в романном повествовании.
Отчужденность набоковского героя от детства означает для него необратимость времени, невозможность возвращения в былое, локализованное в точке пространства или сохраненное в памяти. Долорес Гейз только однажды вспоминает свое «догумбертовское детство», то есть возвращается к тем изначальным впечатлениям, причастность к которым сообщает бытию непрерывность и возможность эстетизации. «Когда я была совсем маленькая, – неожиданно добавила она, указывая на одометр, – я была уверена, что нули остановятся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход», – говорит Лолита /152,т.2,с.269/. От проницательного Гумберта не укрылась уникальность замечания Лолиты, которая «впервые, кажется… так непосредственно припоминала свое догумбертовское детство» /152,т.2,с.269/. Вместе с тем, «задний ход» в жизни Лолиты невозможен не по законам физики, а по законам набоковской эстетики: героиня лишена детства в воспоминаниях. Поэтому Гумберт, обвиняющий себя в конце романа в том, что он лишил Лолиту детства, фактически отнимает то, чего Лолита никогда не имела – поэзии детства. Этим объясняется и последнее обещание Гумберта принести Лолите бессмертие, то есть возможность возвращения, через свою тюремную исповедь: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это – единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита» /152,т.2,с.376/. Однако обещание Гумберта обращено к Лолите, им созданной, а не к реальной Долорес Гейз, позже – миссис Ричард Ф. Скиллер. Примечателен сам по себе тот факт, что Долорес даже не пыталась вернуться ни в Писки, город своего детства, ни в Рамздэль, в дом матери. Невозможность движения назад во времени, оборачивается в физической реальности невозможностью движения в связанное с былым пространство. Только единожды приведенное в романе воспоминание Лолиты о раннем детстве своим содержанием подчеркивает эту необратимость времени и невозможность обратимости пространства, как его прямого следствия.
В романе «Камера обскура» Магда наделена некоторым детством, которое однако умещается всего на нескольких страницах и характеризуется подчеркнуто внешним, объективно авторским, отстраненным повествованиям об основных его событиях. События эти выделяет автор, как значимые для понимания образа героини, а не сама Магда, выделяющая в своем раннем детстве нечто принципиально дорогое для себя. Пространственно Магда вполне может вернуться на улицу своего детства и на протяжении романа дважды возвращается в этот мир. Сначала, чтобы продемонстрировать матери меховое пальто и сразу же снова уехать на машине. Второе возращение более длительно и менее прагматично. Магда возвращается от своего любовника Горна и, дойдя до площади, «как всегда подумала, а не взять ли направо, потом сквер, потом опять направо… Там была улица, где она в детстве жила» /153,т.3,с.343/. Магда находит, что улица не изменилась, но не решается не то, чтобы войти, просто подойти ближе к дому, где она родилась, «смутно опасаясь чего-то» /153,т.3,с.343/. Важен не столько поверхностный взгляд Магды, не узнающей тех деталей и мельчайших подробностей быта ее родной улицы, которые не могли не измениться, сколько побуждение устремления к былому: «Счастье, удача во всем, быстрота и легкость жизни… Отчего и в самом деле не взглянуть?» /153,т.3,с.343/ Путь в прошлое связан с преодолением, переусройством себя и мира, достижением невозможного: недаром Лолита мечтает о том, что нули обратятся в девятки, если машина даст задний ход. Магда перемещается только в пространстве, поэтому и не видит того мира, который не помнит: приходя фактически и физически на улицу своего детства, метафизически, эстетически она в мир детства не попадает и не может попасть. Поэтому Магда не пытается приблизиться к центру пространства прошлого – дому, где началась ее жизнь.
Герои, детство которых не воссоздано автором, которых Набоков не наделил богатством своих детских впечатлений, обречены на гибель: преодоление времени для них исключается, своего пространственного центра, выступающего одновременно и центром времени, они не имеют. В романе «Камера обскура» описание жизни Кречмара начинается с истории его юности. Герой, отчужденный от детства, не способен преодолеть собственную духовную слепоту, которая обращается затем слепотой физической. Кречмара отвозят в деревню, затем Макс перевозит его в свой дом, назад в свою квартиру герой вернуться не может. Приходит в свой прежний дом Кречмар не для того, чтобы жить в нем, а для того чтобы убить Магду. Отсутствие детства равнозначно отчуждению героя от истины, его нравственной слепоте. Невозможность возвращения в былое пространственно синонимична утрате жизни: Кречмар сначала слепнет, затем готов совешить преступление, но сам оказывается жертвой. В романе «Отчаяние» Герман фальсифицирует свое детство, придумывая два взаимоисключающих образа своей матери: то изысканной дамы, то грубой мещанки. Неопределенность начала пути героя выступает сюжетопорождающей моделью для всего романа: Герман придумывает себе двойника (сходство с которым весьма приблизительно на самом деле), которого убивает, обрекая тем самым на гибель себя. Отчуждение от детского имени, дома, деревни гибельно для гроссмейстера Лужина, который потеряв детство, теряет свободу, становясь заложником и жертвой своего шахматного гения.
Пространственное отчуждение героев от своего изначального мира, невозможность возвращения к нему во времени и пространстве подчеркнута любопытной метафорой в романе «Камера обскура». Пришедший, чтобы повстречать Магду, Кречмар отдаляется от нее, чтобы приблизиться: «…она…перешла к нему, на ту сторону. Он двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение» /153,т.3,с.270/. Магда, придя на улицу своего детства, вместо того, чтобы приблизиться к родному дому, «повернула и тихо пошла назад» /153,т. З,с.343/. Для человека, отчужденного от начала, лишенного путей к нему в физическом пространстве и метафизическом пространстве времени, утрачивают реальность пространственные ориентиры далекого – близкого, движения в сторону или навстречу. Пространственный мир искажается, утрачивает центр. Пространство из обозримого в памяти протяженного пути во времени превращается в прагматический мир расстояний и названий, отчужденный от человека, не индивидуализированный его наблюдением и сохранностью в памяти.
Гумберт, впервые увидевший Лолиту, оживляет в ней свое былое, но сам не становится прежним. Это несоответствие ощущается самим Гумбертом, который проходит мимо Лолиты «под личиной зрелости», по собственному определению /152,т.2,с.53/. Гумберт становится отцом, сохраняя временную дистанцию между собой и Лолитой, но не становится сверстником, другом и соучастником. Хотя именно ему Лолита поверяет сначала свои секреты о связи с Чарли, о проделках в летнем лагере. Но позже Лолита постоянно скрывает от Гумберта свои мысли, чувства и намерения, как скрывала их от Шарлотты. Еще до смерти Шарлотты герой сообщает, что Лолиту «привык считать своим ребенком» /152,т.2,с.103/. Ожидая первого соединения с ней, Гумберт называет Лолиту своей «невозможной дочерью» /152,т.2,с. 162/. Взрослый Гумберт, к тому же считающий себя отцом, вторгается в пределы детского мира, совершает тоже, чем занимаются дети, но статус отца и привилегии зрелости за собой сохраняет, как и право решать судьбу ребенка.
Гумберт отчаянно пытается найти оправдание своим действиям, находя примеры официально разрешенных в США ранних браков (в журнале из тюремной библиотеки говорится о якобы «стимулирующих климатических условиях в Сент-Луи, Чикаго и Цинциннати», в которых «девушка достигает половой зрелости в конце двенадцатого года жизни», «а Долорес Гейз родилась менее, чем в трехстах милях от стимулирующего Цинциннати» /152,т.2,с. 167/), вспоминает герой и о дозволенном, например, сицилийцами сожительстве между отцом и дочерью и заключает: «Я только следую за природой. Я верный пес природы. Откуда же этот черный ужас, с которым я не в силах справиться?» /152,т.2,с. 167–168/. Гумберт не лишил Лолиту девственности, он даже не был первым ее любовником, но вошел в тайный мир подростков, на чужую территорию, не изменившись качественно, да и количественно: Лолита не учла «некоторых расхождений между детским размером и моим» и «только самолюбие не позволяло ей бросить начатого» /152,т.2,с. 166/. Мир подростков живет своей обособленной, тайной жизнью, подробности которой открываются Гумберту только после того, как он стал любовником Лолиты, хотя признание Лолита готова была совершить раньше, чувствуя в Гумберте доверенное лицо, человека, относящегося к ней по-иному, не так, как все взрослые, но, пока не предполагая, в чем эта разница состоит. Уже засыпая от пилюли снотворного, Лолита пытается рассказать Гумберту главное о своей жизни в лагере: «Если я тебе скажу…если я тебе скажу, ты мне обещаешь…обещаешь не жаловаться на лагерь?…Ах, какая я была гадкая… Дай-ка я тебе скажу» /152,т.2,с.153/.
Позже Гумберт узнает и о Чарли, и о том, что для Лолиты «чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это ее совершенно не занимало» /152,т.2,с.165/. Все взрослые, включая сначала и самого Гумберта, пребывают в блаженном, наивном неведении относительно того, как живут и чем занимаются подрастающие дети. Сам Гумберт, иронически называя себя «Жан-Жак Гумберт» /152,т.2,с.154/, был абсолютно уверен в непорочности Лолиты. Начальница Бердслейской гимназии наставляет Гумберта, сообщая следующее: «У нас у всех впечатление, что в пятнадцать лет Долли, болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами…» /152,т.2,с.240/. Из больницы Долли отпускают с дядей Густавом, причем, никто не сомневается в том, что Гумберт – отец, а Куильти, похитивший Лолиту, – ее дядя. Мир подростков закрыт для взрослых, отделен непреодолимой возрастной дистанцией, и Гумберт на горе себе и Лолите входит в мир, к которому уже никогда не сможет принадлежать. В письме к П. Ковичи Набоков указывал: ««Лолита» – трагедия… Трагическое и непристойное взаимоисключают друг друга» /49,с.206/. Гумберт трагически не соответствует миру подростков, Долли – миру взрослых. Именно это несоответствие выступает источником трагической вины Гумберта, требующей наказания, раскаяния и искупления.
Несоответствие героя миру – метатема набоковской метапрозы. Стихотворение «Лилит» акцентирует ключевой мотив романа: несоответствия взрослого героя миру детского рая, им же для себя избранного, как источника трагической вины героя. Искупление вины приводит к трансформации рая в ад.
В Долорес убит ребенок, внезапно оборвано ее детство, из рядовой американской школьницы она превращена в нимфетку, «маленького, смертоносного демона» /152,т.2,с.27/. Жизнь Долли-ребенка в детстве закончена, и начинается томительное заключение Лолиты в области, которую можно определить как «минус-детство» или антидетство.
Антидетство не локализуется в пространстве, не фиксируется во времени, это мир пустоты, в котором личность утрачивает тождественность себе, обретая время, пространство и себя, лишь достигнув официально зарегистрированного зрелого возраста. Именно этого взросления с ужасом ожидает Гумберт, видя в нем утрату Лолиты, которая перестанет быть нимфеткой: «…1 января ей стукнет тринадцать лет. Года через два она перестанет быть нимфеткой и превратиться в «молодую девушку», а там – в «колледж-гэрл», т. е. «студентку» – гаже чего трудно что-либо придумать» /152,т.2,с.84/. Хотя в конце романа, прощаясь с Лолитой, Гумберт понимает, что любит взрослую Долорес Скиллер, «бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем» /152,т.2,с.340/.
Область антидетства противоположна детству не по характеристикам качественным: большей или меньшей степени понимания и любви со стороны родителей, большей или меньшей степени благополучия, большей или меньшей степени поэтичности. Антидетство означает прекращение детства во время детства, которая, однако, не компенсируется преждевременной зрелостью: детство отменяется и во времени образуется пустота, ребенок перестает быть ребенком, но при этом не становится взрослым и не уходит в небытие. Личность утрачивает процессуальность, перестает быть тождественной самой себе, «я» трансформируется в сюжет, в череду событий, навязанных волей взрослого, живущего в мире детей, но остающегося взрослым. Гумберт предлагает Лолите эпический сюжет романа-путешествия, бытие в сонете, в стихотворении, а Куильти драматический сценарий, роль в драме или фильме. Нимфетка Гумберта теряет собственное имя, вместо Долорес Гейз становясь Лолитой или воскресшей Аннабеллой, теряет реальность бытия, теряет настоящее, еще не имея его компенсации в виде минувшего. Именно той начальной поры, которая должна быть способом преодоления настоящего через образы, сохраненные памятью и переданные воображения, Гумберт и лишает Лолиту. Утрату самотождественности, имени и настоящего Ж. Делез классифицирует как «чистое становление», при котором личность растворяется в событии, или «приключениях», «когда имена пауз и остановок сметаются глаголами чистого становления и соскальзывают на язык событий» /64,с.15/. Личность героини трансформируется в сюжет ее совместного путешествия с Гумбертом, ее реальность вытесняется образом, созданным Гумбертом.
Антидетство в художественном космосе Набокова, пользуясь предложенной терминологией, – область события, «чистого становления», связанного с утратой самотождественности личности, область, ничем содержательно духовным, индивидуально значимым не заполненная, в то время, как детство – «измерение ограниченных и обладающих мерой вещей, измерение фиксированных качеств» /64,с. 13/, т. е. мир, фиксированный во времени, локализованный в пространстве, закрепленный за конкретным обладателем.
Метафизическая концепция непрерывности бытия в тезаурусе В. Набокова реализуется в концептуализации детских впечатления героев как их потенциальной способности к самодвижению и саморазвитию. Герои, лишенные детства, отчуждены от кругового движения во времени-пространстве, от способности эстетизировать бытие и, таким образом, трансцендироваться за пределы одной материально наличной, всеобщей реальности. Асинхрония же героем времени внешнего, линейно текущего посредством слова означает открытие своего хронотопа, характеризуемого подвижностью и обратимостью его пространственно-временных характеристик.
4. Идентификация героя и его мира в аспекте мифоритуальной архаики
К. Проффер – первый американский славист, написавший комментарий к роману «Лолита» («Ключи к Лолите», 1968, русский перевод – 2000) /166/, обращаясь к читателям романа, заметил, что «тот, кто берется за чтение автора-садиста вроде Набокова, должен иметь под рукой энциклопедии, словари и записные книжки, если желает понять хотя бы половину из того, о чем идет речь» /166,с.17–18/. «Лолита» – сложноорганизованный, живой, одновременно замкнутый и открытый для понимания и интерпретации мир /231/, в котором «чужие» миры (Э.По, Р. Шатобриана, Г. Флобера, М. Метерлинка, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского и многих других художников слова) вступают в диалог с новым, «своим» набоковским миром и друг с другом, образуя при этом единый космос романа. Необходимо особо проакцентировать то обстоятельство, что помимо литературных источников, Набоков апеллирует к фольклорной традиции, оставляя в ткани романа указания на архаические, мифологические тексты, причем, обращение к ритуалу и мифу носит концептуальный характер, обнаруживаясь не только на уровне смысловых реминисценций и аллюзий, но находя отражение в пространственной модели мира романа, в организации его хронотопа, в принципах идентификации персонажа. Сразу же подчеркнем, что отслеживание реминисценций и аллюзий в тексте романа не может и не должно выступать самоцелью, итогом его интерпретации. Прочтение и раскодирование символических кодов и литературных шифров, которые Набоков оставляет, причем, нередко направляя читателя по ложному следу, имеют целью постепенное выявление смысла целого, приближение к истине.
Прочтение романа в направлении его мифо-ритуальных смысловых компонентов не имеет целью идентифицировать некоторый архаический прототекст, составляющий семиотическое зерно романного мифа, во-первых, потому что в «Лолите» проактуализирован ряд архаических текстов, принадлежащих к близким, но не совпадающим фольклорномифологическим традициям, во-вторых, потому что роман воспроизводит общую концепцию мифа как указание и направление для некоторых последующих интерпретаций его смысла.
4.1. Мифема «Лолита» – мономиф книги
Современная концепция категории мифа объединяет две модификации последней:
1. Архаический, первобытный, изначальный миф, который несюжетен, недискретен и реализуется как циклический, постоянно воспроизводящийся механизм; его персонажи предперсональны, принципиально протеистичны, взаимозаменяемы в своих функциях. В основе архаического мифа лежит установление классической космогонической оппозиции хаос/космос и ее инвариантов (верх/низ, живое/мертвое, свое/чужое (согласно А.К. Байбурину /10,с. 10/, а объект и субъект, означаемое и означающее интерпретируются как единство.
2. Миф, как вторичная семиологическая система, воспроизводящая отдельные законы и структуры мифологического мышления в отдельных элементах целостной художественной структуры, восходящих к первичному архаическому мифу. В этом случае можно говорить о повествовательности, сюжетности мифа.
Связывая архаический миф со вторичными опосредованными, но в основе своей мифологичными смысловыми компонентами текста, сюжетность можно идентифицировать как вторичное качество мифа, которое он приобретает в литературе нового времени. А. Белый, указывая на глубинную взаимосвязь лирического и мифологического мышления, дает поэзии следующее определение: «Основной элемент здесь – данный в слове образ и смена его во времени, т. е. миф (сюжет)» /22,с. 120/. В работе «Архаические мифы Востока и Запада» И.М. Дьяконов проводит аналогию между современным повествованием и мифом, давая собственно определение мифа: «…миф есть связная интерпретация процессов мира, организующая восприятие их человеком в условиях отсутствия абстрактных (непредметных) понятий. Как организующее начало миф аналогичен сюжету: сюжет организует словесное изложение явлений мира в их движении по ходу вымышленного рассказа, миф организует мыслительное восприятие действительных явлений мира в их движении при отсутствии средств абстрактного мышления» /70,с. 12/. Миф колеблется на границе между последовательным сюжетным и цикличным беспрерывным повествованием без конца и начала: с одной стороны, миф и ритуал воссоздают последовательную смену событий, с другой – это замкнутый цикл без конца и начала, непрерывное повествование. Эта принципиальная амбивалентность архаического мифа и позволяет экстраполировать его в современное словесное искусство. Р. Барт приходит к выводу, что современный миф «может строиться на основе какого угодно смысла» /12,с.98/, поскольку объективны общие закономерности мифологического мышления, которые могут реконструироваться в литературе нового времени, приобретая статус мифопорождающей модели.
На сложность разграничения первобытных архаических мифов и мифологичных по своей природе «изначальных схем представлений, которые ложатся в основу самых сложных художественных структур» указывает С.С. Аверинцев, анализируя концепцию архетипов коллективного бессознательного К.-Г. Юнга /1,с. 116/. Та же тенденция дифференцировать древний миф и вторичные мифологические компоненты, идентифицируемые в тексте произведений современного искусства, реализуется в заключении В.Н. Топорова об особенностях первобытных форм искусства: «…древнейшие образцы изобразительного искусства и не имели цели передачи сюжета. Скорее, в них заготавливались некоторые шаблоны, указывающие на какую-то совокупность объектов и отношений между ними, которые позднее могли оформиться в сюжет» /192,с.84/. Архаический миф был не только реален, но и материален, из него и его посредством создавалась реальность мира, вне мифа иной реальности не существовало. Хотя полное и исчерпывающее определение мифа дать априори невозможно, в контексте настоящих рассуждений уместно привести определение, данное М.И. Стеблиным-Каменским: «Миф, таким образом, это и созданное фантазией и познанная реальность, и вымысел и правда» /185,с.87/. Само понимание Набоковым литературы как самодавлеющей реальности, а романа как самостоятельного, целостного мира, состоявшегося и обособленного и одновременно открытого для понимания и интерпретации актуализирует мифологические смысловые компоненты в собственно набоковском художественном космосе, придавая рудиментам мифологического мышления смыслопорождающие качества, постулирующиеся в мифе нового времени.
В названии романа воспроизводится только имя героини, с именования Лолиты роман начинается, имя героини – последнее слово в романе. Гумберт заявляет прямо: «Эта книга – о Лолите», – подчеркивая, что «подробное описание последних трех пустых лет», проведенных без Лолиты бессмысленно /152,т.2,с.311/. Название послесловию к американскому изданию 1958 Набоков дает, подчеркивая принципиальную значимость названия романа – «О книге, озаглавленной «Лолита»». Лолита, такая, какой ее видит и создает для себя Гумберт – это и есть роман, та форма «единственного бессмертия», которое автор и рассказчик может разделить со своим вымыслом и созданием. Таким образом, роман – это художественное, но при этом действенное, материальное воплощение героини, книга – это сама Лолита. В имени героини, в ее бытии, в ее образе концентрируется вся вселенная романа. Поднимая в «Эстетических фрагментах» вопрос о возможности эстетического отношения к смыслу, точнее – присутствия эстетической атмосферы в самом акте понимания сюжета, Г.Г. Шпет делает интересное наблюдение: «Хотя каждый сюжет может быть формулирован в виде общего положения, сентенции, афоризма, поговорки, однако, эта общность не есть общность понятия, а общность типическая, не определяемая, а характеризуемая. Вследствие этого всякое удачное воплощение сюжета индивидуализируется и крепко связывается с каким-либо собственным именем. Получается возможность легко и кратко обозначить сюжет одним всего именем «Дон-Жуан», «Чальд Гарольд», «Дафнис и Хлоя», «Манон Леско» и т. п.» /212,с.456–457/. Мир набоковского романа назван именем героини, причем тем именем, которым наделяет ее Гумберт и которое не совпадает с ее материальным, внегумбертовским бытием; с декларации этого различия именований героини начинается роман: «Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была всегда: Лолита» /152,т.2,с.17/. Этот текстуальный фрагмент звучит как расшифровка названия, как комментарий, включенный непосредственно в текст (также как и «Аннабель Ли» Э. По), причем, многообразие инвариантов обличий и ипостасей героини принципиально задано как ее онтологическое качество, но тут же сведено к некоторому обобщающему варианту – единственной Лолите. Декларируемое единство, однако, сразу после заявления вновь трансформируется в парадигму: единственная Лолита увенчивает ряд предшественниц («А предшественницы-то у нее были? Как же – были…» /152,т.2,с.17/). И снова заданная множественность сводится к единичности – к одной-единственной принципиальной предшественнице, образ которой сливается потом с образом Лолиты (Гумберт даже теряет ее снимок и восстанавливает его по памяти): «Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку» /152,т.2,с.17/. Принципиальная множественность, распыленность персонажа и его периодическое сведение к некоторому воплощению, адекватному некоторой ситуации – свойство мифологического персонажа, пребывающего одновременно или последовательно в разных, порой противоположных образах. Именно протеизм мифологического персонажа имел стойкую тенденцию к сохранению в эпосе. Анализируя особенности второстепенных, а, следовательно, наименее подверженных эпической трансформации, героев «Повести временных лет», И.П. Еремин указывал на их «удивительную способность перевоплощаться: они у летописца меняют свой характер как платье, – часто несколько раз в течение жизненного пути; убийца и злодей может у него превратиться в святого, трус – в героя, может остаться в этом новом образе, но может вернуться к прежнему» /161,с.4/. В мифе протеизм персонажей отвечал концепции мифологического времени как повторяющегося, циклического, подобного суточным, сезонным и годовым циклам. Миф не знает категории конца, поэтому он в строгом смысле несюжетен, а герой мифа не знает смерти, а знает перевоплощения и новые рождения. Именно концепцию времени как цикла Ф. Боас считал категориальным, главным признаком мифа /31/. Однако название романа не только ипостаси Лолиты сводит к одному образному воплощению, но и объединяет в имени героини и остальных персонажей романа и сам романный мир.
Слово, заключающее в себе целый мир, творящее и сотворяющее этот мир, соотносимо с категорией мифемы, под которой К. Леви-Стросс понимает слово мифа – «слово слов» /112,с.427/. Исследователь указывает, что у архаических народов были мифы, состоящие из одного слова – мифемы, которое концентрировало в себе и название, обозначение объекта и историю его воплощения, т. е. миф. А. Мюллер, объясняя происхождение мифа «болезнью языка», указывает, что первоначально слова заключали в себе и название и свою историю, которая прочитывалась в самом названии, позже истинный смысл слов был утрачен и понадобилось придумывать мифы, чтобы объяснить происхождение мира и его компонентов /131, с. 22–23, 373–374/. Мир романа концентрируется в имени героини и выводится из него, сама Лолита воплощается только в реальности романа, за его пределами и сама Лолита, и Гумберт и Куильти мертвы. Словесная ткань романа, обрамляемая именем «Лолита», создает мир, вычитываемый из названия – имени-мифемы. Активным компонентом творимой из имени реальности предстает архаическая традиция, поддерживающая манифестацию мифа нового времени.
4.2. Идентификации героя в контексте архаических реминисценций
Первоначальное шокирующее впечатление, производимое «Лолитой» связано собственно с сюжетом романа, который представляется (тоже первоначально) абсолютно оригинальным, невероятным изобретением Набокова. Однако уже Нина Берберова указала на русские источники именно сюжетной коллизии романа, которую определила, как «любовь сорокалетнего человека к двенадцатилетней девочке-нимфе, вернее – сладострастие, переходящее в любовь» /25,с.292/, связав ее с «Исповедью Николая Ставрогина» и воспоминаниями и предсмертным бредом Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского. Позже абрис Лолиты был обнаружен в Дуне из пушкинского «Станционного смотрителя» /179/, затем эти собственно сюжетные источники пополнились драматургией А. Блока (картонно-кукольная невеста, к которой свелась Прекрасная Дама, павшая и падшая звезда-Мария, соотносилась с куклой Лолиты, отброшенной Шарлоттой в темноту. В пьесе Э. Олби, написанной по мотивам «Лолиты», кукла выступит одним из атрибутов Гумберта, заменяющего действительность своим вымыслом.) /179/. Бродивший на смысловой периферии русской классики сюжет Набоков воплощает в своем романе, дает его философскую, онтологическую и эстетическую разработку, а в предисловии Джона Рэя подчеркивает и нравственный аспект романа, который выступил бы центральным, организующим началом в русской классике, но для самого Набокова, как тот неоднократно подчеркивает в интервью и послесловиях, наименее значимый. Абстрагирование сюжета от его нравственного пафоса, стремление обозначить его как самостоятельную и самодавлеющую эстетическую реальность заставляют искать его источники в области, к морали не индифферетной, но устанавливающей ее самим фактом овеществления своего бытия, изнутри, а не снаружи – в текстах архаических и мифологических.
Диахронический путь раскодирования сюжета как фольклорного, так и литературного выступает ведущим методом работы основателей и последователей мифо-ритуальной школы (Д. Кэмпбелла /107/, М. Бодкин /224/, Г.Р. Леви /227/). В классической работе Е.М. Мелетинского «Поэтика мифа» исследование мифологизма современного романа развивается по двум направлениям: трансформации героя, в сферу универсального сознания которого вписываются и другие герои и воспроизводимый им (сознанием) мир, и трансформации линейного времени эпоса в безвременный мир мифа /131/. Ю.М. Лотман, характеризуя научные достижения О.М. Фрейд енберг, особо подчеркивал тот факт, что исследовательница рассматривает ритуал как «сюжетно и мифопорождающий механизм культуры», причем элементы ритуальной архаики приобретают статус «органических форм, обеспечивающих целостность человеческой культуры как таковой» /124,с.484/. Основополагающий принцип исследования текста в этнолингвистическом аспекте сформулирован В.В. Ивановым: «Всякий текст содержит в себе свою историю. Она может ожить в зависимости от его применения» /88,с.5/. Целостность мира набоковского романа прочитывается как в контексте объединения текста и метатекста художника, текста и метатекста предшествующей и синхронически существующей литературной традиции, текста и его архаических прототекстов. Способ подачи сюжета и организация романного мира как сотворяемого и явленного мифа актуализирует участие мифо-ритуальной архаической традиции как в воплощении сюжета романа, так и в способах его разработки.
Аллюзии из кельтской мифологии в смысловой ткани романа дополняют, придают стереоскопический эффект, дополнительное звучание эпизодам, проакцентированным иными художественными реминисценциями; смысл и значение образов, организующих «нервную систему книги» (определение В.В. Набокова) /152,т.2,с.384/ обогащается и углубляется, а их смысловой потенциал постепенно наращивается. Между тем, на участие кельтской художественной традиции в формировании содержания в «Лолите» указано не только ассоциативно, средствами подтекста, но прямо и непосредственно, поэтому этот реминисцентный фон романа невозможно игнорировать, стремясь достичь как можно более полного понимания целого.
Гумберт Гумберт, определяя в начале своей исповеди собственное происхождение, назовет себя «швейцарским гражданином, полуфранцузом, полуавстрийцем с Дунайской прожилкой» /152,т.2,с. 17/, позже протагонист укажет на свой «странный акцент», а затем представит свое гражданство как общеевропейское (не только Гумберт называет себя «европейцем» /152,т.2,с. 261, 335/, мисс Пратт определит его как «старомодного, европейского отца» /152,т.2,с.238/). Причем, по мере этого обобщения Гумберт будет обнаруживать настойчивую тенденцию этимологически выявить свое происхождение: отмечая «поразительное сходство» между собой и молодоженом с плаката в комнате Лолиты, Гумберт укажет на «ирландские глаза» /152,т.2,с.53/ молодого мужа, затем охарактеризует свою «интересную внешность» как «псевдокельтическую» /152,т.2,с.130/, в «Привале Зачарованных охотников» охарактеризует себя как «тихого джентльмена франко-ирландского происхождения» /152,т.2,с.152/, потом, упомянет о наличии, «может быть, кельтской крови» в своих жилах /152,т.2,с.231/. В этом контексте вопрос Шарлотты о том, нет ли у Гумберта «в роду некоей посторонней примеси» /152,т.2,с.95/, -звучит как концептуальное указание: европейское, подчеркнуто смешанное происхождение Гумберта не исчерпывается национальной примесью и не означает смешения синхронически существующих европейских наций, а объясняется диахронически – национальность Гумберта идентифицируется генетически через один из древнейших народов Европы – кельтов.
Кельтская художественная традиция стоит у истоков западноевропейской средневековой литературы: в первом веке нашей эры кельты заселили Ирландию, ранее очагом кельтской традиции выступала Галлия. М.М. Бахтин в курсе лекций по зарубежной литературе средних веков подчеркивает, что хронотоп кельтской саги, особая концепция индивидуальной любви, которая в кельтской традиции изображается как «чудо, редкость, магия, болезнь» /14,с.42–43/, образуют активный арсенал европейского фольклора и рыцарского романа. А.А. Смирнов выявляет кельтские источники в романе о Тристане и Изольде, выделяя ряд сюжетных эпизодов и мотивов, имеющих прямые аналоги в кельтских сагах /182,с.52–63/. Мифологические персонажи европейского фольклора эльфы и феи генетически восходят к кельтским нижним божествам сидам, мир которых в кельтском эпосе существует параллельно с миром людей. Сиды принадлежат к иному миру, как позже и европейские эльфы, и этот мир содержит в себе вечность, интерпретируемую у кельтов «как одно бесконечное теперь» /55,с. 190/, этот мир открыт для смертного через морское плавание или охоту на кабана, символизирующего кельтский жреческий класс /55,с. 111/. Иной мир не только вечен, «но он и не ограничен тремя измерениями», – утверждают современные кельтологи К,-Ж. Гюйонварх и Ф. Леру, приводя пример появления в доме бога, который «не воспользовался ни дверью, ни каким-либо другим входом», или морского божества Мананана, утром появляющегося в Ольстере, а к полудню в Шотландии /55,с.190–191/. В эпоху зрелого средневековья это свойство переходит к эльфам и феям.
В городе с показательным названием Эльфинстон, который выступает аналогом кельтского сида или очарованного леса в средневековом фольклоре – мира эльфов, завершается очередной круг действия романа «Лолита»: здесь Гумберт навсегда потеряет Лолиту. Рекуррентность действия, идея повторяемости событий подчеркнута тем, что хозяйка мотеля носит фамилию, которая произносится как Гейз, хотя пишется иначе. Как в начале романа Гумберт назовет себя швейцарцем, но при этом добавит, что его «дочь наполовину ирландка» /152,т.2,с.294/, таким образом, теперь в отношении Лолиты начат процесс движения к генезису европейской культуры: от ирландки диахрония генеалогии раскручивается к кельтам. К тому же, если Гумберт швейцарец, то мать Лолиты – ирландка. Упоминание ирландок в связи с Лолитой Гумберт допустил уже в «Дневнике»: раздумывая знакома ли Лолита с тайной Менархии, Гумберт заметит, что ирландки называют это «проклятием» /152,т.2,с.62/. Гумберт, включая, а точнее, заключая Лолиту в своем мире, наделяет ее и присущими этому миру чертами: если он ирландец с псевдокельтической внешностью, то и Лолита постепенно приобретает такие же происхождение и облик. Хотя, наделяя Лолиту необычным происхождением, программирующим ее особые качества по законам архаического мышления, Гумберт в «сцене тахты» оговорится в скобках: «покойный Гарольд Е. Гейз – царствие небесное добряку! – зачал мою душеньку в час сиэсты, во время свадебного путешествия в Вера Круц, и по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес» /152,т.2,с.74/. Только генеалогия Лолиты раскручивается не к европейским архаическим культурам, а к их географическому антиподу, Лолита – сувенир, привезенный из Мексики. Нереализовавшееся желание Гумберта – направить свой путь к мексиканской границе не случайная прихоть и не просто охранительный жест, таким образом, завершилась бы очередная циклическая парадигма в романе – там Лолита оказалась бы в соответствующем ей генетически мире.
Хотя определяя собственную внешность как псевдокельтическую, Гумберт неслучайно выбирает приставку «псевдо». Упоминая о своей мужественной привлекательности, называя себя «красивым брюнетом» /152,т.2,с.231/, Гумберт укажет на «мягкие темные волосы» /152,т.2,с.36/, «темноволосый молодой муж» на плакате, украшающем спальню Лолиты, «поразительно» похож на Гумберта /152,т.2,с.88/, у Гумберта «густые черные брови и странный акцент» /152,т.2,с.59/, наконец эпитет, применяемый Гумбертом к характеристике своего обаяния – «сумрачный» /152,т.2,с. 36, 130/. В кельтской саге «Сватовство к Эмер» герой древне ирландского эпоса Кухулин, в котором воплощен архаический идеал героя, изображается так: «На колеснице вижу я темного, хмурого человечка, самого красивого из всех мужей Ирландии» /98,с.589/, в саге «Болезнь Кухулина» сида Фанд, приветствуя Кухулина, поет: «Над прекрасными его очами – // Изгибы черных, как жучки, бровей» /98,с.646/, Фердиад, собираясь сразиться с Кухулином, угрожает: «Копьем пронжу его малое тело» /98,с.612/. Внешность Кухулина характеризуется как исключительная, равно как и его боевое искусство, как подчеркивают современные кельтологи, она соответствует скорее архаическому, докельтскому облику героя из племени иберов, предшественников кельтов. Типично кельтской внешностью наделен возница Кухулина – Лойг: «стройный, высокий, со множеством веснушек на лице. У него курчавые ярко-рыжие волосы…» /98,с.589/. Таким же обликом наделен Билль Мид, который вместе с Фэй составляет с Лолитой партию в теннис. Билль – «рыжий мужчина… с обожженными на солнце малиновыми голенями» /152,т.2,с.287/ составляет контраст Гумберту и своей подруге Фэй «довольно матовой брюнеточке» /152,т.2,с.287/. Билль предлагает Гумберту игру вчетвером, но спланированный заранее звонок по телефону выводит Гумберта из игры, и его место занимает Куильти, беря к тому же его ракетку. Состоявшаяся замена не снимает контраста играющих в каждой паре игроков: рыжий Билль – матовая брюнетка Фэй; темный, круглоголовый Куильти в коричневых штанах – «золотистая» Лолита. Гумберт, однако, находит способ для иной группировки смешанных пар: Лолита – «прекрасный итальянский ангел – среди трех отвратительных калек фламандской школы» /152,т.2,с.289/, подчеркивая избранность Лолиты и снимая оппозицию смешанных колористически пар.
Кухулин одновременно – человек, и больше, чем человек, по одной из версий – он сын бога света Луга, он принадлежит одновременно человеческому и иному миру, в саге «Болезнь Кухулина» герой колеблется, выбирая мир, в котором продолжить жизнь, выбирая любовь земной своей жены Эмер или сиды Фанд /98,с.648/. Малое тело Кухулина, упоминаемое в сагах, равно, как и определение «человечек» указывают на соответствие Кухулина облику сида, которые прекрасны и малы ростом /98,с.22,с.556/. Разница в параметрах: Кухулин мал, у Гумберта «большое тело» /152,т.2,с.36/, – только подчеркивает принципиальное сходство, усугубляет портретное подобие героев: выделенность внешности героя маркирует его «двойное гражданство», первоначально обозначенное Гумбертом как европейская полинациональность, указывает на амбивалентную принадлежность обоих героев и к человеческому и к иному миру.
Персонажи, наделенные внешними приметами сид и эльфов появляются в «Лолите» по мере приближения развязки. На колорадском курорте «между Сноу и Эльфинстоном» /98,т.2,с.283/ появляется Фэй, как бы случайная партнерша Лолиты по теннису, сбежавшая с ней потом с ранчо Куильти, которая охарактеризована как «довольно матовая брюнеточка, года на два старше Лолиты, с капризным ртом и жестким взглядом» /152,т.2,с.287/. Имя героини (Фэй – фонетически идентично «фее», хотя пишется иначе, также, как фамилия хозяйки мотеля Гейз, совпадая с формой множественного числа родительного падежа – феи – фей), ее внешность и уменьшительное определение «брюнеточка» (то ли в силу возраста, то ли в силу миниатюрности) указывают на облик, идентичный традиционному образу сиды в сагах. Формальная множественность облика Фэй реализуется буквально: ее внешность повторится во внешности Риты, которая предстанет «взрослой брюнеткой, очень бледной, очень тоненькой», даже разница по отношению к Лолите, тоже охарактеризуется цифрой два: Фэй старше на два года, Рита в два раза /152,т.2,с.316/. Метатеза Лолиты и Риты получит обоснование и на уровне происхождения: Лолита, шифруемая в Кармен, названная мексиканским сувениром, эхом отзовется в Рите, которая «была, кажется, испанского или вавилонского происхождения» /152,т.2,с.316/. Гумберт вновь совмещает синхронический срез (испанский, мексиканский) с диахроническим (вавилонские корни Риты идентичны в этом контексте мнимому ирландскому происхождению Лолиты).
В лирике Набокова мир эльфов соотнесен с миром насекомых по сходству параметров: эльфы также невелики размером. В стихотворении из сборника 1916 года «Летняя ночь» находим такой контекст: «Эльфы с влюбленными божьими коровками // Прячутся, целуясь, от лунных узоров» /150,с.407/. В сборнике «Горний путь» присутствует аналогичная коллизия: «Фейна дочь утонула в росинке, // ночью, играя с влюбленным жучком…» /150,с.52/. Время активности фей и эльфов в лирике Набокова – ночь. В германо-скандинавской мифологии нижние божества, идентичные кельтским сидам, альвы, живут под землей и выходят ночью – для них губителен солнечный свет. Мир эльфов, таким образом, соотносим у Набокова с иномиром. Примечателен облик жениха феиной дочери – жучка, соотносимый с обликом эльфа – «маленький черный жених» /150,с.52/. Владельцами проклятого клада в германо-скандинавском эпосе выступают «черные альвы», а одна из этимологий слова «нибелунг» расшифровывает его как «нифлунг» – дитя тумана. Мотив клада и неизбежность его утраты репрезентируется в «Лолите» в союзе Лолиты и Гумберта, к его анализу мы вернемся позднее, актуализируя аллюзии из германо-скандинавской мифологии и эпоса в ткани романа.
В Касбиме Гумберт видит издали «эльфоподобную девочку на стрекозоподобном велосипеде и рядом непропорционально крупную собаку» /152,т.2,с.261/ (о символическом значении собаки, вмешательством которой отмечены важнейшие эпизоды в романе порассуждаем позднее, отметим пока соседство собаки и эльфа), при ближайшем приближении сказочность разрушается: «обещанная велосипедистка» оказалась «некрасивой, пухлявой девочкой с косичками» /152,т.2,с.261/: в Бердслее внимательно рассматривая вблизи лицо Лолиты, Гумберт тоже встретит «разрушенный миф» /152,т.2,с.250/. Обманчивого эльфа Гумберт встречает перед приездом в Эльфинстон – город эльфов, стон которых «тонкий, но страшный», как в скобках замечает повествователь /152,т.2,с.302/, приводя название города, Гумберт заметит также в скобках: «не дай Бог никому услышать их стон» /152,т.2,с.292/. Сам Гумберт слышит этот звук из иного мира, окончательно потеряв Лолиту. Наконец полет эльфа, имплицированный в движении «эльфоподобной девочки», стрекозьи крылья которой имитирует велосипед, поездка на котором приобретает таким образом статус полета эльфа, Гумберт видит в тот момент, когда Лолита в его отсутствие убегает к Куильти. Существа из потустороннего мира возникают на пути Гумберта и Лолиты тем чаще, чем ближе оказывается утрата Лолиты. В Эльфистонский госпиталь Гумберт доставляет Лолиту, сопровождая свой путь аллюзиями из гетевского «Короля эльфов» («Erlkonig»), только лесной царь (название русского перевода баллады В.А. Жуковского) был «на сей раз любитель не мальчиков, а девочек» /152,т.2,с.295/. Фамилия эльфинстонского доктора Блю вызывает ассоциации не только с понятием неприличного, но и потустороннего в контексте стихотворения «Башмачок»:
а недавно приснилось мне, что, бродя по лугам несравненного севера, башмачок отыскал я твой — свежей ночью, в траве, средь туманного клевера, и в нем плакал эльф голубой /150,с.49/.Реальность сновидения восполняет утрату, случившуюся в мире реальном, но только в границах сновидения: мира, параллельного материальновещественному, поэтому отнесенного к ночи. Потерянный башмачок находится «средь туманного клевера», и даже его вполне логичная локализация внизу, на земле, в траве символична – мир утраченный и сюрреальный находится внизу, принадлежит ночи и туману. Продолжением туманности и потусторонности выступает голубизна эльфа. В больницу, вынесенную за черту города, Гумберт привозит Лолиту ночью («я с ней поскакал прямо в слепящий закат» /152,т.2,с.295/), к тому же больница находится в низменности. Сама больница выступает звеном промежуточным, в котором соприкасаются мир живых и мир мертвых, поскольку болезнь – временное торжество смерти в пределах жизни. Из больницы Лолита исчезает, будто бы воскреснув, освободившись из «черной и лиловой Гумбрии», причем отъезд состоялся в разгар дня («около двух часов дня» /152,т.2,с.302/). Однако мифологические атрибуты воскресения и возвращения солярного божества, сохраняясь в ткани современного романа, не влекут за собой ожидаемого результата.
А. Аппель и А. Долинин реминисценцию из баллады Д. Китса «La belle Dame Sans Merci» видят в метафоре «волшебного плена», в котором Гумберта, по его собственному определению, держит Лолита, метатеза палача и жертвы выступает отражением сюжета баллады, в которой очарованный рыцарь заключен в «пещере эльфов» в волшебный сон, причем, пробуждение приносит рыцарю утрату и одиночество. В набоковском переводе «чародейки неведомой дочь» не названа эльфом, однако ее уверенья в любви «на странном своем языке», облик – «змеи – локоны, легкая поступь, а в очах – одинокая ночь», дом – «приют между сказочных скал», способность околдовать «чародейною песней» /150,с. 161–162/ – принадлежат к тому семантическому ряду, который в «Лолите» соотносим с обликом и свойствами эльфа. В переводе В. Левика находим более точные указания на природу безжалостной прекрасной дамы: «Она глядела молча вдаль // Иль пела песню фей», пристанище загадочной девы находится в «волшебном гроте» /163,с.584/. Итог любви с прекрасной феей аналогичен обретению и утрате любви сиды и ее мира в кельтском эпосе: однажды покинув этот мир, вернуться к сиде человек уже не может, равно как и среди людей не может обрести пристанища. В переводческой интерпретации Набокова герой баллады обречен на одинокие скитания, а перевод В. Левика завершается утверждением: «И с той поры мне места нет, // Брожу печален, одинок» /163,с.585/.
Однако по внешним приметам Гумберт сам принадлежит к иномиру. Гумберт, определяя свою страну «как лиловую и черную» /152,т.2,с.205/, не находит себя на фотографии, где должен быть запечатлен: перелистывая «Брайсландский вестник», Гумберт ищет снимок, «поймавший меня на темном моем пути к ложу Лолиты» /152,т.2,с.321/ четыре года назад, но, получив искомый, видит: «абрис девочки в белом и пастор Браддок в черном; но если и касалось мимоходом его дородного корпуса чье-то призрачное плечо, ничего, относящегося до меня, я узнать тут не мог» /152,т.2,с.322/. Отсутствие на фотографии указывает на невидимость Г умберта, его принадлежность к иному призрачному миру, окрашенному в лиловое и черное.
Необходимо подчеркнуть, что приметы красоты, не совпадающей с традиционной, характеризуют тех героев кельтского эпоса, которые обречены на гибель из-за всеподчиняющей, но беззаконной страсти: Грайне, недовольная тем, что в мужья ей определен Финн, который «старше ее отца», обратив свой взор на Диармайда, спросит: «…а кто, тот загорелый сладкоречивый воин с вьющимися, черными как смоль волосами и красными, как два рубина, щеками…» / «Преследование Диармайда и Грайне» /98,с.720/, а Дейдре, еще не видя Найси, создаст образ идеального возлюбленного: «…волосы его будут цвета ворона, щеки – цвета крови, тело – цвета снега» / «Изгнание сыновей Уснеха» /98,с.567/. Гумберт, со свойственной для героев Набокова метатезой палача и жертвы //, упомянет о «волшебном плене» /152,т.2,с.225–226/, в котором держала его Лолита. Героини кельтского эпоса накладывают на своих избранников запрет-гейс – «опасные и губительные оковы любви» /152,с.722/, заставляя их покинуть прежнее пристанище и увести возлюбленную с собой, тем самым обрекая героев на скитания и преследование законного жениха и неизбежную смерть от его руки, причем эта месть не затрагивает героиню, которая или сама расстается с жизнью (Дейдре) или становится женой бывшего преследователя (Грайне). Отметив пока очевидную идентичность ключевых позиций сюжета, к вопросу об архаических (кельтских, скандинавских, бретонских) прототекстах «Лолиты» вернемся позднее, продолжив разработку идентификации героев романа и их архаических прототипов.
Теперь обратим внимание на портрет Лолиты. Сразу же подчеркнем, что Гумберт видит ее не так, как остальные персонажи романа. Шарлотта видит в ней «здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка» /152,т.2,с.83/. Причем, проблематично, кто видит Лолиту точнее: когда Гумберт покупает обновки для Лолиты, он руководствуется антпрометрической записью Шарлотты, но считая, что та, «прибавила где лишний дюйм, где лишний фунт» /152,т.2,с. 134/, выбирает одежду, сообразуясь с собственным представлением о Лолите. В результате один наряд «оказался ей тесен, а другой велик» /152,т.2,с. 171/, и она надевает старое платье. Хотя Гумберт любуется «дымчатыми глазами» Лолиты /152,т.2,с.236/, мисс Пратт «выразила одобрение по поводу «милых голубых глазок»» Долли /152,т.2,с.217/, читая отчет о поведении Лолиты в ноябре, та же мисс Пратт укажет, что «волосы у нее темнорусые и светлорусые вперемежку» /152,т.2,с.239/, а Гумберт восхищается ее «теплыми русыми кудрями» /152,т.2,с.164/, называет ее «блестяще-русой» /152,т.2,с.84/, «розовой, с золотой рыжинкой» /152,т. 2, 298/, а в конце романа отметит, «как она похожа – как всегда была похожа – на рыжеватую Венеру Боттичелли» /152,т.2,с.331/. Анализируя знаменитую сцену тахты, В.Е. Александров приходит к выводу, что Гумберт, отменяющий реальность Лолиты, «не видит ее такой, какова она есть» /4,с. 198/. Черты Лолиты, воссозданные Гумбертом, – это черты нимфетки вообще, перечисляя их, уже в начале романа Гумберт совмещает Лолиту с Аннабеллой: «медового оттенка кожа», «подстриженные русые волосы», «большой яркий рот» /152,т.2,с.20/. Это архетип внешности нимфетки, а не индивидуальный портрет реальной девочки Долорес Гейз. Иногда (по приезде в лагерь Ку, перед ссорой с Лолитой в Бердслее) Г умберт видит ее иной образ: «лицо у нее подурнело по сравнению с мысленным снимком, который я хранил больше месяца», – сообщит Гумберт, встречая Лолиту в Ку /152,т.2,с.139/; «с приступом тошной боли я увидел ясно, как она переменилась с тех пор, как я познакомился с нею два года назад…Разрушенный миф!» – такой видит Гумберт Лолиту перед скандалом в Бердслее /152,т.2,с.250/.
Однако, принимая поправку на обобщенность и неточность, воспроизведем черты Лолиты так, как видит их Гумберт: «волосы у нее темно-русые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец» /152,т.2,с.59/, варьируя эти детали внешности Лолиты, вспоминая локоны с боков или крупные передние зубы, Гумберт постоянно подчеркивает ее гибельное, демоническое очарование, однажды выражая опасение, что благопристойные читатели могут «безумно влюбиться» в его Лолиту /152,т.2,с. 166/. В древнеирландской саге «Изгнание сыновей Уснеха» друид-прорицатель, объясняя, почему в чреве женщины закричал еще не рожденный ребенок, так опишет облик последнего:
В твоем чреве девочка вскрикнула С волосами кудрявыми, светлыми. Прекрасны глаза ее синие, Щеки цвета наперстянки пурпурной. Без изъяна, как снег, ее зубы белы, Как красный сафьян, блестят ее губы. Знайте ж: много за эту девушку Будет крови пролито в Уладе/98,с.566/ (Курсив везде мой.)
Облик Дейрдре воссоздан по тем же приметам, что и портрет Лолиты. Дейрдре являет собой то же общее представление о красоте гибельной и разрушительной. Имя героини саги должно напоминать о зловещем предсказании, поэтому оно семантически значимо – «подобно трепету» /98,с.566/. В имени Лолиты шифруются лилии, Лилит (первая жена Адама, демоническое женское существо, сродни средневековым сиккубам), фамилия Аннабеллы – Ли, собственное уменьшительное имя героини – Ло. Имя Лолита героиня носит только в мире Гумберта: с перечисления имен героини, соответствующим разным пространственно-временным обстоятельствам начинается исповедь Гумберта. Имя Лолиты семантически значимо, им она наделяется в определенный момент бытия: «Но в моих объятиях она была всегда: Лолита», – заключает Гумберт /152,т.2,с.17/. Семантизация имени фонетическими средствами – типологическая черта кельтской саги, сида Син, прежде чем назвать свое имя, дает ему семантическую расшифровку: «Вздох, Свист, Буря, Резкий ветер, Зимняя ночь, Крик, Рыданье, Стон» /98,с.679/.
4.3. Мифологический протеизм партнера Лолиты
В кельтской саге правитель Конхобар пытается обмануть судьбу: когда все улады вскричали: «Смерть этой девочке!» – он решает воспитать ее в своем доме, а потом сделать своей женой /98,с.567/. Гумберт выступает приемным отцом Лолиты и мечтает, переждав в Мексике срок до ее совершеннолетия, жениться на своей нимфетке. Когда Дейрдре скрывается со своим избранником, вернуть ее Конхобару помогает Эоган, во власть которому король уладов отдает Дейдре: оба они ей ненавистны, живя год у Конхобара, Дейрдре «ни разу не шевельнула…губами для улыбки…ни разу не подняла головы своей от колен», оплакивая Найси, убитого Эоганом /98,с.571/. Гумберт во время странствий с Лолитой по Америке когда притворяется спящим, слышит «ее всхлипывания каждой, каждой ночью» /152,т.2,с.216/. Эпос состояние крайнего отчаяния передает как прекращение динамики, у современного романа иные изобразительные средства, принципиальная разница состоит в том, что в саге передан итог жизни героини, сбывшееся предсказание, в романе Набокова Лолита стоит накануне освобождения от Гумберта, ее бегство еще впереди.
В кельтской саге «Изгнание сыновей Уснеха» Конхобар и Эоган, преследующие Дейдре – архаический прототип Лолиты, релевантны с точки зрения социального статуса: они короли, вершители судеб. Лолиту оспаривают двое зрелых любовников, схожих не только в возрасте: «Мы с вами светские люди во всем – в эротических вкусах, белых стихах, меткой стрельбе», – замечает Куильти, одетый в халат того же фиолетового цвета, что и у Гумберта /152,т.2,с.366/. Муж Лолиты Дик молод и у него «морского цвета глаза, черный ежик, румяные щеки» /152,т.2,с.355/, он отчасти похож на Г умберта, как и «темноволосый молодой муж» с плаката в спальне Лолиты, его глухота выступает семантическим аналогом духовной слепоты Гумберта, который не видит ни Лолиты, такой, какой она предстает в «пространственном мире единовременных явлений» /152,т.2,с.26/, ни своего истинного соперника.
Ни молодого мужа Дика, ни Г умберта, выступающего в двойственной роли мужа и отца, Лолита не любит. Куильти, с «круглым, ореховокоричневым лицом», остатками «черных волос» /152,т.2,с.291/, «толстый мужчина» /152,т.2,с.368/ с «пухлым телом» /152,т. 2, 369/ – имеет облик, который возможно приобрел бы Гумберт, если бы дожил до старости. Сходство Дика, Гумберта и Куильти реализуется как воплощение трех возрастных этапов жизни одного человеческого существа, но каждый из возрастов обособлен и заключен в самостоятельном человеческом облике. Возникает единый в трех ипостасях, обобщенный образ партнера Лолиты, причем, если, глядя на Дика, Гумберт предполагает, что «он и его Долли имели безудержные половые сношения на этом диване по крайней мере сто восемьдесят раз с тех пор, как она зачала» /152,т.2,с.335–336/, если Гумберт выступает настойчивым любовником, то Куильти признается в своей импотенции /152,т.2,с.363/: трехэтапная возрастная парадигма единого субъекта, сосредоточенного на Лолите, развивается абсолютно последовательно. Три героя, объединенные связью с Лолитой, выступают как единое целое, как симультанно существующий в синхронии трех основных человеческих возрастов возлюбленный Лолиты. Обдумывая перспективу женитьбы на Лолите, Гумберт создает собственную возрастную парадигму, представляя себя рядом с Лолитой Второй, зачатой от него Лолитой Первой, «dans la force Г age» /152,т.2,с.214/ в 1960, а «в отдалении лет» различающего «странного, нежного, слюнявого д-ра Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в «искусстве быть дедом»» /152,т.2,с.214/. Синхронический возрастной сплав трех этапов жизни Гумберта, персонифицированных в трех разных героях, объединяет двойников, скорее совпадающих, чем противоположных, один выступает отражением, объединяющим дистанцированные во времени состояния единого (Дик-Гумберт), другой – искаженным, пародийно сниженным двойником-трикстером, утрирующим главного героя, но не антагонистичного ему (Гумберт-Куильти).
Гумберт, называя себя множеством разных имен, путающий свое имя: «Мое имя… не Гумберг, и не Гамбургер, а Герберт, т. е., простите, Гумберт» /152,т.2,с. 147/, пишущий «Дневник» «мельчайшим и самым бесовским из своих почерков» /152,т.2,с.54/, предстает нетождественным самому себе, фактически указывает на свою распыленность, развоплощенность. Куильти, названный «сущим Протеем большой дороги» /152,т.2,с.279/, представленный через соавторство с Вивиан Дамор-Блок (причем, Лолита, путая Гумберта, скажет, что авторша – Клэр) надевающий личину Чина – детектива – героя комиксов, меняющий имена и местопребывания, оставляя для Гумберта записи в отельных книгах, назвавшийся наконец братом Гумберта, чтобы увезти Лолиту, – наделен теми же качествами неполной индивидуальной определенности, развоплощенности единого «Я».
Объединение разных персонажей в качестве ипостасей некоторого единства, объективно существующая в романе тенденция к их взаимному перетеканию друг в друга отвечает категориальному протеизму мифологического мышления, основной принцип которого А.Ф. Лосевым определен как «оборотничество, т. е. возможность превращения всего во все» /121,с. 185/. Ю.М. Лотман, анализируя пути и способы трансформации мифа в эпос, отмечает в мифе «тенденцию к безусловному отождествлению различных персонажей», – подчеркивая, что «они одно и тоже (вернее трансформация одного и того же)… персонажи и предметы суть различные собственные имена одного» /12 5,с.4/. Объединяя противоположности протеизмом одного, единого для них начала, миф тем самым решал противоположные, чем в современном романе, но принципиально значимые для организации архаического мира задачи: структурировал мир по оппозициям, одновременно снимая их. Амбивалентность ритуала и мифа подчеркивал К. Леви-Стросс, указывая, что «миф обычно оперирует противоположностями и стремится к их постепенному снятию – медиации» /113,с.201/. Так, в тройственной, по возрастному качеству идентифицированной, развоплощенной фигуре Гумберта можно отметить противоположность социального статуса участников, их половых возможностей и отношения к Лолите: незаконность отношений Гумберта и Куильти с Лолитой составляет бинарную оппозицию ее законного брака с Диком, любовь и поэтизация Лолиты Гумбертом контрастна половой игре, в которую Лолиту хочет вовлечь Куильти. Медиацией противоположностей выступает обращенность всех трех героев к Лолите, их союз с нею. Триединое «Я» партнера Лолиты отвечает отчетливой мифологической тенденции к одногеройности, к стягиванию разных персонажей к одному архетипу – герой мифа предперсонален, он не тождественен сам себе. Этой способностью к перевоплощению, бесконечной трансформации единого наделены и другие набоковские персонажи: «Ведь меня нет, – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня», – так определит свою экзистенцию герой романа «Соглядатай» /151,т. З,с.93/, роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» завершается открытием тайны, «что душа – это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, и что любая душа может стать твоей…И может быть потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе – в любом количестве душ» /152,т.1,с.191/. Таким образом, повествователь, брат-биограф умершего писателя приходит к выводу: «Стало быть – я Себатьян Найт» /152,т.1,с.191/. Но Гумберт не только Куильти или Дик, Гумберт – это и Лолита, которую тот создал в своем мире, поэтому Гумберт настойчиво называет себя отцом Лолиты, убеждая в этом сначала чету Фарло, а затем дважды говоря Куильти, что Лолита – его дочь: сначала на веранде «Привала зачарованных охотников» /152,т.2,с. 158/, затем накануне убийства: «Дело в том, что я ее отец», и еще более настойчиво: «Она была моим ребенком, Куильти» /152,т.2,с.361/. Лолита, именно Лолита, а не Долли и Долорес Гейз – создание Гумберта, который выступает как творец-демиург, отец созданного им мира, центра вымышленной Вселенной – мономифа героя, который сосредоточен на Лолите. Моногерой мифа эквивалентен модели Вселенной, выступая синонимом ее полноты и многообразия. В монологе об «Улиссе» К.-Г. Юнг дает такое определение миру романа Джойса: «Итак, кто же такой «Улисс»? Он, по-видимому, символ всего, что образуется от сведения вместе, от объединения всех отдельных персонажей всего «Улисса»: мистера Блума, Стивена, миссис Блум, и, конечно, мистера Дж. Джойса. Обратим внимание – перед нами существо, заключающее в себе не только бесцветную коллективную душу и неопределенное число вздорных, не ладящих между собой индивидуальных душ, но и дома, протяженные улицы, церкви, Лиффи, большое число борделей и скомканный бумажный листок на дороге к морю – и тем не менее существо, наделенное сознанием, воспринимающим и воспроизводящим мир», иными словами, Улисс – «спрятанный в темноте отец» всех своих объектов /222,с.187–188/. «Лолита» – монолог от первого лица, Гумберт – лукавый и ненадежный рассказчик, заставляющий читателя все время сомневаться в действительности описанных им событий. Шарлотте, вскрывшей ящик с «Дневником», Гумберт говорит: «Это все твоя галлюцинация… Эти записи, которые ты нашла, всего лишь наброски для романа. Твое имя, и ее, были взяты случайно. Только потому, что подвернулись под перо» /152,т.2,с. 121–122/. Как Лолита нетождественна Долорес Гейз, так и мир романа (истории, исповеди, признания) Гумберта не идентичен действительности. Этот мир заключен сначала в воображении и памяти Гумберта, затем в книге, которая призвана дать новое бытие своим героям – Гумберту и Лолите обещаны жизнь «в сознании будущих поколений», «спасение в искусстве», «бессмертие» /152,т.2,с.376/, причем бытие в эстетической реальности – единственное форма экзистенции, в которой миры героев, предстающих бесконечными инвариантами единого варианта – моногероя, героя-архетипа – могут сосуществовать.
Несмотря на двойничество Гумберта и Куильти, который по собственным словам просто перевез Лолиту «в более веселое прибежище» из гумбертовского плена /152,т.2,с.367/, хотя и плен и половые извращения не исчезли, а усугубились у Куильти, современная героиня любит именно Куильти, а не юного и красивого Дика, хотя именно его облик соответствует мифологической формуле красоты возлюбленного, обреченного на «оковы любви» и на гибель, также, как и абрис Дейрдре узнается в чертах Лолиты. Однако в современном романе брак окажется гибельным именно для Лолиты, а не для Дика: Лолита умрет от родов, разрешившись мертвой девочкой, как сообщает в «Предисловии» д-р философии Джон Рэй /152,т.2,с.12/.
В «Лолите» сохраняется статус, даже внешность участников любовного квадрата кельтской саги и ее фатализм (Шарлотта предсказывает перед смертью, что Гумберту «не удастся никогда больше увидеть» Лолиту /152,т.2,с.121/, теряя Лолиту сначала кратковременно, а потом окончательно, Гумберт видит лицо Шарлотты или слышит звук ее предсмертных рыданий /4,с.198–201/), но изменяется последовательность развития событий: Лолита в конце романа обретает то, чего в начале саги лишилась ее кельтская предшественница. Причины расхождения набоковской героини с ее мифологическим прототипом находят объяснение не на персонажном уровне организации романного содержания, а на пространственно-хронологическом.
4.4.Символика острова Quelquepart в контексте архаической концепции пространства
Свое пристанище в мотельных книгах Куильти охотнее всего обозначает как «остров Quelquepart» /152,т.2,с. 307, 308/. К расшифровке названия обратимся позднее, начав анализ с символики мотива острова /232/. Мотив острова звучит в начале романа, когда Гумберт создает образ «невесомого острова завороженного времени, где Лолита резвится с ей подобными», окруженного «туманным широким океаном» и изолированного от «пространственного мира единовременных явлений» /152,т.2,с.26/. В кельтской мифологии иной мир локализован на западе, на островах блаженства, которые населены вечно юными женщинами-сидами. В саге «Исчезновение Кондлы Прекрасного, сына Конда Ста битв» девушка поет, зовя Кондлу в иной мир:
Есть иная страна, далекая, Мила она тому, кто отыщет ее. Радость вселяет земля эта В сердце всякого, кто гуляет в ней, Не найдешь ты там иных жителей, Кроме одних женщин и девушек(курсив мой) /98,с.666/
В саге «Плавание Брана, сына Фебала» Мананан указывает Брану путь в «Страну Женщин» /98,с.672/. На Островах блаженства растет яблоня, плоды которой приносят бессмертие, с ее серебряной веткой сида является к Брану: «Ветвь яблочного дерева из Эмайн // я несу» /98,с.667/. Из лагеря Ку Лолита уезжает в платье «с узором из красных яблочек» /152,т.2,с.139/, «эдемски-румяное яблоко» она держит в руке в знаменитой «сцене тахты». Христианская символика искушения и запретного плода, дополняется более ранней мифологической символикой вечной молодости, знака мира вечности и радости. В германо-скандинавском архаическом эпосе (прямые ссылки на которой также содержатся в тексте роман) в песне «Поездка Скирнира» находим эпизод подношения невесте чудесных яблок: «Одиннадцать яблок // со мной золотых, // тебе я отдам их, // если в обмен // ты Фрейра сочтешь // желаннее жизни» /23,с.217/. Гонец от жениха приносит невесте молодильные яблоки Идунн, вкушая которые боги возвращают себе молодость и продлевают жизнь. Христианская символика яблока означает утрату вечности, обреченность на страдания, а архаическая, дохристианская – напротив, обретение вечности, исполнение желанной мечты, достижения цели. Парадоксальным образом оба эти смысловых начала присущи соединению Гумберта и Лолиты. Обретенный с Лолитой рай Гумберт характеризует как амбивалентное сочетание рая и ада, крайнего падения и величайшей избранности, полного счастья и глубокого страдания: «невзирая на ее гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадежность, я все-таки жил на самой глубине избранного мной рая – рая, небеса которого рдели как адское пламя, – но все-таки, рая» /152,т.2,с.206/. Рай локализуется в центре некоторой глубины, на дне, выступая, таким образом, пространственной метатезой ада.
На Островах Блаженства время или останавливается, или течет бесконечно медленно. Брану и его людям «казалось, что они пробыли там год, а прошло уже много-много лет» /98,с.673/. Как указывают современные исследователи: «Для обитателей сида характерны две основные черты: они неподвластны ни законам времени, ни условиям пространства» /55,с. 190/. Попавший в мир сид, вернуться в мир людей уже не может: ладья Брана обречена на вечные скитания, поскольку и в мир сид можно попасть лишь однажды: Нехтан прыгнул с ладьи на землю и «тотчас же обратился в груду праха» /98,с.673/. Гумберт, потерявший Лолиту, допускает для себя возможность смертного приговора, Куильти, похитивший и изгнавший Лолиту, обречен на смерть. Мир вечности, заключенный в соединении с Лолитой, можно обрести лишь однажды – повторения исключаются природой нимфетки, которая, достигнув определенной возрастной границы нимфеткой быть перестанет, хотя существуют и иные причины, более глубокого характера.
Пространственная организация кельтского мира представляет собой объединение параллельно существующих миров: север принадлежит ледяным демонам фоморам, на западе находятся острова Блаженства, населенные вечно юными сидами, в центре мира расположен мир людей, но при этом центр мира распылен в пространстве: он одновременно приходится на столицу кельтов Эмайн-Маху и на истинную Эмайн, расположенную на островах в мире сид. Мир сид, локализуясь на островах, находится там же, где мир людей: сиды обитают на дне озер, в полых холмах или насыпях; Племена богини Дану, заселившие Ирландию, не в силах противится новым захватчикам, укрылись под землей, продолжая там ту же жизнь, что и раньше, но иногда появляясь среди людей /55,с.189/. Понятие запада, как мира, принадлежащего сидам, идентично значению левизны и севера, но оно же функционирует в качестве поэтического названия Ирландии, которая в сагах именуется «Западным миром» / «Изгнание сыновей Уснеха», /98,с.569/; «Смерть Муйрхертаха, сына Эрк», /117,с.195/, таким образом, маркируя пространство, принадлежащее людям. Само понятие островов Блаженства по природе своей дробно: в саге «Плавание Брана, сына Фебала», Бран достигает сначала острова Радости, а затем Страны Женщин /98,с.673/; в саге «Плавание Майль-Дуйна» герой последовательно посещает ряд островов, населенных то хтоническими чудовищами (гигантскими муравьями, чудовищным конем, волшебным котом, огромными свиньями и безрогими быками), то демонами (Скачка демонов /98,с.697/), достигая наконец Острова прекрасных женщин и Острова хохотунов /98,с. 709, 713/. Сам мир людей предстает объединением частей целого: пяти пятин Ирландии, населенных разными родами, самые примечательные из которых улады и коннахты. Архаическая концепция пространства репрезентирует множество миров, а не традиционное двоемирие, сводимое к оппозиции человеческого и потустороннего мира. Экспозиция песни «Поездка Скирнира», входящей в мифологический цикл песен «Старшей Эдды», звучит так: «Фрейр, сын Ньерда, сидел однажды на престоле Хлидскьяльв и обозревал все миры» (курсив мой) /23,с.215/. Множественность миров, принадлежащим разным существам (в «Старшей Эдде» людям, альвам, великанам, богам асам и ванам), миров соприкасающихся, а порой и пространственно совмещающихся, существует в архаической традиции априори. Пространственная концепция архаического мира, экзистенция которого определяется принципом объединения частей как человеческого, так и иных миров, при их взаимной проницаемости и неточной локализации, отвечает хронотопу многочастного набоковского мира, реализуемого как в пространственно-временной синхронии, так и диахронически соотносимого с мирами настоящего и локализованного в пространстве воображения и памяти.
4.5. Солярный миф как средство разведения героев по соприродным им мирам
Путь Гумберта к Лолите ведет на запад, лежит через океан, именно там, согласно хронотопу кельтской саги, находятся Острова Блаженства. Романно кинематографический штамп – наследство американского дядюшки – дает Гумберту, живущему в Париже, возможность переменить жизнь: «Эта перспектива пришлась мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается в встряске» /152,т.2,с.38/. Свою страсть к нимфеткам Гумберт сравнивает с «отравой», которая «осталась в ране», объясняя свое «роковое наваждение» болью от незавершенного романа с Аннабеллой /152,т.2,с.27/. Найдя за океаном Лолиту и узнав в ней Аннабеллу, Гумберт мысленно обращается к ней: «о, маленький Herr Doktor, которому было суждено вылечить меня ото всех болей» /152,т.2,с.53/. Наконец в Бердслее Лолиту лечит «докторша Ильза Тристрамсон», которой Гумберт благодарен за нежность к Лолите /152,т.2,с.244/. К кельтским фантастическим сагам о плавании к Островам Блаженства добавляется новый источник, тоже кельтского происхождения. Имя докторши – анаграмма имен Тристана и Изольды, героев средневековых легенд и романов, генетически восходящих к кельтскому эпосу.
Изольда была сведуща в искусстве врачевания, медицинская магия у кельтов принадлежала высшему жреческому клану – друидам. О даре исцеления, которым владела Изольда в прозаической версии романа о Тристане сказано так: «… и не было столь тяжелой раны, которую бы она не могла вылечить, а было ей только 13 лет» (курсив мой) /170,с.295/. Юный возраст Изольды не препятствует тому, что она охарактеризована как «самая прекрасная женщина в мире» /170,с.295/. Страдающий от раны, нанесенной отравленным копьем Морольта, с кусочком острия в ране, Тристан снаряжает ладью, которая приносит его к берегам Ирландии, где Изольда излечивает героя. Гумберт, определяя значение первой несостоявшейся, не увенчавшейся соединением любви в своей жизни, заметит: «Я был крепкий паренек и выжил; но отрава осталась в ране» /152,т.2,с.27/. Лолита, названная маленьким доктором, должна вылечить Гумберта от изначального наваждения, однако одна болезнь любви несостоявшейся, оборванной, сменяется болезнью любви беззаконной и неразделенной. Тристан, физически излеченный Изольдой, испив любовный напиток, становится жертвой гибельной, беззаконной и всеподчиняющей страсти.
Красота белокурой Изольды по внешним признакам соответствует канону рыцарского романа: золотой волос Изольды, который две голубки принесли к окну короля Марка, заставляет того дать придворным обещание жениться только на его обладательнице. Ивэйн, герой романа Кретьена де Труа «Ивэйн, или Рыцарь Льва», любуясь дамой, восхищается ее «прекрасными волосами, что ярче золота блестят» /105,с.256/. Однако, рыцарская легенда и ее романные обработки ассимилируют более ранние источники, выражающие кельтский идеал гибельной красоты: внешность Дейдре наследуется Изольдой. Облик Изольды отмечен причастностью к солнечному культу, О.М. Фрейденберг, раскодируя тот семантический пучок, к которому восходит коллизия легенды, приходит к выводу, что «он построен на семантическом пучке, отражающем мышление космической стадии» /195,с. З/, а герои легенды – Тристан и Изольда выражают на персонажном уровне архаический миф о любви доантропоморфных божеств, символизирующих солнце и море, таким образом, сюжетное действие закономерно сводится к циклу, к повторению соединений и расставаний героев, соответствующих круговращению их природных прототипов. Волосы Лолиты, играющей в теннис, Гумберт назовет «солнечно-русыми» /152,т.2,с.201/, блеск волос Лолиты отмечает даже беспристрастная мисс Пратт /152,т.2,с.239/, одним и тем же эпитетом «абрикосовый» охарактеризованы загар, поясница, пушок на лопатках Лолиты /152,т.2.с.283/, воспоминая первое видение Лолиты, Гумберт назовет ее «смугло-золотой», подчеркнув, что взгляд ее был направлен вверх /152,т.2,с.207/, Гумберт отмечает ее «слишком частые веснушки…и даже эти свинцовые тени под глазами были в веснушках» /152,т.2,с. 139/, Лолита излучает то жар («жаркая шелковая прелесть» /152,т.2.с.72/, то «свечение» тоже охарактеризованное эпитетами «томное», «жаркое» /152,т.2,с. 197/, к этому же семантическому ряду и уже упомянутый атрибут нимфетки – «медового оттенка кожа». Присутствием солнца отмечены принципиально важные эпизоды, в которых Лолита выступает самостоятельно, еще не попав во власть Гумберта или временно от нее освободившись: впервые Лолита смотрит на Гумберта на веранде, «из круга солнца» /152,т.2,с.52/, сцена тахты развивается в «залитой солнцем гостиной» /152,т.2,с.75/, в лагере Ку навстречу Гумберту выходит «окрашенная солнцем сиротка» /152,т.2,с.139/, в «солнечную даль» Лолита погружается, играя в теннис /152,т.2,с.290/, обретая других партнеров, в конце концов одним из которых становится Куильти, именно в ситуации теннисной игры Гумберт впервые переживает пока еще мнимую потерю Лолиты, будто опередив время. Во время тенниса Лолита получит эпитет, венчающий парадигму солярного образного ряда, – «золотистая» /81,т.2,с.289/. Пути Тристана к Изольде и его странствиям Набоков посвящает цикл из двух стихотворений «Тристан», в котором упоминается «золото… волнистых волос» Изольды /150,с.198–199/.
Лолита, попадая во власть Гумберта, погружается во мрак, туман и дождь: путь к «Привалу зачарованных охотников» герои совершают под дождем, желтые шторы на окнах номера в мотеле создают иллюзию «солнца и Венеции», хотя «на самом деле за окном были Пенсильвания и дождь» /152,т.2,с. 179/. Возрастное и внутреннее несоответствие героев получает выражение на новом смысловом уровне: Гумберт принадлежит миру призрачному, потустороннему, миру мрака, Лолита – миру дня и солнца. В этом контексте неизбежность потери Лолиты обосновывается архаическим циклическим мифом об утрате и возращении солярного божества, субститутом которого предстает Лолита. Несоответствие Гумберта миру Лолиты пародийно обыгрывается в перевертывании фамилий учительниц, которым занимается Лолита, мисс Пратт это занятие называет «тайной шуточкой» /152,т.2,с.239/. Прочитанные наоборот фамилии Дутен и Зелва образуют знаковую фразу: «Не туда влез». А фамилии Гольд и Молар, с одной стороны, указывают на золото (gold – англ.) (и любовь (Г amour – франц.), причем золото в данном контексте прочитывается как атрибут солнца, с другой, при перетасовке звуков обе фамилии прочитываются как «долг» и «мораль» – категории к осознанию которых Гумберт неотвратимо приближается, постепенно осознавая свою вину перед Лолитой. Солярный миф, как и аналогичный ему миф об умирающем и воскресающем боге, строится как цикл утраты или изменения облика солнечного божества, персонифицированных сил природы или их субститута: лягушачья или ослиная шкура, временная смерть, изображаемая как погружение в сырое и темное пространство, – маркируют исчезновение, смерть солярного героя, которые в сказке нередко сопровождаются попыткой его подмены. Собственно воскрешением Аннабеллы, той юношеской любви, которая определила всю последующую жизнь Гумберта, предстает изначально Лолита, первый взгляд на Л о сопровожден замечанием: «Это было то же дитя» /152,т.2,с.53/. Пережив смерть, плен, исчезновение, солярный герой, освобожденный или воскресший, возрождается в прежнем качестве или обретает новое, более совершенное. Гумберт, заключая Лолиту в своей «лиловой и черной» стране, называя ее своим ребенком, наделяя ее происхождением, идентичным собственному, осознает временность этого состояния и думает, что «около 1950-го года» ему «придется тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чье волшебное нимфетство к тому времени испарится» /152,т.2,с.214/. Неизбежность утраты Лолиты запрограммирована и циклом бытия солярного героя, чертами которого Лолита наделяется внешне и интертекстуально через аллюзии из «Романа о Тристане и Изольде». Участие архаической традиции, моделирующей его жизнь, Гумберт ощущает как внешнюю силу, как судьбу, давая ей ирландское имя Мак-Фатум. Само пленение Лолиты наделено атрибутами временной смерти, погружения в чужой и чуждый мир мрака и дождя, который у Лолиты вызывает отвращение. Расставшись с замужней, повзрослевшей и увядшей Лолитой, Гумберт вспоминает эпизоды, которым раньше не хотел придавать значения, например, как однажды Лолита «говорит необыкновенно спокойно и серьезно: «Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совершенно предоставлен самому себе» /152,т.2,с.347/. Каждую ночь во время жизни с Гумбертом Лолита проливает слезы, а однажды Гумберт случайно замечает на ее лице «трудноописуемое выражение беспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило в безмятежность слабоумия» /152,т.2,с.347/. Одиночество, отчаяние, беспомощность Лолиты соответствуют тому состоянию полной предоставленности самому себе, которое она определила как ужас смерти. Кроме того, Гумберт, изъяв Лолиту из мира детства, не дал ей самостоятельности и прав взрослого человека, Лолита лишается соответствующего ей мира, выпадает из парадигмы линейно текущего времени, оказывается вне времени, в вечности, обретенной еще до физической смерти, а потому не коррегентной качеству героини.
Солярный герой, пережив временную смерть, освобожденный из плена, обретает свои прежние качества. В современном романе утрата невосполнима: из одного плена Лолита попадает в другой, изгнанная Куильти, Лолита два года работает в маленьких пришоссейных ресторанах, а Гумберт, представляя ее жизнь, нарисует картину «мерзкой кухни придорожного ресторана (Нужна Подавальщица) в мрачнейшем степном штате, где дует ветер и мигают звезды над амбарами, фарами, барами, парами и все вокруг – мразь, гниль, смерть» /152,т.2,с.227/. Одна временная смерть сменяет другую, пока наконец за временной смертью не наступает настоящая, усугубленная своей дублетностью: Лолита умирает, разрешившись мертвой девочкой. Лолите не удается воскреснуть ни самой, ни обрести новую жизнь, перевоплотившись в дочь (об этом метемпсихозе когда-то мечтал Гумберт). Гумберт, увидев замужнюю, беременную Лолиту, отмечает, что «побледнели веснушки, впали щеки, обнаженные руки и голени утратили свой загар» /152,т.2,с.330/, что «в сущности ее красота увяла» /152,т.2,с.331/. Вместо прежних ярких нарядов на Лолите коричневое платье. Солнечные краски утрачены, руки Лолиты белые, «как разбавленное молоко» /152,т.2,с.331/. Хотя именно теперь Гумберт сумел рассмотреть в ней прежнюю солнечность, увидев сходство, которое присутствовало всегда, «с рыжеватой Венерой Боттичелли» /152,т.2,с.331/, рассмотрев не солнечно-торжествующую, а страдающую Лолиту. Логика солярного мифа, его категориальная цикличность трансформированы в линейное эпическое повествование: временная смерть влечет за собой окончательную. Но эпическая материальная смерть преодолевается
4.6. Шахматы и «Всадник без головы» – принцип иронической дистанции как отношения к мифу
За морем, найдя повторение своей первой любви, Гумберт надеется найти исцеление от любовного наваждения. Морольт, убитый Тристаном, Изольде приходился дядей. Бретонская легенда указывает на важный в «Лолите» мотив кровосмешения и кровной мести, к анализу которого мы обратимся позднее.
Исцелившийся Тристан вновь приплывает в Ирландию, чтобы добыть Изольду в жены своему дяде – королю Марку. Сюжет легенды в дальнейшем строится как серия соединений и расставаний героев, испивших любовный напиток. Отметим, кстати, любовный напиток Гумберта – джинанас, позволяющий ему возбудить страсть к зрелым женщинам, в том числе – к Шарлотте. Сами обстоятельства, при которых Тристан и Изольда вкусили любовный напиток, примечательны в контексте признания Гумберта в своей особенной чувствительности «к магии игр» /152,т.2,с.286/: «… а на четвертый день играл Тристан в шахматы с Изольдой, и была тогда слишком большая жара» /170,с.297/. Гумберт не только играет в шахматы, он «заковыристый противник» /152,т.2,с.249/, в шахматы герой играет в Бердслее с Гастоном. Одна примечательная партия разыгрывается перед скандалом с Лолитой, обыгранном через аллюзии из Флобера: Лолита пропускает уроки музыки, чтобы встретиться с Куильти, после звонка учительницы Гумберт пытается продолжить игру и допускает ошибку: «через два-три хода я вдруг заметил, сквозь муть внешахматного страдания, что Гастон – ход был его – может завладеть моим ферзем; он это заметил тоже» /152,т.2,с.249/. Гастон долго не решается сделать нужный ход, но в конце концов «внезапно схватил» искомую фигуру, и с большим трудом Гумберт сводит партию к ничьей.
Мотив шахматной игры в «Романе о Тристане» возникает накануне вмешательства неотвратимого Рока, символически воплощенного в любовном напитке, в судьбы героев. Аналогичными обстоятельствами артикулируется мотив шахматной игры в кельтском эпосе. Атрибутами воина и волшебника Финна, задумавшего под старость жениться на юной Грайне, в кельтских сагах выступают вода и шахматная доска, держа их при себе Финн узнает истину, так он определяет, кто убил сына Рока в саге «Преследование Диармайда и Грайне»: «Тогда я попросил принести мне шахматную доску и воду. Я вымыл лицо и руки и, произнося заклинания, закусил свой большой палец, чтобы узнать, кто виновен в смерти сына Рока» /98,с.777/. В той же саге есть эпизод, содержательно соотносимый с партией Гумберта и Гастона. Финн приказывает «принести ему шахматную доску» /98,с.757/ и садится играть в шахматы с Ойсином, под деревом познания Дуврос, зная, что Диармайд и Грайне скрываются на его верхушке, Финн предлагает противнику: «У тебя есть один ход, Ойсин, которым ты можешь выиграть эту игру. И я разрешаю всем, кто окружает тебя, показать тебе его» /98,с.757/. Никто не видит нужного хода, кроме Диармайда, который сбрасывает яблоко на ту фигуру, которой нужно пойти, обнаруживая свое присутствие. Трижды на глазах у Финна Диармайд целует Грайне и ускользает, прибегнув к колдовству. Поражение Гумберта на шахматной доске становится возможным благодаря его поражению в любви: литературные аллюзии из Флобера указывают на измену Лолиты. Гумберту не удается выиграть у Гастона и узнать правду об измене Лолиты, он считает возвращением Лолиты ее решение оставить репетиции и уехать: «Я кивнул. Моя Лолита» /152,т.2,с.254/. В кельтской саге Финн лишь временно отказывается от преследования, Гумберту только предстоит его начать: вновь хронология архаического прототекста разворачивается в обратном порядке и с обратным результатом, точнее следствие предшествует причине. Таким образом, в «Лолите» идентифицируется та же коннотация мотивов, которая сложилась в архаическом эпосе и рыцарском романе, генетически к нему восходящем: шахматная игра указывает на синхронически параллельное протекание разнопорядковых действий, соответствующим двум реальностям, соизмеримым с разными героями: в кельтском эпосе любовники наблюдают за игрой, направляя ее ход, в романе о Тристане и Изольде в реальность шахматной игры вторгается любовный напиток, по ошибке принесенный служанкой. Гумберт осознает возможность поражения «сквозь муть внешахматного страдания», вызванного доказательством измены Лолиты. В реальность игры в шахматы вторгается действие или предмет из внеигровой реальности: любовный напиток, яблоко с дерева познания, телефонный звонок. Это вторжение изменяет ход игры, приобретая таким образом символическое значение указания на присутствие силы, неподвластной игровым правилам и поэтому синонимичной Року. Шахматная партия либо не доигрывается сейчас и никогда не возобновится потом (роман о Тристане и Изольде), либо победа оборачивается поражением («Преследование Диармайда и Грайне») или ничьей («Лолита»), Треугольник, соединяющий мотивы игры в шахматы, измены и вторжения Рока, трансформирующего исход игры, выстраивается в архаическом эпосе, рыцарском романе и «Лолите» на основе одной и той же контаминации мотивов.
Мотив шахматной игры, манифестирующей присутствие Рока, получит развитие уже во внешахматной реальности, но в предмете, соотносимом с миром шахмат: Гастон пришлет Гумберту в подарок медный ларец – «луизетту» вместо сломанного ящика для шахмат; «шкатулка оказалась слишком плоской для моих громоздких шахмат, но я сохранил ее для совершенно другого назначения», – пишет Гумберт /152,т.2,с.264–265/. В «луизетту» Гумберт помещает тот кольт, из которого он убьет Куильти, кольт, которому Гумберт, ощущая как ткань судьбы уплотняется по мере приближения к развязке, даст прозвище «дружок». Герои архаических и героических эпосов именовали свое оружие, боевых коней, богатство, воспринимая его как продолжение своей плоти, как свою неотъемлемую часть. Как подчеркивает А. Гуревич, предметный мир становится в эддических песнях и исландских сагах зримым и осязаемым «в кульминационные моменты, в сценах наивысшего напряжения и драматизма. Именно в эти моменты сфера вещей уплотняется и делается наиболее ощутимой» /51,с.59/. Причем, между специфическим предметом, превосходящим для героя эпоса свою предметную функцию, выступающим в качестве атрибута власти (золото) или воинской силы (оружие), и его владельцем существует обратная связь: предмет сам оказывает воздействие на носителя, побуждая последнего к действию.
Иронически сниженное наименование кольта – «дружок» и место его хранения, не для него предназначавшееся, указывают на иной эпический «сниженный» источник. В романе Майн Рида «Всадник без головы» (аллюзии из которого обнаружатся в символически многослойном образе отсеченной головы в стихотворении-обвинении Гумберта наравне с архаическими протекстами) главная героиня носит имя Луиза, соотносимое с названием шкатулки – «луизетта», а убийца капитан Кассий Колхаун метит свои пули двумя буквами К., соотносимыми с аббревиатурой К.К., которой обозначаются имя и фамилия Клэра Куильти. На то, что роман Майн Рида входит в проактуализированный Набоковым пласт литературных текстов, указывает поздний цикл стихотворений «К кн. С.М. Качурину», предпоследняя строфа которого звучит так:
Я спрашиваю, не пора ли вернуться к теме тетивы, к чарующему чапаралю из «Всадника без головы» /150,с.284/.Десятую главу книги воспоминаний «Другие берега» открывает указание на то, что книги капитана Майн Рида были излюбленным чтением русских мальчиков, а сам Набоков «мог наслаждаться «Безглавым всадником» (перевожу точно) в несокращенном и довольно многословном оригинале» /151,т.4,с.246/. Первый раздел этой главы посвящен подробной интепретации средствами драмы (разыгрывание подростком-Набоковым с другом Юрием Раушем дуэли Мориса и Калхауна) и эпоса (пересказ объяснения в любви Мориса и Луизы). Причем, особенно значимо, что сцены любви и соперничества разыгрываются двумя подростками (Набокову – одиннадцать, а Юрику – тринадцать), мечтающими о любви, Набоков подчеркивает при этом, что поцелуй в седле, которым обмениваются герои Майн Рида и о котором, как о наиболее волнующем вспоминает сам автор, априори любовь сублимируют: «даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограничена» /151,т.4,с.250/. Роман Майн Рида, назввание которого Набоков переводит точно как «Безглавый всадник» входит в мир Лолиты, мир подростка, только Лолита не читает книг и любовь переживает не сублимированную, а полную, как с Гумбертом, так и со своими сверстниками. Сюжет романа в интерпретации Набокова передан так: «Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой – вот главный завиток сложной фабулы» /151,т.4,с.246–247/. Принципиально значим тот факт, что Набоков акцентирует подмену жертвы, вызванную тем, что, побратавшись, Генри и Морис обменялись одеждой. Капитан Калхаун, влюбленный в Луизу, – ее кузен, Генри – ее брат, и теперь названный брат Мориса, возлюбленного Луизы. Лабиринт истинных и мнимых родственных отношений героев приводит к роковым последствиям. Морис Джеральд к тому же ирландец, таким образом происхождение героя ковбойского романа и Гумберта совпадает и имеет идентичные – кельтские – этимологические корни. К тому же мустангер Морис на самом деле – ирландский баронет, что, как подчеркивает Набоков, «впоследствии выясняется к сугубому восхищению Луизы» /151,т.4,с.248/. Выравнивание социального статуса героев приводит к их соответствию друг другу и возможности соединения, то есть к тому результату, который заведомо невозможен в «Лолите»: Гумберт выступает в несоответственной ему роли отца, которым он не является, вступая на «детскую территорию» Лолиты, остается взрослым человеком.
В набоковской интерпретации романа Майн Рида принципиально значимы два обстоятельства: временная локализация романа в мире детства и подросткового ожидания любви (Набоков подчеркивает, найдя в американской библиотеке издание романа: «…теперь читать это подряд невозможно» /151,т.4,с.248/) и акцентируемые Набоковым подмена предназначенной жертвы на мнимую, несоответствие роли героя – скромного коноторговца – его истинному статусу. Итак, роман Майн Рида прочитывается Набоковым только однажды, в юности, обращение к тексту романа означает возващение в мир юности, тогда же осознается неполнота предлагаемой в романе любви, а прочтение романа сводится к осознанию несоотвествий функций и обличий героев. Еще одно несоответсиве связано с уже внетекстовыми обстоятельствами: в Америке романист и его творение забыты («быстренько закатилась слава» /151,т.4,с.248/, Лолита эту книгу не читает), а в России, спустя столетие роман выступает «излюбленным чтением русских мальчиков» /151,т.4,с.246/. Кроме того, роман принадлежит перу «романиста-ирландца» /151,т.4,с.248/, главный герой романа – ирландец Морис. Гумберт, апеллирующий к своему ирландскому происхождению, выступает и протагонистом и автором-рассказчиком «Лолиты». Гумберт – мнимый отец Лолиты, а Куильти – его мнимый дядя и брат. Любопытно, что в набоковском пересказе, акцентирующем истинное и мнимое родство героев Майн Рида, подчеркивается идентичный статус автора и героя – капитан Майн Рид создает образ злодея, «бывшего капитана волонтеров, мрачного красавца и бретера, Кассия Калхауна» /151,т.4,с.248/. Таким образом, Набоковым намечается возможность тождества автора и двух его героев-антоганистов, по линии Мориса акцентируется общность происхождения, по линии Калхауначина. К тому же, если Морис побратался с Генри, братом Луизы, то автоматически вступил в некоторое родство с Калхауном – ее кузеном. К тому же сцены из романа Наьоков в юности разыгрывает со своим кузеном: братья выбирают роли Мориса и Калхауна.
Мнимое родство Куильти и Гумберта образует в «Лолите» особую смысловую линию. Их поединок описан в романе через аллюзии из ковбойских фильмов, продолжающими тему Майн Рида и разыгрывание ссоры и дуэли в салоне юным Набоковым и Юриком Раушем, потасовке, замечает Гумберт, «недоставало только кулачных ударов, могущих сокрушить быка, и летающей мебели», когда же Гумберт возвращает себе оружие и усаживает Куильти в его кресло, «оба пыхтели, как королю коров и барону баранов никогда не случается пыхтеть после схватки» /152,т.2,с.364/. Вместе с тем, мотив родства обоих героев выступает сигналом взаимной обусловленности их судеб: вынося приговор Куильти, Гумберт осуждает себя на расплату и за это преступление и за другое, более значительное, совершенное по отношению к Лолите. Стихотворение-обвинение завершается приговором:
За это, За все, что сделал ты, За все, чего не сделал я, – Ты должен умереть! /152,т.2,с.366/Таким образом, в «Лолите» репрезентируется мотив ковбойского романа об убийстве, действительно совершенном, но изначально направленном на другую жертву, кроме того, убийство выступает следствием ревности и находится в коннотации с мотивом побратимства. Однако, три героя Майн Рида: Моррис, Генри, брат его возлюбленной, Кассий – ее кузен – сведены в романе Набокова к двум: брат и дядя образуют одно и то же лицо. Куильти, которого Гумберт сравнивает со своим дядей Траппом, причем, Лолита однажды заметит: «Может быть, он и есть Трапп» /152,т.2,с.269/, -назовется, забирая Лолиту из больницы, ее дядей Траппом, т. е. – братом Гумберта. Убийца и убитый, враг и побратим, если проактуализировать соотношение с ковбойским романом, сливаются в одном персонаже, сообщая ему онтологическую неопределенность, обнаруживаемую в проблематичности его идентификации и материального наличия.
4.7. Мнимый инцест и истинная расплата
Ковбойский роман завершается обязательным «happy end». Роман о Тристане и Изольде предлагает сублимацию счастливой развязки, показывая, как соединение героев, невозможное в посюсторонней реальности, состоялось в потустороннем мире: ветвь из могилы Тристана прорастает в могилу Изольды, которая находится в противоположном конце кладбища, трижды эту ветвь срубают и трижды она вырастает снова. Соединение героев после смерти подчеркивает невозможность их союза при жизни, предлагает единственную форму совместного бытия, которая им доступна. Встреча с Изольдой и исцеление не приносит Тристану счастья, наоборот, обрекает на вечные страдания. Гумберт, получивший Лолиту, уже после первого соединения с ней начинает испытывать муки совести, которые сначала пытается игнорировать. Судьба, убравшая Шарлотту и открывшая Гумберту путь к Лолите, на самом деле, предназначает Лолиту сначала Куильти, а затем – Дику. Гумберт обретает Лолиту, чтобы сразу же начать терять ее: в отеле «Привал Зачарованных охотников», Гумберт понимает, что спящая рядом Лолита дальше от него, «чем когда-либо» /152,т.2,с. 163/. Из больницы в Эльфинстоне Лолиту похищает Куильти, назвавшийся дядей Лолиты – Густавом, то есть братом Гумберта. Густав Трапп, с которым Гумберт сравнил Куильти, был «швейцарским кузеном» его отца /152,т.2,с.268/, то есть приходился ему дядей. Иронически варьируясь, родственно-любовный треугольник средневековой легенды преломляется в отношениях героев романа, только истинное родство и незыблемое феодальное право (вассал и племянник Тристан должен служить королю и дяде, поэтому привозит ему невесту и потом сам возвращает ему жену, хотя Изольда не мстит Тристану, которого полюбила, за смерть дяди, так и Лолита не мстит Куильти и даже не соглашается с Гумбертом, назвавшим его «негодяем» /152,т.2,с.338/) заменяются несуществующим родством и полным произволом: Куильти похищает Лолиту. Однако, как подтверждение уже отмеченного сходства Гумберта и Куильти, отметим тот факт, что их родство ни у кого не вызывает сомнений: застигнутая Гумбертом врасплох сиделка, отвечает, что похитителем был его «братец» /152,т.2,с.306/.
В архаическом эпосе мнимое родство не менее действенно, чем кровное, и предписывает ту же модель поведения: взаимопомощь, кровную месть, расплату за пролитие родственной крови. Кухулин, вступая в бой со своим побратимом Фердиадом, стремится предотвратить поединок, обращаясь к сопернику: «О, зачем ты вышел, побуждаемый женщиной, // На поединок с названным братом?» /98,с.621/. Затем герой повторяет ту же формулу уже не как риторический вопрос, а как утверждение: «Не должен был ты по воле женщины // Рубиться мечами с названным братом!» /98,с.622/. Сразив Фердиада, Кухулин не испытывает победного торжества.
Горько оплакивая побратима, Кухулин предвидит собственную скорую гибель: пролитие им родственной крови требует расплаты, в поединке между братьями, названными или кровными, не может быть победителя. В родстве Куильти принципиально важен сам факт родства, указание на некоторую форму родственности, поэтому Куильти уподобляется дяде Гумберта, а сам называет себя его братом. Родственность не только уподобляет, но и связывает обоих героев, сообщая взаимообусловленность их судьбам. Этот принцип реализуется и во взаимной обратимости палача и жертвы и в их общих тотемических архетипах, к анализу которых обратимся позднее.
Лабиринт мнимого инцеста в «Лолите» связан не только с родственностью Куильти и Гумберта. Гумберт, привыкший считать Лолиту своим ребенком /152,т.2,с.103/ (в этом он убеждает чету Фарло, мысль о своем отцовстве внушает Лолите), свою связь с ней в конце романа определяет как «пародию кровосмесительства» /152,т.2,с.351/, впервые это слово произносит сама Лолита в «Привале зачарованных охотников» /152,т.2,с. 149/. В архаических мифах, осуждавших инцест в принципе, последний тем не менее допускался для героев-избранников. Архаический прототип Гумберта Кухулин, наделяясь необычным происхождением, идентифицировался то как сын бога света Луга, то как сын короля Конхобара, рожденный от кровосмесительной связи с его сестрой Дехтире, даже в героическом эпосе Зрелого средневековья «Песни о Роланде» допускается возможность того, что Роланд – незаконнорожденный сын императора Карла, плод его кровосмесительной связи с сестрой, а его эпический статус племянника императора – позднейшая христианская сублимация. Мифологические прототексты наталкивают на инцест, диктуют его необходимость, свои отношения Гумберт и Лолита определяют как кровосмесительство по внешним признакам. Продолжает игру в инцест и Куильти, назвавшийся дядей Лолиты, а не Гумберта. Осуществление инцеста даже в архаической традиции связано с концепцией трагической вины и неизбежной расплаты. Допуская инцест, архаический мир требовал наказания за кровосмешение, которое грозило благополучию рода в целом, участники инцеста обрекались на гибель, исключались из единства рода. Род, отмеченный инцестом, был обречен на вымирание. Так развивается история рода Буэндия, который восходит к инцестному браку и над которым тяготеет боязнь инцеста, в романе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Все участники мнимого инцеста: отец – Гумберт, дядя – Куильти, дочь и племянница – Лолита, – умирают. К тому же, Лолита умирает, как сообщает в «Предисловии» Джон Рэй, «разрешившись мертвой девочкой» /152,т.2,с. 12/. Существование рода, который повествователь назвал по-шотландски «Гумбертовским кланом» /152,т.2,с.303/, кончилось. Мнимый инцест разрешился тем же трагическим финалом, что и инцест мифологический – действительный.
Гумберт видит Лолиту, принадлежащую к иному миру, а не Долорес Г ейз, существующую в мире трех измерений, строго описанную Шарлоттой или мисс Пратт. Свою жизнь с Лолитой Гумберт, несмотря ни на что, определяет как пребывание в раю /152,т.2,с.206/. Потеряв Лолиту, Гумберт не может вернуть ее и не потому, что она перестала быть нимфеткой и покинула очарованные пределы острова блаженства, а потому, что там пребывала Лолита, созданная Гумбертом, реальная Долли продолжала жить в границах линейного времени и трехмерного пространства. Долли, которая «видит себя звездочкой экрана» /152,т.2,с.83/, как типичная американская девочка влюбляется в знаменитость, хотя Куильти не молод, не красив, именно его портрет украшает спальню Лолиты в Гейзовском доме. Сам Гумберт принадлежит к иному миру, определяя его как «мою страну…лиловую и черную Гумбрию» /152,т.2,с.205/, пилюли, которыми Гумберт надеется погрузить Лолиту в сон, подобный временной смерти, поскольку она не должна помнить и осознавать того, что с ней произойдет, – «лилово-синенькие» /152,т.2,с.152/, Шарлотта, встает из гроба, когда Лолита закуривает, «в синеватой дымке» /81,т.2,с.337/. Гумберт называет себя «робким чужаком» /152,т.2,с. 111/, предполагая, как Лолита будет оправдываться в беременности – последствии ночного усыпления Гумбертом матери и дочери, Гумберт сочиняет за Шарлотту фразу: «Ты или лжешь, Долорес, или это был ночной оборотень» /152,т.2,с.91/.
Оборотничество Гумберта потенциально заложено в его тотемических аналогах: собаке и кабане, об их наличии порассуждаем позднее. Существом из иного мира, глядя на себя глазами Дика и его друга, Гумберт представляет себя, явившись к Долорес Скиллер: «болезненный отец в бархатном пиджаке и бежевом жилете, быть может, виконт» /152,т.2,с.335/. Иной мир, остров зачарованного времени, коралловый остров, на котором Гумберт воображает себя «с озябшей дочкой утонувшего пассажира» /152,т.2,с.30/ – это мир, соответствующий герою, но чуждый Лолите, которая готова отвергнуть его «с самым обыкновенным отвращением» /152,т.2,с.205/. Миры проницаемы, но их соприкосновение гибельно, хотя фатально неизбежно.
4.8. Архаические тотемы и современные герои в функциях палача и/или жертвы
Гумберту присущ, помимо брутальной, незаурядной внешности, архаический тотемизм. Характеризуя себя, как одного из обвиняемых против нравственности, Гумберт упомянет «собачьи глаза» /152,т.2,с.111/, описывая выполнение супружеских обязанностей с Шарлоттой, Гумберт признается, что «и тут еще пытался напасть на пахучий след нимфетки, несясь с припадочным лаем сквозь подсед дремучего леса» /152,т.2,с.98/, теми же метафорами Гумберт охарактеризует свое состояние, когда видит Лолиту, «насыщенную чем-то ярким и дьявольским» после встречи с Куильти /152,т.2,с.263/ – «неистово я стал преследовать тень ее измены, но горячий след, по которому я несся, слитттком был слаб» /152,т.2,с.264/, эта метафора буквализируется, растянется во времени, представ как реальные действия Гумберта, преследующего Куильти и Лолиту. Гумберт вспоминает, как забыв обо всем, «буквально на четвереньках подползал» к креслу Лолиты /152,т.2,с.237/. «Навязчивая пригородная собака» /152,т.2,с.49/ встречает автомобиль с Гумбертом, впервые приехавшим в Гейзовский дом. Та же собака становится причиной гибели Шарлотты. Лохматая дворняга лает на автомобиль Гумберта, подъезжающий к дому Дика и Долорес Скиллер. В монографии У. Роу седьмая глава (229,с.85-123) посвящена анализу семиотики образа пса в романах и рассказах Набокова, разные порода собак выступают знаками разных ситуаций и состояний героев, но, в целом, появление в ткани повествования собаки предвещает катастрофу, «настойчиво ассоциируется со смертью» /229,с.93/.
В проекции на кельтские мифологию и эпос собака прочитывается как священное животное, атрибут воина и охотника. Герой кельтского эпоса Кухулин носит имя, переводимое, как «Пес кузнеца». Его облик несет черты первобытного тотемизма и отличен от внешности обычных людей («Семь зрачков было в королевских глазах его, четыре в одном глазу и три в другом. По семи пальцев было на каждой руке его…» /98,с.587/). Когда Кухулин приходит в боевую ярость, он волшебно преображается, один его глаз раздувается как у демона-фомора, а другой пропадает в глубине лица. Гумберта мучает нервный тик, дергание его глаза зло передразнивается Лолитой, а уладские женщины влюбленные в Кухулина кривели на один глаз («Болезнь Кухулина» /98,с.634/). Однако семантический объем образа пса в кельтском эпосе амбивалентен: на Кухулине лежит гейс (запрет) не есть мяса своего тезки и побратима, этот гейс не единственный. В саге «Смерть Кухулина» герой вынужден последовательно нарушить все, лежащие на нем гейсы, в том числе, вкусить собачьего мяса. Нарушение запретов вызвано выбором, который Кухулин делает в пользу благополучия рода, а не собственной безопасности. Герой, нарушивший запреты, подтверждает собственную обреченность, приближает свою гибель. Архаический тотем героя обращается против него, равно, как и его чудесные возможности. Причем, Кухулин был обречен изначально, уже своей выделенностью из единства рода: его исключительность могла нарушить равновесие, обернуться против рода. Выделенность героя объясняется тайной его происхождения. Кухулин обречен на трагическую смерть, потому что его превосходство угрожает безопасности рода: «Три недостатка было у Кухулина: то, что он был слишком молод, то, что он был слишком смел, и то, что он был слишком прекрасен» /98,с.587/ – в этой эпической характеристике недостатки героя выступают квинтэссенцией его достоинств, их полным выражением. Отличие Кухулина от обычного человека подчеркнуто его именем: Кухулин – Пес кузнеца, он одновременно и больше, чем человек, и меньше, чем человек.
В саге «Преследование Диармайда и Грайне» о преследовании Финна беглецов предупреждает Бран, пес Финна, но, вместе с тем, по следу героев идут «три ядовитых пса», которые «в огне не горят, в воде не тонут и оружие их не берет» /98,с.731/. Когда Диармайд должен встретиться со своей судьбой – сразить кабана, который станет источником его гибели, он просыпается, разбуженный лаем охотничьего пса, преследующего зверя. Архаическим тотемом пса наделен в «Лолите» не только Гумберт, но и Куильти.
Имя Кухулина иногда прочитывается как звукоподражание крику кукушки: Ку-ку-лайн, потому что он – подкидыш, выросший в чужом гнезде. Фамилия и имя Куильти редуцируются собутыльниками до Ку: «Ку – его все так звали Ку», – говорит Лолита /152,т.2,с.338/, в словах которой звучит отчетливое звукоподражание: крик кукушки обрамляет фразу, это же «ку-ку» эхом повторяется в названии ранчо Дук-Дук («ук» – обратное прочтение «ку»). Старуху, «обвитую фиолетовыми вуалями» (субститут Куильти, выступающем в соавторстве с Вивиан Дамор-Блок, причем, Лолита, обманывая Гумберта, однажды скажет, что автор – Вивиан, а авторша – Клэр) /152,т.2,с. 147/ в «Привале зачарованных охотников» сопровождает кокер-спаньель, которого Лолита осыпает ласками, позже эта собака переместится к Куильти, когда тот заберет Лолиту из Эльфинстонского госпиталя, Лолита играет с собакой, чтобы привлечь внимание Куильти /152,т.2,с.290/. Идентичные тотемические аналогии на мифологическом уровне подтверждают метафизическое родство героев: при первом взгляде на Куильти Гумберт отмечает его сходство с «швейцарским дядюшкой Густавом» /152,т.2,с.172/. Современные кельтологи указывают, что слог «ку» или «кон» обозначает по-древнеирландски «пса» /152,с.831/.
Но пес, не единственный архетип-тени, дочеловеческого в человеке, присущий Гумберту и его двойнику Куильти. Преследование Куильти наконец привело Гумберта в замок Ку, приговаривая своего двойника, Гумберт дает тому прочесть стихи, которые завершаются так:
И на заре оставил кабана Валяться на земле в недуге новом /152,т.2,с.366/.Этой метафорой Гумберт характеризует себя. Кабан у кельтов выступал символом жреческой власти. Охота на кабана могла привести преследователей в мир сид, как и морское плавание. К Куильти Гумберт едет из привала Бессонных Ловцов, а себя называет «зачарованным и вдрызг пьяным охотником» /152,т.2,с. 358, 359/. Но Гумберт не только охотник, настигший жертву, он сам – жертва Куильти, который похитил у него не только материальную Лолиту, но и ее метафизическую любовь. Кабан, сраженный недугом, – еще один архаический двойник Гумберта, который являет амбивалентное единство охотника и жертвы. Кельтская сага «Преследование Диармайда и Грайне», выступающая архаическим прототекстом «Лолиты» в аспекте варьирования мотивов брака Грайне с Финном, который старше ее отца, в бегстве Грайне с юным Диармайдом и ее настойчивом преследовании Финном и дружиной фенниев, волшебник Финн, внешне смирившись с утратой Грайне, находит наконец возможность завершить преследование, убить Диармайда и вернуть Грайне, обратившись к гейсу, наложенному на Диармайда в детстве. Как названные братья Диармайд и сын Рока воспитывались в чужой семье, и отец Диармайда стал причиною смерти сына Рока. Рок, наложив на Финна «страшное и опасное для жизни заклинание» /98,с.777/, заставляет того открыть имя убийцы своего сына. Узнав, что это был отец Диармайда, Рок превращает своего сына в огромного зеленого кабана и предсказывает: «Предрекаю, что тебе отпускается такой же срок жизни, как и Диармайду О’Дуйвне, и что ты будешь причиною его смерти» /98,с.778/. Диармайд трижды слышит во сне лай собаки, а утром узнает, что феннии преследуют кабана, а на нем лежит зарок «никогда не охотиться на кабанов» /98,с.775/. Жизнь палача и жертвы взаимообусловлена, в единоборстве умирают оба. Гумберт, убивая Куильти, убивает своего названного брата, мнимого родственника, двойника, тем самым делая неизбежной собственную гибель. Жертвенный кабан идентифицируется одновременно и с Гумбертом и с Куильти, объединенность в тотемическом архетипе сообщает взаимообусловленность бытию обоих героев. К тому же Куильти, указывая на сходство между собой и Г умбертом, упомянул белые стихи. Гумберт перед физическим устранением Куильти читает поэтический приговор, который обретает действенную силу. Куильти ставит в Бердслее пьесу «Зачарованные охотники», в которой сотворяет новую Лолиту, утверждая ее сначала в демонической роли ведьмы и чаровницы, а затем возвращая ей статус простой деревенской девушки, которая приводит поэта «на отцовскую ферму за глухоманью, чтобы доказать хвастуну, что она-то сама – вовсе не его вымысел, а деревенская, твердо стоящая на черноземе девушка» /152,т.2,с.248/. В мотельной книге Куильти оставляет запись, которую Гумберт не может расшифровать: «Фратер Гримм, Океан, Келькепар» /152,т.2,с.308/, смысл этой записи становится ясен позднее, когда брат Куильти дантист Айвор Куильти указывает, что «уверен, что его можно найти в родовом замке, улица Гримма, на окраине Паркингтона» /152,т.2,с.356/ (курсив везде мой) /233/. Братья Якоб и Вильгельм Гримм – знаменитые сказочники и собиратели фольклора, выступающие в авторском единстве. Нерасторжимая связь и взаимная онтологическая зависимость Гумберта и Куильти через аллюзию, которую содержит название улицы, вновь кодируется как кровное родство, к которому однако добавляется мотив и творческого союза.
4.9. Тройная смерть ритуальной жертвы и ее метаморфозы в «Лолите»
Основной функцией друидов-теологов и демиургов было совершение жертвоприношений /55,с. 178/, причем, жертва подвергалась тройной смерти: подвешиванию на дереве, утоплению и сжиганию в специальном помещении из пяти комнат /55,с.79/. Заметим, что пяти комнатная двухъярусная структура Гейзевского дома повторяется в доме, который Гумберт и Лолита занимают в Бердслее: «наше жилище походило удручающим образом на Гейзовский дом…и комнаты имели сходное расположение» /152,т.2,с.217/, – замечает Гумберт (две комнаты и кухня внизу, три спальни наверху). Эти дома не сгорели, но организация их внутреннего пространства обрекает их вместе с обитателями на принесение в жертву, участи, которой не избежал дом Мак-Ку и ранчо Дук-Дук, уничтожая которые судьба соединяла Гумберта и Лолиту и разводила Лолиту и Куильти, обрекала Гумберта на утрату Лолиты, а Куильти на смерть. Гумберт иронически замечает свою возможную причастность к пожару в доме Мак-Ку: «быть может, вследствие одновременного пожара, пылавшего всю ночь в жилах» /152,т.2,с.48/. В этом случае три этапа мифологической смерти, как и события саги будут развернуты в романе по принципу обратной хронологии. В конце романа, встретив однорукого Билля, приятеля мужа Долли, и узнав, что «руку-то он потерял в Италии», Гумберт представляет себе: «Дивные миндали в цвету. Оторванная сюрреалистическая рука, повисшая в их пуантилистическом кармине, с маленькой цветочницей, нататуированной на тыльной стороне кисти» /152,т.2,с.337/. Рисунок на руке семантически увеличивает часть до целого – вот первый в мифологии и последний в романе этап смерти, представленный как карикатурно несостоявшийся, ограничивающийся знаком, намеком. Эта ритуальная смерть иронически предваряет карикатурно торжественный суд и расправу над Куильти. Гумберт обдумывает идеальное убийство, предполагая утопить Шарлотту, которая плывет с ним рядом, «как доверчивый, неповоротливый тюлень» /152,т.2,с.110/, ранее сравнивая Лолиту и Шарлотту, Гумберт назовет последнюю «тюленообразной» /152,т.2,с.56/. Куильти пытается достать пистолет из «морского вида сундучка» /152,т.2,с.368/, застреленный Гумбертом Куильти выползает на площадку, «хлопая плавниками» /152,т.2,с.371/. Не убитая Гумбертом Шарлотта и убитый Куильти представлены через тотемические метафоры морских существ: расстрел имитирует утопление. Третья смерть, на которую обречен Гумберт, смерть в огне, в романе выступает первой как действие судьбы, подчиняющей себе героя. Совершая только одно жертвоприношение, Гумберт косвенно участвует во всех остальных: миниатюрная цветочница на оторванной руке – субститут Лолиты, имя которой прозвучало в романе как коннотация сокращенного Ло и лилии: «Это была моя Ло, а вот мои лилии», – говорит Шарлотта /152,т.2,с.54/, на тень Лолиты указывает и метафора «пуантилистический кармин», по принципу фонетического подобия с Кармен, литературной аллюзии Лолиты. После первого соединения с Лолитой Гумберту представляется, что он «сидит рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной» /152,т.2,с.173/. На сожжение сначала «в адской печи сосредоточенной похоти» /152,т.2,с.28/, направленной на недоступных нимфеток, потом в раю жизни с Лолитой, «небеса которого рдели, как адское пламя» /152,т.2,с.206/, наконец на «поджаривание» на электрическом стуле /152,т.2,с.63/ Гумберт обрекает себя, убив Куильти. Определяя в жертву Куильти и принося в жертву себя через аллюзию с кабаном, сраженным недугом, в том же поэтическом приговоре Гумберт изображает Лолиту жертвой Куильти так:
… а ты, Наскучившую куклу взял И, на кусочки растащив ее, Прочь бросил голову /152,т.2,с.366/В журнале «Кантрип», «что по-шотландски значит «колдовство»», как замечает герой /152,т.2,с.319/, Гумберт напечатал статью «Мимир и Мнемозина». В германо-скандинавской мифологии Мимир изображается как хранитель источника мудрости, которому верховный бог Один принес в жертву свой глаз, чтобы видеть будущее. Вельва говорит Одину: «Знаю я, Один, где глаз твой спрятан: скрыт он в источнике славном Мимира» /23,с. 186/. По другой версии голова Мимира была послана ванами Одину во время войны богов. Один сохранил голову Мимира и советуется с ней, чтобы узнать будущее. В статье Гумберта будущее, ассоциируемое с Мимиром, расположено перед прошлым, воплощенным в Мнемозине: события жизни Гумберта определяются прошлым, его изначальной ривьерской любовью к Аннабелле, поэтому осознание времени зависит «от особых свойств нашего разума, сознающего не только вещественный мир, но и собственную сущность» /152,т.2,с.319/. Будущее, таким образом, выступает исторической инверсией прошлого, его материальной реализацией или практическим подтверждением.
Амбивалентность архаического контекста связана с обратимостью палача и жертвы: то ли Один принес в жертву часть себя, чтобы знать будущее, то ли этой жертвой оказался сам Мимир, которому отсекли голову. Расчлененная на части жертвенная кукла с отброшенной прочь головой в стихотворении Гумберта ассоциируется с жертвоприношением Мимира, голова которого наделяется пророческим даром. Принесенный в жертву Мимиру глаз с метафизической слепотой Гумберта. О своем нервном тике Гумберт узнает, только увидев, как зло Лолита передразнивает подергивание его глаза. Судьба Лолиты – реализация прошлого Гумберта, результат его стремления воскресить Аннабеллу в Лолите. С другой стороны, вспоминая ночь в «Привале зачарованных охотников», Гумберт восклицает, что «должен был понять, что Лолита уже оказалась чем-то совершенно отличным от невинной Аннабеллы» /152,т.2,с.155/. Но Гумберт поразительно слеп, не видя ни настоящей Лолиты, ни своего настоящего соперника. Поэтому предвидя и моделируя будущее, как реализацию прошлого, Гумберт получает непредвиденный, ошеломляющий результат, восклицая: «любопытно, до чего я неверно истолковал указания рока!» – даже не предполагая, «что какой-то Гумберт Второй жадно гонится за Гумбертом Первым» /152,т.2,с.266/. Собственную бдительность (по мифологически буквальной версии – глаз) Гумберт утрачивает, не для того чтобы видеть будущее, угадывать указания рока, а чтобы жить в мире своей фантазии.
Переводя название журнала «Cantrip», Гумберт не приводит однако полный семантический объем слова, второе значение которого можно идентифицировать как сниженную, пародийную интерпретацию колдовства – «шутка, мистификация – шотл.» Мистификацией действительности выступает весь роман – тюремная исповедь Гумберта в возможно не совершенном им преступлении, мистификацией Аннабеллы предстает Лолита, совершенно от нее отличная, сам Гумберт пародийно отражается в двойнике-трикстере – Куильти. Скрытая в названии ирония направлена на выявление природы колдовства, нередко сводимого в бытовом контексте к фокусу, хитроумному трюку, обману. В стихотворении «Слава» иронический двойник – собеседник автора, разрушая миф о волшебстве созданного им в книгах мира, скажет:
а бедные книги твои, без земли, без тропы, без канав, без порога, опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь, как базарный факир, то есть не без подлога, и недолго ей в дымчатом воздухе цвесть /150,с.272/.В романе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» чудо истинного вознесения Ремедиос противопоставлено ложному, фокусническому, иллюзорному вознесению падре Никанора, который, проглотив чашку густого дымящегося шоколада, «простер обе руки перед собой и закрыл глаза. И вслед за тем падре Никанор поднялся на двенадцать сантиметров над землей» /129,с.86/. «Лолита» – «великая сказка» /143,с.24/, как и анализируемые Набоковым в университетском курсе романы. Колдовство сотворено, простирается за пределы романа: Гумберт выражает опасение, что благопристойные члены общества, прочитав роман, безумно влюбятся в его Лолиту /152,т.2,с. 166/, Набоков в стихотворении «Какое сделал я дурное дело» изображает мир, очарованный гибельным искусом Лолиты, говорит о смертоносном колдовстве, заключенном в книге, как «яд в полом изумруде» /150,с.287/. Но Лолита (и героиня романа и сам роман) – это мистификация, поскольку Лолита нетождественна Долорес Гейз, а роман – действительности.
4.10. Демиург-друид как ритуальная жертва: причины обреченности творца «Лолиты»
Название острова Куильти Quelquepart может быть прочитано как несостоявшееся удвоение, созвучное имени драматурга: первая буква имени Клэр эхом повторяется в фамилии. В контексте упомянутой хозяйки мотеля Гейз, чья фамилия звучала так, а писалась иначе, транскрипция QUEL звучит как «КЕЛЬ» – начальный слог слова кельтский. Двойник Гумберта Куильти соотносим с теми же этимологическими кельтскими генами. По-французски слово «QUELQUE» означает «несколько», слово «PART» также, как и по-английски, по-французски означает «часть». Остров Куильти – мир, соединяющий несколько частей. Куильти – создатель мира пьесы «Зачарованные охотники», в финале которой Лолите требуется усилие, чтобы убедить Молодого Поэта, что она принадлежит к реальности, а не выступает частью его творения /152,т.2,с.248/. На ранчо Дук-Дук Куильти творит уже не романтическую пьесу, а порнографический фильм, в котором Лолите тоже отводится роль. Гумберт творит мир романа, в котором Лолите отводится роль нимфетки. Кельтский друид-прорицатель, тождественный богу, был наделен демиургической функцией через слово, речи, «одного произнесения коих достаточно, чтобы вызвать возвещаемое в них событие со всеми его последствиями» /55,с.203/. Песнь-заклинание Амергина, обращенная к туману, скрывавшему берега Ирландии от кораблей сыновей Мила, заставила туман рассеяться /164,с.23/. Этапно значимые события в судьбе Гумберта связаны с туманом, преграждающим ему дорогу, или соприродным ему явлением – дождем. В Рамздэле Гумберта встречает «промокший Мак-Ку» /152,т.2,с.48/, из Рамздэля в лагерь Ку Гумберт отбывает под «приближающимся белым ливнем» /152,т.2,с. 131/, Лолита и Гумберт долго блуждают в «мокрой мороси», пока не видят «сквозь туман алмазное мреяние огней» белого чертога «Зачарованных охотников» /152,т.2,с. 145–146/, над пляжем, где Гумберт хочет завершить с Лолитой соединение, начатое с Аннабеллой, «туман нависал как мокрое одеяло» /152,т.2,с.207/, в «легком тумане» растворяются горы, окружающие Эльфинстон /152,т.2,с.275/, «мелкий дождь» сопровождает Гумберта на пути к дому Долорес Скиллер, аналогом тумана там же выступает дым отдаленных фабричных труб /152,т.2,с.329/. Но гроза прекращается и дождливый туман рассеивается, когда Гумберт приезжает «в зловещий замок» Куильти вершить расправу. Стихии огня и воды, строящие препятствия, теперь сопутствуют Гумберту: «солнце уже горело, как мужественный мученик» /152,т.2,с.358/: Гумберт движется навстречу собственной гибели, принося себя в жертву судьбе, отомстив, но и принеся в жертву судьбе себя.
«Огромный деревянный домище с башней» – замок Куильти – находится «в двенадцати милях к северу от города» /152,т.2,с.357/. Замок Куильти – смешен относительно Рамздэля, эта смещенность и развоплощенность центра – примета мира, чужого для героя, который движется к центру событий, чтобы обрести тайну мира, исполнить свою судьбу. (В «Приглашении на казнь» относительно центра смещен эшафот.) На севере кельтская мифология размещает острова ледяных демонов-фоморов, хтонических чудовищ, побежденных и изгнанных до срока кельтами. Путь к замку Куильти лежит через «диковинный крытый мост», затем через «сырой, темный, глухой лес» /152,т.2,с.357/. Лес и водная преграда обозначают в архаических текстах границу между мирами, ее преодоление связано с качественным преображением героя, ангажированного для покорения чужого мира или для победы над хтоническим существом. Ангажированность Гумберта проблематична: он откладывает месть Куильти до утра, когда того покинут гости, он никак не может довести до сознания Куильти, за что тот должен понести расплату, он никак не может уничтожить Куильти. В замке Гумберт встречает своего двойника-трикстера, который сам отказывается от Лолиты. Гумберт мстит Куильти за обладание тем, что ему никогда по-настоящему не принадлежало («Я, видите ли, не получил никакого удовольствия от вашей Долли. Как ни грустно, но я, знаете ли, импотент», – признается Куильти /152,т.2,с.363/) и отчего он добровольно отказался, кроме того, Долли добровольно сбежала к нему. Причин для мести нет, и осуществить ее невозможно.
Однако необходимость мести объясняется еще одним эпикомифологическим источником, восходящим к традиции, развивающейся параллельно с кельтской и во многом ей близкой. Лолита с мужем живет в последнем доме по улице Гунтера, «на совсем безнадежной окраине» /152,т.2,с.329/. Лолита, сбежавшая от Гумберта и изгнанная Куильти, смещается на периферию мира – эта закономерность самоочевидна. Приковывает внимание название улицы, имя, принадлежащее старшему из бургундских королей брату – Гунтеру в средне– и верхненемецком героическом эпосе «Песнь о Нибелунгах». Героический эпос восходит к историческим фактам, ассимилируя и более ранние мифологические источники. Нибелунги – хранители золотого клада, согласно германоскандинавской традиции, представлены как черные альвы – подземные карлики, владеющие сокровищами. Круговорот этих сокровищ и чудесных предметов между мирами людей, великанов, богов и карликов образует сюжетную основу для героических мифологических песен. Черноволосый, брутальный Г умберт овладевает драгоценностью – Лолитой, соотнесенной с золотом и солнцем, Лолиту Гумберт называет «баснословным подарком» судьбы /152,т.2,с.213/; ее перемещения от Гумберта к Куильти, от Куильти – к Дику составляют фабульную основу романа. Клад нибелунгов проклят, всем владельцам он приносит гибель, Шарлотта проклинает Гумберта, предсказывая, что он никогда не увидит Лолиту, гибель обладание Лолитой приносит Гумберту и Куильти. Сюжетную канву второй части «Песни о Нибелунгах» составляет осуществление двух вариантов мотива мести – любовной и кровной: сначала Брюнхильда требует отомстить Зигфриду, потом Кримхильда мстит братьям, убившим мужа. Гумберт мстит своему мнимому брату и дяде Куильти за разлуку с Лолитой, таким образом, оба компонента мотива мести сообщаются убийству Куильти.
В германо-скандинавском архаическом эпосе, трансформированном в сюжетную основу «Песни о Нибелунгах», прототип Зигфрида – Сигурд изначально несвободен в своих поступках. Достигнув зрелости и только вступая на путь героя, Сигурд отправляется к мудрому правителю Грипиру, который знал будущее. Прорицатель, предрекая, что Сигурд станет славнейшим из героев, однако указывает и на событие, которое повлечет за собой смерть героя, как расплату за обман: поменявшись обличиями с Гуннаром (Гунтером в героическом эпосе) Сигурд станет свататься к своей бывшей невесте Брюнхильд, забыв данные ей клятвы. Сигурд опечален:
Вижу теперь — нависла беда, горе сулит Сигурду жребий, если я стану свататься к деве, мне дорогой, ради другого /23,с.272/.Гуннар – побратим Сигурда, поменявшийся с ним обличиями станет его убийцей по настоянию Брюнхильд, и сам падет жертвой мести. Судьба, убирающая препятствия на пути соединения Гумберта и Лолиты, не соединяет, а разводит героев: Лолита вынашивает планы побега, и не для себя добывает ее Гумберт, а сначала для Куильти, а затем – для Дика.
Сигурд попадает под мифологическое проклятие, уже овладевая золотым кладом. Убитый Сигурдом дракон-змей Фафнир предупреждает героя пред смертью:
Дам тебе, Сигурд, совет, – прими его: вспять возвратись ты! Золото звонкое, клад огнекрасный погубит тебя/ «Речи Фафнира» 23,с.281/
Субститутом золотого клада, определяемая через эпитет «золотистая», выступает сама Лолита. В архаическом эпосе однако есть мотив, отсутствующий в «Песни о нибелунгах»: после свершения мести и смерти Сигурда, Брюнхильда, добившаяся отмщения, пронзает себя мечом и отправляется в царство мертвых Хель, чтобы там соединиться с Сигурдом навсегда. «С Сигурдом я // теперь не расстанусь!» – восклицает Брюнхильд /«Поездка Брюнхильд в Хель» 23,с.302/. Посмертное соединение героев компенсирует их земную разлуку: судьбы героев совершились, так, как должны были свершиться, чтобы они состоялись в статусе героев, новое бытие делает возможным обретение того, что препятствовало их земной героической ангажированности. В пьесе Г. Ибсена «Воители в Хельгеланде», написанной по мотивам архаического эпоса, возможность потустороннего союза героев ставится под сомнение: христианин Сигурд отправляется в рай, а Иордис возглавляет языческий поезд мертвых воинов. Роман Набокова следует по канве архаического эпоса, Гумберт обещает себе и Лолите общее бессмертие в создаваемой им словесной реальности.
Трагическая ситуация в архаическом эпосе, с одной стороны, предстает следствием иррациональной внешней фатальной силы, подчиняющей себе героя, с другой, судьба не парализует волю героя: он принимает судьбу осознанно, активно, хотя и не вполне свободно. Сигурд, забирающий золотой клад, помогающий Гуннару в обманном сватовстве, утверждает свое бесстрашие, он ведет себя так, как надлежит вести себя герою. А.С. Гуревич приходит к выводу: «Итак, герой песни «выращивает» свою судьбу. Он принимает последствия собственных решений и деяний, обращающихся против него в виде его участи» /51,с.40/. Альтернативная линия поведения возникает в сознании Гумберта, когда он забирает Лолиту из лагеря Ку: «все, что овдовелому Гумберту следовало сделать, все, что он хотел и собирался сделать, – было дать этой осунувшейся, хоть и окрашенной солнцем сиротке… порядочное образование, здоровое, счастливое детство, чистый дом, милых подружек…» /152,т.2,с.139/. Вспоминая свои блуждания по отелю «Привал зачарованных охотников» перед соединением с Лолитой, Гумберт воскликнет: «И единственное, о чем жалею сегодня, это что я не оставил молча у швейцара ключ 342-ой и не покинул в ту же ночь город, страну, материк, полушарие и весь земной шар» /152,т.2,с.154/. Судьба Гумберта, которую тот экстраполирует извне, персонифицируя в образе Мак-Фатума, это результат его поступков и решений, которые, приняв форму законченного совершившегося сценария поведения, воспринимаются как следствие действия Рока, как воплотившаяся судьба. Чтобы Лолита состоялась как демоническая нимфетка, чтобы Гумберт освободился от рокового наваждения, пройдя через него, осознав вину и раскаявшись, чтобы Гумберт обрел истинную любовь к Лолите, переставшей быть Лолитой, события совершаются так, как если бы герой был жертвой и орудием всемогущего Рока.
Само убийство Куильти в контексте параллелей из героического эпоса прочитывается как необходимость, поступок, который герой обязан совершить по законам этики героического века. Если это же убийство, совершаемое сначала словесно (Гумберт читает стихи, обосновывающие вину Куильти), а потом растянутое на ряд последовательных действий рассматривать в контексте мифологических параллелей, то его длительность и поэтапность соотносимы с процессом принесения ритуальной жертвы: Куильти, сопровожденный архаическим тотемом – собакой, а после смерти воскресший снова, приняв облик морского существа («тяжело возился, хлопая плавниками» /152,т.2,с.371/), наделен чертами жертвенного животного, а Гумберт выступает в роли заклинателя-друида, превосходящего силой своего двойника-трикстера. В религии и философии друидов проводится соответствие между верховными божествами: Дагда несет дружественность и согласие, его двойник – Огма – войну и насилие. Суть Огмы двойственна – это «смехотворный мудрец, безрукий даритель благ, косноязычный учитель красноречия, кастрированный производитель», – по определению К.-Ж. Гюйонварха и Ф. Леру /55,с.183/. Сублимация Гумберта в Куильти связана с наделением последнего именно этими качествами, обратно отражающими Гумберта.
Кельтский прототекст – саги «Изгнание сыновей Уснеха», «Плавание Брана, сына Фебала» – развиваются в «Лолите» в обратном хронологическом порядке, поскольку Лолита не стремится войти в иной мир, стать частью сотворенной реальности, мира вымысла, оставаясь в границах мира вещественного, она обретает «вещественное», этому миру соответствующее счастье, получает законный социальный статус, даже богатство: Гумберт привозит деньги, возвращает Лолите дом в Рамздэле, потом переводит на нее свое имущество. Обывательская мечта сбывается с дотошной полнотой. Долли признает это: «Ах, Дик – чудный, полное супружеское счастье и все такое…» /152,т.2,с.333/, – но «безумная любовь», «чудо, магия, наваждение» остаются за пределами этого мира, принадлежат к миру иному. Лолита вспоминает Куильти, «единственного мужчину, которого она безумно любила» /152,т.2,с.333/, Гумберт живет, чтобы написать книгу о Лолите, создать мир, в котором она может обрести бессмертие.
Остров Quelquepart – модель устройства мира романа «Лолита», соединяющего несколько миров и соответствующих им героев, центр, вокруг которого выстраиваются части разрозненного, но единого целого. Путь к Лолите, совершение жертвоприношений, свидетельство и заклинание мира словом – это этапы сотворения гумбертовского мира и всего романного космоса, отдельной Вселенной, названной в романе островом Quelquepart. Мир, творимый словом, обретает качества и свойства материальной реальности. Гумберт, сотворяющий Вселенную романа, соотносим с кельтским друидом, творящим из своего заклинания мир или его новое состояние, принося себя самого в жертву миру, который должен состояться из его слова.
Но кельтская друидическая магия имела еще один аспект, принципиально значимый для понимания романа, если принять во внимание концептуальное замечание В.Е. Александрова: «Вместе с многочисленными почитателями Набокова, я вижу в нем гения комического; только он далеко этим не исчерпывается, ибо в основе набоковского комизма тоже лежит концепция потусторонности» /4,с. 11/. Заклинание друида, чтобы оно ни представляло – «великое проклятие», «озарение песни», сводилось к цели сатиры /55,с.203/. Перед сатирой все от короля до простого воина были равны и одинаково беззащитны. «Жертва оказывалась бессильной, – утверждают современные кельтологи, – против нее оборачиваются и случай и судьба, все естественные стихии – воздух, земля, огонь, небо, море – сообща ополчаются против нее; люди отворачиваются от такой жертвы» /55,с.203/. Заклинание друида, имеющие своим содержанием даже не проклятие, а улучшение мира или человека, тем не менее строилось на отрицании, сатирическом снятии состояния предшествующего. Амергин, взывающий к Эрин, уничтожает туманные облака, одно состояние мира уничтожается и сменяется другим /164,с.23/.
«Лолита» строится на последовательном разрушении миров, составляющих ее космос, и уничтожении людей, этим мирам соответствующих. Наконец, обещанное Гумбертом бессмертие достижимо только после завершения и уничтожения этого состояния мира: Лолита будет «жить в сознании будущих поколений», только умерев в мире, лежащим за пределами книги Гумберта /152,т.2,с.376/, так и происходит, иначе мир романа не мог бы осуществиться. Гумберт Гумберт должен страдать от наваждения и совершить преступление, должен понести за него расплату, чтобы состоялся мир его книги.
4.11. «Различение» «следа» вечности – право на совершение жертвы и сотворение мира-мифа
Ирония Г умберта – творца космоса книги – направлена против всех ее персонажей, включая и самого протагониста и Лолиту, и не щадит никого. Мир, создаваемый Гумбертом, одновременно созидается как мир «спасения в искусстве», осуществленного бессмертия и разрушается как мир несовершенства, несправедливости, непонимания, взаимной вины, осознаваемой или непрочувствованной. Мир «Лолиты» – мир истинной трагедии, управляемый всемогущим демиургом, который уничтожает мир, демонстрируя его дисгармонию и несовершенство: миры героев так и не приходят к единению, сохраняя статус нескольких частей, но не образуя целого. Эта целостность обеспечивается посторонней и потусторонней демиургической силой, рукой автора, нетождественного рассказчику-повествователю, который придает миру романа художественную целостность и эстетическое единство, моделируя единое космическое пространство посредством трансформации времени в вечность, «опространстливания» времени (термин Ж. Деррида), однако сохраняя разобщенность целого на персонажном уровне.
Мир, творимого им повествования, определен Гумбертом, как область «бессмертия», инобытия, которое обещано Лолите в его книге. Эта область иномира определяется Гумбертом так: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве» /152,т.2,с.376/. Мотив пигмента, отметины замыкает роман в рондольное кольцо: узнавание Лолиты связано с опознанием «темно-коричневого пятнышка у нее на боку» /152,т.2,с.53/, упоминанием об отметине судьбы («тайны прочного пигмента») роман завершается. Отметина, «прочный пигмент» выступает знаком вечного бытия, принадлежит к области бессмертия, а точнее открывает путь в бессмертие, указывает на присутствие вечного во временном, поэтому и составляет «тайну».
Автобиографический дискурс «Другие берега» В.В. Набоков начинает с определения понятия времени, применительно к конкретной человеческой жизни. Земное время, независимо от его формы, В. Набоков определяет как «глухую стену», «круглую крепость», окружающую жизнь, как непреодолимую преграду на пути к вечности, раскинувшейся по обе стороны земного бытия /150,т.4,с.136/. Набоков отказывает времени в бесконечности, показывая, как конец бытия возвращает к его началу, поскольку «жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями» и «разницы в их черноте нет никакой» /150,т.4,с.135/. Единство бытия, замкнутого в пределах земного времени человеческой жизни, с одной стороны, определяется как круг («круглая крепость»), в которой конец знаменует возвращение к началу, а протекание мыслится как недискретное и целостное; с другой, как последовательное отчуждение от прошлых состояний «Я», переживающих смерть во времени и возрождение в искусстве слова. Обращаясь к собственной юности в стихотворении «Мы с тобою так верили в связь бытия», Набоков утверждает: «Ты давно уж не я, ты набросок, герой // всякой первой главы» /150,с.265/. Очевидное противоречие объясняется особым пониманием вечности и возможностей ее обретения, даже в пределах земного времени, круглой крепости, в которой, однако, есть ходы и выходы в «идеально черные вечности», простирающие по обе стороны до начала бытия и после его конца.
Пребывание во времени, казалось бы, исключает возможность выхода в вечность или узнавания вечности, поскольку вечность идентична иной форме времени, которая лишена протекания, поэтому несовместима с текущей и изменяющейся человеческой жизнью. Но в особые моменты бытия человеку открываются выходы в вечность, обретение которых возможно, в первую очередь, благодаря преображению телесного состава человека в стихотворении «Око», романе «Соглядатай». Это состояние эквивалентно не заключению в круглой крепости земного времени, а в вечности, которая обретается во времени, проявляясь в изменении вещественного состава бытия, поскольку «исчезла граница // между вечностью и веществом» /150,с.270/. Эта возможность прозрения и обретения вечности, к тому же собственной, индивидуально отмеченной («своей вечности», «себя в вечности» /151,т.4,с. 136/), обеспечивается рядом условий: преображением, а фактически редукцией телесного состава человека, воспринимающего и передающего мир через гиперфункцию сенсорной сферы (в стихотворении «Око» – зрения, но, как мы убедимся позднее, в тезаурусе Набокова вместо зрения ту же функцию могут выполнять осязание или слух, реже вкус и запах), непредсказуемостью и многовариантностью результатов преображения и преображенного восприятия и воссоздания мира; но и, кроме того, узнаванием, различением и расшифровкой «следов», примет вечного во временном. Узнавание и прочтение «следа» собственно и выступает источником преображения автора-демиурга или героя-протагониста, открывает пути из времени в вечность.
«След», примета вечности присутствуют в вещественном, но выводят за его пределы. При этом узнавание «следа» и его расшифровка не тождественны детализации мира и даже индивидуализации выделенных подробностей бытия. В телеинтервью, фрагменты которого воспроизведены в фильме о В. Набокове, есть потрясающий момент: признанный классик, вспоминая свое любимое стихотворение из романа «Дар» – «Ласточка», дает ему такой автокомментарий: «…участвуют двое, мальчик и девочка, они стоят на мосту над отраженным закатом, мимо над самой водой скользят ласточки, и мальчик поворачивается к девочке и говорит ей: «Скажи, запомнишь ли ты навсегда эту ласточку – не любую ласточку, не тех ласточек, там, но именно эту, пролетевшую мимо ласточку?» И она говорит: «Конечно, запомню», и оба начинают плакать» /141/. Затем Набоков читает это стихотворение по-русски:
Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту, скажи мне, спросил я, до гроба запомнишь вон ласточку ту? И ты отвечала: еще бы! И как мы заплакали оба, Как вскрикнула жизнь на лету… До завтра, навеки, до гроба — однажды, на старом мосту… /150,с.443/Явление, выделенное из числа себе подобных, по неповторимым, видимым только конкретным лицам, воспринимающим событие, признакам, из момента настоящего переносится в область вечности. Жизнь преображается, преображаются и воспринимающие ее конкретное мгновение герои стихотворения: оба плачут, а жизнь «вскрикнула на лету». Момент настоящего, схваченный, приостановленный в его неповторимости, выделяется из ткани настоящего, этот момент материализован, воплощен, именно в этой, а не любой другой летящей ласточке. Метонимия ласточка-жизнь основана на принципе эквивалентности, полной тождественности (быстротечная и неуловимая жизнь летит как ласточка) и находит выражение в метафоре: «вскрикнула жизнь на лету». Жизнь поймана и перенесена в вечность, не измеряемую категориями длительности человеческой жизни: до завтра, до гроба, – как ближайшего, обозримого будущего (до завтра), так и будущего, как последнего итога жизни (до гроба). Между ближайшим будущим (завтра) и самым отдаленным, последним, за которым нет жизни и времени (до гроба) Набоков вклинивает ключевое понятие, не вписывающее в границы человеческого бытия, превышающее его – «навеки». Сопричастность к вечности, выход в ее пределы совершается не за гробом, а в пределах человеческого бытия: между ближайшим будущим и окончанием жизни. Этот момент вечности соотнесен с конкретикой настоящего момента: точкой пространства (на старом мосту) и моментом времени (однажды), указанными в последней строке стихотворения: «Однажды, на старом мосту». Эта строчка придает стихотворению рондольную форму, редуцированно повторяя первую строку, ее первое слово и последнее словосочетание: «Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту». Носители переживания (мы, оба), их состояние (стояли), более обстоятельная конкретизация времени (под вечер), – все это принадлежит настоящему, времени человеческой жизни и редуцируется до запятой после слова «однажды» в последней строке; в вечность переносится само переживание, узнавание неповторимого явления, его индивидуализация, отчужденная от самих носителей переживания, продолжающих земную жизнь и после этого момента сообщения с вечностью. Жизнь, заключенная в границах земного времени, будто бы умирает, приостановленная на лету, поэтому «вскрикивает»; умирает, то есть проживается, и этот момент узнавания, поэтому герои плачут, соприкоснувшись с вечностью, но не обретя ее окончательно. Но переживание вечности, обретаемое в выделении из мира зримого образа, находит воплощение в реальности эстетической, запечатляющей момент настоящей, земной жизни, приоткрывающий вечность.
Восприятие мира для Набокова и его героев направлено на поиск таких указаний на присутствие вечности во времени. Распознавание знака, его расшифровка и описание этих процессов тождественны его эстетической интерпретации. Именно поэтому для Набокова теряет актуальность традиционная оппозиция «искусство-действительность». Набоков избирает искусство и объектом и субъектом изображения, показывая и процесс созидания параллельной реальности и саму созидаемую реальность, как его результат. Набоков отказывается и от формалистического понимания искусства как приема: он изменяет не соотношение между предметами реального мира, а свое отношение непосредственно к самим предметам. Реальность, воспринимаемая и интерпретируемая Набоковым, в которой «след» или примета вечности, выступают медиаторами между эстетическим и внеэстетическим, попадает под определение «гиперреальность», предложенное Ж. Бодрийяром. Утверждая, что «сегодня сама реальность гиперреалистична» /32,с. 151/, философ указывает: «…реальность эстетична уже не в силу обдуманного замысла и художественной дистанции, а в силу ее возведения на вторую ступень, во вторую степень благодаря опережающей имманентности кода» /32,с.153/. Быть поэтически отмеченным может быть любое обстоятельство бытия, любая мелочь, входящая в его предметный состав, поскольку именно она наделена статусом кода, «следа», приметы вечности, различимой только одним героем или его создателем и предназначенной только ему, поскольку она выводит не в вечность вообще, а в «свою вечность», набоковскую. Восприятие мира, таким образом, не подтверждает его всеобщую наличность и априорную известность, а открывает его состав, фактически создавая его. Феноменологическая экзистенция Dasien, реализуемая в акте восприятия, определяется М. Хайдеггером как открытие наличного. «Восприятие отбирает у наличного его сокрытость и высвобождает его, дабы оно могло показать себя в самом себе», – так характеризует акт восприятия философ /202,с.89–90/. Одно из поздних стихотворений Набоков начинает с утверждения:
Минуты есть: «Не может быть, – бормочешь, — не может быть, не может быть, что нет чего-то за пределом этой ночи», и знаков ждешь, и требуешь примет /150,с.428/.Само обозначение присутствия вечного в настоящем через категорию знака, приметы указывает на многослойную семантику знака вечности – того предмета или явления земного времени, которое выводит за пределы времени в вечность, из линейно протекающей человеческой жизни в ее «ключевой» смысл (эпитет «ключевой» взят из поэмы «Слава», в котором обретение истины о себе и своем месте в мире происходит через «углубление в свое ключевое» /150,с.274/). Знак вечного в эстетике В. Набокова соотносим по набору признаков с категорией «следа» в философии Ж. Деррида, который ввел эту категорию в оборот постструктурализма. «След» не эквивалентен реальности, поскольку «интервал, разделяющий знак и обозначаемое им явление, с течением времени (в ходе применения знака в системе других знаков, т. е. в языке) превращает знак в «след» этого явления» /66,с.262/. «След» аисторичен /66,с.135/, а точнее – трансисторичен, указывая на присутствие, он на самом деле декларирует отсутствие, «выступая как бы отстроченным присутствием» /66,с. 178/, в конечном счете, «след» определяется философом как потеря присутствия /66,с. 193–194/. Выстраивая в фундаментальной работе «Различение» парадигму семантических параметров «следа», Ж. Деррида подчеркивает, что «поскольку след является не присутствием, а симулякром присутствия… стирание принадлежит его структуре» /66,с. 199/. Присутствие, таким образом, определяется как «след и след стирания следа» /66,с.200/. Восприятие «следа», таким образом, не ведет к обретению явления, которое он обозначает, а указывает, как в одном явлении обрести иное, данное через симулякр следа. Симулякрный характер следа указывает на его деконструкцию во времени, иными словами, на обманчивость, непредсказуемость и неточность его расшифровки или понимания и описания. Ж. Деррида подчеркивает, что интенциональность следа связана, в первую очередь, с возможностью уложить другое содержание в его форму, т. е. обрести одно через другое /66,с.130/. Таким образом, презентация «следа» – «это репрезентация репрезентации» /66,с. 136/, это стратегия различения, это восприятие значения в его динамике, причем, каждый элемент значения «соотносится с чем-то иным, нежели он сам» /66,с. 183/. Кроме того, Ж. Деррида указывает на динамичность различения «следа» во времени, поскольку каждый смысловой элемент значения «следа» соотносятся с прошедшим раскодированием и одновременно стирается новой расшифровкой того же элемента значения в будущем. Различение, таким образом, – это пространственно-временная реализация «следа», его «промедление» и «опространствление» /32,с. 178/, фактическая конкретизация «следа».
Набоковское определение времени делает невозможным присутствие вечности в границах земного бытия. Тем не менее, это присутствие осуществляется через «след» или примету вечности, закрепленную в явлении или предмете настоящего, локализованного в пространстве и времени, то есть противоположного вечности. «След» вечности одновременно присутствует в пространстве и времени человеческого бытия и одновременно исключается ими, указывая, таким образом, не на присутствие, а на отсутствие вечности во времени. Симулякрный характер примет, метин, знаков вечности в философии и художественном мире Набокова обусловлен именно этим противоречием. Снятие противоречие связано с принципиально иной стратегией «различения», которая направлена не пространственно-временную конкретизацию значения «следа» в настоящем, но восстановлением момента его напечатления, совершенном в точке хронологически отдаленной, в которой осуществлялось проникновение вечности во время.
Узнавание приметы, «следа» вечности в настоящем связаны для Набокова и его героев с преображением, изменением их человеческих возможностей и качеств, с дистанцированием от человеческого существования, ограниченного пределами земного времени. В поэме «Вечер на пустыре» встреча с умершим становится возможной только после такого преображения: «Что со мной? Себя теряю, // Растворяюсь в воздухе, в заре…» /150,с.257/. В рассказе «Тяжелый дым» состояние ясновидения и способности видеть отдаленные объекты соотнесено с медиумическим переживанием момента сотворения, когда герой растворяется в пространстве и измеряет его антропоморфными категориями: «рука – переулок по ту сторону дома, позвоночник – хребтообразная дуга через все небо» /151,т.4,с.341/. Состояние слитности с миром сопровождается и особой способностью зрения видеть одновременно и далекое и близкое, воспринимать мир одновременно в его целостности и детальности: герой «воображал то панель у самых ног, с дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака, то рисунок голых ветвей на совсем еще бескрасочном небе» /151,т.4,с.341/. Герой, погруженный в медиумическое творческое отчуждение от мира, ощущает заключенность мира внутри себя: «и как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так все проникало через него» («Тяжелый дым») /151,т.4,с.341/. Герой, вбирая в себя мир, чувствует, как расширяются границы его телесного существа, растет и преображается его телесная форма: «форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ» /151,т.4, с.341/.
Преображение человеческих возможностей автора и героев-протагонистов выражается в расширении обозримого пространства, в способности воспринимать одновременно протекающие явления, находясь в определенной точке пространства. В.Е. Александров, подчеркивая аналогию между принципами селекции единовременных явлений для восприятия и осознания времени и создания художественной Вселенной, указывал, что «и то, и другое результатом своим имеет создание узорчатого целого из разрозненных элементов, и то, и другое имеет структуру, которую можно уподобить космической синхронизации» /4,с.60/. Синхронизация времени (момента настоящего) и пространства (широко охватываемого по горизонтали), единовременных явлений в моменте настоящего, разновременных явлений в точке настоящего пространства означает соединение Времени и Пространства, в форме континуума – Вечности, концентрирующей в себе беспримесные, очищенные друг от друга Время и Пространство. В художественной Вселенной Набокова эта синхронизация осуществляется в образах зримых, дополняемых звуковыми, осязательными, вкусовыми, вынесенных за скобки материально наличной реальности и ее пространственно-временных характеристик в мир чистого вымысла, принадлежащего к области «потустороннего».
В романе «Ада» Ван, выражая суть соприкосновения времени с пространством, подчеркивает: «Для обретения вечности Настоящему приходится опираться на сознательный охват нескончаемого простора. Тогда, и только тогда Настоящее становится вровень с Безвременным Пространством» /151,т.4,с.529/. Охват «нескончаемого простора» по горизонтали и по вертикали глазами непосредственно переживающего и воспринимающего мир в момент настоящего субъекта и глазами, накладывающими на мир настоящего образы, запечатленные и сохраненные в памяти, означает объединение единовременных и отстоящих во времени явлений.
Симулякр запечатленного бесконечно давно («пять тысяч лет тому назад») следа завершает стихотворение «Я был в стране Воспоминанья…»: «Там – на песке сыром, прибрежном, // я отыскал следы твои» /150,с.60/. Следы на кирпичах, оставленные за «одиннадцать веков // до звездной ночи в Вифлееме» /150,с.216/, оживляют, приближают момент былого («Кирпичи»), причем, именно зримый образ открывает «улыбку вечности» для тех, кто способен увидеть и оживить момент былого: «Мир для слепцов необъясним, // но зрячим все понятно в мире» /150,с.217/. Современный поэт видит «след локтя», который «оставил на граните Пушкин» («Санкт-Петербург» /150,с.366/), «невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя» /151,т.3,с.36/ вспоминается Федором («Дар»), В стихотворении «Акрополь» след, оставленный героем в настоящий момент времени, накладывается на момент былого, запечатляясь в «пыли веков» /150,с.290/.
Момент былого, его неповторимый узор, перенесенный из прошлого в настоящее в одной и той же точке пространства, направлен на узнавание уже пережитого момента, воплощенного в конкретном, зримом образе следа, метины, родинки, пыли. «Звездная пыль» на ресницах поможет безошибочно распознать возлюбленную, встреченную в космических далях («В хрустальный шар…») /150,с.46/, «тонкий слой цветочной пыли», оставленный в душе земными рощами, поможет узнать их в раю («Крым») /150,с. 112/, в стихотворении «Через века» описан путь одной и той же пары в разных временах и пространствах /150,с.328/, причем, встреча и соединение, предсказанные приметами, знаками вечности, не осуществлялись или же осуществлялись не по предначертанию вечности в настоящем:
Вставали за разлуками разлуки, и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты… /150,с.328/.Способ отношения к миру как к гиперреальности соотносим с расшифровкой, с селекцией значений кода, «следа», приметы, поскольку знак не сводим только к одному смыслу, одной интерпретации. Каждый «след», момент, выводящий в вечность, предлагает набор смыслов, спектр значений. Ж. Бодрийяр, характеризуя состояние гиперреальности, указывал, что «сегодня все предстает в виде набора или гаммы решений», но расшифровывая коды реальности, сами реципиенты «постоянно подвергаются отбору и тестированию» со стороны кода, предлагающего варианты расшифровок /32,с. 136/. При этом деталь, выступающая носителем приметы вечности, презентует не себя, а иное, не свое настоящее значение, а символическое, принадлежащее не времени, а вечности, она вторична по отношению к примете вечности. Ж. Деррида, подчеркивая вторичность «следа» предмета, данную воспринимающему сознанию, указывал, что «всегда различающийся, след никогда не находится в презентации себя» /66,с. 198/. В стихотворении «Смерть», показывая, как «знак нестираемый, исконный, // узор, придуманный в раю», начертанный в человеческой душе, проявляется за пределами земной жизни как «водяной знак» «сквозь тени суетные лет», Набоков прибегает к метафоре «знак – узор» /150,с.367/. Та же идея разветвленности знака, его узорчатости, понимаемой как совокупность отдельных элементов значения, сохраняется в стихотворении «Стансы»:
Ничем не смоешь подписи косой судьбы на человеческой ладони /150,с.362/.В стихотворении «Узор» ключевая метафора – «папоротник счастья» поясняется через образ отпечатка былого впечатления:
Но хранится, под землей беспечной, в сердце сокровенного пласта отпечаток веерный и вечный, призрак стрекозы, узор листа /150,с.331/В стихотворении «Конькобежец» поэтический образ назван «узором словесным» и конкретизирован метафорой «мгновенно раскружившийся цветок» /150,с.382/. Знак или «след» вечности воплощаются в зримых образах узора, веера, косой подписи, таким образом, зримо показывая развоплощение единого значения на отдельные смысловые элементы, соотношение и истолкование которых по определению может не совпасть с их первоначальным сочетанием в изначальном узоре-знаке, посылаемом из вечности. Это несовпадение, не-наложение узора на узор синонимично неверному истолкованию знака, «следа» вечности, роковой ошибке в земной человеческой жизни. Однако, сам «след» вечности представлен через характеристики «вечного», «исконного», «ничем не смываемого». «След» как примета вечности наделяется признаками константы, он постоянен, изменчива парадигма его истолкований.
В романе «Лолита» Гумберт, переживает исчезновение четверти века жизни, увидев Долорес: «Четверть века, с тех пор прожитая мной, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла» /152,т.2,с.53/. Гумберт совмещает образ былого с настоящим через узнавание метины, следа: герой открывает взором памяти детали, сокрытые для взгляда из конкретного момента настоящего.
Однако, космическая синхронизация прошлого и настоящего через узнавание примет – одной и той же родинки на боку – глубоко ошибочна не только потому, что Лолита не Аннабелла, но и потому, что Гумберт предстает перед ней «под личиной зрелости» /152,т.2,с.53/, он не тождественен себе в ранней юности. Смысл «следа» истолкован неверно, и эта подмена Долорес Аннабеллой или Лолитой выступает началом трагедии. Земное время, земные явления, искажают знаки вечности, выделяя в их смысловом составе элементы, не соотносимые с вечностью. Аберрация исходит и от самого реципиента, не всегда в полной мере наделенного способностью и волей преображения. Гумберт на протяжении романа не раз приближается к восприятию космической синхронизации единовременных явлений (капля дождя одновременно падает на руку Гумберту и на могилу Шарлотты), но не осознает значения совпадений.
В романе «Ада» перед нами ситуация, обратная «Лолите»: первая и последняя, окончательная встреча героев тоже ознаменована сличением примет: одинаковые родинки на руках юных героев («на левой ее кисти имелась точь-в-точь такая же крохотная бурая родинка, которая метила его правую руку» /152,т.4,с. 104/) едва различимы потом среди пятен старости («их общее бурое пятнышко почти затерялось между старческих крапин» /152,т.4,с.536/). Метины на руках героев создают эффект зеркального отражения. «След», указывающий на участие судьбы и вечности, очевидный в начале пути героев, выступающий в статусе символа их нерасторжимого единства, противопоставлен метинам-симулякрам, «следам» ложным, указывающим не на вечное, а настоящее – старость героев.
Мотив открытия отметин, спроецированный на кельтские источники, прочитывается как указание на любовь, подчиняющую себе жизнь героев, эквивалентную судьбе. М.М. Бахтин указывает на широко распространенный в кельтском эпосе «образ любовного пятньттттка, в основном – у женщины: кто увидел его – тот влюбился» /14,с.43/. Сила и власть любви-фатума подтверждается образом вечности, построенном на обретении и разгадке «тайны прочных пигментов», следа и приметы вечности.
Однако в «Лолите» архаический мотив открытия открытия любовного пятнышка осложняется рядом принципиальных обстоятельств, указывающих не на участие внешней силы – судьбы, а собственной воли и желания героя. Лолита не открывает Гумберту пятньттттка на боку, его не видно, но оно должно находиться на том же месте, что и у Аннабеллы. Фактически Гумберт, следуя логике архаического метемпсихоза, сам метит бок Лолиты сакраментальным пятнышком-указанием. Лхасский лама, не оставивший приемника, указал, где его искать, и в результате был найден мальчик с родимыми пятнами, повторяющими форму и месторасположение отметин покойного ламы. Л.Я. Штернберг воспроизвел легенду о том, как после смерти одного гиляка, имевшего на лице характерные шрамы от ран, нанесенных медведем, в семье другого гиляка родился мальчик с точно такими же, как у покойного, шрамами на лице /215,с.20/. В «Сообщении Броуди» Х.-Л. Борхес, описывая избрание короля, указывает, что четыре жреца тщательно осматривают каждого новорожденного, «если на нем находят отметины, оставшиеся для меня тайной, он становится королем Иеху» /34,с.415/. Гумберту не открывают отметины, он определяет ее наличие, опираясь на интуицию «взора молодой памяти» /152,т.2,с.53/.
У Лолиты есть иная отметина, оставленная не Гумбертом, но тщательно им сохраненная: «небольшой шрам на нижней части стройной икры как раз над уровнем белого шерстяного носка» /152,т.2,с.65/. Первым из имен Лолиты в начале романа выступает Ло, им она наделяется по утрам, причем единственным ее атрибутом оказывается «один носок» /152,т.2,с.17/. Во время отсутствия Шарлотты Гумберт «изменил ей с одним из Лолитиных белых носочков» /152,т.2,с.103/. Встречая Лолиту в лагере Ку, Гумберт отмечает, что «рубчатые отвороты белых шерстяных носочков кончались на памятном мне уровне» /152,т.2,с.139/. В этом контексте значимо отсутствие носочков, указывающих на отметину – шрам по принципу метонимической близости, среди вещей Лолиты, оставшихся у Гумберта после ее исчезновения: старых тапочек, ношеной мальчиковой рубашки, потертых ковбойских штанов, смятой школьной кепочки и прочих «сокровищ этого рода» /152,т.2,с.313/, которые Гумберт, как белый носочек в доме Шарлотты, обливает слезами и «оскверняет поцелуями» и в конце концов отправляет в приют для сирот. Отметина над краем носка нанесена не Гумбертом и не ему предназначалась, своим памятный шрам Гумберт делает сам, также как и «любовное пятнышко».
Блуждая по «Привалу зачарованных охотников» в ожидании, когда снотворное подействует на Лолиту, Гумберт выделяет девочку-нимфетку «Лолитиных лет, в платье Лолитиного фасона», которая ужасно смущается, почувствовав взгляд Гумберта «(который был, впрочем, совершенно небрежным и благодушным)» /152,т.2,с.157/. Вспоминая о своих наблюдениях за нимфетками, Гумберт приходит к неожиданному заключению: «В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий, не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот она была моей – и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом моих великих и ужасных сомнений!» /152,т.2,с.31/. Таким образом, неясно, что же движет жизнью нимфетки: судьба, прямо названная Гумбертом, или его тайное сладострастие, его особый взгляд, на нее направленный? В стихотворении «Стансы» /1924/ обе силы признаны одинаково действенными, обе оставляют несмываемые, фатальные отметины:
Ничем не смоешь подписи косой судьбы на человеческой ладони, ни грубыми трудами, ни росой всех аравийских благовоний. Ничем не смоешь взгляда моего, тобой допущенного на мгновенье, не знаешь ты, как страшно волшебство бесплотного прикосновенья. И в этот миг, пока дышал мой взгляд, издалека тобою обладавший, моя мечта была сильней стократ твоей судьбы, тебя создавшей /150,с.362/Смущенье девочки в белом под взглядом Гумберта абсолютно закономерно: ее судьба видоизменяется под действием одного только взгляда, создается им. В драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Женщина в зеленом родила Перу уродца-сына только от одного его сладострастного взгляда, герой наказан «за блуд лишь мысленный!» /87,т.2,с.482/. Гумберт, глядя в первый раз на Долорес Гейз, открывая по памяти и подобию с Аннабеллой пятньттттко у нее на боку, создает Лолиту, заключает Долорес в мире своей мечты, своего вымысла, создает ей новую судьбу.
В романе «Смотри на арлекинов!», в котором развивается неверный, протекающий на Анти-Терре вариант собственной судьбы автора, первый метатекстаульный фрагмент представляет текст стихотворения «Влюбленность», завершающегося строками:
Напоминаю, что влюбленность не явь, что метины не те, что, может быть, потусторонность приотворилась в темноте /152,т.5,с. 120/Обманчивость примет, а точнее – их истолкования, ведет к открытию не своей, чужой и чуждой, мучительной вечности и, следовательно, проживания такой же мучительной, не своей жизни. Обманчивость и неоднозначность выступают неотчуждаемыми признаками «следа», искажаемого земным временем, земным носителем, локализованном в настоящем, земным восприятием. Верная примета, символ вечности присутствует в настоящем одновременно с симулякрами вечности, ложными «следами». Но «след» отличает константность, принципиальное тождество самому себе, рекурренция к моменту напечатления: «след»-символ направлен назад, в глубину, «след»-симулякр прочитывается синхронически.
Кроме того, сам код «следа» содержит лишь намек, неполное и неточно выраженное содержание. В стихотворении «Я помню только дух сосновый» протагонистом автора выбран моряк, скитающийся в поисках только ему предназначенного берега. Однако приметы утраченного рая или родины переданы через ощущения, а точнее – через память об этих ощущениях:
Я помню только дух сосновый, Удары дятла, тень и свет /150,с.201/.Моряк с «татуированной душой», хранящей «следы», отпечатки соприкосновения с вечностью, ждет момента узнавания совпадения примет и отпечатков, но полнота момента вечности редуцированна, неслучайно «следы» вечности введены в текст через обобщение «только».
Выявление и расшифровка «следа», знака вечности требует напряжения всей сенсорной сферы, оживления памяти, превосходящей тот мир, который воссоздается в словесном образе. В стихотворении «Солнце» синхронизация настоящего момента с прошлым в пределах одного и того же пространства осуществляется через звуковой образ: «…при Цезаре цикады те же пели // и то же солнце стлалось по стенам» /150,с.238/. В стихотворении «Романс» событие прошлого накладывается на момент настоящего тоже через слышимый, звуковой образ произносимой речи: «Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне…»/150,с. 124/. Но озвученный момент минувшего («разбитая волна»), переданный в речи, совмещаясь с синхронически расположенным в пространстве зримым моментом настоящего («а над морем, над золотоглазым, кипарисы на склонах струятся к луне…»), находит выражение в зримом образе: «Мы идем, и следы наших голых ступней // наполняются влагой жемчужной» /150,с.124/.
Федор Годунов-Чердынцев, перечитывая за рецензента сборник своих стихотворений, выражает надежду, что «все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь стихи, удержалось в них…», предлагая читать стихи «по скважинам» /151,т.3,с.26/. Феномен гениальности определяется Набоковым в романе «Смотри на арлекинов!» как «способность видеть вещи, которых не видят другие, или, вернее, невидимые связи вещей» /152,т.5,с.134/. «След» вечности одновременно присутствует и «стирается», важно восстановить его присутствие и после исчезновения, увидеть «след» там, где он был, но сейчас уже исчез. В стихотворении «Русалка» видение русалки мгновенно пропадает, но длятся следы его присутствия, которые доступны восприятию:
Остался лишь тонкий сверкающий круг, да в воздухе тает таинственный звук /150,с.72/Приметы видимые и слышимые указывают на былое присутствие иного, не включенного в пределы реальности явления, «след» которого сохранился в воспринимаемых зрением и слухом явлениях, восполнение значения «следа» означает соотнесение впечатлений. В стихотворении «Зеркало» лирический герой видит, как «там, на изгибе улице дальнем, // солнце нырнуло в него: видел я огненный всплеск» /150,с. 159/. Ныне зеркало «висит в сенях гостиницы пестрой», но хранит в глубине отпечаток, след солнца, запечатленный одним поэтом. В стихотворении «Художник-нищий», описывая работу художника на асфальте, поэт избирает день, когда картин художника невозможно увидеть, потому что их нет в настоящий момент:
… Да что! Как из ведра бездонного, лил дождь, и каменные плиты блестели холодно, и краски были смыты /150,с.154/.В настоящем не осталось даже «следа» былого, но его отсутствие во внешнем мире не означает отсутствия во внутреннем мире поэта, который продолжает видеть картины на асфальте, обращаясь к памяти и воображению. «След» и отпечаток, фиктивно присутствуя в предметах и явлениях действительности, представляя собой симулякры присутствия, реально существуют в иной плоскости – во внутреннем мире художника, который видит невидимое, тем самым обретая выход к иным временам и пространствам, к вечности.
Рассуждая о способах разграничения пространства и времени, о возможности обретения чистых времени и пространства, свободных друг от друга, Ван («Ада»), определяя сущность времени, обращается к такому примеру: «Сцена – эоцен, актеры – окаменелости», впрочем, тут же указывая на возможность обмана, подмены, неправильного истолкования: «Занятный пример мухлежа в Природе» /152,т.4,с.515/. Однако, окаменелости, равно как и следы, напечатленные в веках («Кирпичи», «Воспоминание», «Акрополь») сами по себе неизменны. Их константность исключает «след» из потока протекания, он являет собой некоторый временной континуум: «след» или отпечаток предстают как частица вечности. Возвращаясь в место своей последней встречи с Адой, Ван, видя «два каменистых, коронованных развалинами холма», которые семнадцать лет неизменно удерживал в памяти, отмечает, что точность совпадения картины памяти с реальной не вполне эквивалентна, поскольку «память падка до отсебятины» /152,т.4,с.528/. Напечатленный «след» неизменен, но изменчивы его интерпретации памятью, воображением и словом.
Ж. Бодрийяр указывает на множественность симулякров, направленных на деконструирование или самоотражение /32,с. 150/. Набоковский «след» не совпадает с деталью, вычлененной из потока линейного времени и лишенной пространственной локализации, «парадигматически склоняемой по падежам» /32,с. 150/ или раздваивающейся и распадающейся на множество составляющих, «умножаемой» на себя. Из таких деталей слагается художественный мир Набокова, но не они наделяются качествами «следа», не выводя за пределы земных времени и пространства. Деталь, подробность бытия подвержена изменению, «след» означает константу, некоторый постоянный, рекуррентный, тождественный себе образ-символ. Среди подробностей набоковского мира, его разнообразных деталей лишь некоторые отмечены статусом «следа», их различение означает исключение этих явлений или предметов из потока времени-пространства. Набоковское различение «следа» принципиально противоположно стратегии различения Ж. Деррида. Таким образом, набоковский «след» совершает невозможное, выступая указанием на отсутствие вечности, он восполняет ее присутствие там, где вечность исключается в пространстве и времени. «Следы»-симулякры имитируют присутствие вечности, ведут к ложному истолкованию своей судьбы и обретению чуждой, не-своей вечности; они парадигматически изменяются, локализуясь в границах земных времени-пространства. «След»-символ, отпечаток вечности наделен признаками вечного: это константа, континуум, не принадлежащий земному времени, лежащий за его пределами.
4.12. «Бессмертие» как «опространствление» времени
Категория времени, преломляясь в частной судьбе и общечеловеческой истории, наделяется качествами дискретности, длительности и протекания, векторности и линейности, изменчивости и невозвратимости. Историческое время направлено в один конец и принципиально динамично, доисторическое, мифологическое время наделяется признаками цикличности, возобновляемости, неизменности, иллюзорности протекания, которое означает не изменение, а повторение. Антагонизм времени архаического и исторического выступает инвариантом глобальной оппозиции времени и вечности, поскольку вечность фактически поглощает время, обращая протекание и длительность в симультанность, изменение и обновление прочитывая как циклично воспроизводимую рекурренцию. Вечность одновременно содержит все три формы времени, синхронизируя прошлое и будущее. Пребывание во времени исключает, по определению, пребывание в вечности. Вечность находится за пределами земного, линейного времени, завершение жизненного пути, а в глобальном аспекте человеческой истории знаменует наступление вечности, вечность отменяет время. Таким образом, медиация концептуальной оппозиции «время-вечность» и способ ее осуществления выступают выражением сугубо индивидуальной онтологической или эстетической концепции времени-пространства.
В онтологии и эстетике В. Набокова антагонизм времени и вечности реализуется в осознании вечности как бытия запредельного. В лекции «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков подчеркивает, что для творческого (т. е. иррационального, сугубо оригинального) сознания множественность миров и соответствующих им метаморфоз индивида существует априори: «Мысль, что жизнь человека есть не более чем первый выпуск серийной души и что тайна индивида не пропадает с его физическим разложением в земле, становится чем-то большим, нежели оптимистическим предположением, и даже большим, нежели религиозная вера, если мы будем помнить, что один лишь здравый смысл исключает возможность бессмертия» /140,с.69/. В романе «Другие берега» и в стихотворении «Я думаю о ней, о девочке, о дальней…» Набоков обращается к метафоре – стены, семантизирующей в предметном образе идею разделения или преграды между одним качественным состоянием бытия и иным, между временем и вечностью: «О Боже! Я готов за вечными стенами неисчислимые страдания восприять» /150,с.164/. Переход из времени в вечность в лирике В. Набокова репрезентируется через метафору открываемой двери. В стихотворении «Ю. Р.» /1919/ читаем: «Дверь черную в последний час // мы распахнем легко и смело» /150,с.56/. Ту же метафору находим в стихотворении «О, как ты рвешься в путь крылатый» /1923/: «Смерть громыхнет тугим засовом //ив вечность выпустит тебя» /150,с.344/. В стихотворении «Новый год» двенадцать месяцев уходящего года изображаются через метафору закрывающихся дверей: «И звонко в тишине холодной // захлопнулись поочередно // двенадцать маленьких дверей…» /150,с.55/.
Вечность наступает, таким образом, когда завершается земное время, измеряющее материально наличное, физическое бытие-в-мире. Это традиционное соотношение времени и вечности как взаимоисключающих, не существующих синхронически феноменов воплощается в лирике В. Набокова в парадигме концептуального понятия, синонимичного вечности – загробного бытия в раю. В инициальной строке раннего стихотворения «В раю» /1920/ звучит приветствие: «Здравствуй, смерть!» /150,с.131/. В стихотворении «Гекзаметры» /1923/, посвященном В.Д. Набокову, смерть воссоздается через метафору пробуждения: «Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее» /150,с.336/. Семантический объем понятия смерть, таким образом, охватывает противоположные категории конца и начала, смерть выступает завершением одной формы бытия и одновременно началом другой, не воплощаемой в земном теле и не измеряемой земным временем. Поэтому смерть, обретая семантический статус начала, изображается через строй метафор: весеннее пробуждение, утренний луч, интегрированных семантическим признаком начала: утро открывает земной день, наступление весны знаменует пробужденье природы. Переход за границы земного бытия означает открытие истины, сокровенной тайны индивида. В стихотворении «Смерть» /1924/ выход за земные пределы вновь атрибутируется признаками пробуждения: «И просияет то, что сонно // в себе я чую и таю» /150,с.367/, а земная жизнь определяется как «земной мрак». Приход смерти приветствуется как преодоление границ земного бытия, как обретение рая. В том же стихотворении после смерти открывается «водяной знак» вечности, начертанный в человеческой душе, выявляется «знак нестираемый, исконный, // узор, придуманный в раю» /150,с.367/.
Однако в стихотворении «В раю» обретенная вечность наделяется признаками земного бытия. Рай открывается после смерти, но выступает продолжением земного бытия. Дверь, открываемая в рай и вечность, оказывается дверью родного дома: «Я рванусь и в чаще найду // прежний дом мой земной, и, как прежде, // дверь заплачет, когда я войду» /150,с.131/ Райская вечность выступает как константа некоторого момента прожитой земной жизни, только момент этот есть и будет длиться, никогда не завершаясь. «Буду снова земным поэтом, на столе раскрыта тетрадь,» – так представляет Набоков предназначенную ему вечность /150,с.131/. В форме глагола будущего времени «буду» передан сам момент перехода в вечность, обретение райского времени, лишенного протекания и завершения и наделенного только качеством длительности. Это качество, соотносимое с экзистенцией вечности, передается в предикативных формах настоящего времени «раскрыта тетрадь» и в назывных предложениях предпоследней строфы:
Одуванчик тучки апрельской в голубом окошке моем, да диван из березы карельской, да семья мотыльков под окном /150,с. 131/Обретение рая изображается и как возвращение к конкретному моменту земного бытия: «Вдохновенье я вспомню, и ангелам бледным // я скажу: отпустите меня! //…и мечтами я там, где ребенком влюбленным // и ликующим богом я был!» («Эту жизнь я люблю иступленной любовью») /150,с.65/.
Но позже образ рая утрачивает земные приметы. В стихотворении «Белый рай» он определяется как «широкая, пустая, оснеженная страна» /150,с.157/, в стихотворении «Комната» сопровождается эпитетом «голый» /150,с.241/, а посмертная метаморфоза делает невозможным продолжение земных занятий: «но только нет журнала и нет читателей в раю» («В раю») /150,с.244/. Область запредельного, куда переходят «с порога земного», в стихотворении «Поэты» определяется как «пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, иль, может быть, проще: молчанье любви» /150,с.267/. Итак, сохраняя качество запредельного, вечного бытия, противоположного земному, образ рая-вечности содержательно амбивалентен: в раю пребывает неизменным «Я» индивида или же переживает метаморфозу.
Продолжение земных любимых занятий или оказывается невозможным или сменяется на иную форму жизни: «Там блаженствовать я буду // в блеске сети ледяной //… на лучистых, легких лыжах // реять с белых гор» /150,с. 157/. В романе «Защита Лужина» герою, уходящему в небытие, предстает реальность шахматной доски, вечность выступает продолжением земной жизни, знаменует невозможность выхода из единственной реальности, соответствующей герою – игры в шахматы. Но в романе «Соглядатай» безымянный герой после смерти обращается в загадочного Смурова, обретая новую фамилию и новый социальный статус: Кашмарин, в прошлой жизни избивший героя, теперь протягивает ему руку– Амбивалентность бытия-в-вечности определяется противоречивым соотношением времени и вечности в эстетике и онтологии В. Набокова. Амбивалентность экзистенции вечности находит выражение в противоречивом определении рая как формы вечности. Гумберт Гумберт, характеризуя свою жизнь с Лолитой, укажет, что «жил на самой глубине избранного мной рая – рая, небеса которого рдели как адское пламя» /152,т.2,с.206/. В стихотворении «Лилит» загробное бытие сначала представится герою раем, и лишь потом он обнаружит, что оказался в аду. Выход Лужина в вечность знаменует продолжение ада земной жизни героя, растворившегося в реальности игры, утратившего имя, а вместе с ним и возможность изменения и выбора своего бытия как посюстороннего, так и потустороннего.
Вечность локализована не только в области запредельного, по ту сторону «круглой крепости», или за стеной земной жизни. В тезаурусе Набокова категория вечности интегрирует не только запредельное, но и невозвратное, т. е. прошлое, как историческое, общечеловеческое, так и сугубо индивидуальное. «Улыбка вечности» прочитывается в отметинах на кирпичах, обожженных за «одиннадцать веков до звездной ночи в Вифлееме» («Кирпичи») /150,с.216/, «медленный глагол» вечности волнует путника перед пирамидами /150,с.60/, но вечность локализована и в человеческой памяти. Стихотворение «Весна» завершается формульным определением тождества вечности и памяти:
живут мои воспоминанья в какой-то неземной тиши: бессмертно, все, что невозвратно, и в этой вечности обратной блаженство гордое души /150,с.243/Вечность, отнесенная в прошлое, уже не обладает таким качеством вечности запредельной, наступающей после смерти, как невозможность возвращения в земное время. Вечность воспоминания или погруженности в былое приостанавливает течение земного времени, но не отменяет его. В стихотворении «Сон на Акрополе» герой погружается в воспоминание о юности, русской деревне, отменяя и земное время, сопряженное с внешней реальностью, и реальность прошлого в форме общечеловеческих исторических и мифологических воспоминаний. В романе «Дар» Федор Годунов-Чердынцев погружается в мир своего первого стихотворного сборника, выпадая из внешней реальности, не замечая ни течения времени, ни начавшегося дождя, более того, часы героя «пошаливают», начиная «двигаться против времени» /151,т.3,с.27/. Сборник «Стихи» для героя – квинтэссенция прошлого, образов, сохраненных в памяти и переданных поэзии. В интервью А. Аппелю Набоков подчеркивал, что воображение – это «форма памяти» /139,с. 174/. Но из мира поэзии и памяти герои возвращаются в земное линейного время: лирический герой расплачивается с путеводителем-греком («Акрополь»), Федор отправляется в гости к Чернышевским («Дар»), Вместе с тем, Цинциннат Ц., выходя после казни в мир существ, подобных ему («Приглашение на казнь») обретает мир новый, обещаемый ему в его прозрениях и догадках, но не пережитый и запечатленный памятью, поэтому переход в иной мир носит абсолютный, окончательный характер, роман на этом эпизоде заканчивается. Выход в реальность воспоминания сопряжен с обретением иного пространства, изменение времени влечет изменение места. Воспоминанье уже в раннем стихотворении 1919 года Набоков определил как особый мир, «страну» /150,с.60/.Мир памяти попадает под определение вечности, поскольку его время лишено протекания, а наделено качеством длительности некоторого конкретного момента. Время земной жизни не только конечно, ограничено двумя черными вечностями, но циклично. Повторяемость и замкнутость бытия земного интегрирует земное время с вечностью.
Набоков отказывает времени земной жизни в абсолютном конце, подвергает сомнению саму посмертную метаморфозу и возможность выхода за пределы земного времени, показывая, как конец бытия возвращает к его началу (поэма «Детство»), Таким же возвращением к началу предстает итог жизненного пути в «Парижской поэме». Это обретение соответствия далекого былого и настоящего идентично обретению центра мира внутри себя, поэт может «стать // серединою многодорожного // громогласного мира опять» /150,с.278/. Положение в центре мира делает обозримым весь жизненный путь: начало пути видится и узнается из сегодняшнего момента, а из точки былого, минувшего детства узнается, постигается «сегодняшний миг» /150, с.278/.
Очевидное противоречие, связанное с противопоставлением и совмещением времени и вечности, объясняется особым пониманием вечности и возможностей ее обретения, даже в пределах земного времени, круглой крепости, в которой, однако, есть выходы в «идеально черные вечности», простирающие по обе стороны до начала бытия и после его конца. Земное время образует круглую крепость, окружающую человеческую жизнь, изолирующую ее от вечности, в свою очередь, окружающую жизнь. Образуется фигура круга в круге, причем, выйти за пределы одного круга в другой, фактически невозможно: события человеческой, земной жизни образуют парадигму вариантно-инвариантных повторов, начало земной жизни совмещается с ее концом. В «Парижской поэме» Набоков обозначает отношения рекуррентности земной жизни через метафору «дивного ковра», в котором «узор настоящего» накладывается «на былое, на прежний узор» /150,с.277/. Выход в вечность поэтому изображается как обретение прошлого, осуществление счастливой поры жизни, а посмертная метаморфоза ставится под сомнение. Однако, возникшее противоречие снимается амбивалентной локализацией вечности, которая, во-первых, запредельна, во-вторых, идентична прошлому, в-третьих, окружая земное время, существует с ним синхронически, одновременно, обнаруживая себя через знаки, указания, следы.
Вечность не только запредельна, но и параллельна земному времени. Вечность существует одновременно в отделенном будущем как итог пути, и пребывает рядом, синхронизируясь с пока еще текущей и развивающейся человеческой жизнью. Интервью журналу «Плэй бой» Набоков завершает концептуальным признанием: «…я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего» /194,с.241/. Итак, иная жизнь не только существует за пределами земного бытия, но и, возможно, протекает параллельно с ним, в области, не локализуемой во внешнем пространстве и не измеряемой земным временем, поэтому попадающей под определение вечности.
В стихотворении «Разговор» Писатель, беседующий с Критиком и Издателем, рассказывает о своей способности воспринимать одновременно происходящие, но пространственно отстоящие явления. При этом космическая синхронизация единовременных явлений, епифания (термин В. Александрова) /4,с.39/, как определяющее качество гносеологии и эстетики В. Набокова охватывает как явления материально наличного мира, осуществляющиеся в земных времени-пространстве, так и ирреальные, принадлежащие к миру запредельному – вечности: в контекст синхронизируемых явлений включены и «умерших мыслящие тени» /150,с.401/. В стихотворении «Гекзаметры» выражается уверенность, что умерший отец, «погруженный в могилу, пробужденный, свободный, // ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока спящими» /150,с.336/. В романе «Камера обскура» контекст синхронических явлений охватывает двигающихся навстречу друг другу автомобиль Кречмара и велосипедистов, старуху, собирающую на холме ароматные травы, самолет в небе над холмом, Аннелизу, в предчувствии беды вышедшую на балкон, мороженщика, и Ирму, которая при жизни «шалела от счастья», когда тот «лопаткой намазывал на тонкую вафлю толстый, сливочного оттенка слой» /153,т.3,с.364/, а теперь смотрит на мир из вечности.
Синхронизация времени с вечностью делает возможной медиацию оппозиции «времени-вечности» через открытие точек соприкосновения времени и вечности. «Парадоксальным образом природа времени оттеняется в глазах Набокова тем, что, хотя оно возникает вместе с появлением сознания, последнее может выработать также способы освобождения от времени», – указывает В.Е. Александров /4,с.36/. В стихотворении «Как я люблю тебя» /1934/ эти выходы в вечность манифестируются в образах «лазеек для души», «просветов» в мировой ткани. Обнаружение щели, просвета в земном времени открывает возможность выхода в вечность: «Зажмурься, уменьшись и в вечное // пройди украдкою насквозь» /150,с.261/. В «Парижской поэме» вечность предстает в знакомых образах земного бытия: «Старый дом, и бессмертное пламя // керосиновой лампы в окне», – а совмещение момента настоящего бытия с моментом минувшего, т. е. принадлежащего к области вечного, осуществляется вновь через «просвет», щель в земном времени: «Оттого что закрыто неплотно, // и уже невозможно отнять» /150,с.258/. В стихотворении «Неродившемуся читателю» встреча творца, ушедшего в вечность, и пребывающего в земном времени читателя изображается как ощущение холода, «сквозняка из прошлого» /150,с.412/. Холод и снег выступают приметами рая как оснеженной страны («Белый рай») и смерти («гостя прохладного» («Смерть») /150,с.367/, «когда похолодеем, и в голый рай из жизни перейдем» («Комната») /150,с.241/). В романе «Соглядатай» герой, чтобы убедиться в своей смерти находит на стене «тщательно замазанную дырку», оставленную его пулей /151,т.2,с.343/. В драме «Смерть» функция отверстия, щели, осуществляющей сообщение между взаимно проницаемыми мирами, выполняет «провал камина» /150,с.485/. Проницаемость синхронически существующих миров вечности и времени находит выражение в прозрачной семантически метафоре: отверстия, дыры, просвета, неплотно закрытой двери. На наличие отверстия, выхода в вечность могут указывать и некоторые приметы, «знаки», «отметины».
Вечность находится одновременно и за пределами земного бытия, как параллельная экзистенция, и отнесена в прошлое, как общечеловеческое, так и сугубо индивидуальное. Но в настоящем, земном времени творец-демиург распознает «в обычном… райские приметы» /150,с. 177/, «следы», знаки, «приметы» вечности.
Присутствие вечности во времени осуществляется через «след» или примету, закрепленных в явлении или предмете настоящего, локализованных в пространстве и времени, то есть противоположных вечности. «След» вечности одновременно присутствует в пространстве и времени человеческого бытия и одновременно исключается ими, указывая, таким образом, не на присутствие, а на отсутствие вечности во времени. Симулякрный характер примет, метин, знаков вечности в философии и художественном мире Набокова обусловлен именно этим противоречием. Снятие противоречия связано с особой стратегией «различения», которая направлена не пространственно-временную конкретизацию значения «следа» в настоящем, но на восстановление момента его напечатления, совершенного в точке хронологически отдаленной, в которой осуществлялось проникновение вечности во время.
Образ запечатленного бесконечно давно («пять тысяч лет тому назад») следа завершает стихотворение «Я был в стране Воспоминанья…»: «Там – на песке сыром, прибрежном, // я отыскал следы твои» /150,с.60/. В стихотворении «Акрополь» след, оставленный героем в настоящий момент времени, накладывается на момент былого, запечатляясь в «пыли веков» /150,с.290/.
Выделенность и распознавание «следа» вечного в настоящем равнозначна его эстетизации, творческого перевоссоздания мира. В стихотворении «Глаза» действие перенесено «в далекую, древнюю страну» и состоит в заверении поэта, обращенном к смеющейся царевне, что когда минет и забудется настоящий момент: «Напев сквозных цикад умрет в листве олив, // погаснут светляки на гиацинтах смятых», навсегда сохранится только «сладостный разрез» «продолговатых атласно-темных глаз», все оттенки и переливы взгляда «останутся… в сияющих стихах» /150,с. 194/. Гумберт Гумберт обещает Лолите единственно возможное для них обоих бессмертие в сонете, в искусстве и просит судьбу продлить его жизнь дольше, чтобы «заставить тебя (Лолиту – Я.П.) жить в сознании будущих поколений» /152,т.2,с.376/.
Принципиальна необходимость обретения своей вечности, формы бытия, соответствующей новому миру, правильная расшифровка примет, отметин, «следов». Так, Гумберт очевидно совершил ошибку, совместив Лолиту с Аннабеллой, а Смуров («Соглядатай») тщетно ищет и не находит нужных примет у Вани. Узнавание приметы, «следа» вечности в настоящем связаны для Набокова и его героев с преображением, изменением их человеческих возможностей и качеств, с дистанцированием от человеческого существования, ограниченного пределами земного времени. Герои, замкнутые в метафизическом кругу повторяющегося события, обречены на ошибку, непонимание знаков вечности. Гумберт, узнав отметину на боку Лолиты, до конца романа отказывает ей в праве на развитие и взросление и сам остается в моменте былого мальчиком, влюбленным в Аннабеллу, которую теперь воскресил в Лолите, сообщая однажды, что он и ему подобные «достаточно приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в присутствии взрослых» /152,т.2,с.111/.
Хотя себя Гумберт неоднократно называет себя поэтом, а В.Е. Александров определяет героя как «испорченного поэта» /4,с. 195/, он ни разу не сопоставляет синхронически протекающие явления, поэтому прозрения его не бывают полными. Смуров демонстрирует непозволительную ненаблюдательность и допускает вопиющие ошибки, рассказывая, как убегал с ялтинского вокзала, чем вызывает бесстрастное замечание Мухина: «К сожалению, в Ялте вокзала нет» /151,т.2,с.321/. Герои, замкнутые на себе, не видят мира, не замечают истинных примет и следов. Гумберт, уверенный, что лучше Шарлотты знает Лолиту, привозит ей чемодан обновок, ни одна из которых не приходится ей в пору. Ненаблюдательность исключает прозрение, которое открывает выход в вечность, обретение иной формы бытия. Поэтому в романе «Соглядатай» за Смуровым наблюдает и побуждает его действовать некий таинственный демиург, который находится одновременно во времени и в вечности. Медиация противоположности текущего времени и вечности осуществляется эстетически, путь к ней лежит через синхронизацию единовременных явлений или явлений, локализуемых в одной точке пространства, но отстоящих во времени.
В романе “Ада” герой-протагоносит поэт и философ Ван в работе “Текстура времени” занят выделением феномена «Чистого Времени», свободного от пространственных метафор, его измеряющих, воспринимаемого сенсорно, но все же не пространственного объекта. Стремясь осознать суть времени как осознаваемого феномена, Ван противопоставляет Время Пространству, утверждая, что, не умея «вообразить Пространство без времени, очень даже может – Время без Пространства» /152,т.4,с.519/. Причем, Ван, наделенный как все набоковские протагонисты, обостренным сенсорными качествами, противопоставляет и анализаторы, воспринимающие Пространство и Время: «Если глаза сообщают мне кое-что о Пространстве, то уши сообщают нечто о времени» /152,т.4,с.514/, далее это положение герой развивает и конкретизирует: «Пространство соотнесено с нашими чувствами зрения, осязания, мускульного усилия; Время – неуловимо связано со слухом» /152,т.4,с.519/. Свое заключение Ван подтверждает, обращаясь к поэме другого набоковского героя Джона Шейда («Бледное пламя»), подчеркивающего различия в восприятии времени и пространства: «Пространство – толчея в глазах, а время – гудение в ушах» /152,т.3,с.317/. Свои рассуждения о дифференциации времени и пространства Ван завершает выделением единственного момента их соединения: «В понятиях зрительных острейшее ощущение сиюминутности дает нам волевое присвоение ухваченной глазом части пространства. Таково единственное, но порождающее далеко расходящееся эхо, соприкосновение Времени с Пространством» /152,т.4,с.528–529/.
Момент настоящего как «Чистого Времени», чтобы быть осознанным как момент времени нуждается в симультанном восприятии широко по горизонтали и глубоко по вертикали охватываемого глазами пространства. Так, Гумберт, переживая исчезновение четверти века жизни, увидев Долорес, одновременно видит образы прошлого: Анабеллу в «безумный, бессмертный день у розовых скал» и снова переживает тактильные и зрительные ощущения того дня, и настоящего, впервые видя Долорес-Лолиту. Причем, Гумберт открывает взором памяти детали, сокрытые для взгляда из конкретного момента настоящего: «Черный в белую горошину платок, повязанный вокруг ее торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз – но не от взора молодой памяти – полуразвитую грудь…» /152,т.2,с.53/. Ван, выражая суть соприкосновения времени с пространством, подчеркивает: «Для обретения вечности Настоящему приходится опираться на сознательный охват нескончаемого простора. Тогда, и только тогда Настоящее становится вровень с Безвременным Пространством» /152,т.4,с.529/.
Охват полноты пространства по горизонтали и толщи времени по вертикали связан с эстетическим, демиургическим прозрением, епифанией, обнаружением вечного во временном. Это состояние ознаменовано метаморфозой материального «Я» индивида. В эссе «Первое стихотворение» состояние творческой медитации и процесс зарождения стихотворения описаны как попытка передать «только что испытанный шок, когда на миг сердце и лист стали одним» /146,с.49/.
Вечность, существующая одновременно позади и впереди, параллельная земному времени, окружающая его как «круглая крепость» и обретаемая через видоизменение физических качеств индивида, наделяется Набоковым качествами, противоположными земному времени. Земной мир заполнен, рай пуст и гол, земной мир наполнен звуками, вечность – молчание, безмолвие, «отрешение от слова», мир чистого зрения, поэтому и человек, отменяющий границу между вечным и вещественным сводится к «одному исполинскому оку» («Око», «Соглядатай»), Время останавливается, исчезает, поэтому замирают звуки, через которые воспринимается его течение. Если «время – это шум в ушах», то вечность – это безмолвие, если пространство как форма времени – «толчея в глазах», то вечность – это пустота, и поэтому рай определяется как «голый».
Но в область запредельного переходит «татуированная душа», несущая «тайну прочных пигментов», примет иного бытия в ином времени. Именно ими заполняется обретенная пустота. «Следы» земного бытия, перенесенные в вечность, теперь будут прочитываться как знаки вечности. Земное время после метаморфозы индивида приобретает статус иного времени, принадлежащего к иному миру, то есть вечности. Сравнивая восхождение на горную вершину с путем в рай, Набоков предположит:
Не так ли мы по склонам рая взбираться будем в смертный час, все то любимое встречая, что в жизни возвышало нас? /150,с.250/В стихотворение «Комната», размышляя о переходе в «голый рай», Набоков выразит сожаление о земных приметах, не отмеченных сознанием и не сохраненных памятью: «забывчивость земную пожалеем, не зная, чем обставить новый дом…» /150,с.241/.
Вечность и время взаимозаменяемы, именно их взаимной обратимостью определяется в онтологии и эстетике В. Набокова возможность медиации категориальной оппозиции «время – вечность». Набоковские герои, меняя миры, сохраняют неизменную связь с прошлыми формами бытия, обретая каждый раз новую вечность в форме того, что было пережито, отмечено и запомнено в ином времени, таким образом, сохраняется статус потусторонности как константы.
Мотив острова нимфеток, сливающийся с островом Келькепар, изначально отмечен у Гумберта указанием на вечность: вечно юные нимфетки никогда не стареют («Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не старея!» /152,т.2,с.31/), такой же трансформацией времени в вечность отмечены и кельтские Острова Блаженства. Создавая образ острова нимфеток, Гумберт предупредительно оговаривается: «Читатель заметит, что пространственные понятия я заменю понятиями времени» /152,т.2,с.26/. В госпитале в Эльфинстоне, уже начав терять Лолиту, Гумберт впервые с ней расстается, оставляя на попечение докторам. Только расставшись с Лолитой, Гумберт думает, не сообщить ли доктору Блю, что его «пятнадцатилетняя дочь потерпела небольшую аварию, перелезая через острый частокол вместе с молодым приятелем» /152,т.2,с.295/, секретарше, удаляясь от Лолиты все более и более в пространстве, Гумберт сообщит, что его дочери «в общем, шестнадцать», отметив для себя: «Долорес продолжала расти» /152,т.2,с.295/. Утрата Лолиты проецировалась Гумбертом в будущее, связывалась с взрослением Лолиты, которая перестанет быть нимфеткой, достигнув пятнадцати лет. Пространственное дистанцирование от Лолиты и предчувствие ее утраты Гумберт орнаментирует увеличением ее возраста, чем дальше от Лолиты Гумберт, тем больше она растет. Окончательно потеряв Лолиту, Гумберт проживает три пустых года /152,т.2,с.311/, по истечении которых к нему обращается повзрослевшая и увядшая Лолита, переставшая быть нимфеткой и отдалившаяся от Гумберта пространственно. Однако преодолевая пространство, Гумберт отбрасывает и временную дистанцию, отделяющую миссис Скиллер от Лолиты. Семнадцатилетнюю Долорес Гумберт продолжает называть Лолитой, тем именем, которое носила она, находясь в его объятиях, любовь к ней перестает быть тайным пороком, о ней Гумберт хочет заявить публично: «Вы можете глумиться надо мной и грозить очистить зал суда, но, пока мне не вставят кляпа и не придушат меня, я буду вопить о своей бедной правде. Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю свою Лолиту, эту Лолиту, бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем, но все еще сероглазую, все еще с сурьмянистыми ресницами, все еще русую и миндальную, все еще Карменситу, все еще мою, мою…» /152,т.2,с.340/. Накануне бегства Лолиты из больницы, Гумберт, обращаясь к ней, назовет ее «моя Кармен» /152,т.2,с.299/. Как при первом видении Лолиты, Гумберт отменяет четверть века, минувшие после расставания с Анабеллой, так и теперь обращается к Лолите с той же просьбой, которая звучала три года назад:
«Моя Кармен, мы покинем этот пересохший, воспаленный, свербящий город, как только тебе позволят встать» (говорится Гумбертом в Эльфинстоне) /152,т.2,с.299/.
«Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика, и эту страшную дыру и переехала ко мне – жить со мной, умереть со мной, все, все со мной» (приблизительно эти слова, Гумберт передает «общий смысл» своих слов, говорит Гумберт в Коулмонте) /152,т.2,с.341/.
Возвращение к Гумберту, отменяющее три пустых года без Лолиты, должно совершиться через преодоление двадцати пяти шагов до автомобиля, стать результатом «очень небольшой прогулки» /152,т.2,с.341/. Временной промежуток в четверть века (сравним – двадцать пять шагов до автомобиля) отменяется в результате преодоления большого расстояния – Гумберт пересекает океан, интервал в три года – через «небольшую прогулку». Таким образом, реализуется характерный для Гумберта принцип преодоления времени через преодоление пространства и совмещения пространства со временем. Отдаление в пространстве означает увеличение времени – так Лолита вырастает до шестнадцати в больнице, приближение в пространстве – уменьшение или полную отмену времени: четверть века, прожитая Гумбертом после утраты Аннабеллы, исчезает, когда герой впервые видит Лолиту. Время, таким образом, выступает фактором пространства, новым параметром его осознания, измерения и преодоления.
В архаической модели мира, как указывает В.Н. Топоров, «пространство не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней» /193,с.459–460/. В мифопоэтическом хронотопе время выступает, таким образом, формой пространства, его четвертым измерением. Гумберт отменяет категории длительности и векторности времени, переживая совмещение Лолиты с Аннабеллой при первом взгляде на Долорес: «Четверть века, прожитая мной с тех пор, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла» /152,т.2,с.53/. Сам роман, а точнее свою книгу о Лолите, Гумберт определяет как форму бессмертия, то есть пространства, лишенного протекания, пространства без времени, а точнее – пространства вечности. В мире романа снимаются качества раздельности и дискретности пространства и времени. В.Н. Топоров такую форму художественного пространства определяет как «чистое творчество», как «преодоление всего пространственно-временного, как достижение высшей свободы» /193,с.514/. Развивая свою мысль, исследователь приходит к заключению: «Создание «великих» текстов есть осуществление права на ту внутреннюю свободу, которая и создает «новое пространство и новое время», т. е. новую сферу бытия, понимаемую как преодоление тварности и смерти, как образ вечной жизни и бессмертия» /193,с.514–515/. Остров Келькепар представляет собой мир, объединяющий несколько частей, разрозненных в пространстве, отстоящих хронологически, но соответствующих при этом разным героям или разным ипостасям одного героя. Эти части разрозненной Вселенной объединяются формулой бессмертия, предназначенного для Лолиты и Гумберта и самим Гумбертом сотворенного. Гумберт телесно участвует в творимой им Вселенной, равно как сама эта Вселенная являет образ Лолиты, сводится к этому образу, в нем воплощается. Так возникает книга, равная миру, и человеческое существо, являющее через себя этот мир.
Мифологическая концепция многочастного пространства реализована в его разбивке на разные миры:
– области, идентифицированные по принадлежности к разным возрастным состояниям героя (детство Лолиты – Писки, Рамздэль; детство Гумберта – Ривьера), причем, вектор движения пространства в данном случае поступателен, он исключает возвращение героя в пространстве к изначальному миру, как это возвращение исключалось бы во времени. Попытка Гумберта завершить с Лолитой соединение, начатое с Аннабеллой на ривьерском пляже терпит фиаско; Лолита никогда больше не возвращается в Рамздэль, ее прощальный взмах Луизе и тополям сопровождается замечанием Гумберта: «…ни ее, ни их Лолите не суждено было снова увидеть» /152,т.2,с.85/;
– области, маркированные по принадлежности героя к способу восприятия и пересоздания действительности, соотносимые с тремя родами литературы: драма Куильти, лирика Гумберта, эпос Лолиты;
– области, принадлежащие к разным компонентам мифа, соотносимые с персонификацией солярного мифа и выступающие аналогами живого, дневного, светлого (Лолита) и потустороннего, темного (Гумберт). Эти части пространства прочитываются в терминах опространстливанного времени: при этом Лолите как эпическому герою принадлежит область времени настоящего, текущего в будущее, а Гумберту – прошлого, инверсированного в настоящее и будущее. Причем, согласно справедливому замечанию А. Мулярчика, «для Гумберта Лолита
– синоним вечности» /136,с. 129/, с ней и ее потомством, ее повторяющим, Гумберт мечтает дожить до глубокой старости, т. е. расширить временные рамки собственной жизни. Восприятие временного вектора, по которому протекает жизнь взрослеющей Лолиты, не соответствует, таким образом, его интерпретации Гумбертом, который сам воплощает остановившееся или бесконечно повторяющееся время, т. е. вечность;
– области мира, лежащего за пределами романа, которые манифестируются в его интертекстуальном поле, в автометатекстах, репрезентирующих «Лолиту» в других набоковских текстах, и затекстовой реальности: прочтениях и интерпретациях, прогнозируемых и создаваемых текстом.
Вместе с тем, сам роман – это область состоявшего бессмертия, воплощенная вечность, делимая на локальные пространственные миры. Мифологическая концепция пространства в «Лолите» выводит за пределы трехмерного пространства, отвечающего дискретному, линейному времени, сквозь текущее время и эмпирическое пространство просвечивают некоторые поэтические константы, неизменные, хотя обновляющиеся и варьируемые начала.
Своей страсти к нимфеткам Гумберт стремится придать статус некоторого постоянного начала, неизменной вертикали исторического бытия. Выстраивая парадигму нимфолепсии, Гумберт обращается сначала к эпохе романтизма (Э. По, Р. Шатобриан), затем к Ренессансу, мифологизируя биографические обстоятельства любви Петрарки к Лауре и Данте к Беатриче, и наконец приходит к некоторым изначальным обстоятельствам, относимым во времена древние и архаические: «В нашу просвещенную эру мы не окружены маленькими рабами, нежными цветочками, которые можно сорвать в предбаннике, как это делалось во дни Рима; и мы не следуем примеру величавого Востока в еще более изнеженные времена и не ласкаем спереди и сзади услужливых детей, между бараниной и розовым щербетом» /152,т.2,с.154/. Свой уникальный индивидуальный опыт Г умберт стремится представить как универсальный, общечеловеческий, более того, предполагает возможность утраты некоторой значимой традиции: «Все дело в том, что старое звено, соединявшее взрослый мир с миром детским, теперь оказалось разъятым новыми обычаями и законами» /152,т.2,с. 154/. Нимфолепсию Гумберт представляет, таким образом, как естественный, исторически сложившийся способ сообщения между мирами, который утрачен и заменен противоестественными, противоречащими человеческой природе отношениями. Восприятие своей мании в контексте исторической парадигмы связано для Гумберта с поисками оправдания, их он простирает и на синхроническую область «пространственного мира единовременных явлений», вымышляя примеры ранних браков в разных штатах, и на область диахроническую. Диахроническая парадигма нимфолепсии в отличие от ее синхронической синтагмы эстетизируется, предстает как совокупность случаев поэтических и поэтому эстетически оправданных, поставленных над моралью, вынесенных за скобки морали. Внешние время и пространство экстраполируются вовнутрь, современные события интерпретируются как воплощения архетипов, время истории трансформируется в мифологическую вечность, обретая статус части пространства. Однако как отмечает Е.М. Мелетинский, скачок от дорефлективного архаического коллективного сознания к рефлектирующему сознанию, образующему текст романа, «обязательно сопровождается иронией и самоиронией, как средством выражения огромной дистанции, отделяющей современного человека от подлинных первобытных мифотворцев» /131,с.297/.
Мифологизм набоковской «Лолиты» реализуется как сущностное, онтологическое качество, как средство оживления, наделения плотью, телесным присутствием мира романа, который являет, создает не только Лолиту, какой ее воплощает Гумберт, но и самого автора-демиурга. Ирония выступает выражением особого чувства космизма, принципиально отличного от прагматики архаического мифа, моделирующего пространственные части космоса: избирая индивидуальное сознание основой для сотворения современного мифа, даже наделяя это сознание универсальными трансисторическими чертами, мифотворец нового времени тем не менее созидает новый космос для себя, испытывая чувство соприкосновения с иной реальностью, иными обстоятельствами бытия, определяемыми Набоковым, как «потусторонность». Их наличие и сцепление может обнаружить и читатель, тогда космос романа состоится и для него. Читателю дана возможность состояться как демиургу, однако, необязательно эта возможность будет востребована и реализована, поэтому ирония в «Лолите» выступает неотъемлемой частью романного космоса, реализуясь в избранных рассказчиком приемах повествования и способах организации пространства, поглощающего время, автором.
Заключение
Мифологизм «Лолиты» выступает как ее онтологическое качество, как способ сотворения и бытия реальности книги, определенной в ней как область бессмертия. Мифологические качества набоковского текста обусловлены не наличием некоторого единичного архаического прототекста, растворенного или трансформированного в реальность книги, хотя реминисценции из архаических источников, прямо заявленные в тексте «Лолиты», причем, в таких значимых метатекстуальных фрагментах, как статья Гумберта о сущности времени («Мимир и Мнемозина») или в его же стихотворении – приговоре Куильти, играют принципиально важную роль для идентификации и самоидентификации персонажа.
Мифологичны в своей основе те метаморфозы пространства и времени, которые, обретая статус сущностных характеристик для названных параметров, сотворяют космос книги. Вопреки утверждению Ван Вина о том, что возможно вообразить время без пространства, но невозможно – пространство без времени, мир «Лолиты» – мир пространственный, в котором время выступает частью пространства или способом его идентификации. Категориальная метафора острова, инварианты которой репрезентируются и Гумбертом и Куильти, восходит к варианту – острову Quelquepart – как пространственной модели «Лолиты». Остров Келькепар репрезентирует дробное, многочастное пространство, отдельные локусы которого манифестируются по принадлежности разным героям, а объединение частей составляет прерогативу автора-демиурга. Принцип соответствия героя и мира выступает регулятивным в устройстве внутритекстуального пространства космоса «Лолиты», причем, как пространственные области прочитываются и события и ситуации, дситанцированные друг от друга хронологически – прошлое и настоящее героев, и синхронически репрезентирующие их различные состояния – мир детей и мир взрослых (именно в таком контексте прочитывается прозрение своей вины Гумбертом, который со дна «ласковой пропасти» слышит мелодию, образованную криками играющих детей). Принцип соответствия героя и мира выступает регулятивным принципом организации пространства «Лолиты» и в аспекте взаимодействия героев, что находит выражение их взаимозаменяемости и взаимообратимости в пределах функций, сводимым к ролевым амплуа палачей и жертв. Ролевой статус персонажа, не наделенный, однако, признаками константы, а, напротив, текучий и меняющийся, актуализирует драматургическое начало в организации словесной ткани книги, а, кроме того, соотносясь с лирическими и эпическими началами в «Лолите», выступает еще одним средством идентификации героя по принципу соответствия ему мира, соотносимого с одним из трех родов литературы.
Мы сознательно избегаем определения «роман» применительно к «Лолите», поскольку сам Набоков предпочитал обозначение сотворенного им мира как книги, которая по своему онтологическому статусу роман превосходит, являя самостоятельный, обособленный, но одновременного открытый для читательского со-творения мир. Демиургичность набоковского текста находит последовательное выражение в способах сотворения и организации единого пространства романа, которые на персонажном уровне соотносимы с последовательным мифо-ритуальным утверждением, причем материально-наличным, бессмертия и спасения в искусстве, творимым через заклинание словом и жертвенным мифоритуальным преображением мира. «Лолита» – мифологически идентифицируемая реальность, заключающая в свою орбиту и внешний мир, локализованный в сознании читателя и подверженный аберрации через взаимодействие с книгой. Однако, этот мир построен по принципу взаимной необходимости: книга оживает, приходя в взаимодействие с читателем, но при этом выступает как более сильный и действенный участник диалога: читатель беззащитен перед текстом, который подчиняет себе его затекстовое бытие. Дьявольское обаяние Лолиты-персонажа экстраполируется на весь словесный космос книги, являющей Лолиту.
Лолита – мономиф книги, созданию бытия, к тому вечного, бессмертного, подчинены все способы и приемы сотворения «Лолиты» – книги. Чтение «Лолиты» – рискованное предприятие, опасность которого обнаруживается постепенно, по мере все более глубокого проникновения читателя в мир книги, которое связано не с утратой «Я» и превращением в персонажа, а с необратимым изменением «Я», воспринимающего мир книги и продолжающего жить в ней, после того, как чтение закончено. Набоков, подчеркивая, что невозможно читать книгу, а можно только перечитывать ее, указывал тем самым, что читатель, вовлеченный в мир книги, продолжает ее в собственном бытии. Финал «Лолиты» внешне являет полную завершенность, исчерпанность событий: все персонажи мертвы, но когда читатель открывает книгу – призраки оживают, чем полнее и явственнее читатель воображает их, тем очевиднее их присутствие в мире, утрачивающем разграничения книги и действительности, вымысла и истины. Эта игра начата уже в самой «Лолите» и продолжается в реальности, первоначально не охваченной ее пространством.
Пространство «Лолиты» – многомирное, многочастное, принципиально сотворенное – наделено эктропийной тенденцией к расширению, к поглощению новых миров (т. е. новых частей единого мира) в свою сферу. «Лолита» – не только явленное, состоявшееся бессмертие, это и постоянно возобновляемый способ преодоления смертности и конечности. Миф и ритуал не просто архаические прототексты «Лолиты», а ее действенные, онтологические начала, которые действительно «заставляют» книгу жить и разрастаться не только в отношении наращения смысловых интерпретаций и наращения смыслового объема, но и в мифологическом аспекте сотворения космоса, выступающего одновременно и вымыслом и правдой и способом сотворения реальности и самой этой многочастной, «узорчатой» пространственно необъятной реальности, поглощающей и отменяющей, «опространстливающей» время.
Сноски и примечания:
1. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. – М., 1972. Вып. 3.
2. Авижас А.А. О некоторых свойствах художественной реальности в романе В. Набокова «Машенька» // Филологический вестник Ростовского государственного университета. 1997. № 1. С. 15–21.
3. Автономова Н.Г. Миф. Хаос. Логос. // Заблуждающийся разум. – М., 1986.
4. Александров В.Е. Набоков и потусторонность. – СПб., 1999.
5. Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. – Екатеринбург, 1997.
6. Анастасьев Н. Феномен Набокова. – М., 1992.
7. Антошина Е.В. Философия диалога в прозе В. Набокова. // Проблемы литературных жанров. Ч. 2. – Томск, 1999. С. 169–173.
8. Апресян Ю. Роман «Дар» в космосе В. Набокова // Изв. АН. Сер. лит. и яз. – Т.54. – № 3. – 1995. С. 3–18.
9. Бабич Д. Каждый может выйти из зала. Театрализация зала в произведениях Набокова. // Вопросы литературы. 1999. № 5. С.142–158.
10. Байбурин А.К. Ритуал: свое и чужое // Фольклор и этнография. Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. – Л., 1990.
11. Барабаш Ю. Набоков и Гоголь. (Мастер и гений). Заметки на полях книги Владимира Набокова «Николай Гоголь». // Москва. 1989. № 1. С. 180–193.
12. Барт Р. Избранные работы. Поэтика. Семиотика. – М., 1989.
13. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.
14. Бахтин М.М. Лекции по истории зарубежной литературы. Античность. Средние века. – Саранск, 1999.
15. Бахтин М.М. От философии поступка к риторике поступка. – М., 1996.
16. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1995.
17. Башляр Г. Избранное: новый рационализм. – М. – С-Пб., 2000.
18. Башляр Г. Земля и грезы воли. – М., 2000.
19. Башляр Г. Психоанализ огня. – М., 1993.
20. Безродный М. Имя черта // Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 276–278.
21. Белова Т.Н. В.Набоков и Э. Хемингуэй. (Особенности поэтики и мироощущения) //Вестник Московского государственного университета. Сер.9. Филология. 1999. № 2. С. 55–61.
22. Белый А. Символизм как мировосприятие. – М., 1994.
23. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1975.
24. Бергсон А. Собр. соч. Т.1. Опыт о непосредственных данных сознания. Материя и память. – М., 1992.
25. Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // В.В. Набоков: Pro et Contra. – СПб., 1997.
26. Берберова Н. Курсив мой. (Автобиография) // Вопросы литературы. – 1989. -№ 11.
27. Беседа В. Набокова с Пьером Домергом // Звезда. – 1996. – № 11.
28. Бетея Дейвид М. Изгнание как уход в кокон: образ бабочки у Набокова и Бродского // Русская литература, 1991. № 3.
29. Битов А. Одноклассники. К 90-летию О. В. Волкова и В. В. Набокова // Новый мир, 1990. № 5. С. 224–242.
30. Бицилли П.М. Статьи: История. Культура. Литература // Русская литература. 1990. № 2. С. 134–155.
31. Боас Ф. Ум первобытного человека. – М.-Л., 1926.
32. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.,2000.
33. Борухов Б.Л. Об одной вертикальной норме в прозе Набокова: (Категория половины в романе «Лолита») // Художественный текст: антология и интерпретация. – Саратов, 1992. С. 130–134.
34. Борхес Х.-Л. Коллекция. Рассказы; Эссе; Стихотворения. – СПб., 1992.
35. Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова. – М., 1998.
36. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – М., 2000.
37. Вермель С. Ирония и театральность. // Любовь к трем апельсинам. Журнал Доктора Дапертутто. 1914, № 2.
38. Вирмо А. и О. Мэтры мирового сюрреализма. – С-Пб., 1996.
39. Владимир Набоков. Неизданное в России // Звезда. 1996. № 11.
40. Владимир Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 1997.
41. Выготский Л. Психология искусства. – Спб., 2000.
42. Гаврилова Ю.Ю., Гиршман М.М. Миф-автор-художественная целостность: аспекты взаимосвязи // Филологические науки. – 1993. -№ 3.
43. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
44. Гайденко П. Герменевтика и кризис буржуазной культурноисторической традиции // Вопросы литературы. – 1989. – № 6.
45. Ганжара О.А. Игровое пространство в русской литературе первой половины XX века: структура, динамика, функционирование. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. филолог, наук. – Ставрополь, 2002.
46. Гараджа А.В. Критика метафизики в неоструктурализме (по работам Ж. Дерриды 80-х годов). – М., 1989.
47. Герменевтика: история и современность. – М., 1985.
48. Гинзбург Л. Из записей 1950-1980-х гг.: «Лолита». // Родник (Рига), 1989, № 1.С. 27.
49. Грация Э. Девушки оголяют колени везде и всюду. Закон о непристойности и подавление творческого гения. Гл.: Своими колготками, Лолита! // Иностранная литература, 1993, № 1.
50. Гринцер П.А. Эпос древнего мира // Типология и взаимодействие литератур древнего мира. – М., 1971.
51. Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. – М., 1979.
52. Гуссерль Э. Собр. соч. T.I. Феноменология внутреннего сознания времени. – М., 1994.
53. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. // Логос. – М., 1911. Кн.1. С. 1–56.
54. Гуссерль/Деррида. Начала геометрии. – М., 1996.
55. Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. – СПб. – М., 2001.
56. Дарк О. Загадка Сирина. Ранний Набоков в критике «первой волны» эмиграции. //Вопросы литературы, 1990. № 3. С. 243–257.
57. Дарк О. Миф о прозе. // Дружба народов. 1992. № 5–6. С. 219–234.
58. Дашевская О.А. Мифологема рая в лирике В. Набокова. // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 2. В. Набоков в контексте русской литературы XX века. – Томск, 2000.
59. Долинин А. Загадка не дописанного романа // Звезда. 1997. № 12. С. 215–223.
60. Долинин А. «Двойное время» у Набокова. (От «Дара» к «Лолите») // Пути и миражи русской культуры. С.-Пб., 1994. С. 283–322.
61. Долинин А. Поглядим на арлекинов. Штрихи к портрету В. Набокова// Лит. обозрение, 1988. № 9. С. 15–20.
62. Долинин А. После Сирина. // Набоков В. Романы. – М., 1991. С.5– 14.
63. Долинин А. Цветная спираль Набокова // Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, резенции. – М., 1989. С. 438–469.
64. Делез Ж. Логика смысла. – М., 1995.
65. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше. // Философское науки, 1991, № 1. С. 118–129.
66. Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Э. Гуссерля. – С.-Пб., 1999.
67. Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии, 1982, № 4. С. 53–57.
68. Джонг Э. «Лолите» исполняется тринадцать. // Диапазон, – М., 1994, № 1. С. 6–13.
69. Дильтей В. Описательная психология. – С-Пб., 1996.
70. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. – М., 1990.
71. Евреинов Н.Н. Театр как таковой. Основания театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни. – М., 1923.
72. Евреинов Н.Н. Театр для себя. – СПб., 1915. 4.1.
73. Егорова Л.П. Герменевтика и феноменология как арсенал современного литературоведения // «Textus» Принципы и методы исследования в филологии. Конец XX века. – С-Пб., 2001. С. 78–87.
74. Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова или В поисках потерянного рая // Вопросы литературы, 1988, № 10. С. 125–160.
75. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987.
76.3емлянова Л.М. Современное литературоведение в США, – М., 1985.
77. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. – М., 2000.
78.3лочевская А.В. Роман В. Набокова «Ада» в контексте русской литературной традиции. // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2001. № 2. С. 34–46.
79.3лочевская А.В. Поэтика Владимира Набокова: новации и традиции. //Русская литература. 2000. № 1. С. 40–61.
80.3лочевская А.В. Традиции Ф.М. Достоевского в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» // Филологические науки. 1995. № 2. С. 3–12.
81.3лочевская А.В. Парадоксы «игровой» поэтики Владимира Набокова (на материале повести «Отчаяние») // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1997. № 5. С. 3–12.
82.3лочевская А.В. В.Набоков и М.Е. Салтыков-Щедрин // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1999. № 5. С. 3–12.
83.3лочевская А.В. Эстетические новации Владимира Набокова в контексте традиций русской классической литературы // Вестник Московского государственного университета. Сер.9. Филология. 1997. № 4. С. 9–19.
84.3лочевская А.В. В. Набоков и Н. Гоголь // Вестник Московского государственного университета. Сер.9. Филология. 1999. № 2. С. 30–46.
85.3лочевская А.В. Влияние идей русской литературной критики Х1Х-ХХ вв. на эстетическую концепцию Владимира Набокова. // Научные доклады высшей школы. «Филологические науки». 2001. № 3. С. 3–12.
86. Зотов С.Н. Художественное пространство – мир Лермонтова. – Таганрог, 2001.
87. Ибсен Г. Собр. соч. в 4 т. – М., 1956.
88. Иванов В.В. О некоторых принципах современной науки и их приложении к семиотике малых (коротких) текстов // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. – М., 1988.
89. Иванова Евг. Владимир Набоков: выломавшее себя звено // Литературная учеба. – 1989. – № 6. С. 153–161.
90. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М., 2001.
91. Ильин И.П. Постструктурализм и диалог культур. – М., 1989.
92. Ильин И.П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях. – М., 1988.
93. Ильин И.П. Между структурой и читателем: Теоретические аспекты коммуникативного изучения литературы. // Теории, школы, концепции: (Критические анализы); Художественная рецепция и герменевтика. – М., 1985.
94. Ильин И.П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях. – М., 1988.
95. Ильин И.П. Между структурой и читателем: Теоретические аспекты коммуникативного изучения литературы. // Теории, школы, концепции: (Критические анализы); Художественная рецепция и герменевтика. – М., 1985.
96. Ильин И.П. Стилистика интертекстуальности; Теоретические аспекты.// Проблемы современной стилистики. – М., 1989. С.186–207.
97. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962.
98. Исландские саги. Ирландский эпос. – М., 1973.
99. Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000.
100. Карпович И.Е. Сборник рассказов В.В. Набокова «Весна в Фиальте»: поэтика целого и интертекстуальные связи. Автореферат на дисс. на соиск. уч. степени канд. фил. наук. – Барнаул, 2000.
101. Клех И. О писателях – двуязычном и безъязычном. // Вопросы литературы. 2001. № 1. С. 172–183.
102. Кормин Н.А. Диаграмма времени-сознания и феномен художественного восприятия //Феноменология искусства. – М., 1996. С. 54–89.
103. Красавченко Т.Н. Защита Набокова // СО Русское литературное зарубежье. Вып. 1. – М., 1991.
104. Красавченко Т.Н. В.В. Набоков о Ходасевиче // СО Русское литературное зарубежье. Вып. 1. – М., 1991.
105. Кретьен де Труа. Рыцарь Льва. // Зарубежная литература средних веков. Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы. Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974.
106. Кузнецов П. Утопия одиночества. Владимир Набоков и метафизика // Новый мир, 1992. № 1.С.243–250.
107. Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. – М., 1997.
108. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. – М.,
1995.
109. Лебедев А. К приглашению Набокова // Знамя. 1989. № 10. С. 203–213.
110. Левин Ю. Повествовательная структура как генератор смысла: текст в тексте в новеллах Х.-Л. Борхеса // Текст в тексте. – Тарту, 1984.
111. Левин Ю. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М., 1998.
112. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983.
113. Леви-Стросс К. Структура и форма // Семиотика-83. – М., 1983.
114. Леви-Стросс К. Мифологики: сырое и вареное. – М., 2000.
115. Леденев А.В. Ритмический «сбой» как маркер аллюзии в романе В.В. Набокова «Лолита» // Вестник московского университета. Сер. 9. Филология. № 2. С. 47–55.
116. Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче. // Литературное обозрение. 1992. № 1. С. 75–78.
117. Лики Ирландии. Книга сказаний. – М.-СПб., 2001.
118. Линецкий В. За что же все-таки казнили Цинцинната Ц.? // Октябрь, 1993, № 12. С. 175–179.
119. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб., 1998.
120. Липовецкий М. Эпилог русского модернизма (Художественная философия творчества в «Даре» Набокова) // Владимир Набоков: Pro et Contra. – СПб., 1997.
121. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1976.
122. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992.
123. Лотман Ю. Семиосфера. – С-Пб., 2000.
124. Лотман Ю.М. О.М. Фрейденберг как исследователь культуры // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1973. Вып. 6.
125. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Статьи по типологии культуры. – Тарту, 1973.
126. Люксембург A.M., Рахимкулова Г.Ф. Магистр игры Вивиан Ван Бок. (Игра слов в прозе Владимира Набокова в свете теории каламбура). – Ростов-на-Дону, 1996.
127. Люксембург А.М. Лабиринт как категория игровой поэтики // Известия вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки.
1998. № 1. С. 70–74.
128. Майн Рид. Собр. соч. в 6 т. – М., 1958.
129. Маркес Г.Г. Сто лет одиночества. Полковнику никто не пишет. – М., 1986.
130. Медарич М. Владимир Набоков и роман XX столетия. // Russian Literature (Amsterdam), № XXIX. 1991. С. 79–100.
131. Мелетинсккий Е.М. Поэтика мифа. – М., 1995.
132. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994.
133. Мелетинский Е.М. Семантическая организация мифологического повествования и проблемы семантического указателя мотивов и сюжетов. // Текст и культура. Труды по знаковым системам. – Тарту, 1983.
134. Мелетинский Е.М. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и проблема происхождения архетипических сюжетов. // Вопросы философии, 1991, № 10.
135. Мельников Н. Криминальный шедевр Владимира Владимировича и Германа Карловича. О творческой истории романа В.В. Набокова «Отчаяние» // Волшебная гора. – М… № 2. 1994. С. 151–165.
136. Мулярчик А.С. Русская проза Владимира Набокова. – М., 1997.
137. Набоков В. Ада, или Страсть. Хроника одной семьи. Т.6. -Киев-Кишинев, 1995.
138. Набоков В. Второй режиссер. // Иностранная литература. 1993. № 12. С. 109–120.
139. Набоков В. Интервью, данное Альфреду Аппелю // Вопросы литературы, 1988. – № 10.
140. Набоков В.В. Искусство литературы и здравый смысл // Владимир Набоков. Неизданное в России // Звезда, 1996. – № 11.
141. Набоков – классик. Великие мастера. – ВВС Woldwide Ltd,
1996. – Союз-Видео, 2002.
142. Набоков В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. – М., 1999.
143. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998.
144. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. – М., 1996.
145. Набоков В. Лолита. Т.5, дополнительный к собр. соч. в 4 т. М., 1992.
146. Набоков В.В. Первое стихотворение // Владимир Набоков. Неизданное в России // Звезда, 1996. – № 11.
147. Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») // В. Набоков: pro et contra. – СПб., 1997.
148. Набоков В. Пьесы. М., 1990.
149. Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания. – М., 1991.
150. Набоков В.В. Стихотворения и поэмы. – М., 1991.
151. Набоков В.В. Собр. соч. – В 4 т. – М., 1990.
152. Набоков В.В. Собр. соч. амер. периода. – В 5 т. – СПб., 1999
153. Набоков В.В. Собр. соч. русского периода. – В 5 т. – СП б., 2000.
154. Некрасов Н.А. Собр. соч. в 3 т. М., 1958.
155. Нива Ж. От Жюльена Сореля к Цинциннату (Стендаль – Набоков). //Континент-87. Москва-Париж, 1987.
156. Николина Н.А. Образ читателя и структура повествования. («Другие берега» В. Набокова) // Читатель и современный литературный процесс. – Грозный, 1989. С. 25–28.
157. Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова. – М., 1995.
158. Носик Б. Набоков – переводчик и переводчики Набокова // Иностранная литература. 1993. № 11. С. 238–242.
159. Паламарчук П. Театр В. Набокова: о драматическом наследии писателя// Дон. 1990. № 7. С. 147–153.
160. Паперно И. Как сделан “Дар” Набокова. // Владимир Набоков: pro et contra. – СПб., 1997.
161. Повесть временных лет. – М., 1946.
162. Подорога В. Выражение и смысл. – М., 1995.
163. Поэзия английского романтизма. – М., 1975.
164. Поэзия Ирландии. – М., 1988.
165. Прехтль П. Введение в феноменологию Э. Гуссерля. – Томск, 1999.
166. Проффер К. Ключи к «Лолите». – СПб., 2000.
167. Пятигорский А. Чуть-чуть о философии Владимира Набокова // Владимир Набоков: Pro et contra. – СПб., 1997.
168. Радлов С. Статьи о театре. 1918–1922. -Пг., 1923.
169. Рахимкулова Г.Ф. Игра волшебных скобок (Роль скобок в прозе Владимира Набокова и проблемы игровой стилистики) // Филологический вестник Ростовского государственного университета. 1997. № 1. С. 43–46.
170. Роман о Тристане. // Зарубежная литература средних веков. Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы. Сост. Б.И. Пуришев. – М., 1974.
171. Руднев В. Прочь от реальности. – М., 2000.
172. Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 2. В. Набоков в контексте русской литературы XX века. – Томск, 2000.
173. Рягузова Л.H. Эстетические и теоретико-литературные понятия В. Набокова // Текст-интертекст-культура. – М., 2001.
174. Рягузова Л.H. Метаязыковая концептуализация сферы «творчество» в эстетической и художественной системе В.В. Набокова. Автореферат дисс. на соискание уч. степ. докт. филолог, наук. – Краснодар, 2000.
175. Сараскина Л. Набоков, который бранится… // Октябрь. 1993. № 1. С. 176–189.
176. Сарнов Б. Ларец с секретом. (О загадках и аллюзиях в русских романах В. Набокова) // Вопросы литературы. 1999. № 3. С. 136–182.
177. Светлакова О.А. В.В. Набоков о «Дон Кихоте». // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1998. № 3. С. 40–47.
178. Сендерович С. Ревизия юнговской теории архетипа. // Логос, 1995, № 6.
179. Сендерович С., Шварц Е. «Лолита» по ту сторону порнографии и морализма // Литературное обозрение, 1999. № 2.
180. Сендерович С., Шварц Е. Вербная штучка. Набоков и популярная культура. Статья Первая. Статья вторая.// Новое литературное обозрение, 1997. № 24, 26. С. 201–222.
181. Сконечная О. Черно-белый калейдоскоп: Андрей Белый в отражениях Набокова // Литературное обозрение, 1994. № 7–8. С. 34–46.
182. Смирнов А.А. Из истории западноевропейской литературы. – М.-Л., 1965.
183. Современные зарубежные литературоведческие концепции. (Герменевтика, рецептивная эстетика). – М., 1983.
184. Старк В. В.Ш., или Муза Набокова // Искусство Ленинграда.
1991. Март. С. 17–25.
185. Стеблин-Каменский М.И. Миф. – Л., 1976.
186. Струве Г. Русская литература в изгнании. // Р., 1984.
187. Театр и театральность. // Театр, 1989, № 3, 4.
188. Толстая Н.И. «Полюс» В. Набокова и «Последняя экспедиция Скотта» // Русская литература. 1989. № 1. С. 133–136.
189. Толстая Н.И. «Спутник яснокрылый» // Русская литература.
1992. № 1. С. 188–192.
190. Толстой И. Роман с продолжением Владимира Набокова // Аврора. 1988. № 6. С. 46–51.
191. Топоров В. Набоков наоборот // Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 71–75.
192. Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов //Ранние формы искусства. – М., 1972.
193. Топоров В.В. Пространство и текст. // Из работ московского семиотического круга. – М., 1997.
194. Три интервью с Владимиром Набоковым // Иностранная литература, 1995. – № 11.
195. Тристан и Исольда. Сборник статей. – Л, 1936.
196. Фенина Г.В. О некоторых аспектах комментирования В.В. Набоковым романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Филологические науки. 1989. № 2. С. 9–16.
197. Феноменология искусства. – М., 1996.
198. Филатов Е.И. Автор и герой в эстетике В.В. Набокова («Лекции по русской литературе») // Проблема литературных жанров. – Томск, 1999. Ч. 2. С. 181–184.
199. Философия Э. Гуссерля и ее критика. Реферативный сборник. – М., 1983.
200. Фомин С. «Стихи пронзившая стрела» (Тема творчества в поэзии В. Набокова) // Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 41–53.
201. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.
202. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. – СПб., 2001.
203. Хайдеггер М. Пролегомены. К истории понятия времени. – Томск, 1998.
204. Хализев В. Драма как род литературы. – М., 1986.
205. Хансен-Леве Оге А. Русский формализм. – М., 2001.
206. Червинская О. Пушкин. Набоков. Ахматова: Метаморфизм русского лирического романа. – Черновцы, 1999.
207. Шаумянова М.Д. Стиль и художественный мир В.В. Набокова (рассказ «Весна в Фиальте») // Проблемы метода и жанра. Вып. 19. -Томск, 1997. С. 231–248.
208. Шаховская 3. В поисках Набокова. Отражения. – М., 1991.
209. Шкловский В. Гамбургский счет. – М., 1990.
210. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи. – М., 1911.
211. Шохина В. На втором перекрестке утопии // Звезда. 1990. №
11. С. 171–179.
212. ШпетГ.Г. Сочинения. – М., 1989.
213. Шраер М.Д. Бунин и Набоков: поэтика соперничества //? – М., 1995. С. 41–64.
214. Штайн К.Э. Поэтический текст в научном контексте. Textus. -СПб. – Ставрополь, 1996.
215. Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. – Л., 1936.
216. Шульман М. Набоков, писатель // Постскриптум. – СПб.-М., 1997. -№ 1.
217. Элиаде М. Космос и история. – М., 1987.
218. Элиаде М. Мифы. Сновидения. Мистерии. – М., 1996.
219. Юнг К.-Г. Архетипы коллективного бессознательного. // История зарубежной психологии 30-60-ые годы XX века. Тексты. – М., 1986.
220. Юнг К.-Г. Проблемы души нашего времени. – М., 1995.
221. Юнг К.-Г. О современных мифах. – М., 1994.
222. Юнг К.-Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М., 1992. Т. 15.
223. Appell A. Introduction // Nabokov V. The Annotated Lolita. Rev. a. updated. N. Y.: Vintage, 1991. P. LX–LXXYII.
224. Bodkin M. Archetypical Pattens in Poetry. Psychological studies of imagination. -New-York, 1963 (1 ed. – 1934).
225. Johnson D. B. Worlds in Reflection. Some Novels of Vladimir Nabokov. – Ann Arbor, 1985.
226. Nabokov V. Strong Opinions. – New-York. McGraw-Hill, 1973.
227. Levi G.R. The Sword from the Rock. An Investigation into origins of Epic Literature. – London – New-York, 1953.
228. Rampton, David. Vladimir Nabokov: A Critical Study of the Novels. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1984.
229. Rowe W.W. Nabokov and others. Patens in Russian Literature. Ann Arbor; Ardis, 1979.
230. Toker L. Nabokov. The Mystery of Literary Structures. – Cornell University Press. – Itaca and London, 1989.
231. Определение художественной реальности романа как особого, самостоятельного и автономного, но при этом открытого для диалога мира выдвинуто самим Набоковым в курсе лекций по зарубежной литературе. «Нужно всегда помнить, что во всяком произведении искусства воссоздан новый мир, и наша главная задача – как можно подробнее узнать этот мир, впервые открывающийся нам и никак впрямую не связанный с теми мирами, что мы знали прежде. Этот мир нужно подробно изучить – тогда и только тогда начинайте думать о его связях с другими мирами, другими областями знания», – указывает Набоков во вступительной лекции «О хороших писателях и хороших читателях» /73,с.23/
232. К. Проффер, расшифровывая название Келькепар, идентифицирует его по принципу фонетического подобия с фамилией Куильти. Французская транскрипция название острова вызвана, по мнению исследователя, непосредственным включением цитат из «Кармен» Мериме в ткань романа (просьба Гумберта уехать, обращенная к Лолите в больнице, почти буквально повторяет слова Хосе, обращенные к Кармен) /152,т.2,с.38–39/
233. Раздвоенность единого: два брата – авторы одних произведений «Детские и семейные сказки», «Немецкие предания» – прочитываются как одно авторское «Я», можно в контексте аллюзий из германо-скандинавской архаической поэзии соотнести с одним из 54-х имен Одина, перечисляемых в строфах 46–50 и 54 в «Речах Гримнира»: «Звался я Грим, // звался я Ганглери…» – каждое из имен отражает различные качества Одина – его одноглазость, его длинную бороду, его мудрость, его искусность в колдовстве, его многоликость /10,с.214/. Совпадение название улицы с одним из имен бога, скорее всего, случайно, однако принципиально значим сам принцип именования героя в зависимости от обстоятельств, которые акцентируют то или иное его качество, реализуемый Гумбертом и по отношению к Лолите и по отношению к себе.

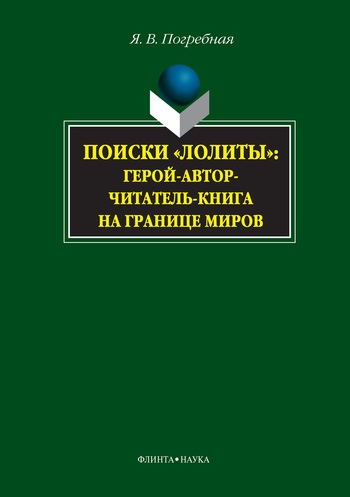






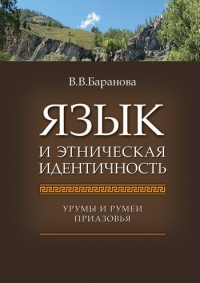
Комментарии к книге «Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-книга на границе миров», Яна Всеволодовна Погребная
Всего 0 комментариев