Как известно, сословная система эпохи Токугава включала в себя далеко не все население страны. В частности, вне ее рамок были поставлены многие десятки тысяч париев, которых власти считали второстепенным социальным элементом, не достойным особого внимания. Именно поэтому история париев нашла весьма скудное отражение на страницах официальных документов
гой эпохи. Однако и сохранившиеся материалы дают возможность установить главное: практически дискриминируемое меньшинство всегда оставалось неотъемлемой и важной частью всей феодальной структуры организации общества, основные закономерности развития которого сказались на его судьбе, пожалуй, с наибольшей силой и выразительностью. Именно поэтому анализ его истории, важный и научно актуальный и сам по себе, может, как мы думаем, способствовать также и более четкому и точному представлению о социальной и политической сущности режима Токугава в целом. Сегрегация групп париев, конечно же, не была каким-то случайным историческим феноменом, она явилась закономерным результатом жизнедеятельности всего общественного организма. Поэтому понять ее истоки и суть можно только на основе изучения политических, социальных и идейных процессов развития японского общества в целом.
Как и для всех других слоев населения, рассматриваемый нами здесь период истории стал важнейшим и в процессе эволюции групп японских париев, в результате которой явление дискриминации в конце концов было приспособлено к новым условиям централизованного государства Токугава 7.
История париев насчитывала уже много сотен лет (см. [44; 45; 46; 47]). В XVI в. у этих презираемых социальных групп, так же как и у других, возникли некоторые новые возможности развития. В это время в связи с упадком и крахом сёгунской династии Асикага значительно ослабла старая система жестких ограничений париев. Хотя сэммин продолжали традиционно изолировать от остального общества, все же они смогли несколько упрочить свои позиции в отдельных, ранее недоступных им отраслях ремесла, в торговле и даже в сельскохозяйственном производстве. Кроме того, в связи с ростом общественной значимости некоторых прежде презираемых видов занятий ряд ранее зависимых профессиональных объединений (например, кузнецов и каменщиков) получил более высокий социальный статус, приблизившись к уровню «простого народа» (хэймин). Пожалуй, впервые в истории в среде сэммин появились группы наиболее предприимчивых людей, которым удалось достичь определенной степени благосостояния и, экономической независимости, что часто вызывало «законное» недовольство со стороны «благородных» и «чистых» японцев [47, с. 169—172].
В своих усилиях, направленных к более надежному подчинению хэймин, даймё никогда не забывали и про дискриминируемое меньшинство. Так, например, когда князья во второй половине XVI в. стали переселять во вновь создаваемые или расширявшиеся города ремесленников и торговцев, они в число переселенцев нередко включали также и представителей презираемых социальных.групп. Но последние обычно селились ими отдельно от остальных,: в особые поселки (их называли бураку или токусю бураку) на окраинах городов или вблизи от них. Таким образом, создание новых общин париев оказалось тесно связанным с процессом развития экономических и политических центров страны того периода.
Как мы уже отмечали, Ъпределенное воздействие на умонастроения буракумин во второй половине XVI в. оказали первые контакты с Западом. Первым их ощутимым результатом было распространение в среде сэммин христианства, в котором париев прежде всего привлекали по-своему понятые идеи равенства людей и неизбежности наказания любого зла [75, с. 441]. Но вместе с тем на их мировосприятие влияло и обычное, «бытовое» знакомство с представителями западной культуры. В результате такого знакомства парии узнали, например, что существующая в Японии система социальных ценностей далеко не абсолютна и не естественна. Так, оказалось, что убой скота, кожевенное производство и употребление в пищу мяса вовсе не делает людей изгоями. Европейцы от этого не становились париями.
В конце XVI в., когда власти приложили много усилий к закреплению сословной разобщенности, группам париев было уделено особое внимание. Продолжался процесс создания их новых поселений, которые вначале могли насчитывать лишь от четырех до 'Десяти домов [54, с. 47]. Поселения сразу же ставились под специальный контроль администрации и для них устанавливались особые функциональные и' правовые нормы и рамки. .
Создавая эти поселки, феодальная знать в первую очередь руководствовалась своими экономическими потребностями, поскольку многие важные нужды самих даймё и их владений могли быть удовлетворены только за счет услуг презираемых социальных групп. Как уже отмечалось, в средневековой Японии практически лишь парии могли заниматься такими крайне необходимыми видами деятельности, как убой скота и дубление кожи, производство различных изделий из кожи и бамбука, обуви, воинских доспехов и некоторых видов оружия, уборка мусора и т. д. Именно поэтому в них всегда нуждались, особенно во время войн, когда резко возрастала потребность в производимом ими военном снаряжении—в щитах, защитной одежде и обуви, луках, стрелах, колчанах, конской сбруе и барабанах.
Но необходимость в бураку определялась не только экономическими соображениями. Сэммин использовались для осуществления и других весьма важных общественных функций. Освобождавшиеся от обычных налогов и отработок, они должны были выполнять многочисленные специфические повинности, крайне тяжелые и унизительные, которые увеличивали их «оскверненность» в глазах остального народа. По предписаниям властей жителям бураку надлежало регулярно выделять из своей среды определенное число людей, которым вменялось в обязанность тайно следить за всеми подозрительными элементами и выявлять недовольных в пределах указанных им сел, городов и владений. Кроме того, париев назначали и для осуществления ареста, конвоирования, охраны и казни преступников, в число которых обычно включались и участники различных антифеодальных выступлений [54, с. 47— 48].
Однако выполнение париями столь важных с точки зрения государства общественных функций вовсе не говорило о каком-то особом доверии к ним со стороны властей. Скорее, даже наоборот. Правители Японии исходили в данном случае исключительно из отрицательной оценки жителей бураку. Во-первых, господствующим кругам казалось несложным и естественным привлекать париев к выполнению этих повинностей потому, что последние уже сотни лет были изолированы от остального населения страны и противопоставлены ему. Поэтому они были уверены, что укоренившееся в сэммин чувство вражды к окружающему миру заставит их ревностно исполнять свои полицейские обязанности. А во-вторых, феодальная знать вовсе и не считала париев, выполнявших эти функции, людьми, а, скорее, лишь одним из технических компонентов совершения правосудия, неизбежным дополнением к топору.
В связи с этим иногда возникала на первый взгляд просто парадоксальная ситуация. В среде знати считали, что совершить казнь ее представителя простой, «обычный» человек не может, ибо это нарушит представление о неоспоримом превосходстве и неприкосновенности дворян. Поэтому наказание представителя знати считалось допустимым совершить или самому провинившемуся (ему обычно предписывалось совершить харакири), или париям, которых феодалы не считали людьми. Однако хэймин, очевидно, оценивали париев иначе: они обычно возмущались, если охранниками к ним или экзекуторами назначали жителей бураку, «этих проклятых эта» [35, с. 121].
В некоторых отчетах европейских миссионеров за первую половину XVII в. имеются упоминания о том, что во время развернувшихся тогда жестоких преследований христиан власти часто привлекали к выполнению палаческих функций париев. Вместе с тем они иногда с похвалой отмечали случаи, когда палачи-парии, тайные христиане, отказывались совершать смертную казнь над своими собратьями по вере. Бывало даже, что они обращались и к жителям соседних бураку с призывом также саботировать выполнение этой повинности. Но эти случаи были все же исключениями. Обычно буракумин послушно и точно выполняли свои карательные функции8.
В период Токугава сохранилась еще одна сфера деятельности, в значительной степени «монополизированная» париями. Они были актерами во многих типах простонародных представлений, дававшихся обычно на храмовых и деревенских праздниках, а также занимались гаданием и предсказаниями, что, по существу, было лишь слегка завуалированной формой нищенства сэммин.
Таков был уже сложившийся и традицией четко зафиксированный круг деятельности париев, выход за пределы которого рассматривался как серьезное преступление.
Кроме ограничений в производственной сфере весьма тяжкой для париев была также и строгая регламентация в отношении их местожительства.- В отличие от крестьян они были прикреплены не к земле, а к своим бураку и не имели права самовольно покидать их.
На протяжении значительной части XVII в. большую роль в определении социального места париев (как и других внесослов-ных объединений) в обществе продолжали играть не юридические акты, а традиции, давно сложившиеся нормы и правила. На первый взгляд могло казаться, что власти в своей социальной политике вообще уделяли этой части населения удивительно мало внимания. Это выразилось, в частности, в том, что они четко не определили социальный статус париев: их не только не выделили в особое сословие, но и в отличие от других внесословных групп не приравняли какому-либо иному сословию. Поэтому общие юридические регламентации просто не касались их. Могло создаться впечатление, что их игнорируют, что или проблема сегрегации -стала уже совершенно незначимой, или же само дискриминируемое меньшинство вообще исчезло.
Однако дело обстояло далеко не так. Игнорирование проблемы было лишь кажущимся, оно было своеобразной формой проявлений высокомерного, презрительного отношения к париям. Власти не считали их даже людьми, их объединения не признавались частью «обычного» общества, а поселки — элементом «нормальных» общин. Именно поэтому сэммин были поставлены намного ниже всех остальных сословий. Принцип их игнорирования и унижения, доведенный до полного абсурда, нашел, в частности, воплощение в том, что поселения париев были официально исключены из тех административных единиц, неотъемлемой частью которых они фактически являлись — из «обычных» деревень, городов и феодальных владений в целом. Более того, когда в начале XVII в. правительство Токугава приступило к созданию государственной транспортной системы и для ее обслуживания на определенных участках дорог были организованы новые поселения париев, во всех географических картах, путеводителях и справочниках было запрещено указывать названия, приводить условные обозначения и давать параметры этих поселений. Это крайне искажало топографическую картину многих районов страны и было крайне неудобно не только для путешественников, но и для самих властей. Однако простой здравый смысл в данном случае был принесен в жертву господствующему социальному предрассудку, который считался гораздо более важной общественной ценностью, чем очевидная реальность [71, с. 93].
Такое игнорирование групп париев вовсе не было чем-то нейтральным и безобидным, касающимся лишь сферы идеологии. Оно практически означало, что их поселки при любых обстоятельствах были лишены заботы и помощи, как и права на пользование всем общинным достоянием. Об отношении властей к дискриминируемому меньшинству может служить такой красноречивый штрих. При записях париев в подворовые регистры администрация обычно использовала (как в прошлом для указания числа рабов) счетное слово хики, которое в японском языке применяется для определения поголовья скота. И таким образом, официальные статистические данные звучали крайне оскорбительно для париев, например: «две головы эта», «четыре головы хинин» [93, с. 98].
Следовательно, несмотря на отсутствие тщательно разработанной системы юридических актов, определявших статус париев, их возможности в труде и в быту были достаточно четко определены традициями, и практически никто в стране не сомневался, что дозволено и прилично и что недоступно жителям бураку.
Но с конца XVII в., в условиях неуклонного нарастания трудностей для всей феодальной структуры, власти начали предпринимать все более настойчивые попытки юридическими актами закрепить детальную регламентацию всех сторон жизни париев. Практически эти акты почти не вводили в жизнь общества что-то новое. Они свидетельствовали, скорее, о растущей боязни властей возможных перемен во всей сословной системе.
У властей было вполне достаточно оснований для подобного беспокойства. В реальных условиях жизни париев, в явлении дискриминации в целом, как и в положении всех слоев населения, произошли весьма заметные перемены, которые определялись общими закономерностями развития феодальной структуры.
К концу XVII в. в основном завершился цикл определенной унификации существовавших многие столетия различных объединений сэммин. Постепенно выделились две основные группы париев, что было следствием развития давней традиции размежевания, характерной еще для старых групп париев — каварамоно9 и сандзё-но моно10. Официально эти группы определялись терминами, пожалуй наиболее оскорбительными из всех существовавших ранее: эта (буквально — «много грязи») и хинин (буквально — «нечеловек») [71, с. 91]. Характерно, что между этими объединениями сэммин, по существу входившими в одно сословие, сложились такие же отношения отчуждения, какие существовали между представителями разных сословий. Эта и хинин относились Друг к другу с крайним презрением и высокомерием, что исключало возможность каких-либо нормальных человеческих контактов между ними: проживание в одних населенных пунктах, совместную работу, браки. Практически они составили два подсосло-вия в рамках одного социального объединения.
Противопоставление этих групп, закрепленное к концу века системой юридических актов, в значительной степени определялось постепенно сложившимися различиями в профессиональной, бытовой и правовой сферах.
Эта в основном были связаны с производительным трудом — убоем скота, дублением и выделкой кожи, производством обуви, изделий из кожи и бамбука и т. д. Они не имели права селиться вне своих бураку в чужой социальной среде, и их принадлежность к категории париев была наследственной.
Поселения эта обычно располагались на окраинах уже существовавших городов и деревень. Как уже отмечалось, официально они игнорировались, считались просто пустым местом. На практике это означало исключение бураку из всех предпринимавшихся городом пли деревней работ и мер по благоустройству, а также отстранение париев от обсуждений общих проблем и даже запрещение без особой нужды выходить за пределы своих гетто. Если город или село расширялись, то поселения эта обязательно переносились на новую окраину населенного пункта.
Хинин были лишены возможности заниматься производительным трудом. Среди них преобладали бродячие артисты, гадальщики, тюремщики, а также нищие. Но в отличие от эта они имели право проживать не только в своих поселениях, но и внутри основных населенных пунктов, в чужой для них социальной среде и. Кроме того, принадлежность к группе хинин для многих не считалась наследственной: в соответствии с традицией и установленными правилами при условии взятия на поруки и выполнения обряда очищения хинин мог перейти из рядов париев в состав «простого народа». Однако воспользоваться этим правом практически было очень сложно. Ведь, прежде чем выйти из состава хинин, человек должен был твердо знать, что он, освобожденный, будет принят в состав какой-либо крестьянской, ремесленной или торговой пятидворки или общины. Рассчитывать на такую терпимость ему, как правило, было невозможно. Но тем не менее даже это, скорее формальное, право позволяло хинин относиться к эта с высокомерием и держаться от них изолированно [71, с. 96].
К концу XVII в. в Японии сложилась приемлемая для властей система своеобразного самоуправления основных групп париев. Ее организация, в частности, была связана со стремлением властей более строго регламентировать все стороны жизни жителей бураку. И хотя сэммин и получили определенную автономность, ее все же не следует воспринимать как какую-то привилегию. Она, скорее, явилась выражением определенной административной сегрегации, тесно связанной с общей социальной и психологической дискриминацией жителей бураку. Феодальные власти не считали для себя приемлемым по всем вопросам управления вступать в непосредственный контакт с дискриминируемым меньшинством. Поэтому они и шли на то, чтобы свой контроль над париями осуществлять через определенный круг доверенных лиц из числа буракумин, наделенных соответствующими полномочиями.
Основой системы самоуправления париев был институт старост, так называемых этагасира, которых утверждали в качестве глав поселений или нескольких поселений, иногда даже в масштабе района или провинций. Самые энергичные и влиятельные из них постепенно выдвигались на более высокие ступени административной лестницы. Крупнейшим административным руководителем парисв-эта стал некий Даидзаэмон, проживавший в районе Аса куса в Эдо. Личное имя Дандзаэмон превратилось затем в нарицательное и стало обозначать высшее должностное лицо в среде париев. Оно было наследственным ,2. Дандзаэмон сосредоточил в своих руках довольно большую власть; под его контроль постепенно перешла значительная часть эта многих районов и княжеств страны (Уэно, Симоно, Симоса, Суруга, Каи и др.). Всего в его подчинении к началу XVIII в. оказалось более 8 тыс. семей париев [71, с. 100].
Дандзаэмон обладал довольно широкими административными полномочиями: он производил разверстку и сбор регулярных и экстраординарных поборов, назначал из числа эта людей, ответственных за выполнение различных повинностей: по производству обуви, доспехов, оружия, кожаных изделий для нужд знати, даймё и сёгуна, по уборке определенной территории, по розыску, охране и наказанию преступников и т. д. {71, с. 100]. Кроме того, он осуществлял судебные функции в отношении своих подопечных, определяя любую меру наказания для провинившихся жителей бураку, за исключением смертной казни и высылки на отдаленные острова [71, с. 181]. Но если одной из конфликтующих сторон был представитель «простого народа», то Дандзаэмон, естественно, лишался права на рассмотрение дела. В этом случае оно обязательно разбиралось «обычным» судом, который .традиционно был более суров к париям, что являлось неизбежным следствием сословного подхода к оценке людей и их поступков [71, с. 101].
Усердие, преданность, оперативность и,- главное, полезность Дандзаэмона режиму ценились властями довольно высоко. За свою службу он получал высокое вознаграждение как материального, так и престижного плана. Его ежегодное содержание составляло около 3 тыс. коку 13 риса, что соответствовало пайку самурая довольно высокого ранга. Кроме того, он пользовался весьма почетной привилегией: при посещении официальных лиц имел право облачаться в старинную парадную одежду (камиси-мо) и прикреплять к поясу меч, что в условиях сословного общества подчеркивало его особый социальный статус.
Наряду с Дандзаэмоном имелось еще несколько административных глав эта. Но по влиянию и богатству они далеко уступали ему. Так, содержание главы париев Киото (его называли Симомура, и ему были подчинены жители бураку Оми, Ямасиро и Сэтцу) составляло всего 150 коку риса в год. А остальные главы эта (в Осака, Эцудзэн и др.) по объему своей власти и доходу стояли еще ниже [71, с. 101].
Автономная система управления париев имелась не только во владениях сёгуна, но и в отдельных княжествах. Местные главы эта и там получали от своих господ за свою службу небольшие пайки (от 40 до 60 коку риса в год) и право на парадную одежду и меч при официальных визитах [71, с. 102]. Таким образом, по внешним атрибутам их социальный статус соответствовал рангу «обычных» городских и сельских старост.
Наряду с системой самоуправления эта в Японии сложилась еще одна, параллельная, система самоуправления париев — хинин. Наиболее видную роль в ней играл проживавший в Эдо (в районе Асакуса) некто Курума Дзэнсити, имя которого также стало нарицательным в обозначении особой административной должности. В его подчинение была переведена значительная часть хи-ннн. в число которых, в частности, включались нищие, калеки, сироты и другие «лишние» для общества люди. Кроме Курума Дзэнсити во владениях сёгуна и даймё имелось еще несколько глав хинин, которые за свою службу регулярно получали определенное содержание [71, с. 102].
Сферы влияния этих двух систем самоуправления париев, очевидно, не были четко зафиксированы юридически. Об этом могут свидетельствовать многочисленные взаимные жалобы и упреки глав эта и хинин, ожесточенные конфликты между ними по поводу их прав. Известно, что Дандзаэмон неоднократно пытался добиться подчинения себе Курума Дзэнсити [71, с. 102].
Выделив из общей массы париев небольшую бюрократическую верхушку, власти обеспечили более надежное функционирование механизма дискриминации и подчинения десятков тысяч людей. Однако положение этой сравнительно благополучной верхушки в политическом плане было довольно неустойчивым. Их права часто нарушались, а просьбы не выполнялись, чем, собственно, еще раз подчеркивалось приниженное положение париев.
Каких-либо надежных данных общей численности сэммин в XVII в. у нас нет. В специальной литературе обычно отмечается лишь более быстрый, по сравнению с другими слоями населения, их количественный рост (см. главу четвертую). Он объяснялся не только естественным приростом, характерным для всего населения в целом, но и узаконенной практикой перевода в состав сэммин представителей других сословий. Так, ряды париев обильно пополнялись за счет разорявшихся бедняков и изгнанных по разным причинам из своих общин крестьян и ремесленников (правонарушителей, нищих, неизлечимо больных и т. д.). Кроме того, в периоды каких-либо социальных потрясений или стихийных бедствий у многих тысяч разорявшихся и изгнанных из своих общин людей иногда не оставалось никакого иного способа существования, кроме как при помощи перехода в состав буракумии. Нередко и сами власти направляли их туда, чтобы ослабить угрозу выступлений недовольных и обездоленных [65, с. 120—121].
Поселение всех этих людей в бураку предопределяло даже для их отдаленных потомков статус париев и все связанные с этим ограничения и унижения. Дверь, соединявшая область «отверженности» с остальным миром, открывалась по преимуществу только в одну сторону, и человек, попавший за эту дверь, обычно уже не мог вернуться в «обычный» мир.
Не исключено, что таким образом в среде сэммин могло оказаться и какое-то количество представителей знати. Однако этот в обшем-то довольно малозначимый в истории париев факт породил широко распространившееся среди них убеждение, что все сэммин или, во всяком случае, их значительная часть произошли от представителей высшего сословия [75, с. 445—446]. Причины распространения подобной легенды объяснялись социальными понятиями и ценностями сословного общества. Это была своеобразная и доступная париям форма защиты их человеческого достоинства, наиболее действенная и убедительная, как представлялось им тогда.
Таким образом, в среде париев, как и в основных сословиях, в течение XVII в. произошли заметные социальные перемены. С одной стороны, выделилась небольшая группа относительно благополучной сословной верхушки, состоявшей из представителей бюрократии, торговцев, ремесленников-предпринимателей и ростовщиков. А с другой стороны, некоторые парии, лишавшиеся прежних монопольных прав и традиционных средств к существованию, пополняли ряды наемных работников на горных приисках, на строительстве дорог и ирригационных систем, становились батраками и слугами. Однако в целом процесс социальной коррозии затронул лишь верхушку и низы презираемого сословия. Основная же его часть на протяжении всего века оставалась еще сравнительно стабильной и однородной социальной массой.
Но в отличие от других слоев общества процессы социально-экономической эволюции в среде сэммин происходили, очевидно, несколько замедленнее. Правда, все противоречия этой эволюции воздействовали на положение групп париев с крайней остротой и болезненностью. Любые пороки, неудачи и трудности режима — политическая неустойчивость, неурожаи, стихийные бедствия, финансовые осложнения — наибольшие страдания приносили обычно париям. Это была та цена, которую режим заставлял платить сэммин за все трудности эволюции общества и за свои просчеты. В этом, с точки зрения правящих кругов, заключалась реальная политическая целесообразность существования сегрегации париев. Их поселения оказались довольно надежным резервуаром, поглощавшим какую-то часть полностью неустроенных и недовольных людей, число которых при разных кризисных ситуациях резко увеличивалось. А кроме того, они становились тем объектом, на который всегда можно было легко и просто переключить недовольство любой части общества.
Таким образом, объединения париев использовались в качестве надежного амортизатора многих сложных проблем феодальной системы, особенно в периоды кризисов. Вместе с тем они были своеобразным чутким барометром состояния дел режима Токугава в целом.
Глава третья
ТРУДНОСТИ РЕЖИМА ТОКУГАВА И ПРОБЛЕМА ПАРИЕВ (КОНЕЦ XVII - КОНЕЦ XVIII в )
Жизнь общества в период Токугава практически никогда не совпадала с той искусственной схемой, которую пытались Навязать ему феодальные правители Японии. И чем дальше, тем это становилось ощутимей и очевидней. В различных сферах общества постепенно накапливались мелкие перемены, которые вначале могли казаться малозначимыми и уж, во всяком случае, ничем не угрожавшими режиму. Однако, накапливаясь, они нередко превращались в неожиданные и сложные для властей проблемы, решение которых становилось им явно не под силу. В менявшихся условиях сёгунат действовал разными методами: пытался проявить непреклонность, маневрировал, иногда даже отступал от своих основных политических и социальных принципов, стремясь надежнее приспособиться к новым условиям и сохранить свой контроль над ними. Но результаты их усилий на практике становились все менее эффективными.
Уже к концу XVII в. в работе, казалось бы, тщательно отрегулированного механизма феодальной структуры стали наблюдаться все более опасные сбои. Они свидетельствовали о том, что, по существу, заканчивался еще один цикл развития феодальной Японии, основным содержанием которого было создание и упрочение относительно единого и централизованного государства. Все более отчетливо выявлялось, что выработанные правителями Японии основные принципы их политики не обеспечивают бесперебойного функционирования режима.
Изменение положения в стране в значительной мере определялось развитием в ней элементов «буржуазности»: усилением сословий ремесленников и купцов, социальным расслоением дворянства и крестьянства, зарождением новых форм организации производства и расширением товарно-денежных отношений. В связи с этим методы управления, ранее целесообразные и действенные, к концу XVII в. стали менее эффективными. Все более очевидным становилась необходимость экономических и социальных реформ.
Власти предпринимали попытки укрепить режим при помоши разных ограничений, регламентаций и отдельных реформ. Однако их законодательные акты были сумбурны, часто противоречивы,
а реформы весьма ограниченны и не могли кардинально улучшить положение режима. Углублялся экономический и социальный кризис, захватывая все новые слои населения и сферы общественной жизни. В частности, он сказался и на положении дискриминируемых социальных групп Японии.
Обострение социально-экономических
противоречий
Мы, естественно, не можем определить четкую хронологическую грань, после которой начался новый период развития японского феодализма. Такой грани просто не было. Мы можем лишь отметить некоторые проявившиеся к концу XVII в. новые черты жизни японского общества, которые заметно меняли его сущность.
Внешне все в жизни общества выглядело по-прежнему привычным, надежным и прочным. Казалось, -ничто не может угрожать стабильности режима. Продолжался процесс освоения целинных земель, правда, гораздо более медленными темпами. Все еще увеличивалась численность населения. Наблюдался и определенный расцвет феодальной культуры, охвативший более широкие социальные слои. И все же чувствовалось, что наивысшая точка развития режима Токугава уже пройдена. В недрах феодальной структуры стали проявляться все новые элементы, определявшие ее слабость. Нарастал процесс ломки многих опор натурального хозяйства, на котором базировалась вся феодальная система. В связи с развитием товарно-денежных отношений усиливалась хозяйственная специализация, крепли рыночные связи, расширялось товарное производство. На этой основе происходили и социальные перемены, которые в той или иной степени коснулись всех слоев общества. Они выразились в изменении соотношения сил разных сословий, а также в связанной с этим постепенной трансформацией общественной психологии и старой системы социальных ценностей.
Трудности господствующего сословия, пожалуй, ощутимее всего проявились сначала в финансовой сфере. Собственно, феодальная знать всегда была заинтересована в увеличении своих доходов, но в конце XVII в. и в XVIII в. мирная городская жизнь, появление новых предметов потребления и роскоши, престижные соображения и дух соперничества порождали дополнительные запросы. Разрыв между расходами и относительно стабильными доходами заставил знать пойти на отказ от некоторых своих «незыблемых» принципов, на определенные изменения в своей социальной политике. Стремление любыми способами пополнить быстро пустевшую казну привело к тому, что высшее сословие стало отказываться от соблюдения принципов, «умеренности и благоразумия» во взаимоотношениях с крестьянами — основным источником его доходов. Демонстративная «забота» о деревне постепенно сменялась все более откровенной политикой ее ограбле- ? ния. Психологически такой поворот в отношении к крестьянству для знати был совсем не труден. Ведь она всегда любила не крестьян. а сельское хозяйство, точнее, деревню в качестве неисчерпаемого и безотказного источника удовлетворения всех своих потребностей и прихотей.
Но если переходу от сравнительной умеренности к безотчетному ограблению деревни не помешали психологические барьеры, то почему этому не воспрепятствовало элементарное благоразумие? Ведь не могла же феодальная верхушка не понимать, что, разоряя деревню, она тем самым рубит сук, на котором сидит. И нельзя сказать, что она этого не понимала. О проблесках благоразумия свидетельствовали неоднократные попытки возродить явно деградировавшую деревню, предпринимавшиеся на протяжении всего XVIII в. Однако вместе с тем сиюминутные потребности и прихоти феодалов все чаще заглушали в них голос разума и затемняли долгосрочную перспективу. Знать никогда не хотела чем- . либо поступиться. Жертвовать, по ее представлениям, должны были только крестьяне. Поэтому политика властей в отношении деревни становилась все более беспринципной, безжалостной и, по существу, авантюрной. Знать бездумно надеялась, что деревня бесконечно и безропотно сможет выносить любое увеличение поборов. Суть своих настроений того времени она зафиксировала в афоризме: «Крестьяне, как кунжутное семя, чем больше жмешь, тем больше получаешь».
Однако действительность не раз напоминала знати, что такая политика в деревне в конце концов существенно ослабляла ее социально-экономические позиции, усугубляла кризис режима.
На протяжении XVIII в. изменилось также и отношение господствующего сословия к другим сословиям: ремесленникам и
купцам. Возникшие у властей затруднения во взаимоотношениях с ними в значительной степени также определялись возраставшими усилиями «благородного» сословия пополнить свою казну. Будучи не в состоянии удовлетворить свои запросы только за счет нищавшего крестьянства, феодалы все чаще обращали свои взоры на формирующийся в стране слой богатых людей, нередко даже более богатых, чем они сами1. Продолжая относиться к этим ремесленникам и купцам с подобающим для «истинных» дворян высокомерием, феодалы все чаще оказывались вынужденными обращаться к ним с просьбами о займах, которые, правда, считали для себя вполне пристойным не всегда возвращать. Вместе с тем, стремясь получить от контроля над тёнин дополнительные материальные выгоды, они расширяли систему продажи лицензий на монополии по производству и продаже в своих владениях определенных видов изделий. Наконец, перемены во взаимоотношениях с тёнин определялись и тем, что часть знати сама проникалась идеями и настроениями этих низших сословий. Высокомерное отвращение к счету денег и к поискам деловых источников их получения все чаще сменялось поклонением золотому
тельцу. Происходил процесс определенного перерождения привилегированного сословия, социальных перемен в его среде.
Собственно, военно-феодальное сословие никогда не было социальным монолитом, строго противопоставленным всем остальным слоям населения. В рамках этой формально единой социальной общности всегда имелись весьма существенные различия, разъединявшие ее не менее резко, чем сословные границы. Входившие в категорию си (воинов-феодалов) даймё, самураи (воины-всадники), асигару (воины-пехотинцы), госи (сельские самураи) и многочисленные ронины между собой почти не общались, браки между их представителями были редкими исключениями. Нижестоящие в этой иерархии при встрече с вышестоящими должны были униженно кланяться и т. д. [66, с. 186]. Разъединенность внутри первого сословия существовала и в других плоскостях: между сёгунами и их окружением, с одной стороны, и придворной императорской знатью — с другой, между дворянами, имевшими свои владения, и воинами, получавшими пайки, и т. д. [32, с. 18].
Предполагалось, что цементирующей первое сословие силой должен был стать принцип безоговорочной верности вышестоящим, освящавший даже такие уродливые формы его проявления, как самоубийство вассала в случае смерти его господина [66, с. 192]. Однако этот принцип никогда не обеспечивал надежного единства: в среде феодалов всегда шла непримиримая борьба за расширение своего влияния и могущества.
Но в XVIII в. внутри первого сословия наметились и новые трещины, которые стали раскалывать его в совершенно невозможных прежде плоскостях: усилилось его разъединение на новой социальной основе. Низшие группы сословия «благородных» стали сближаться с другими, всегда презиравшимися ими слоями общества, в первую очередь с тёнин. Границы между этими сословиями все более заметно размывались, сотни и тысячи разорявшихся представителей знати переходили в ряды ремесленников, купцов и даже крестьян. Ронины, асигару, госи, самураи и даже даймё нередко поступались своей сословной спесью и все чаще занимались «презренной» торговлей, ростовщичеством, ремесленным производством, а иногда и земледелием. Многие из них не считали для себя унизительным родниться с семьями богатых купцов и ремесленников.
Таким образом, «благородные» сами стали нарушать «святой» принцип своей сословной исключительности. Развитие товарно-денежных отношений, обнищание низших категорий дворян частенько заставляло их пренебречь идеями и традициями социального превосходства. Правда, знать пыталась избежать любых потерь и совместить полное сохранение своих привилегий с выгодами предпринимательской деятельности. Но представители низших групп дворян, доведенные до крайней нужды, все чаще шли на отказ от своего сословного статуса. Товаром стало многое из того, что прежде считалось священным: дворяне закладывали и продавали свою парадную одежду, регалии, воинские доспехи, мечи и ' даже право на свой социальный статус [7, т. I, с. 109].
Этот путь вниз по социальной лестнице был для дворян унизительным и мучительным. Поэтому многие из них предпочли для себя возможно более выгодный, зато более престижный путь: самураи довольно широко стали внедряться в сферу интеллектуального труда. Она была для них более привлекательной потому, что представители интеллигенции, как и духовенство, хотя официально и не включались тогда в какое-либо сословие, практически занимали довольно высокую ступень в социальной иерархии. Разорявшиеся дворяне изучали медицину, математику, инженерное дело, становились учителями, писателями, учеными, музыкантами, художниками. И этот путь стал главным в формировании японской интеллигенции.
Политические руководители феодальной Японии в общем понимали, что такая социальная и психологическая трансформация высшего сословия может стать угрозой всему режиму. И все же ; верхушку феодальной знати не слишком беспокоил сам факт разорения многих тысяч мелких дворян, на содержание которых ей приходилось тратить значительную часть своего дохода. Ее в этом процессе более волновало то, что «перерожденцы» и «изменники» практически становились враждебной режиму силой, а это ослабляло социальную базу первого сословия. Только поэтому на протяжении всего XVIII в. сёгунат и крупнейшие князья прилагали огромные усилия в попытках упрочить позиции всего феодального клана. Так, например, во время правления Цунаёси был опубликован ряд указов, призывавших всех дворян к экономии, которая могла бы ослабить их зависимость от тёнин. В одном, из указов с горечью констатировалось, что дворяне могут существовать только благодаря бесконечным займам, получаемым от богатых купцов Эдо, Киото и Осака [7, т. I, с. 67]. Чтобы упрочить экономическое положение даймё, сёгун Ёсимунэ в 1722 г. наполовину сократил обязательный срок их пребывания в столице [7, т. I, с. 66]. Его правительство не раз обращалось с призывом «не продавать свое первородство за чечевичную похлебку»: не торговать своим социальным статусом, мечами, доспехами, регалиями.
В 20—30-х годах XVIII в. феодальные власти ряда владений аннулировали две трети всей задолженности самураев купцам и ростовщикам, возместив из своей казны лишь одну треть ее [7, т. I, с. 67]. Однако все эти попытки восстановить позиции первого сословия не дали желаемых результатов. Закономерный и неотвратимый процесс его деградации продолжался, становясь одним из важнейших проявлений общего кризиса режима Токугава.
Трудности режима определялись эволюцией и другого важнейшего сословия феодального общества — крестьянства. Его реальное. положение и социальная сущность также все более отличались от той схемы, которая внедрялась и была угодна господствующим кругам.
Положение крестьян определялось взаимодействием субъектив-яых и объективных факторов: регламентирующей деятельностью господствующей элиты и социально-экономическими закономерностями развития общества. Какой же была подлинная суть этих факторов?
В конце XVII и в XVIII в. аграрная политика сёгуната отличалась крайней противоречивостью. К началу XVIII в. почти полностью прекратились рост размеров обрабатываемой земли и создание новых налогооблагаемых хозяйств. Таким образом, были исчерпаны возможности экстенсивного увеличения натуральных и денежных поступлений в казну государства и феодалов. Оставался один путь их увеличения — это путь интенсификации ограбления крестьян, который, однако, неизбежно вел к ослаблению экономических потенций сословия земледельцев в целом. Поэтому юридические акты властей в указанное время были, с одной стороны, направлены на то, чтобы как можно больше урвать с крестьян, а с другой — каким-то образом поддержать их позиции, сохранить способности сословия обеспечивать потребности и Прихоти знати. Но с течением времени преобладающими стали тенденции насилия над деревней.
Следует Признать, что режим Токугава вступил на путь резкой интенсификации поборов довольно осторожно. Вначале он еще пытался как-то завуалировать свои подлинные цели, сохранить маску защитника крестьян. Так, воспользовавшись тем, что единицы длины и площади в Японии имели значительные локальные различия, власти под видом их унификации на протяжении 60—80-х годов XVII в. несколько раз сокращали основные единицы длины (кэн) и площади (тан и тё) »[7, т. I, с. 34]. Этот простой прием сразу заметно увеличил размеры крестьянских полей, правда, только на бумаге. Но зато вполне реально он вынудил их отдавать феодалам более значительную часть своего урожая. Вскоре власти совершили еще один, как им казалось, весьма хитрый ход: увеличив число разрядов полей по качеству с трех до пяти, они произвольно повысили категорию значительного числа крестьянских участков, что опять привело к росту бремени податей для многих земледельцев. Эти меры на время действительно обеспечили рост поступлений. Однако они снизили заинтересованность крестьян в ведении своего хозяйства и усилили процесс разорения и социальной деградации низов сословия.
Обеспокоенные нежелательными последствиями своих губительных для деревни актов, власти в начале XVIII в. попытались несколько исправить положение. В 1712 г. во многих городах страны была проведена тотальная проверка статуса их жителей, имевшая целью выявить всех скрывавшихся там беглых крестьян и вернуть их обратно в деревню. При этом беглецов не только не наказывали, но даже иногда предоставляли им денежную помощь, с тем чтобы они могли восстановить свое хозяйство. Сегун Ёсиму-нэ, ставивший целью своей социально-экономической политики усиление деревни и увеличение производства риса (его даже прозвали «рисовый сегун»), пытался привлечь крестьян к дальнейшему освоению целины путем установления для новых земледельческих районов самых низких в стране податей (не свыше десятой части урожая). Однако эта мера не дала желаемых результатов. Она привела лишь к тому, что многие беднейшие крестьяне стали забрасывать свои участки и осваивать целинные земли, стремясь таким образом облегчить для себя бремя поборов.
Не достигла результатов и другая мера «рисового сёгуна». Он отменил прежний принцип строгой фиксированности максимума податей и установил правило ежегодного изменения размеров податей в зависимости от колебаний объема урожая [7, т. I, с. 66]. При этом имелось в виду облегчить положение крестьян в случае неурожая. Практически же эта мера лишь снизила заинтересованность крестьян в росте производительности труда и затормозила развитие сельского хозяйства, в то время как прежний принцип в течение долгого времени в какой-то мере стимулировал заинтересованность крестьян в росте сельскохозяйственного производства.
Власти шли еще по одному пути в своих попытках совместить несовместимое: сохранить численность и дееспособность сословия земледельцев и добиться нового увеличения объема податей. Они рассчитывали, что если удастся заставить крестьян сократить до минимума все их потребности и отказаться от «ненужных и разорительных» привычек, то они вполне смогут вынести растущее бремя поборов. В соответствии с этой общей установкой было издано большое количество регламентирующих предписаний, которые ограничили или запретили крестьянам употребление многих «развращающих их атрибутов роскоши», таких, как сакэ, чай, украшения, а также прием гостей и т. д. (см. Приложение 3, 4).
Издавая подобные указы, власти преследовали цель не только обеспечения экономии, но и выработки нового стиля жизни и поведения крестьян, укрепления сословных рамок. Именно этой цели были посвящены многочисленные указы, которые определяли покрой, расцветку и материал одежды крестьян, формы их прически, что даже внешне должно было отличать их от представителей иных сословий. Многие издаваемые властями указы настойчиво внушали крестьянам мысль о том, что своевременное и полное выполнение повинностей является их главным общественным и нравственным долгом, служению которому должна быть подчинена вся их жизнь и жизнь их близких [7, т. I, с. 35]. Один из указов, изданный в 1704 г., предписывал: «Пока крестьянин не внесет все налоги, ему запрещается использовать для своих нужд рис и соевые бобы» [7, т. I, с. 69—70]. Другой указ того же времени поучал: «До тех пор пока крестьянин не внесет все налоги, он не должен успокаиваться. Он может считаться порядочным человеком только в том случае, если он сам постоянно заботится об этом и если своих детей и внуков выучит выполнять свой основной долг» [7, т. I, с. 40].
Однако и эти меры властей, естественно, не могли обеспечить стабилизацию положения в деревне и рост поступлений в казну феодалов. Это тем более было невозможно, что наряду с мерами по «оздоровлению» деревни сёгунат и князья продолжали вводить все новые постоянные и экстраординарные налоги, часто самые невероятные: на окна и двери в крестьянских домах, на пруды, ореховые деревья и т. д. В результате у земледельца оставалась все меньшая доля плодов его труда. Он часто лишался средств не только на поддержание своего хозяйства, но даже на пропитание. Если еще в конце XVII в. в распоряжении крестьян оставалось в среднем до 60—70% урожая, то во второй половине XVIII в. эта доля сократилась до 40—50%, а в отдельных районах даже до 30% [7, т. I, с. 73].
Однако положение крестьян определялось не столько политикой властей, сколько социально-экономическими закономерностями развития всего японского феодального общества.
С конца XVII в. товарное хозяйство стало распространяться на все более отдаленные от крупнейших городов районы страны, что отразилось на положении всех слоев крестьянского сословия, на положении японской деревни в целом, перед которой возникли новые сложные проблемы.
Приспособление сельского хозяйства к нуждам рынка, начинавшееся обычно с пригородных деревень, требовало его специализации, изменения структуры посевов, целей производства и приводило к значительным социальным переменам в деревне. Феодальная знать своими юридическими актами не только не могла приостановить этот процесс, но, что особенно парадоксально, объективно стимулировала его, все чаще требуя от крестьян выплаты податей деньгами, т. е. по существу толкая их на рынок и прочнее привязывая к нему.
Происходившие в деревне значительные перемены по-разному отражались на различных слоях второго сословия. Какая-то его часть, наиболее ловкая, удачливая и предприимчивая, умело воспользовалась новыми возможностями и добилась значительных материальных выгод. Некоторые из них, аккумулируя в своих руках земельные участки нищавших крестьян, превращались даже в'настоящих помещиков [42, с. 58]. Богатые крестьяне (их общее японское название гоно) становились «по совместительству» торговцами, ростовщиками и предпринимателями. Таким образом, постепенно формировался новый внутрисословный социальный слой, получавший возможность участвовать вместе с феодалами в эксплуатации крестьян. В руки его представителей в виде арендной платы н процентов по кредиту переходила все большая часть той доли урожая, которая оставалась у крестьян после взноса налогов и податей их феодальным господам. В связи с этим внутри второго сословия возникали новые отношения зависимости, т. е. новые социальные отношения. Сословная верхушка становилась мощным и влиятельным конкурентом феодалов в угнетении земледельца.
Положение же основной части сословия, в той или иной степени не сумевшей приспособиться к новым условиям, на протяжении XVIII в. все более ухудшалось. Средние его слои (а это понятие не оставалось неизменным — стандарты средних слоев постепенно снижались) лишь с возраставшим напряжением сохраняли свои хозяйства и социальный статус. А в среде низших категорий земледельцев, составлявших основную массу сословия, усиливался процесс экономической и социальной деградации. Тысячи крестьян фактически лишались прав на свои небольшие участки земли, которые они вынуждены были закладывать или продавать ростовщикам, торговцам или помещикам. Лишенные земли, они оставались крестьянами лишь номинально, превращаясь в лучшем случае в арендаторов, а часто — в наемных работников или же просто нищих. Это вело к ослаблению сословия, к уменьшению числа налогооблагаемых крестьян.
Знать и феодальные власти Японии, не довольные появлением самозваного компаньона по угнетению деревни и ее «декрестья-низацией», предпринимали отчаянные попытки направить процесс социальной эволюции деревни в нужном им направлении. Они издавали многочисленные законы, преследовавшие цель ограничить рост влияния деревенской верхушки и поддержать разорявшиеся крестьянские хозяйства. Так, например, в 1721 г. был издан указ о восстановлении прав крестьян на всю заложенную землю [35, с. 82]. Подобные указы неоднократно издавались и впоследствии. Большинство указов XVIII в. об аннулировании денежной задолженности предполагало отмену и крестьянских долгов. В голодные годы (но только если неурожаи не становились общенациональным бедствием) наиболее пострадавшим деревням власти нередко выдавали из государственных средств (чаще всего в виде кредита) денежные субсидии и рис [7, т. I, с. 78]. Но такая помощь практически лишь ухудшала положение бедняков, которые должны были не только возмещать ссуды, но и уплачивать огромные проценты по ним. Выбираясь из одной ямы, они обычно попадали в другую, еще более глубокую.
Юридические запреты и регламентации властей, их демагогическая поддержка крестьян мало что меняли в деревне. Положение в ней становилось все более сложным и запутанным. Одни проблемы порождали другие: экономические, социальные и даже психологические. Они накладывались друг на друга, превращаясь во все более тугой клубок противоречий. Власти все менее понимали, что им следует делать, чтобы попытаться распутать его. Бакуфу явно не могло решить задачу сохранения экономических и фискальных потенций крестьянства.
Положение основной массы крестьян усугублялось стихийными бедствиями: наводнениями, землетрясениями, эпидемиями, извержениями вулканов, цунами, неурожаями. Так, в 1703 г. произошло мощное землетрясение, вслед за которым во многих районах распространились эпидемии чумы и оспы. В 1732 г. ряд областей страны пострадал от наводнений и налетов саранчи. Всего за 20 лет XVIII в. (1715—1735) от голода пострадало 2,6 млн. человек, а от налетов саранчи ~ около 960 тыс. (см. [34, с. 71; 7, т. I, с. 66]). Особенно тяжелой в этом отношении оказалась для
Японии втоРая половина века. В 1771 г. на прибрежные районы страны обрушился невиданной силы ураган. В 1773 г. вспыхнула эпидемия чумы, в 1774 г.—имел место неурожай, а в 1782 г. произошло разрушительное извержение вулканов.
, Следствием стихийных бедствий, как правило, был голод, уносивший жизни сотен тысяч людей. За столетие, с 1690 по 1790 г.,
страну 13 раз охватывал голод, превращавшийся в общенацио
нальную трагедию [40, с. 182—183; 101, с. 129].
Но особенно надолго в памяти народа остались страшные голодные 80-е годы XVIII в. Они начались с неурожая 1780 г., когда сбор продуктов во многих районах страны едва достиг 50% обычного [101, с. 128]. В 1782 г. вновь был неурожай (сбор продуктов составил 60% среднего уровня). В следующем, 1783 г. во многих районах страны опять наблюдался недород. Голод 1787 г. по своим масштабам и последствиям, пожалуй, превзошел все, что было прежде. В этом году во многих районах страны люди питались только травой, корнями и корой деревьев. Люди умирали массами. Трупы некому было хоронить. Были отмечены многочисленные случаи людоедства (см. Приложение 10).
Конечно же, стихийные бедствия не были каким-то новым явлением для Японии, они происходили в стране и раньше. Но в XVIII в. их воздействие буквально на все слои общества оказалось воистину исключительным. И не потому, что они происходили чаще и были более разрушительными, чем обычно. Хотя и такое утверждение нам кажется справедливым. Исключительно трагические масштабы их последствий, скорее, были обусловлены все более ощутимыми экономическими и социальными пороками режима и растущей несостоятельностью его политики. Именно в годы общенациональных бедствий они становились особенно очевидными. Тогда отчетливо выяснялось, до какого опасно низкого уровня были низведены условия жизни основной массы японцев, в первую очередь крестьян, и как сравнительно легко в случае каких-либо непредвиденных потрясений миллионы людей оказывались ниже этого уровня.
Страшные бедствия, потрясавшие страну, использовались отдельными группами населения для своего обогащения. Помещики, предприниматели, купцы и ростовщики увеличивали свои земельные наделы, а также материальные и денежные накопления. Процесс социального расслоения, в первую очередь крестьянства, в эти годы усиливался.
Основная масса второго сословия, положение которой становилось все более тяжким, оказывала растущее сопротивление властям и знати. Это сопротивление принимало самые разные формы.
Не будучи в состоянии полностью парализовать недовольство крестьян, власти еще в начале эпохи Токугава попытались внедрить какие-то приемлемые, легальные формы его проявления. Через свои указы и предписания они прежде всего распространили идею о том, что правители страны обладают такими неотъемлемыми качествами, как ум, терпимость и справедливость, и
свидетельством их черной неблагодарности. К тому же ведь еще указом 1642 г. им разрешили, но в строго установленном порядке, через низшие инстанции, подавать петиции властям. Правда, жаловаться можно было только на деревенских старост.
Но даже разрешив формально подачу петиций, власти тем не менее всегда с огромным неудовольствием относились к любым попыткам крестьян воспользоваться этим своим «законным» правом. Даже в том случае, когда некоторые просьбы земледельцев ими удовлетворялись, все организаторы подачи петиций обычно преследовались как преступники и жестоко наказывались. Таким образом, практически и эта форма выражения своих претензий была для крестьян рискованным и опасным предприятием. И несмотря на это, крестьяне прибегали к ней довольно часто (см. [35]). Но не только к ней. В XVIII в. сопротивление крестьян все чаще принимало форму тайного бегства в города и отдаленные районы страны.
С течением времени сопротивление крестьян переходило от таких сравнительно мягких действий, как подача петиций и бегство из деревень, к более активным. Участились случаи нападения на дома предпринимателей, ростовщиков и помещиков, на государственные административные здания и склады и даже на крепости — цитадели феодалов и феодализма. Все чаще вспыхивали широкие крестьянские восстания. Постепенно менялись и требования крестьянского движения: от сравнительно робких просьб об уменьшении налогов и других повинностей в XVII в. до требований изменения деревенских порядков в целом и перераспределения доходов в XVIII в. [66, с. 204].
Любая форма сопротивления крестьян имела свои специфические трудности. Что касается бегства с насиженных мест, то в первую очередь уходили те несостоятельные крестьяне (не сумевшие выплатить свои долги и налоги), которые исключались из своей пятидворки и общины и лишались земли, передаваемой в пользование более дееспособных хозяев i[35, с. 70]. Но иногда на бегство решались и оказавшиеся в особенно тяжелом положении члены общин и пятидворок. Они обычно уходили тайно, поскольку не выплаченную ими часть долгов должны были компенсировать остальные члены их пятидворок. Но в любом случае уход из деревни был крайним шагом для крестьян. Только резко ухудшившиеся условия существования заставляли их все чаще идти на него. Хотя бегство было сравнительно пассивной формой сопротивления произволу и грабежу, однако и оно очень болезненно воспринималось феодалами, недовольными уменьшением числа податных крестьян, запустением деревни.
Серьезную озабоченность властей вызывало и все более ши-
рокое распространение в деревне практики абортов и обычая убивать новорожденных в тех крестьянских семьях, в которых уже имелось два-три ребенка2.
Как уже отмечалось, на протяжении всего XVIII в. администрация сёгунов предпринимала неоднократные попытки вернуть бежавших крестьян в свои деревни, даже оказывала им иногда материальную поддержку. Она запрещала аборты и убийство новорожденных (см. [7, т. I, с. 100]). Но, не устраняя подлинных причин этих явлений, власти, естественно, были бессильны в борьбе с ними.
Однако самые чувствительные удары режиму Токугава наносили все более частые бунты и широкие крестьянские выступления, особенно упорные в конце века. Приведем несколько примеров.
В 1738 г. около трех тысяч восставших в Тадзима крестьян ворвались в резиденцию своего господина и потребовали от него уменьшить размеры податей [7, т. I, с. 86, 88].
В 1739 г. во владениях Тайра несколько отрядов восставших по 500—1000 человек каждый совершили ряд нападений на правительственные учреждения, склады и тюрьмы, освобождая из них заключенных участников предыдущих восстаний. Лишь с большим трудом они были рассеяны самурайской дружиной, посланной на их усмирение [101, с. 135—136].
В 1747 г. восстали крестьяне 33 деревень в районах Дэва. В 1754—1755 гг. широкое и мощное сопротивление своим господам оказали земледельцы о-ва Кюсю: в выступлениях участвовало более 200 тыс. человек [34, с. 77—78].
В 1758 г. крестьяне ряда районов страны послали своих ходоков с петицией в столицу, что тогда считалось крайне серьезным нарушением традиционных правил политической игры, которые запрещали жителям деревни обращаться непосредственно к высокому начальству. Ходоков, не выслушав, бросили в тюрьму. Однако на сей раз крестьяне проявили большую настойчивость и послали новых ходоков, петицию которых в конце концов власти оказались вынужденными принять. Администрация пошла даже на некоторые уступки, правда, предварительно обезглавив всех организаторов этого демарша [101, с. 136].
В мощном восстании в районах Мусаси в 1764 г. участвовало более 200 тыс. человек. Для его подавления властям пришлось использовать крупные самурайские соединения [101, с. 138].
В 1764—1765 гг. произошло новое мощное восстание в районах Канто, во время которого даже возникла реальная угроза нападения крестьян на столицу. Его удалось подавить только при помощи войск [34, с. 77—78]. Все тюрьмы Эдо тогда оказались настолько переполненными, что арестованных пришлось перевозить в места заключения других городов страны.
После 1769 г., когда власти полностью запретили подачу петиций, выступления крестьян стали по преимуществу носить характер бунтов и восстаний. В конце века ежегодно происходило
уже от 14 до 30 разнообразных актов сопротивления произволу феодальной знати. Отпор деревни явно нарастал [34, с. 80].
Для выступлений японских крестьян обычно были характерны некоторые особенности. В частности, в отличие от восстаний в иных странах они реже были импульсивными, неожиданными и неподготовленными. Это определялось, в частности, тем, что жители японской деревни не были полностью разобщены. Они имели свои простейшие ячейки в виде пятидворок и сельских общин, которые могли служить в качестве базы для организации сопротивления. Вместе с тем большое значение имело и то, что на протяжении долгой истории крестьянской борьбы в стране сложились и свои традиционные методы подготовки и осуществления отпора, которые власти безуспешно пытались пресечь и вытравить из общественной жизни.
Все акты сопротивления, как правило, готовила какая-либо инициативная группа, которая, договорившись в принципе о выступлении, тайно оповещала о нем всех крестьян района предполагаемого восстания. Обычно в качестве предупреждения о нем по деревням проводили красную корову. Это означало, что в данный день все крестьяне должны были собраться в условленное место. Связанные круговой порукой, обычно собирались все, включая сомневающихся и робких, ибо отступника восставшие могли безжалостно покарать: сжечь дом и имущество и даже убить его.
На тайном собрании вначале решались все организационные вопросы выступления, обсуждались его цели и требования. Затем принимали решение о возможной форме отпора: подача петиции, отказ от внесения податей, нападение на обидчиков и т. д.
Важным и трудным был вопрос о номинальном руководителе выступления. Если не вызывались добровольцы, то его выбирали (иногда по жребию). Дело в том, что власти всегда, даже в случае мирного разрешения конфликта, настаивали на предании организаторов выступлений мучительной смерти. Тем самым, как считали правители страны, восстанавливался попранный восставшими престиж власти. Ибо, решаясь на сопротивление и протесты, подданные тем самым нагло нарушали монополию властей на абсолютное знание того, в чем заключаются подлинные нужды народа. Поэтому выборы номинального вожака выступления были, по существу, вынесением ему смертного приговора. Оказавшийся в этой роли человек (часто староста) обычно до начала выступления официально разводился с женой, отказывался от своих детей, пытаясь тем самым спасти им жизнь.
Кроме того, на том же тайном собрании крестьяне намечали меры по заготовке продовольствия и оружия, создавали фонд помощи пострадавшим (в первую очередь семьям казненных) и назначали день восстания (см. Приложение 11).
Бесспорно, эта схема выдерживалась далеко не всегда. Однако не вызывает сомнений, что в восстаниях XVIII в. она довольно часто являлась их организационной основой.
Власти, со своей стороны, всеми мерами пытались предупредить любые акты сопротивления. С этой целью они засылали в деревни своих шпионов, вербовали в среде крестьян предателей и доносчиков, которые впоследствии провозглашались наиболее добропорядочными и почетными людьми, достойными уважения и подражания. Их щедро награждали. Иногда даже предоставляли почетное право на фамилию и на владение двумя мечами.
Дальнейшей активизации борьбы крестьян мешало и то обстоятельство, что большинство из них верило в доброту и справедливость сёгуна и князей и выступало главным образом против отдельных «злых» чиновников, «жадных» помещиков, ростовщиков и купцов. Поэтому субъективно их движение еще не было антифеодальным. Однако объективно оно играло все же положительную роль в жизни общества, стимулируя его поступательную социальную эволюцию. Причем это определение справедливо не только в отношении тщательно подготовленных и имевших четкую цель восстаний, но даже и для импульсивных и разрушительных всплесков негодования крестьян: ведь и они обычно имели своей целью пресечение наиболее нетерпимых форм феодального гнета и произвола.
Ослабление основ режима Токугава в XVIII в. выразилось не только в появлении элементов расслоения двух главных сословий феодального общества (дворянства и крестьянства) и в обострении открытой борьбы между ними, но также и в несомненном усилении влияния и значения предпринимательских кругов. Таким образом, для этого века был характерен не только процесс деградации некоторых старых форм хозяйственной и социальной организации общества, но и созидательные по своей сути перемены, стимулированные в основном низшими сословиями.
Черты определенной парадоксальности во взаимоотношениях правителей Японии с сословиями тёнин (выразившиеся в попытках одновременно принизить их позиции и заслужить их доверие и расположение) были неизбежным следствием известной алогичности и непоследовательности самой феодальной системы организации общества. И если в XVIII в. социальная политика знати в деревне выглядела все более жестокой, то по отношению к тёнин она иногда неожиданно стала приобретать несвойственные ей ранее черты гибкости и даже терпимости.
Однако это утверждение требует некоторых существенно важных пояснений. Прежде всего, основная масса ремесленников и купцов на протяжении всей эпохи Токугава была совершенно бесправной частью населения, положение которой никогда не было надежно гарантировано. А тезис об улучшении жизни и об укреплении социальных позиций может быть отнесен только к сравнительно небольшой сословной верхушке.
Развитие товарно-денежных отношений и хозяйственная специализация оказывали на общество гораздо большее преобразующее воздействие, чем воля знати. Мы уже отмечали, что, хотя владетельные князья рассчитывали использовать создаваемые ими призамковые города лишь как опорные пункты их господства обеспечивающие консервацию существующей феодальной структуры, именно в городах, в том числе и в призамковых, впервые проявились все новые черты и особенности эпохи, которые постепенно превращали их в источники подрыва всего социально-экономического положения в стране. В XVIII в. усилился процесс специализации отдельных городов на производстве определенных видов изделий — шелковых, хлопчатобумажных, металлических и т. д. В связи с этим росла их экономическая взаимозависимость. Вместе с тем в них закладывались основы новых социальных отношений, формировались элементы новой культуры, идей и психологий, что стимулировало потребности в преобразовании всего общества.
Значительную роль в деловой активности страны продолжали играть фудасаси и какэя, которые в 1724 г. объединились в особую ассоциацию. Это дало им возможность повысить процент по кредиту до 20—25%, что свидетельствовало об укреплении их позиций, ибо они тем самым нарушили установленный властями предел в 15%.
Однако наряду с ними стало расти число ремесленников и купцов, стремившихся к большей хозяйственной автономии. Их объединения, как уже отмечалось, назывались кабу накама. Это был новый тип предпринимателей, пожалуй, более динамичных и инициативных, и новая форма организации производства ремесленных изделий и торговли ими, ставшая ведущей во второй половине XVIII в. Представители кабу накама давали определенному кругу работников-надомников (обычно из числа бедняков-кре-стьян и горожан) заказы на изготовление каких-либо изделий, снабжали их сырьем, а затем скупали готовую продукцию и продавали ее в тех районах, в которых они имели право торговать в соответствии с покупаемым ими у феодалов правом на деловую активность. Таким образом, по существу, они создавали простейший тип мануфактурного производства, в связи с чем возникала и новая форма социальных отношений как внутри сословий, так и между представителями разных сословий. Формировался новый отряд угнетателей, в зависимость от которого попадало значительное число нищавших крестьян и горожан. Организация экономической и социальной жизни Японии все более усложнялась.
Если в XVII в., в основном во второй его половине, в Японии было создано 33 государственные, клановые и полусамостоятель-ные купеческие мануфактуры, то в XVIII в. их возникло уже около 90 [34, с. 61].
Верхушка тёнин постепенно расширяла свое влияние в самых разных сферах хозяйственной жизни страны — в финансах, кредите. транспорте, горном деле и в операциях с землей. Шаг за шагом она укрепляла свои позиции в деловом мире, и феодальная знать вынуждена была мириться с этим.
В связи с усилением тёнин возникали элементы нового в культуре и психологии общества. Это нашло свое выражение, в частности, в том, что в литературе, поэзии и театре появился новый
герой: деятельный, находчивый, умный и напористый купец или ! ремесленник, который обычно выглядел намного привлекательнее
i его неизменно попадавшего впросак оппонента — ленивого и глу-
• пого господина, представителя высшего сословия. Во многих про-
I изведениях воспевались черты, которые прежде не рассматрива-
' лись как достоинства: бережливость, трудолюбие, деловая чест
ность и энергия, профессиональная подготовленность. Конечно апо-| логеты усиливавшегося социального слоя явно приукрашивали
, его. Новый герой в действительности нередко весьма отличался
! от своего литературного и театрального образца. Но все же ис
кусство прокладывало путь новому, намечая возможные перспек-! тивы перемен в обществе. В то же время оно отражало менявшие-
! ся настроения, идеи и оценки. Все это не могло не стать само-
| стоятельной и значительной преобразующей силой общества.
! Социально-экономическая эволюция тёнин существенно изменяла мировосприятие и поведение представителей и других слоев I населения. Так и в среде дворян и крестьян усилилось стремление
' к предпринимательской деятельности. Изменения в системе со-
I циальных оценок и идей позволили многим из них легче приспо
собиться к нуждам рынка, заняться торговлей, ремеслом и ростовщичеством. Причем если прежде общинная организация монокультурного земледелия обычно сковывала любую инициативу и самостоятельность, то в условиях развития товарно-денежных отношений крестьяне все чаще могли проявлять такие качества, как предприимчивость, индивидуализм и стремление к независимости от общины и господ. Наиболее удачливые и напористые из них даже и формально переходили в состав тёнин, не придавая, очевидно, слишком большого значения официальной идее о якобы неоспоримом социальном превосходстве земледельцев над тёнин.
Наметившийся процесс определенного социального и психологического перерождения феодального общества весьма ощутимо задел и господствующее сословие, хотя оно, казалось бы, в силу своих принципов должно было с наибольшей непримиримостью относиться к тёнин и их идеям. И это было, пожалуй, наиболее ярким показателем духа времени. Все чаще разорявшиеся представители низших групп первого сословия переходили в состав «ничтожных» тёнин, не испытывая при этом особых сомнений, хотя в глазах «истинных» самураев они и выглядели социальными предателями. Это нм психологически было не особенно трудно, потому что даже в среде крупных феодалов уже появились вполне «современные» люди, которые, сохраняя свои «благородные» мечи, обзаводились также и «презренными» бухгалтерскими счетами. Усилиями именно этих знатных господ и были созданы крупнейшие предприятия того времени (в том числе и мануфактуры) в сфере кредита, производства ремесленных изделий и торговли.
Социальное расслоение первого и других сословий отражалось в усилении непоследовательности политики правящих кругов. Так. в *10—20-х годах XVIII в. правительство предприняло новые попытки упрочить позиции знати. В своих указах оно призвало са-
мурлсв проявлять бережливость, освободило их от всех старых долгов и заклинало свято беречь свой социальный статус. В то же время власти резко усилили меры контроля над деревней и вновь увеличили размеры податей. Однако весьма быстро правители страны, напуганные размахом сопротивления крестьян и масштабами обнищания деревни, оказались вынужденными осуществить меры, направленные на какое-то укрепление положения земледельцев. В частности, в 1721 г. был издан закон об аннулировании прав ростовщиков на заложенную крестьянами землю. Но вскоре в социальной политике сёгуната наметился новый зигзаг. В 30-х годах власти значительно ослабили меры наказания за продажу земельных участков. В течение третьей четверти XVIII в. они оказывали содействие в создании предпринимательских монополий, в том числе и в деревне, поощряли домашнее ремесленное производство [98, с. 114—116] . Но уже в конце века сёгунат опять оказался вынужденным помогать разорявшейся деревне: повсеместно были снижены подати с крестьян. Вновь осуществлялись разнообразные меры по ограничению влияния тёнин. В частности, их заставили делать регулярные «добровольные» взносы в государственную казну, что должно было в какой-то мере компенсировать снижение налоговых поступлений от крестьян.
Такая непоследовательность и противоречивость социальной политики сёгуната свидетельствовала о его неспособности контролировать развитие общественных процессов и определять долгосрочные и эффективные меры укрепления режима. Это нашло отражение и в усилении идейных противоречий, которые были связаны в основном с поисками оптимального способа укрепления феодальной структуры и приемлемого пути реорганизации ее. В частности, это выразилось в методах осуществления политики изоляции Японии от внешнего мира.
Эта политика всегда имела определенную социальную подоплеку, поскольку в первую очередь преследовала цель сохранения существующих социальных отношений, жесткой сословной системы. С ее помощью власти надеялись уберечь японский народ от вредного идейного воздействия Запада, которое могло породить опасный дух критиканства и сомнения в абсолютной целесообразности и неоспоримой разумности существующей формы правления. Но если прежде политика изоляции в идейной сфере была обращена главным образом против христианства, то в XVIII в. и особенно в XIX в. основным объектом преследования стали новые политические и социальные учения прогрессивных мыслителей Запада. Уже в начале XVIII в. квота захода судов западных стран в японские порты была вновь снижена — до трех парусников в год. Уменьшен был лимит и для Китая — до 30 джонок в год [42, с. 75].
Но даже при самых строгих ограничениях изоляция страны никогда не была полной. Ее абсолютность — это, скорее, представление, которое может сложиться из знакомства с соответствующими официальными документами. Практически же кроме разрешенных всегда имели место и тайные заходы в Японию иностранных кораблей, в частности русских [66, с. 181—182]. Таким образом, всегда сохранялись реальные возможности поддерживать контакты с Западом не только в деловой, материальной, но и в духовной сферах. Причем к последней власти проявляли даже какую-то особую, на первый взгляд, необъяснимую, заинтересованность. Так, в 1720 г. вскоре после резкого сокращения квоты иностранных судов, имевших право на заход в японские порты, власти неожиданно разрешили ввоз и перевод на японский язык любой литературы, за исключением книг идеологического содержания—религиозных и политических. Тем самым они надеялись использовать зарубежный технический опыт для укрепления своей экономической базы, а также удовлетворить духовные запросы узкого круга привилегированных интеллектуалов. В результате реализации этого указа в стране образовалась небольшая, но весьма авторитетная группа специалистов-голландоведов (рангакуся)3. Благодаря ее усилиям образованные японцы получили возможность знакомиться с достижениями европейской науки и техники в области медицины, астрономии, судостроения, военного производства, металлургии, и т. д. [95, с. 102]. Полученные таким образом знания все чаще использовались и на практике.
Но сёгунат интересовали не только специальные знания и технический опыт. Власти всегда стремились быть также в курсе развития социальной и политической мысли за рубежом. Поэтому для себя и для узкого круга особенно доверенных лиц правители страны в прочном заборе духовной изоляции всегда оставляли достаточно широкую щель, чтобы иметь возможность следить за своими соседями, за всем внешним миром. Для этих лиц постоянно осуществлялись переводы материалов политического и социального содержания. Причем это делалось вовсе не из праздного любопытства, а для того, чтобы лучше знать возможную идеологическую угрозу, идущую с Запада. Для всего же остального населения страны эти сведения всегда считались секретными.
С тем чтобы надежней уберечь народ от любого постороннего идейного воздействия, в стране тщательно поддерживался дух национализма, призванный заставить людей ценить пусть явно неразумные и несправедливые, но «свои» традиции и нормы жизни. Таким путем воздвигался дополнительный духовный барьер в проведении политики изоляции.
Однако все эти меры не могли предотвратить процесса духовной эволюции общества, развития элементов кризиса режима Токугава. В недрах традиционной конфуцианской идеологии постепенно получили известное распространение и неортодоксальные представления, выражавшие умонастроения критически настроенной части населения, выступавшей против «святых» устоев правления сёгуната. Эти новые представления и идеи, весьма отличавшиеся от предлагавшихся сверху образцов, рассматривались властями как крамольные. Однако в целом суждения о возможных и допустимых переменах в обществе были еще крайне смут-
ны н неопределенны. В лучшем случае они учитывали и выражали интересы и настроения довольно узкого круга знати и деловых кругов. Настроения же и потребности широких народных масс, крестьян, горожан и париев, еще не нашли в них никакого отражения. И все же распространение подобных суждений свидетельствовало об элементах организации тех социальных кругов, которые начали склоняться к идее необходимости определенных политических перемен в стране (подробнее об идейной эволюции в эпоху Токугава см. раздел четвертый главы четвертой).
Таким образом, в XVIII в. в недрах феодальной структуры происходили серьезные перемены. Однако внешне они еще не были слишком заметны. Во всяком случае, они не производили впечатления чего-то устрашающего для нее. Власть сёгуна и феодальной знати оставалась безусловной, и ее никто всерьез не оспаривал. Сложная машина административного управления и строгого полицейского надзора продолжала функционировать достаточно надежно и эффективно. Хотя сила народного недовольства нарастала, режиму Токугава благодаря политике изоляции и системе взаимной ответственности и доносов все еще удавалось избегать каких-то особенно грозных социальных потрясений.
Тем не менее происходившие за этим фасадом относительного благополучия процессы, особенно усиление тёнин и разложение сословий дворян и крестьян, сужали базу режима и расшатывали его устои. По существу, режим Токугава представлял и защищал интересы все более узкого круга высшей аристократии.
Наиболее чувствительный удар режиму наносило неуклонное ослабление крестьянства. Сёгунат все менее был способен решать основную для себя социальную задачу — сохранять экономические и материальные потенции второго сословия. Только за 80-е годы XVIII в. число выбывших из состава налогооблагаемых крестьян (умерших от голода и эпидемий или бежавших в города и отдаленные районы страны) достигло почти 2,5 млн. [19, с. 75], или почти 10% всего населения страны.
В этих условиях все менее убедительным выглядел главный тезис сёгуната в борьбе с недовольными режимом, что все беды Японии порождаются якобы лишь отдельными недостойными, необъяснимо зловредными людьми или группами. Все более очевидными становились пороки самой системы, которые и были подлинными источниками бед и недовольства в стране. К концу XVIII в. Япония вступила в завершающий период эволюции режима, логичным результатом которой явился переворот Мэйдзи 1868 г.
Проблема париев
Как мы уже отмечали, сословная структура общества, которой сёгунат придавал столь важное значение, была далеко не всеохватывающей. В ее орбиту по разным причинам не вошли многие социальные группы: придворная знать (кугз), духовенство, насчитывавшее более 900 тыс. человек, представители интеллигентного труда, а также парии, точное число которых в период Токугава установить невозможно (об их примерной численности см. в главе четвертой). Однако это не означало, что кто-либо в Японии мог усомниться в определении их подлинного места в системе социальной иерархии общества. Ибо положение всех этих внесословных групп традиционно было вполне точно определено. Придворная знать и духовенство были равны или близки сословию дворян. Интеллигенция находилась на уровне высших (дворян) и средних (тёнин) слоев общества. И только парии всегда ставились намного ниже всех существующих сословий.
Хотя группы париев официально и не составили отдельного сословия, практически они обладали всеми его особенностями, были наделены всеми его чертами, чему, кстати, объективно содействовали и сами власти, не раз на протяжении XVIII в. обращавшиеся к париям с регламентирующими предписаниями сословного характера. По существу, их группы были поставлены в исключительное положение совершенно особой, специфической социальной общности, обладавшей тем не менее всеми чертами сословия.
Их положение в XVIII в. также не оставалось стабильным. Общие закономерности развития феодальной Японии вели к существенным переменам и в их среде. Ряд японских исследователей придает настолько важное значение данному периоду (особенно второй половине XVIII в.) в эволюции явления дискриминации, что, по существу, только с этого времени и выводит историю бураку и даже проблемы сегрегации в целом (см. [65, с. 121]).
По нашему мнению, такой подход к вопросу искусственно отрывает проблему бураку от весьма древнего явления дискриминации париев, игнорирует всю предшествующую многовековую историю этого феномена (о чем мы кратко говорили в предыдущей главе) и явно переоценивает формирующую роль юридической, регламентирующей деятельности правителей Токугава. Ведь она осуществлялась не на пустом месте. Ома в основном лишь фиксировала и закрепляла законодательными актами то, что уже давно существовало. Справедливо в данном случае скорее то, что в XVIII в. дискриминация париев, кстати, как и угнетение других слоев населения, резко усилилась, и практически именно в это время эта и хинин были официально закреплены в положении особого, презираемого и бесправного сословия.
В XVII в., пока режим Токугава не испытывал чрезмерных трудностей в социальной сфере, у него не было особой нужды во введении официальных норм дискриминации, ему вполне достаточно было традиционных. Кроме того, в период междоусобных войн и укрепления позиций дома Токугава правители страны и даймё, создавая новые поселения сэммин, преследовали главным образом экономические цели, что также уменьшало необходимость в официальном закреплении сегрегации сэммин.
Однако к XVIII в. характер отношения властей и знати к париям стал определяться в основном уже не экономическими, а идейными и политическими соображениями [54, с. 50]. Экономическая значимость бураку для знати несколько снизилась в связи с наметившимся в эти годы общим хозяйственным застоем в стране. Но в то же время вследствие неуклонного нарастания труд, постен во всех сферах общественной жизни власти стали уделять все больше внимания попыткам укрепить сословную систему — главную основу режима Токугава. В этих условиях наличие в стране групп париев приобрело для режима по преимуществу политическое значение. Свою крайнюю нетерпимость к сэммин, закрепленную особыми юридическими актами, и их строжайшую изоляцию от остального народа правители страны стремились сделать логической основой и оправданием всей своей социальной политики, образцом для регламентации положения остальных сословий.
Собственно, социальное отчуждение было характерно для взаимоотношений всех слоев населения страны: крестьяне презирали ремесло и ремесленников, а последние с высокомерием относились к купцам н торговле. Но все они с особой нетерпимостью относились к сэммин [76, с. 86], ниже которых в обществе уже никого не было. На этой основе и создавался тот психологический климат, который делал возможной и эффективной политику жестокого подавления и ограничений остальных слоев населения. В этом-то и заключалось особое идейное и политическое значение сегрегации париев в XVIII в.
В связи с этим возникает один существенный вопрос: почему же оказалось возможным столь резкое и неуклонное ужесточение официальной политики именно в отношении париев? Ведь в своих взаимоотношениях с другими слоями населения власти все же иногда проявляли н определенную терпимость и гибкость.
Дело тут, очевидно, в том, что дискриминируемое меньшинство в целом никогда не играло в экономической жизни страны такой важной роли, как крестьяне и тёнин. Традиционно и юридически доступная для них сфера деятельности, хотя сама по себе и весьма необходимая и важная, все же не была столь же решающей, как земледелие и производство основных изделий ремесла. Кроме того, и в пополнении феодальной казны парии не имели такого значения. как земледельцы, купцы п ремесленники. И наконец, ужесточение политики сегрегации не в последнюю очередь порождалось также н широко распространенными предрассудками, которым господствующие круги были заражены, пожалуй, в наибольшей степени.
Регламентирующая положение париев активность властей стала особенно заметной с конца XVII в., когда усилились ограничения и всех других слоев населения. Прежде всего, власти попытались более четко зафиксировать рамки дискриминации: точно очертить круг доступных занятий, определить допустимую по фасонам и расцветке одежду, приемлемую манеру 'поведения. Тем
самым они хотели еще раз наглядно подчеркнуть незыблемость и логическую обоснованность всяческих сословных барьеров.
После 1671 г. при регулярных переписях населения париев, как правило, стали заносить в особые списки, что отражало и подчеркивало их отъединенность от остального общества [7, т. I, с. 41—43]. В 1699 г. власти княжества Ава предписали эта носить одежду, сшитую из материи более грубой и менее качественной, чем одежда представителей других сословий [78, с. 51]. Вскоре такие же предписания были сделаны париям и других владений и городов, в частности Хиросима. В 1712 г. специальным указом сёгунат определил районы страны, селиться в которых париям было категорически запрещено.
Крайнее возмущение властей вызывали участившиеся случаи бегства париев из своих поселений. Такое бегство стало своеобразным способом борьбы с усиливавшейся дискриминацией, правда, борьбы, пока еще совершенно не организованной, индивидуальной и пассивной по своей сути, но достаточно недвусмысленной. Власти всегда рассматривали попытки париев скрыть свое происхождение как весьма тяжкое преступление, направленное против «святых» основ государства. Поэтому было проведено широкое обследование населения с целью выявления скрывающихся эта и хинин для возвращения их в свои поселки [7, т. I, с. 80]. Уже в первые десятилетия XVIII в. «охота на париев» (этагари) проводилась неоднократно, в первую очередь в крупнейших городах Японии (в Эдо, Киото и др.), причем ее осуществляли с нараставшей жестокостью. Особенно широко она проводилась в 1740 и 1795 гг. [71, с. 140—141].
В XVIII в. многое в париях, оказывается, вызывало возмущение властей. В 1738 г. правительственный указ с раздражением констатировал, что сэммин «опять стали вести себя крайне нагло и бесцеремонно, вызывая тем самым вполне естественное возмущение всех благородных японцев». В связи с этим париев предупредили о недопустимости впредь «любого безобразия с их стороны». Подобные предупреждения с их пор стали обычными и довольно регулярными.
Особенно беспокоили власти попытки париев внедриться в сельское хозяйство и «наглое» стремление добиться в связи с этим повышения своего социального статуса. Это также воспринималось как покушение на «святая святых» общества — его сословное деление. Сёгунат даже попытался пресечь эту тенденцию при помощи официального запрета париям владеть землей. В конце века был принят указ, в соответствии с которым у многих земле-дельцев-сэммин были конфискованы их уже давно обрабатываемые поля [71, с. 133].
Но и другие стороны жизни и быта париев становились предметом все более жестокой регламентации. В 1742 ". правители Такада ввели на территории своего владения крайне унизительный для жителей бураку порядок: за пределами своих поселений (особенно в городах) сэммин могли появляться только со спе-
У
I
I
цнальным муниципальным значком на груди [71, с. 132]. Опубликованный в 1764 г. указ бакуфу определил не только особенности покроя и расцветки одежды париев, но и обязательные для них типы причесок [7, т. I, с. 113—114]. В 1773 г. париев столицы предупредили о недопустимости одеваться не по статусу богато и красиво. Указ 1778 г. в очередной раз с гневом констатировал «ухудшение нравов эта и хинин, которые стали позволять себе безобразные выходки в отношении крестьян и горожан» (см. Приложение 8).
Ряд указов ограничил права и возможности париев передвигаться по стране, навещать своих близких, совершать паломничество, появляться в неурочное время в «обычных» населенных пунктах. Все они звучали крайне высокомерно и оскорбительно для жителей бураку. Так, один из указов, изданный в конце XVIII в., гласил: «Эта категорически запрещается появляться в городе от захода и до восхода солнца. Попав в город, они не должны допускать никакой наглости в отношении к прохожим» [78, с. 53].
Просто поразительно, с какой назойливостью во многих указах звучал этот тезис о «недопустимой наглости эта и хинин». Этому может быть по крайней мере два объяснения. Прежде всего, власти, очевидно, стремились таким образом осуществлять сословное воспитание, исключавшее какие-либо контакты «высших» с «низшими». Тем самым, по существу, обосновывалась и необходимость безропотной покорности крестьян и горожан по отношению к знати: каждый должен был знать свое «законное» место. Но вместе с тем указанный тезис мог свидетельствовать и о том, что дискриминируемое меньшинство никогда не мирилось с унизительными ограничениями и сопротивлялось их осуществлению всеми способами.
Психологическое отчуждение париев осуществлялось самыми разными средствами и способами. Например, официальной системой оценок различных профессий. Так, плотники из числа сэммин в отличие от «обычных» представителей этой специальности назывались «ёгорэ дайку» (грязные плотники) и их использовали лишь на строительстве «недостойных» объектов — тюрем, публичных домов, при оборудовании мест казни [7, т. I, с. 90]. Отчуждению сэммин способствовал и закон сёгуна Цунаёси, предписавший строгую охрану животных, закон, непосредственно не направленный против париев, однако практически усиливший всеобщую неприязнь к ним и к их занятиям.
К концу XVIII в. увеличилось число приказов, вводивших в качестве обязательных дополнительные знаки внешних отличий париев от хэймин. Так, например, в 1766 г. уже упоминавшиеся правители Такада, а в 1779 г. власти Набэока предписали им ношение отличительных воротничков светло-желтого цвета [75, с. 464]. Париям запретили даже в непогоду пользоваться зонтиками, широкополыми шляпами и гэта.
Для усиления социальной изоляции париев власти стимулировали также и их религиозную сегрегацию. Были запрещены сме-
шанные религиозные общины, и париям пришлось создавать свои храмы, которые обычно были более примитивными и нищими, что еще раз подчеркивало приниженность и сегрегацию сэммин. Кроме того, был издан ряд указов о переводе всех жителей бураку в секту синею4. Собственно, приобщение париев к этой секте началось давно. Существует предание, что еще ее основатель монах Синран выступал с проповедями даже среди презираемых слуг храма Гион [86, с. 88—89]. Причем среди них он нашел якобы наиболее преданных своих адептов. Однако это вовсе не означало, что к XVIII в. все жители бураку стали его последователями. Поэтому указы о запрете для париев религиозного многообразия вызвали в их среде недовольство и отпор.
Пожалуй, наиболее выразительным актом социальной и психологической изоляции париев явился закон, предписавший им в качестве обязательных для них отличительных знаков иметь пришитый к одежде на груди кусок неотделанной шкуры мехом наружу размером около 17X17 см, а ночью носить специальные фонарики или колокольчики [78, с. 53]. Кроме того, в целях усиления полицейского надзора жителей бураку обязали за пределами своих поселений носить на одежде бирки с названиями своих населенных пунктов [65, с. 122].
Вполне логичным результатом такой сегрегации явилось юридическое закрепление старого принципа разной ценности человеческой жизни хэймин и париев (его истоки следует искать в правовых воззрениях времен существования рабства). Так, если за убийство крестьянина житель бураку неизбежно подвергался смертной казни, то представитель хэймин за то же преступление, совершенное против сэммин, мог быть присужден лишь к уплате денежного штрафа [7, т. I, с. 114].
Таким образом, в отличие от крестьян и горожан, в отношении которых феодальные власти на протяжении XVIII в. применяли в основном меры экономического нажима (меры по их сословной изоляции, в целом столь же строгие и многообразные, как и для сэммин, играли все же явно второстепенную роль), в отношении париев главные усилия властей были направлены именно на их более жестокую и унизительную сегрегацию, т. е. основное внимание уделялось идейному и психологическому аспектам сословного разграничения.
Эти усилия не пропали даром. Они стимулировали в народе дух вражды, нетерпимости и предубежденности к жителям бураку. Бациллы недоверия и презрения к ним бесконечно множились, и синдром сегрегации, расширяясь, приобретал все новые, часто совершенно неожиданные формы. Так, например, жители бураку были лишены права вне своих поселений передвигаться по общим дорогам, чтобы своим видом не оскорблять «нормальных» людей. При встрече с «обычными» японцами они не смели смотреть им в глаза, что считалось вызовом и грубостью, они должны были униженно кланяться и падать ниц [78, с. 53]. Они не имели права входить в дома «'благородных» людей. В случае же крайней нуж-
ды парии могли доложить о своем деле только от порога и обязательно стоя на коленях.
Психологическое отчуждение сэммин достигло такого уровня, что перевод «обычного» японца в виде наказания в состав эта или хинин, как правило, воспринимался им как более страшная кара, чем смертная казнь. Тем более что она касалась не только его одного, а всех его потомков, даже самых отдаленных [65, с. 118— 119].
Весьма показательным для характеристики отношения хэймин к париям может быть такой пример. В 1786 г. во владениях Фукуяма произошло широкое крестьянское восстание, для подавления которого власти решили привлечь и жителей трех бураку. Крестьяне хорошо знали, что функции сэммин в этих случаях заключаются не только в поддержке карательных отрядов, но и в том, чтобы после подавления восстания провести его осужденных вожаков по городу на позор и устрашение, татуировать и пытать их [93, с. 102]. Ненавидевшие сэммин и зараженные предрассудками крестьяне, узнав об отправке париев на их усмирение, заявили (вполне в духе официальных указов): «Проклятые эта
опять наглеют. За это следует их всех перебить, а трупы скормить собакам!» Отдельные группы восставших предприняли попытку напасть на поселения париев, учинить там погром и сжечь их [78, с. 55]. И наряду с этим известны случаи, когда для усмирения восставших жителей бураку власти с успехом использовали хэймин —горожан и крестьян, которые с готовностью громили поселения париев и совершали многочисленные акты насилия [65, с. 124].
В XVIII в. продолжался ранее начавшийся процесс объединения многочисленных мелких групп париев (в частности, кавата, банта, хатия и др.) в два главных образования сэммин — эта и хинин. Мы уже отмечали, что, хотя оба они входили в один социальный слой, в их реальном положении и в некоторых особенностях восприятия этих двух групп остальным населением страны существовали большие различия. Эти различия в рассматриваемое время приобрели несколько новый оттенок.
Эта по-прежнему, в соответствии с синтоистскими и буддийскими догмами, считались «оскверненными» своими занятиями, связанными с грязью смерти и крови. Однако практически в XVIII в. идея «осквернения» уже давно переросла в гораздо более широкое социально-идеологическое явление. Действительно, ведь в это время «оскверненными» считались все парии, даже те, которые никогда не были связаны с какими-либо предосудительными занятиями. Даже дети, которые вообще никогда еще не работали, уже при рождении считались «оскверненными». Следовательно, одно представление об «осквернении» не могло быть идейной основой сегрегации париев. Практически дело тут, скорее, заключалось в том, что идеология феодальной Японии в целом исходила из неоспоримого для властей принципа естественной неодинаковости людей. Предполагалось, что любой человек рождается с какой-то
своей особой сословной субстанцией, точно так же, как, например, тигр с когтями или олень с копытами. И эта сословная субстанция (которая включает в себя строго определенный набор черт характера, наклонностей, способностей к отдельным занятиям) якобы обязательно передается по наследству и ничем не может быть изменена. Для сословной субстанции эта считались неотъемлемыми не только низменные черты характера, склонность к малопривлекательным занятиям, но и обязательный элемент «оскверненности», передаваемый по наследству.
Хинин в социально-психологическом плане в значительной мере отличались от эта. Для «обычных» японцев они в общем не были носителями «оскверненности». Прежде всего потому, что они вообще редко занимались производительным трудом. Многие из них, по распространенному мнению, не имели и какой-то особой сословной субстанции. Их, скорее, считали временно наказанными понижением статуса. Очевидно, поэтому им в отличие от эта и разрешали проживать среди «обычных» японцев, а определенные категории хинин по истечении установленного срока имели даже право и возможность вообще выйти из состава париев. И несмотря на это, представители хинин, исключенные из производственной сферы, в соответствии с нормами конфуцианства считались социально низкими людьми, такими же, как и эта. Кроме того, они были чуждыми для всех остальных элементами и в психологическом плане. Для «обычных» японцев в них было много таинственного и устрашающего: они могли толковать сны, предсказывать судьбу, были связаны, очевидно, с какими-то сверхъестественными силами и совершенно не походили на «нормальных» людей.
Таким образом, эта и хинин отделялись от остальных японцев все более высокой стеной психологического отчуждения. И зараженные предрассудками японцы уже не могли себе представить, что парии способны на такие же поступки и чувства, как они сами 5.
Усиление дискриминации париев в XVIII в. не было случайным и произвольным явлением, злобной прихотью каких-то отдельных представителей господствующих кругов, хотя политических лидеров со столь крайними взглядами в феодальной Японии всегда было достаточно, о чем, в частности, свидетельствуют тон и содержание большинства официальных указов, регламентировавших условия жизни сэммин. Ужесточение сегрегации было, скорее, логичным и необходимым элементом всей социальной политики режима, и оно осуществлялось в рамках и в духе этой политики. Ибо, по существу, дискриминация и презрение к париям являлись органической и важной частью всего психологического комплекса феодального общества, жестко разделенного на разноценные сословия.
И все же практически положение париев (как и положение Других групп населения) никогда не совпадало с той схемой, которая создавалась правительственными кругами. С течением времени это становилось все более очевидным. А перемены в их по-
ложении, так же как и в положении других слоев населения, в ! первую очередь определялись общими закономерностями развития страны.
К концу XVII в. уже в основном завершился процесс локального перераспределения значительной части сэммин, осуществлен-ный крупнейшими феодалами. В XVIII в. преобладающим стал процесс роста населения уже существующих бураку6. Характерно, что он шел в условиях разложения основных сословий (крестьян и дворян), стабилизации и даже уменьшения численности всего населения. Практически он в какой-то мере был следствием этих условий. Таким образом, на протяжении XVIII в. происходило несомненное увеличение численности лишь тёнин (двух низших сословий) и париев. Тут даже просматривалась определен- 1 ная закономерность: чем ниже в социальной иерархии находилась группа, тем быстрее она росла. Но этот рост тёнин и сэммин определялся совершенно различными, можно сказать, противоположными тенденциями. Усиление и рост числа ремесленников и купцов были следствием и показателем социально-экономического Прогресса, возникновения новых, более передовых форм предпринимательской деятельности, роста деловой активности. Расширение же численных рамок дискриминируемого меньшинства являлось в основном результатом обострения противоречий общества.
Как мы уже отмечали, в условиях нарастания трудностей режима наличие групп париев оказалось для властей весьма удобным средством смягчения некоторых социальных проблем, в частности растущей преступности. Так, поселения париев (в первую очередь хинин) являлись местом, куда направлялись для отбытия наказания различные нарушители законности и порядка. В состав хинин переводились воры, бандиты (кстати, бандитами тогда часто называли и участников восстаний), лица, исключенные из своих общин, бродяги, а также не имевшие в момент проверки статуса поручителей за их достойное поведение и происхождение [71, с. 119]. В категорию хинин по просьбе родителей, родственников или соседей могли перевести людей недостойного поведения: хулиганов, пьяниц, тех, кто не почитал старших, девушек, бежавших из публичных домов, и т. д. [71, с. 117]. По особому указу сёгуна Есимунэ в состав париев переводили также и тех, кто пытался покончить жизнь самоубийством [86, с. 21].
Роль поселений париев в качестве своего рода амортизаторов любых социальных потрясений особенно возрастала в годы стихийных бедствий и голода, сопровождавшихся разорением огромного количества крестьян и горожан. В эти годы власти часто принудительно переводили в состав сэммин людей, лишившихся средств к существованию. Нередким было и добровольное поселение в бураку бездомных, бродяг, разорившихся хэймин, которые шли на этот крайний шаг, когда только он мог сохранить им жизнь, дать какие-то средства к существованию [71, с. 119];
О масштабах роста числа париев в годы стихийных бедствий можно судить, например, по таким данным. Во время голода в
начале века только в Киото появилось более 700 новых хинин.
В голодном 1714 г. в крупнейших городах страны было зафиксировано в качестве остро нуждавшихся 35 тыс. старых и более 7 тыс. новых хинин. В 1732 г., когда западные районы Японии пострадали от нашествия саранчи, свыше 6 тыс. человек, спасаясь от голода, бежали на восток, главным образом в Осака, где многие из них перешли в состав хинин. Но особенно много новых париев появилось во время страшных 80-х годов XVIII в. [71, с. 122—123].
Однако рост числа париев в условиях стабилизации общей численности населения объясняется не только социально-политическими причинами. Известную роль в этом отношении, несомненно, играли и другие обстоятельства, в частности обычай более ранних браков в среде париев, употребление ими в пищу мяса, а также игнорирование весьма распространенного жестокого обычая ма-бики (прореживания — убийства «лишних» в семье новорожденных детей)7.
Правда, рост численности париев не был постоянным: были и значительные спады. Многие обстоятельства неизбежно вели к снижению общего количества сэммин. Так, в периоды голода и стихийных бедствий смертность в поселениях париев обычно была наивысшей. Для многих, в первую очередь для стариков и одиноких, смерть тогда становилась самым желанным и легким способом избавиться от мучений. Кроме того, в это время усиливался и отток из бураку. Но в целом все же преобладала тенденция к росту численности париев. Группы париев были тем социальным капканом, попасть в который было сравнительно легко, а выбраться — почти невозможно.
Пополнение бураку извне порождало в среде париев новые социальные противоречия, усложняло структуру их групп. Так, например, в среде хинин в связи с этим возникло деление на официально зарегистрированных хинин и бездомных хинин, не признанных властями. В свою очередь, первые из них распадались на три, мало связанные между собой группы: наследственные хинин; отбывающие наказание; экономически и социально деградировавшие представители других сословий [71, с. 121]. Примерно такое же деление имело место и в среде эта.
Практически такое деление не было лишь пустой формальностью, оно отражало наличие значительного антагонизма между старыми и новыми жителями бураку, в первую очередь в производственной сфере. Наследственные жители бураку, особенно те из них, которые добились каких-либо монопольных прав на определенные «виды деятельности, крайне нетерпимо относились даже к угрозе конкуренции со стороны новых поселенцев. Этот антагонизм порождал между ними такую вражду, которая исключала возможность каких-либо контактов, в частности браков. Возникали новые перегородки, имевшие свойства и прочность сословных барьеров. Таким образом, закономерности развития и принципы феодальной структуры действовали во всех ее компонентах.
11 возникновение новых противоречий в среде париев было вполне логичным результатом попыток властей переложить часть своих трудностей на их плечи.
Положение осложнялось тем, что в XVIII в. кроме эта и хинин сохранялось еще значительное количество мелких групп париев, различавшихся между собой по своим занятиям, а также и по сложной гамме оттенков отношения к ним. Одни из них занимали промежуточное положение между эта и хинин, а другие — между париями и хэймин.
Нечеткость межгрупповых границ приводила к тому, что сфера влияния глав сэммин — Дандзаэмона и Курума Дзэнситиникогда не была строго определенной и между ними нередко возникали споры за право распоряжаться теми или иными промежуточными группами. В их подчинении 'находились парии — представители самых различных профессий, причем многие из них временно: лица, занимавшиеся убоем скота, мясники, зеркальщики, парикмахеры, банщики, каменщики, штукатуры, маляры, кожевники, сторожа, палачи, лодочники, литейщики, гончары, красильщики, кремато-ры, транспортные рабочие, вышивальщики, ремесленники, производившие изделия из бамбука. Чрезвычайно широким был диапазон артистической деятельности париев: среди них имелись чтецы сутр, жонглеры, заклинатели змей, артисты кёгэн8, дэнгаку9, саругаку10, кабуки11, дзёрури12, сирабёси13, акробаты, кукольники, чтецы военных историй, исполнители баллад, имитаторы [71, с. 112]. Распри между главами эта и хинин чаще всего касались их прав на контроль именно над цеховыми объединениями артистов. Они имели место, в частности, в 1708, 1716, 1718 и 1722 гг. [61, с. 124—125]. В этих условиях жители некоторых бураку обращались к властям с просьбой о включении их в подчинение к Дандзаэмону, надеясь таким образом получить право на обработку павшего скота и улучшить свое положение [54, с. 60]. А отдельные профессиональные объединения, в первую очередь артистические, вообще с течением времени смогли выйти из подчинения главам сэммин и перейти в состав тёнин.
Профессионально-социальное многообразие групп париев нашло свое отражение в существовании различных локальных названий сэммин: тани-но моно (жители долин), яма-но моно (жители гор), кавата (кожевники), кавара-но моно (жители кавара, приречных долин), хонэтарадзу (малокостные), каваппо (водяные), канбо (бродяги), онбо (крематоры), тясэн (венчики для чая), ецу (четыре, четвероногие) и т. д. [71, с. ИЗ—214]. Правда, нередко разные названия давались и одинаковым по своей социальной и профессиональной сути объединениям. И все же наряду с сохранением некоторых мелких групп париев в их среде продолжался процесс унификации, поддерживаемый властями.
Несмотря на политику сёгуната, стремившегося более четко обособить дискриминируемое меньшинство от остального населения страны, для положения париев были характерны перемены, происходившие и в других сословиях. Эти перемены определялись
общими закономерностями развития всего феодального общества. Особым здесь было лишь то, что формы их проявления носили, как правило, специфический, а иногда даже несколько парадоксальный характер. Так, например, в условиях общего упадка сельскохозяйственного производства, разорения и бегства значительной части крестьян из деревни шел процесс приобщения жителей ■бураку к обработке земли, к виду деятельности, который в феодальной Японии всегда считался наиболее почетным.
Однако при более внимательном рассмотрении этого процесса он оказывается не столь уж неожиданным и парадоксальным. Ведь именно в условиях упадка деревни и ослабления второго сословия парии и могли получить какую-то возможность внедриться в сферу сельскохозяйственного производства. Когда ведение хозяйства для сотен тысяч крестьян становилось непосильным бременем, многие из них нередко сами отказывались от своей привилегии заниматься земледелием. А некоторые даже настаивали на привлечении париев к обработке земли, надеясь тем самым облегчить свою судьбу налогоплательщиков ([74, с. 104]. В то же время и феодалы, заинтересованные в любом пополнении числа налогооблагаемых крестьян, стали проявлять большую терпимость к внедрению париев в сельское хозяйство.
Приобщение париев к сельскохозяйственному производству шло разными путями. Так, например, с середины XVII в. на окраинах многих больших сел с одобрения властей стали создаваться поселения сэммин. Жители этих бураку, как предполагала феодальная администрация, должны были заниматься необходимой ей и местному населению деятельностью: охраной общинных участков,
надзором за порядком и спокойствием в деревнях, обработкой павшего скота, кремацией трупов, транспортировкой грузов и т. п. Однако парии этим не ограничивались. В условиях интенсивного освоения целины парии спорадически ухитрялись заняться и обработкой земли. А в XVIII в., когда наметился общий упадок деревни, стали появляться даже и самостоятельные сельскохозяйственные бураку. Чаще всего они возникали путем отделения наиболее предприимчивых семей от бураку «обычных» сел. Но были и случаи, когда обработкой земли начинали заниматься и жители «особых» кварталов городов. Количественный рост сельских бураку происходил, очевидно, довольно быстрыми темпами. Так, только в районе Харима (близ Киото) за сравнительно короткий период на рубеже XVII—XVIII вв. их число выросло с 28 до 40 [7, т. I, с. 44, 46J.
Те жители бураку, которые начинали заниматься обработкой земли, по-видимому, шли на это из-за безвыходного положения. Ведь в сельском хозяйстве они могли добиться для себя лишь таких условий, которые заведомо были хуже, чем у остальных крестьян. Они получали в аренду только те участки земли, от которых отказывались «обычные» земледельцы, т. е. худшие по качеству и расположению. Но это вовсе не приводило к снижению арендной платы. Наоборот, она часто была для них выше, чем у
«обычных» крестьян-арендаторов. Кроме того, сельскохозяйственные бураку, как правило, полностью подчинялись «основным» деревням, их старостам и общинам. Поэтому, арендуя землю, парии тем не менее не получали права на участие в решении общинных дел, на пользование общинными лугами и лесами. Не уди-вительно, что положение большинства земледельцев-буракумин было крайне тяжелым. Например, их доход в среднем составлял лишь десятую часть дохода земледельцев-хэймин.
Известно, что даже «обычные» крестьяне, находившиеся в лучшем положении, чем сэммин, часто не выдерживали и уходили из родных деревень в поисках лучшей доли. А парии-земледельцы, как правило, никуда не уходили. Ибо уйти им было гораздо труднее, а найти что-либо лучшее невозможно.
Подобно другим сословиям, парии постепенно втягивались также и в товарно-денежные отношения. Эго стимулировало создание новых условий жизни и производства, новых социальных отношений среди париев.
Наиболее заметно этот процесс происходил в несельскохозяйственных бураку, в которых всегда важное место занимало кожевенное дело. Ранее, в период сэнгоку (междоусобных войн), когда сэммин трудились в основном ради удовлетворения военных потребностей знати и получали за это определенные пайки, их положение было сравнительно устойчивым [60, с. 33]. Но в XVII— XVIII вв., в условиях мира и развития товарно-денежных отношений, производство в целом все более ориентировалось на рынок. Жители бураку лишились значительной части своих пайков и вместо военных доспехов вынуждены были производить в основном предметы бытового обихода для широкого круга потребителей. Положение основной массы париев постепенно ухудшалось. Лишь небольшая часть их, наиболее предприимчивых, сумела использовать с выгодой для себя изменившееся положение.
Легче всего смогла приспособиться к новым условиям, приобщиться к предпринимательству бюрократическая верхушка сэммин, извлекавшая из своего особого положения немалые выгоды и накопившая значительные средства. Так, например, Дандзаэмон, доход которого был весьма велик (он складывался из довольно значительного содержания от сёгуната и регулярных поступлений от налогов и различных лицензий на монополии), сосредоточил в своих руках большие денежные суммы и другие ценности [86, с. 28—29]. Частично эти средства использовались для организации мастерских по производству кожаных изделий, в которых трудились десятки жителей бураку, а также для строительства подсобных помещений и складов. Из числа подобных бюрократов-сэммин в первую очередь и формировался новый социальный слой «своих» угнетателей.
Более конкретное представление о динамике и характере происходивших в бураку социально-экономических перемен может дать рассмотрение положения в деревне Ватанабэ — крупнейшем поселении париев, расположенном близ г. Осака.
в начале XVIII в. несколько семей Ватанабэ мура (деревни Ватанабэ) получили от властей лицензии на право монопольной обработки шкур, доставлявшихся в бураку из ряда районов Западной Японии. А к концу века высококачественные кожевенные изделия местных мастеров уже 'находили сбыт в крупнейших городах страны (в Эдо, Осака и др.), и Ватанабэ мура стала одним из крупнейших центров кожевенного производства в стране. Этому способствовал и значительный рост цен на изделия из кожи, происходивший в условиях изоляции страны и прекращения ввоза шкур и кожи из-за рубежа. Благоприятным обстоятельством явилось и резкое увеличение потребностей в кожаных изделиях среди населения. Все это и стимулировало увеличение объема кожевенного производства и выделение торгово-предпринимательской верхушки сэммин Ватанабэ мура (как и некоторых других бураку).
Во второй половине XVIII в. в это поселение ежегодно свозили уже более 100 тыс. различных шкур [71, с. 141—143]. Разбогатевшие на деловых операциях с ними семьи Ватанабэ мура обзавелись своими мастерскими, просторными домами. В их распоряжении появились значительные суммы денег, они стали нанимать слуг и работников. Уже не довольствуясь кожевенным производством, они все чаще прибегали и к другим видам деятельности: торговле и ростовщичеству. Иногда они предоставляли займы даже представителям «благородных» сословий, которые при необходимости готовы были поступиться своим социальным высокомерием и не обращать слишком серьезного внимания на «оскверненность» получаемых таким образом денег [71, с. 141— 143]. К концу века в Ватанабэ мура сложилась группа перекупщиков готовых изделий (тонъя), на которых работало более 400 ремесленников-надомников [71, с. 143]. Все это мало чем отличалось от процесса усиления предпринимательской верхушки в «обычных» городах и селах Японии.
Но наряду с этим в Ватанабэ мура, как и везде, происходил и другой процесс — крайнего обнищания основной массы жителей деревни, возникновения новых форм зависимости. К концу века в этом бураку проживало более 4 тыс. человек. Состоятельными и относительно благополучными были только несколько десятков из них и составлявших вышеупомянутые семьи. Более 400 жителей работали на новых своих хозяев и имели какой-то доход. Прочие жители этой деревни добывали жалкие средства к существованию тем, что ночами тайком охотились в селах и городах на бродячих кошек и собак и изготовляли из их шкур различные мелкие изделия на продажу [75, с. 462] или же просто нищенствовали.
Процесс роста имущественного неравенства и социального расслоения происходил и в сельских бураку. Правда, гораздо медленнее и в еще более трудных условиях, что объяснялось как общими, так и специфическими факторами. Прежде всего, тем, что в целом процесс социального расслоения был в значительной мере порождением города, городской товарной экономики, и поэ-
тому деревню он охватывал с заметным опозданием. Кроме того, j
условия реализации этого процесса в земледельческих бураку были особенно неблагоприятными. Например, как мог житель бураку добиться какого-то благополучия, если там нищета и социально-политические трудности казались особенно непреодоли- <
мыми? Ведь земледольцы-буракумин не только обрабатывали лини, худшие участки земли и не имели права пользоваться общинными угодьями, но, по существу, им запрещалось заниматься и такими, довольно обычными в других деревнях, дополнительными, считавшимися престижными, видами производства, как прядение. ткачество и шелководство, которые стали уже в основном товарными отраслями. А их традиционные занятия, которыми они вынуждены были продолжать заниматься, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности, приносили меньший доход. Кроме того, они не имели и относительно надежных источников обеспечения скота кормами, не могли запасать дрова и лекарственные травы. Поэтому их урожаи и денежные доходы были неиз- /
меримо ниже, чем у крестьяи-хэймин [7, т. I, с. 121—122].
Большинство земледельцев-буракумин, арендуя землю, тем не менее не становилось крестьянами не только по статусу, но и по образу жизни: преобладающее значение для них по-прежнему имел несельскохозяйственный труд. Они нанимались возить дрова, рыть канавы и колодцы, вить веревки, транспортировать грузы, а чаще всего —обрабатывать павший скот [7, т. I, с. 53].
Не удивительно, что деревин париев были по преимуществу поселениями бедняков, и стать чем-либо иным они вряд ли могли.
И все же в XVIII в. даже в них стали появляться отдельные хозяева, поднимавшиеся выше обычного уровня бедности. Благодаря огромным усилиям и различным ухищрениям они становились владельцами участков земли сравнительно хорошего качества [7, т. I, с. 31—32]. В некоторых бураку уже имелись отдельные относительно крепкие хозяева, владевшие не 1—2 танами земли, как большинство сельских сэммин, а участками в 1—2 тё, что было на уровне среднего «обычного» крестьянина [71, с. 147]. Феодалы обязывали их вносить и обычные для всех земледельцев подати, что постепенно освобождало их от «низких» повинностей сэммин и сближало по реальному положению и статусу с представителями второго сословия. Эти буракумин получали возмож- ! иость не только прибегать к найму работников для обработки : своих полей, но иногда и сдавать мелкие участки в аренду своим «собратьям» по сословию. Кроме того, как и другие богатевшие предприниматели, они с охотой приобщались к торговле и ростовщичеству. Все это объективно способствовало сближению «оскверненных» и «чистых» земледельцев, торговцев и ремесленников.
Таким образом, несмотря на специфичность своего проявления, общие закономерности развития феодального общества были достаточно действенными как в городских, так и в сельских поселениях эта.
Несколько иным не только по форме, но и по своей сути было положение хинин. Казалось, общие закономерности развития не были властны над ними. По преимуществу не связанные с производственной деятельностью, они в значительной степени оказались выключенными из процесса эволюции, который переживало все феодальное общество. В их среде не наблюдалось в это время какого-то значительного имущественного накопления, не происходило создания новых форм общественной зависимости, социального расслоения. Однако это вовсе не означало, что в их среде вообще не происходили какие-либо изменения.
В основном входившие в состав хинин нищие, предсказатели судьбы и артисты, как правило, жили не в отдельных бураку, а среди «обычного» населения, чаще всего в жалких лачугах площадью до 4 кв. м с потолком, но без крыши [86, с. 27]. Хинин имели право носить только хлопчатобумажную одежду [86, с. 27]. Все они существовали главным образом за счет скудного содержания из государственной или княжеской казны, которое им полагалось за выполнявшиеся ими в качестве повинностей функции шпиона, тюремщика и палача, а также различных традиционных пожертвований [86, с. 27]. Последние могли быть разовыми или регулярными. В Японии были ситуации, при которых считалось обязательным давать милостыню: например, при рождении ребенка, при наследовании имущества, в день новоселья, начала строительства, в период сбора урожая, под Новый год, в некоторые праздники. Эта традиция являлась своеобразным видом страхования жизни бродяг и нищих. Оплата за гадания и выступления артистов также, по существу, была формой подаяния. Получение милостыни в разных ее формах являлось главным правом хинин и важным источником их существования. Но с ухудшением общего экономического положения страны этот источник все более скудел. Выплата пайков из казны также становилась все менее регулярной. В связи с этим даже их нищенский уровень существования все более снижался.
Особое место среди всех групп хинин занимали бродячие артисты. В XVIII в. отдельные их группы, добившись привилегии выступать на сценах разных театров, в том числе и перед богатой и знатной публикой, смогли выйти из состава сэммин [54, с. 57]. Такое повышение их статуса в значительной мере было связано с усилением позиций тёнин (горожан), с общим развитием городской культуры. Для этих групп хинин артистическая деятельность из временного и побочного занятия превращалась в основную профессию, а сами бывшие парии становились устойчивой и важной частью творческого клана токугавской Японии. На основе их народных представлений формировались многие элементы таких классических японских театральных жанров, как кабуки, дзёрури и театр кукол (кугуцу) [61, с. ИЗ].
Следовательно, несмотря на специфичность положения хинин, и для их групп все же была характерна определенная социальная эволюция, осуществлявшаяся, правда, в весьма своеобразной
Таким образом, в XVIII в. особенности положения париев, как и всех слоев населения, складывались в основном под воздействием двух противоречивых сил: социальной политики властей, направленной на всемерное укрепление сословной системы, и за.’ кономерностей реальной эволюции общества, постепенно разрушавшей навязываемую сверху схему. А равнодействующая этих сил и выражала подлинную ситуацию в каждый данный момент. Причем все более очевидными становились возраставшая действенность социально-экономических перемен и ограниченная эффективность усилий властей.
Явление дискриминации париев, даже с точки зрения правящих кругов, оставалось важной и неотъемлемой частью общественной жизни страны. При этом его значимость (в условиях нарастания кризиса режима и обострения всех его социальных проблем) явно увеличивалась, а содержание в различных областях жизни общества —экономической, культурной, политической и социально-психологической— в известной мере менялось. И практически столкновение интересов знати и «простого народа», с одной стороны, и париев —с другой, все сильнее ощущалось в каждой из этих сфер.
В экономической сфере сэммин исполняли все более широкий круг работ, многие из которых выходили далеко за пределы предписываемых им сверху «оскверняющих» повинностей. Наибольшим их достижением в этом плане стало внедрение в сельскохозяйственное производство.
В культурной сфере их усилиями развивались не только разные типы и жанры народных представлений, но и закладывались основы классического национального искусства, в первую очередь театрального. Параллельно с этим осуществлялся переход отдельных групп артистов-хинин в состав хэймин.
Свои явные неудачи и просчеты в осуществлении сословной политики власти пытались как-то компенсировать усилением социально-психологической сегрегации париев. Так, в частности, они стали более широко привлекать сэммин к выполнению политических по своей сути функций: участию в подавлении народных восстаний14, осуществлению охраны и наказания преступников, выполнению обязанностей шпионов, доносчиков и провокаторов. Усиливая сегрегацию, власти надеялись создать в стране такой психологический климат, который как-то оправдал бы ухудшение положения всех слоев населения.
Политика ужесточения сословной разъединенности и дискриминации жителей бураку воздействовала на все общество, в том числе и на положение внутри сословия париев. Она порождала в нем уродливую и жалкую по своей сути разобщенность и взаимную вражду. В связи с этим представители сэммин практически не ощущали и не осознавали своего социального единства и были резко противопоставлены друг другу. Одни предрассудки и мерь* сегрегации порождали новые, себе подобные.
Однако парии, поставленные в положение наиболее униженной и презираемой части населения страны, никогда не оставались лишь объектом любых актов насилия и произвола со стороны феодальной знати. Даже само ужесточение политики дискриминации в какой-то мере вызывалось и усилением сопротивления париев властям (см. [59, с. 71—72]). Несмотря на жестокую изоляцию от всего остального населения страны и поэтому крайне тяжелые условия борьбы, парии не раз отказывались от исполнения унизительной роли послушного орудия в руках правящих кругов. Их отпор властям и знати носил не только пассивный характер бегства от своих хозяев. Он все чаще принимал характер активного протеста. Об этом, в частности, свидетельствуют и беспрерывные жалобы властей на то, что «нравы жителей бураку в последнее время испортились».
В связи с определенной социально-экономической эволюцией групп париев в XVIII в. заметно изменились и стали значительно многообразней причины и цели их борьбы. Они выступали уже не только против каких-то отдельных актов унижения и произвола. Иногда они решались и на сопротивление ростовщикам и перекупщикам из числа сэммин и хэймин, от эксплуатации которых все ощутимее страдали. А земледельцев-буракумин, кроме того, волновали и проблемы аренды, налогов на землю, использования общинных угодий и т. д.
Следовательно, у эта и хинин кроме своих сословных интересов возникали цели, сходные с задачами бедняков-горожан и крестьян. Именно это обстоятельство создавало какую-то основу для попыток преодоления глубокой пропасти отчуждения, предпринимавшихся представителями разных сословий. Усиливавшаяся экономическая и социальная общность отдельных групп разных сословий иногда оказывалась сильнее политики разъединения и обеспечивала возможность совместных выступлений париев и хэймин против их общих врагов —знати, ростовщиков, перекупщиков, помещиков. Правда, такие выступления были еще крайне редкими событиями [65, с. 124].
Таким образом, явление сегрегации париев в XVIII в. все менее совпадало с приемлемой для знати и навязываемой сверху схемой не только в экономической и культурной, но и в политической и социально-психологической сферах. И признаки неспособности режима добиться последовательного осуществления принципов своей сословной политики даже в отношении дискриминируемого меньшинства, пожалуй, с наибольшей очевидностью свидетельствовали о нарастании его общего кризиса.
Глава четвертая
КРЛХ РЕЖИМА ТОКУГАВА И ПРОБЛЕМА СЕГРЕГАЦИИ (КОНЕЦ XVIII в. — 60-е ГОДЫ XIX в.)
В первой половине XIX в. кризис режима Токугава неуклонно нарастал. Суть кризиса выражалась в болезненном процессе перерождения феодальной структуры общества. В это время пути экономического развития Японии определялись уже не столько в замках и дворцах феодальной знати, сколько на формирующемся общенациональном рынке. В условиях развития товарно-денежных отношений независимо от воли властей возникали новые формы производства и общественных отношений. Последние воздействовали на образ жизни и мышления всех групп населения, в том числе и первого сословия. Наряду с представителями этого сословия, живущими только старыми идеями и нормами дворянской морали, появились и такие феодалы, для которых предпринимательская деятельность и доход стали главной целью и жизненной ценностью. Многие дворяне, разорившись, были вынуждены заниматься физическим или интеллектуальным трудом. Росли ряды ронинов, озлобленных, растерянных и мало ориентирующихся в менявшемся мире. В среде первого сословия нарастал неконтролируемый процесс социального размежевания, который был одним из весьма ярких показателей кризиса режима. Процесс социального разложения наметился и в недрах остальных сословий.
Сёгунату становилось все труднее придерживаться своей внешнеполитической стратегии. Терпела крах политика строгой изоляции страны, которую правители Японии проводили более двух столетий. В условиях, когда капитализм завоевывал все новые позиции в мире (в первую очередь в Европе и Америке), когда под его воздействием постепенно складывался мировой рынок, когда в самой Японии усиливались элементы буржуазности, сёгу-нат был все менее способен держать двери в страну плотно закрытыми. Уже в 40-х годах XIX в. он был вынужден начать отход от своей политики изоляции, что, несомненно, ускорило распад всей структуры режима.
Кризис режима проявился также и во все более широко распространявшемся понимании его несостоятельности и необходимости значительных перемен. Высказывались различные суждения о возможных путях дальнейшего развития общества. По существу, уже в это время закладывались некоторые идейные основы будущей структуры Мэйдзи.
Таким образом, глубокий кризис режима выявился во всех основных областях общественной жизни — в экономической, социальной, политической и идейной. Выражаясь образно, можно сказать, что, несмотря на отчаянные попытки правителей страны задержаться у какого-нибудь островка реформ, убыстрявшееся течение кризиса неудержимо несло режим Токугава к обрыву, т. е. к политическим событиям 1867—1868 гг. Свержение сёгуната явилось своего рода итогом «эволюции» режима. Практически оно сделало возможным уничтожение многих уже давно изживших себя элементов феодальной структуры и вывело страну из состояния затянувшегося кризиса.
О социальных и политических предпосылках
переворота Мэйдзи
События, связанные с восстановлением власти императора в 1868 г., не свелись к простой «смене вывески на старом предприятии», как это иногда утверждают некоторые современные японские историки (см. [52, с. 4—14]). Ставшие возможными в результате этого переворота преобразования оказали огромное революционизирующее воздействие на все японское общество. Но их предпосылки закладывались еще в эпоху Токугава, в основном в конце ее.
После страшных 80-х годов XVIII в. феодальная Япония так и не смогла по-настоящему оправиться. Не помогли и предпринятые правящими кругами в конце 80-х — начале 90-х годов новые попытки путем частичных реформ стабилизировать положение в стране и укрепить позиции всей феодальной структуры. Осуществленные тогда под руководством высокопоставленного государственного сановника Мацудайра Саданобу меры в первую очередь были направлены на укрепление положения основных сословий — военно-феодального и крестьянства. Своих целей власти пытались добиться за счет ограничения влияния тёнин и городов, за счет экономии и борьбы с роскошью. Однако практически эти меры имели, скорее, отрицательные для сёгуната и знати последствия. Так, например, очередное аннулирование задолженности дворян ростовщикам вызвало в среде предпринимателей естественное нежелание предоставлять феодалам займы без абсолютно надежных гарантий. Более того, вскоре после издания своих указов, направленных против тёнин, сам Мацудайра Саданобу оказался вынужденным идти на поклон к ненавистным купцам: бедность государственной казны заставила его прибегнуть к ростовщическому кредиту, к средству, отказаться от которого власти были уже пс в состоянии [98, с. 119].
Совершенно неэффективными оказались и меры по ограничению и регламентированию потребления предметов роскоши знатью и предпринимателями: богатые люди всегда имели возможность их игнорировать или обходить. Вместо запрещенного типа рос-
кошной одежды они использовали другой. Вместо одного вида сладостей употребляли иной или же просто изменяли название старого.
Более действенными были запреты для средних и низших слоев крестьян и горожан. Мы имеем в виду не меры по ограничению роскоши: ее у основной массы народа просто не было, а меры по ограничению в удовлетворении самых насущных нужд (в еде, одежде, жилье, развлечениях и т. д.). Они, по мысли реформаторов, должны были высвободить дополнительные средства для развития хозяйства и увеличения поборов с народа. Однако и эти акты властей практически стимулировали лишь обнищание и разорение земледельцев и ремесленников и, следовательно, сокращение поступлений в казну феодалов.
Таким образом, по существу, реформы Мацудайра Саданобу потерпели полный провал. И это надолго отбило у властей охоту к попыткам что-то менять в обществе. Тем более что ничего иного, кроме какого-то варианта старых реформ, они предложить не могли.
На первый взгляд создавалось впечатление, что японское общество на протяжении ряда десятилетий XIX в. находилось в состоянии хронического застоя и лишилось всякой способности к развитию. Например, размеры пахотных земель и получаемого с них урожая оставались почти неизменными — 3 мли. тё обрабатываемой земли и 30 млн. коку урожая зерновых в год (исключая голодные годы) [16, с. 97]. Стабильной оставалась и численность населения: за 120 лет — с 1726 до 1846 г. оно выросло всего на 0,5 млн. человек (с 26,5 млн. до 27 млн.) [19, с. 69—70].
Однако в действительности за фасадом неизменчивостп и застоя в самых разных сферах жизни общества нарастал процесс важных качественных перемен. Развитие товарно-денежных отношений, подрывавшее основы натурального хозяйства, вело к ослаблению и распаду пятидворок, деревенской общины и цехов— основных организационных форм, на которых базировался режим Токугава. Вместо старых патриархально-феодальных отношений продолжали формироваться новые, вытекавшие из принципов выгоды и прибыльности. Источником социальных разграничений становились не только знатность и традиционная кастовость, но и размеры богатства и деловая предприимчивость.
На базе складывавшегося общенационального рынка усиливалось стремление создать подлинно единое централизованное государство, в рамках которого власть отдельных князей была бы значительно урезана. Таким образом, в экономике, социальных отношениях и психологии росли и укреплялись элементы буржуазности.
К началу XIX в. в Японии преобладали два типа организации торгово-предпринимательской деятельности. Одним из них были все еще весьма влиятельные цеховые объединения, так называемые кабу пакама, которые полностью контролировались феодалами. Эти цехи уплачивали последним значительные суммы за ли-
цензии на определенную монополию и регулярно вносили им промысловый налог.
Однако многие пороки цеховой системы стали уже настолько очевидными, что их вынуждены были признать даже феодальные власти. Кабу накама стали источником различных злоупотреблений и коррупции. Получила широкое распространение практика подкупов и взяток за лицензии на монополию, за право вступления в цех. Наряду с тем система кабу накама ограничивала экономическую инициативу и возможности не входивших в цехи крестьян и ремесленников. А это наносило ущерб хозяйственным потенциям всего общества, вызывало недовольство и протесты в народе. Власти должны были учесть эти обстоятельства и даже попытались изменить положение: в 40-х годах они отменили эту систему. Однако протесты феодальной знати заставили их вскоре вновь восстановить ее.
Вторым типом организации производственной деятельности была централизованная мануфактура. Этот тип производства был более эффективным и прибыльным и в отличие от кабу накама имел неизменную тенденцию к росту. За 60 лет, с 1794 до 1853 г., в Японии возникла 181 новая мануфактура, гораздо больше, чем за предшествующие два столетия [34, с. 113].
С середины 50-х годов XIX в. в стране стали создаваться даже капиталистические предприятия фабрично-заводского типа, на которых работали не только отбывавшие трудовую повинность крестьяне, но и наемные работники. Возникновение таких предприятий способствовало появлению новых промышленных и торговых центров, главным образом в южных и центральных районах страны. Таким образом, социальные отношения приобретали еще более сложный характер. В 'недрах старой социально-экономической системы в Японии складывалась первичная буржуазная
а.днако ее развитию мешал целый ряд весьма существенных обстоятельств: узость внутреннего рынка, недостаток торгового капитала и свободной рабочей силы, сохранение старой цеховой системы, а также политика изоляции страны [98, с. 173]. По количеству предприятий нового типа Япония в середине XIX в. еще очень сильно отставала we только от капиталистических государств Запада, ио и от России. Так, например, в Японии насчитывалось всего 309 мануфактур, а в России уже более 10 тыс. [16, с. 96]. Все это определяло крайнюю слабость зарождавшейся японской буржуазии. Буржуазные круги, весьма неоднородные по своему общественному статусу, по своим идеям и устремлениям, еще не смогли стать самостоятельной социальной и политической силой, превратиться в серьезную угрозу для феодальной структуры общества. И все же именно они объективно содействовали объединению различных оппозиционных течений, их воздействие на политическое положение в стране постепенно росло. Особенно в условиях усилившегося в XIX в. экономического и идейного наступления капиталистического Запада на Японию.
Какие же социальные силы были заинтересованы в осуществлении определенной реорганизации существующей структуры?
В определенной степени в этом была заинтересована верхушка первого сословия или, во всяком случае, часть ее. Мы уже отмечали, что элементы буржуазности проникли тогда уже во все слои общества, в том числе и в сословие дворян. В XIX в. даже некоторые даймё занимались разнообразной предпринимательской деятельностью. Так, например, феодалы Сацума наладили у себя i производство воска, гончарных изделий, железа, бумаги, фарфора, лака, шелка, фаянса [32, с. 41—42]. Накопление в руках подобных феодалов-предпринимателей огромных капиталов, бесспорно, тормозило развитие самостоятельного класса буржуа, но не буржуазных отношений. Ведь они сами объективно способствовали их развитию. Но, допуская возможности каких-то преобразований общества, они обычно имели в виду создание в стране таких условий, которые обеспечили бы им выгоды и как феодалам и как буржуа. Подобная социальная двойственность наложила 1
что к середине века в его распоряжении находилось уже примерно 20—30% всей пахотной земли [16, с. 99]. Естественно, что его представители также стремились к определенному изменению существующей структуры общества, к таким преобразованиям, которые узаконили бы возможности их более свободного раз-вития.
Все более активной политической силой становилась основная масса крестьянства. Для нее процесс социального расслоения со-
словия выражался в основном в значительном усилении их гнета, в резком ухудшении их положения. Наряду с «привычной» зависимостью от феодального владетеля крестьяне все больше попадали в кабалу к помещику, кулаку, деревенскому предпринимателю, ростовщику. Каждому из них крестьянин был что-либо должен —или арендную плату, или проценты по кредиту, или обязанность отработать какое-то время и т. д. Таким образом, положение большинства крестьян становилось все менее устойчивым., особенно в периоды стихийных бедствий и голода. Все это вело к сокращению числа налогооблагаемых крестьян и уменьшению поступлений в государственную казну, что весьма ослабляло позиции режима. Разорявшееся и недовольное крестьянство выступало за стабилизацию своего положения, за проведение таких преобразований, которые дали бы ему возможность сохранить права на владение землей и сократили бы тяжесть поборов.
Усилению политической активности крестьянства способствовали стихийные бедствия, усугублявшие его тяжелое положение. Неурожаи, голодные годы в целом были довольно обычным явлением в феодальной Японии. По существу, у каждого поколения японцев в период позднего феодализма был свой большой голод, как у большинства европейцев — своя война. И в первой трети XIX в. в Японии было немало голодных годов. Однако голод, свирепствовавший в течение нескольких лет в 30-х годах XIX в., по своим масштабам и печальным последствиям может быть приравнен лишь к голоду 80-х годов XVIII в. И он имел, несомненно, совершенно исключительные социальные и политические последствия для страны в целом.
Тяжкие невзгоды этого периода начались в 1833 г., когда в большинстве районов страны сложились просто катастрофические условия для урожая. Поздние весенние и ранние осенние заморозки, наводнения, тайфуны и разрушительные ливни следовали с какой-то фатальной неотвратимостью. В результате собранный Урожай составил в разных владениях от 30 до 70% обычного урожая. Голод и запустение охватили многие области страны [32, с. 24]. Последующие два года не принесли облегчения: в ряде районов урожай опять оказался намного ниже минимально удовлетворительного. И в довершение бед в 1836 г. был повсеместно собран крайне низкий урожай — всего лишь 40% от обычного [7, т. I, с. 145]. Этот год оказался подлинной катастрофой для японского народа, в первую очередь для средних и низших слоев крестьян и горожан. Вместе с тем голодные 30-е годы способствовали и весьма быстрому обогащению наиболее оборотистых и беспринципных дельцов. Они стимулировали быстрое социальное размежевание внутри сословий и содействовали распространению в стране новых политических течений.
Следствием всего этого было увеличение в XIX в., особенно с 30-х годов, числа различных выступлений в городе и деревне. Они становились более мощными, возникали новые формы борьбы.
И хотя в народном движении все еще не было достаточной орга-
низованностн и целенаправленности, оно явилось, пожалуй, наиболее действенной силой, способствовавшей трансформации общества.
Всего за период Токугава произошло более 1500 крупных крестьянских выступлений. Но хронологически они распределялись крайне неравномерно: чем ближе к концу эпохи, тем их становилось больше. Почти половина из них произошла за два столетия— с 1603 до 1802 г., а около половины лишь за 67 лет XIX в. (с 1802 до 1868 г.) [16, с. 106—107]. Конкретные причины этих выступлений были самыми разными: например, непомерные оброки и налоги, чрезмерность трудовых повинностей, должностные злоупотребления чиновников. Однако чем ближе к концу эпохи, тем все чаще крестьяне в своих требованиях выходили далеко за пределы своих традиционных мотивов, добиваясь, в частности, также и уравнительного, более справедливого землепользования, подлинной, а не предписанной сверху выборности должностных лиц и даже (с 60-х годов XIX в.) отмены феодальных прав господ. Это новое, более радикальное направление народного движения получило даже специальное название: Е наоси (Восстания за исправление жизни) [16, с. 109—110].
В отличие от преимущественно общесословных восстаний крестьян в XVII—XVIII вв. выступления жителей деревни в XIX в. все чаще принимали классовый характер. Нередко это были уже самостоятельные акты сопротивления разных социальных слоев сословия с разными требованиями: крестьян-собственников, арендаторов, батраков. Именно поэтому, очевидно, их руководителями обычно становились уже не представители общинной верхушки, как прежде, а разорявшиеся крестьяне-собственники, арендаторы, батраки, а иногда и нищие самураи, настроенные резко враждебно в отношении режима Токугава.
Весьма характерным в этом отношении явился бунт крестьян более 60 деревень района Какогава, вызванный ростом цен на рис во время голода. В нем участвовали в основном крестьяне-бедняки и арендаторы, в том числе и жители бураку. Восставшие совершали нападения на дома деревенских старост, ростовщиков и перекупщиков риса. Но даже в такой исключительной ситуации они не допустили ни одного случая самоуправства, разбоя и грабежа. Правда, эта черта высокой дисциплинированности, сознательности и нравственности в значительной степени была характерна для всего народного движения в Японии в целом.
В ряду всех многочисленных и различных по своим целям и методам народных выступлений XIX в. совершенно особое место занимает восстание под руководством Осио Хэйхатиро, которое произошло в 1837 г. в Осака. В нем весьма отчетливо проявился сам дух нового времени. Оно явилось убедительным свидетельством значимости происшедших в стране социальных и политических перемен, нарастания демократических, радикальных настроений у какой-то части японского дворянства и интеллигенции, ее решимости добиваться реформирования общества.
Осио Хэйхатиро (1794—1837) был, несомненно, выдающейся личностью в долгой истории японского народного, демократического движения. Мы знаем о нем немного. Однако и на основе сохранившихся отрывочных биографических сведений вырисовывается человек благородный, независимый, с высокими нравственными принципами, сумевший преодолеть сословную ограниченность и проявить довольно широкие взгляды.
Осио Хэйхатиро родился в семье мелкого самурая на о-ве Сикоку. После смерти родителей был усыновлен полицейским чиновником из Осака. Таким образом, по рождению и воспитанию он был дворянином, представителем социальной среды, крайне развращенной властью, вседозволенностью и чувством собственного неоспоримого превосходства. И несмотря на это, занимая ответственные должности в полицейском и юридическом ведомствах г. Осака, он проявил такие качества, как честность и бескорыстие, которые были тогда весьма редкими в среде чиновничества1. Стремясь пресечь произвол и взяточничество, он не раз выступал против ростовщиков, купцов и даже представителей своего клана—высокопоставленных чиновников и феодалов. Вполне естественно, что такой человек оказался совершенно инородным элементом в составе действующего аппарата управления, ив 1829 г. его под благовидным предлогом отстранили от должности. Однако это не обескуражило его. Во время голода 1831 г. он раздал нуждавшимся все свои личные средства и обратился к властям и купечеству с призывом помочь голодающим. Однако его призыв остался без ответа. Тогда он предложил раздать деньги и рис, которые предназначались для проведения пышной свадьбы дочери сёгуна. К этому власти отнеслись с крайним возмущением.
Постепенно Осио Хэйхатиро пришел к выводу о необходимости перемен во всей структуре государства. Правда, четких представлений о том, в чем конкретно они должны выразиться, у него не было. Но с осени 1836 г. с помощью своих учеников и появившихся у него сторонников он все же приступил к подготовке вооруженного всесословного восстания против сёгуната. Он рассчитывал при поддержке всех угнетенных слоев населения — крестьян, горожан и даже париев — захватить власть в Осака, а потом, когда его примеру, как он ожидал, последуют жители и других районов страны, действовать уже в более широких масштабах.
Он разослал в городские кварталы и окрестные деревни своих людей с прокламациями, в которых, в частности, говорилось: «Мы намерены сурово покарать чиновников, беззастенчиво издевающихся над народом, а также и богатых горожан, спесивых и высокомерных» [7, т. I, с. 177]. Тайно готовилось оружие, в том числе и огнестрельное. Так, ремесленники Осака изготовили для
него четыре орудия.
Однако его планы широкого восстания провалились. Среди людей, пользовавшихся особым доверием Осио Хэйхатиро, нашелся предатель, который предупредил власти о готовившемся выступ-
лении. И единственное, что заговорщикам удалось в спешке осу-ществить, это организовать отряд из 300 вооруженных человек и совершить несколько нападений на дома богачей в Осака. Шед. шие им на помощь отряды крестьян не успели вовремя войти в город, поскольку действия восставших довольно быстро были парализованы властями. Сведения о подготовке восстания крайне напугали власти. Поэтому они пошли на коварный маневр: для того чтобы умиротворить население города и отвратить его от восстания, они приказали бесплатно раздавать с государственных складов рис всем нуждавшимся и желающим. Видя полный провал своих планов, Осио Хэйхатиро скрылся из города, как полагают, в бураку Ватанабэ, где вскоре покончил жизнь самоубийством.
В целом подготовка этого восстания была еще примитивной, а идеология его руководителей далеко не революционной. В своих социальных и политических устремлениях они были еще крайне робкими и непоследовательными. Самое большее, на что они рассчитывали, сводилось лишь к некоторому совершенствованию феодальной структуры. И все же высокой оценки заслуживает не только их безусловная личная честность, смелость и бескорыстие, но и то, что этим, хотя и безрезультатным, выступлением они практически подняли всю общественную жизнь в стране на более высокую ступень.
* Новые методы организации и цели этого восстания, высокие
моральные качества и новые идеи его руководителей произвели большое и неизгладимое впечатление на передовую часть общества. Еще до подавления восстания из отдаленного района страны сторонники Осио Хэйхатиро писали ему: «Из трех столиц через все провинции далеко распространилась слава о Вас... Вся Япония чувствует Ваше влияние» [34, с. 106]. А вскоре после подавления восстания во владениях Этиго (в районе Кавадзаки) под руководством ученого и философа Ямада Бан произошло выступление около 800 вооруженных людей, назвавших себя «учениками Осио X.» [34, с. 105].
И наконец, это восстание сыграло совершенно особую роль в истории освободительного движения жителей бураку, заставив многие политические группы страны признать его неотъемлемым и важным компонентом всей общественной жизни страны (подробнее об этом см. раздел третий данной главы).
Таким образом, восстание под руководством Осио Хэйхатиро явилось знаменательной вехой, в известном смысле поворотным пунктом на пути развития народного и всего оппозиционного движения в предмэйдзийскую эпоху.
Правители Японии, столкнувшись с целым комплексом новых и трудных проблем, остро ощущали их потенциальную угрозу для себя. Это ставило их перед необходимостью действовать, изыскивать какие-то новые меры для укрепления своих позиций и решения все усложнявшихся хозяйственных и социальных задач. В конце 30—40-х годах XIX в. эта необходимость в какой-то реоргани-
j
зации структуры общества воспринималась ими уже как неизбежная.
После фактического провала реформ 80-х годов XVIII в. правящие круги в значительной степени примирились с растущими противоречиями, что, по существу, явилось своеобразным признанием бессилия в борьбе с ними, В условиях установившейся весьма хрупкой стабильности конца XVIII — начала XIX в. знать смогла позволить себе роскошь закрыть на время глаза на все существующие трудности. В политических кругах бакуфу распространилось весьма опасное иллюзорное представление о том, что все проблемы и пороки режима являются обычным, неизбежным и даже естественным элементом жизни общества. С ним, мол, в конце концов можно жить, раз уже прожили многие десятки лет.
Хотя государственный и княжеские бюджеты в это время обычно сводились с большим дефицитом, роскошь сёгунского двора и знати достигла невиданного ранее уровня. Но это ни в коем случае не могло служить показателем расцвета феодальной Японии, как иногда утверждали некоторые летописцы и исследователи той эпохи. Оно, скорее, напоминало «пир во время чумы» и свидетельствовало лишь о растущем безрассудстве феодальной знати и властей, проявлявших таким образом не только непомерную алчность и амбиции, но и полную неспособность правильно оценить реальную обстановку и свое истинное положение.
Однако когда в 30-х годах XIX в. положение в стране вновь резко ухудшилось и источники пополнения казны безнадежно оскудели, правящие круги, наконец, поняли, что дальше бездействовать нельзя, ибо теперь речь шла уже не об отдельных трудностях, которые могли восприниматься как неизбежные, а об основных устоях всего режима. Только в 30-х — начале 40-х годов XIX в. в стране произошло 359 различных выступлений против властей и знати с требованиями улучшить условия жизни [7, т. I, с. 150], причем наиболее устрашающе на знать подействовало восстание под руководством Осио Хэйхатиро.
Согласившись с идеей реформ, власти предприняли новую попытку укрепить свои позиции. Сначала они стали искать средства для умиротворения народа и создания условий для увеличения поборов в своем старом привычном арсенале приемов. Все более назойливыми и детальными становились законы о строгой экономии. Они касались все новых сторон жизни, регламентируя возможности путешествовать, церемонии свадеб и похорон. Были введены, например, строгие различия в одежде между крестьянами с доходом свыше 10 коку и менее состоятельными землепашцами [7, т. I, с. 147—148]. Опять предпринимались попытки усилить роль пятидворок в выполнении налоговых обязательств и в поддержании общественного спокойствия. Внутри них вводилась система двойной и тройной перекрестной ответственности каждого их члена.
Однако эти меры не приносили желаемых результатов. Необходимы были более решительные акции.
Такой акцией стали реформы 40-х годов, по существу, последняя попытка режима восстановить свои подорванные позиции политическими средствами. Творцом этих реформ считается один из крупнейших деятелей сёгуната того периода — Мидзуно Тадакуни (1793—1851). В 1841 г. он обратился к новому сёгуну со своими предложениями возможных преобразований и, получив его санкцию, приступил к их реализации. Основная цель, которую он ставил перед собой, заключалась в усилении позиций сёгуната и привилегированной знати за счет ограничения влияния торговопредпринимательских кругов и наиболее мощных оппозиционно настроенных даймё. Кроме того, он стремился укрепить деревню в качестве социальной и экономической базы феодального режима, а также упрочить сословную систему в целом. В соответствии с этими целями в стране и был осуществлен большой комплекс самых разнообразных мер.
Прежде всего, повсеместно стали разыскивать и возвращать в свои деревни беглых крестьян. Для того чтобы увеличить поступления в государственную казну, Мидзуно Тадакуни вновь запретил всяческую роскошь, проведение пышных празднеств, урезал расходы всех сословий.
Он попытался также навести хотя бы относительный порядок в системе сёгунского правления. Так, он приказал сместить наиболее коррумпированных чиновников и наказать посредников-взя-точников. В 1843 г. вся территория в радиусе 40 км вокруг Эдо и 20 км вокруг Осака была включена во владения сёгуна. Бывшие ее владельцы получили за нее компенсацию в виде денег и земель в других районах страны [7, т. I, с. 146]. Но даже эти ограниченные административные меры вызвали недовольство и протесты со стороны знати.
Более решительным и настойчивым проявил себя Мидзуно Тадакуни в отношении к торгово-предпринимательским кругам. Прежде всего, он отменил уже в значительной степени опороченную систему замкнутых цехов кабу накама, не посчитавшись с тем, что эта мера задела также интересы той части феодальной знати, которая извлекала из нее значительные выгоды. Кроме того, он намного снизил и частично даже вообще отменил задолженность знати ростовщикам.
И все же эти реформы почти ничего не дали режиму. Господствующие круги вовсе не собирались чем-либо поступиться ради укрепления экономических и социальных позиций других сословий, которые воспринимались ими не более как объект подчинения и источник удовлетворения своих потребностей. Но при таком подходе к усложнявшимся проблемам страны преодолеть все более нараставший кризис было невозможно. И это полностью выявилось в процессе проведения реформ 40-х годов. Так, упорное сопротивление бюрократического аппарата, опиравшегося на моШ-ную поддержку феодальной знати, часто заставляло власти отказываться от попыток сместить слишком скомпрометировавши* себя чиновников [66, с. 222]. Снижение задолженности ростовши-
кам опять привело к свертыванию деловой активности, что вынудило власти вновь вернуться к системе определенных гарантий возмещения кредитов. А вскоре после издания новых указов, уже в 1851 г., под давлением протестов со стороны предпринимателей н части феодалов сёгунат восстановил и старую систему цехов кабу накама. Крайне неэффективной оказались также и меры по восстановлению налогооблагаемых крестьянских хозяйств.
На протяжении своей долгой истории сегунат Токугава три раза оказывался в особо трудном положении: в начале XVIII в., когда впервые отчетливо выявились новые для него трудности и его органические пороки, в конце XVIII в.—в период жесточайших экономических и социальных потрясений, и, наконец, в 30— 40-х годах XIX в. в связи с нарастанием сложного комплекса проблем в разных сферах жизни общества. Каждый раз сёгунат пытался реагировать на обострение кризиса серией реформ. Но с каждым разом они становились все менее действенными. А последний кризис оказался для режима вообще роковым.
В середине XIX в. слабости и признаки несостоятельности режима стали очевидными многим. Особенно это проявилось, когда он «унизился» до консультаций с даймё по вопросам своей политики, стал всячески заигрывать с политической оппозицией в лице императора и его двора и отказался от некоторых традиционных принципов своего правления. Так, например, когда в 30—40-х годах ряд владетельных князей обратился к правительству с просьбой о пересмотре порядка налогообложения, сёгунат (небывалый случай в его истории), боясь осложнений, удовлетворил ее [101, с. 226].
В прошлом причины краха реформ Токугава объясняли по-разному. В частности, некомпетентностью их инициаторов и исполнителей. Действительно, на протяжении долгого времени, особенно к концу эпохи, в услужении у сёгуната было очень мало подлинно талантливых, честных и бескорыстных политических исполнителей. И такие реформаторы, как Мацудайра Саданобу, Мидзуно Тадакуин и некоторые другие, оказались явно менее значительными политическими деятелями, чем, например, Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси или Токугава Иэясу. Но это не потому, что после смерти последних в Японии не стало равных им по способностям государственных деятелей. Дело тут, скорее, заключается в том, что для выполнения разных целей история чаще всего подбирает более или менее соответствующих этим целям исполнителей. Так, в период утверждения нового, решения каких-то позитивных задач, которые совпадают с потребностями эпохи, в руководство обществом может выдвинуться круг по-настоящему талантливых политических деятелей, как это было, например, в период становления режима или во время преобразований Мэйдзн. Когда же цели правящей элиты сводились в основном к попыткам не допустить развития нового, задержать закономерную эволюцию общества, к руководству, как правило, приходили довольно ограниченные, догматически мыслящие люди.
Но независимо от способностей правителей старая феодальная система с ее основными внутри- и внешнеполитическими принципами уже, по существу, изжила себя, и ее крах был только вопросом времени.
После провала реформ 40*х годов сёгунат Токугава уже и не пытался наступать, действовать при помощи диктата, не стремился преобразовать действительность в соответствии со своими старыми социальными и политическими идеалами. Выражаясь несколько специфическим языком, он ушел в глухую защиту, заботясь в первую очередь о том, чтобы не пропустить еще один удар, который мог стать решающим. Именно этим была характерна последняя четверть века существования сёгуната, которую можно выделить в отдельный период его эволюции.
Крах режима Токугава
С 40-х годов XIX в. ослабление основных политических, социальных и идейных устоев режима Токугава шло в нараставшем темпе. Одним из грозных симптомов надвигающегося конца стало резкое ослабление государственного единства, которое в прошлом было достигнуто и поддерживалось сёгунатом с огромным напряжением. Собственно, централизация Японии Токугава всегда была довольно относительной, поскольку многие князья-тодзама неизменно сохраняли значительную долю своей автономии. Однако в 40—50-х годах некоторые наиболее мощные даймё* в первую очередь юго-западных областей, почувствовав ослабление бакуфу, стали все решительней и настойчивей добиваться права на самостоятельность, на полную независимость от сёгуната.
Основной причиной этих сепаратистских устремлений явилась все более усиливавшаяся в XIX в. неравномерность экономического и социального развития разных областей страны. Юго-Запад и некоторые центральные районы Японии развивались более быстрыми темпами. Именно там в середине века были созданы первые промышленные предприятия нового типа. На них уже использовалась и наемная рабочая сила, которая обеспечивалась чаще всего лишь минимумом продовольствия и одежды. Такими предприятиями, созданными с помощью иностранных специалистов, были, в частности, первые в Японии отражательные плавильные печи, построенные в 1850 г. в Сацума, а в 1855 г. в Мито, артиллерийский завод в Сацума, строительство которого завершилось в 1854 г., построенный в 1857 г. там же чугунолитейный завод и т. д. [32, с. 84—85]. Кроме того, в этих владениях были введены в строй и некоторые предприятия легкой промышленности. Инициаторами этой деловой активности были не только купцы, но и представители военно-феодального сословия, установившие в это время уже постоянные контакты с Западом и стремившиеся с его помощью укрепить свое экономическое и политическое влияние.
В то же время господствующие круги Юго-Запада понимали, что они не смогут решать свои новые проблемы без соответствующих перемен в масштабах всей страны. Ибо сёгунат не допустил бы никаких сепаратных социальных и политических преобразований, тем более независимости отдельных княжеств. В этих условиях противоборство бакуфу и более передовых княжеств становилось неизбежным. Стремление формирующейся оппозиции добиться желаемых изменений воплотилось в движении под лозунгом восстановления законной власти императора. Однако оппозицией двигала не неожиданно проснувшаяся горячая любовь к императору. За оппозиционными сёгунату князьями стояли вполне конкретные социальные слои с вполне конкретными целями, надеявшиеся с установлением власти императора добиться необходимых им перемен во всем обществе.
Угроза режиму Токугава в 40—50-х годах исходила не только из оппозиционного лагеря Юго-Запада, но и из-за рубежа. Политика изоляции страны, по существу, потерпела полный крах, что в значительной мере ослабляло позиции сёгуната и стимулировало движение за политические и социальные преобразования в стране.
Уже с начала XIX в. сёгунату становилось все труднее держать страну в состоянии полной изоляции от внешнего мира.
С нараставшей настойчивостью в двери Японии стучали даже весьма отдаленные государства. Особо активно действовали в этом отношении США, Англия, Франция и Голландия, страны, буржуазия которых проявляла все большую заинтересованность в формировании мирового рынка, а также Россия.
Первыми представителями капитализма обычно становились товары фабрично-заводского производства, а также его идеи и социальные ценности. Нередко они навязывались силой оружия путем «дипломатии канонерок». Перечисленные выше державы начали своеобразную осаду дальневосточной «крепости» — току-гавской Японии, торговля с которой, казалось, сулила им огромные барыши.
Первые серьезные попытки установить торговые контакты с Японией предприняли Англия и Россия, но они были резко пресечены сёгунатом. В ответ на «наглые происки Запада» правительство Токугава приняло в 1825 г. очередной строгий указ, категорически подтвердивший незыблемость принципа изоляции страны. Проводя в начале 40-х годов свои реформы, Мидзуно Та-дакуни вновь подчеркнул «естественную» невозможность для Японии каких-либо контактов с Западом. Противников политики изоляции страны (в основном в среде интеллигенции) он обвинил в антипатриотизме и раболепии перед «недостойным» Западом flOl, с. 231].
Однако подтвержденная в 20—40-х годах «вечная незыблемость принципов изоляции» оказалась не столь уж длительной. Настойчивость Запада и заинтересованность предпринимательских кругов Японии в контактах с ним привели к тому, что уже в
1842 г. режим пошел на некоторое смягчение своих ограничений, а в 1846 г. даже признал право княжества Сацума на широкую торговлю с зарубежными странами [101, с. 278]. После посещения в 1846 г. Японии американской эскадрой под командованием коммодора Биддла, передавшего властям личное послание президента » США, в японские воды одно за другим стали заходить суда США, Англии, Франции, Голландии [101, с. 279]. Казалось, что слабевшая стена изоляции вот-вот рухнет. Но сёгунат все еще упорно сопротивлялся нажиму. И только в 1854 г., под угрозой применения оружия со стороны американской эскадры коммодора Перри, правители Японии вынужденно согласились, наконец, на открытие ряда портов страны для американских судов. Через приоткрытые Америкой двери в страну быстро проникли и другие страны — Англия, Россия, Голландия, Франция. Таким образом, старая политика изоляции потерпела полный крах.
Сёгунат пошел на отмену изоляции с большой неохотой и с мучительными сомнениями, сознавая, что ему придется теперь многое менять в общественной структуре. .Правда, он надеялся сохранить контроль над меняющимися условиями и приспособиться к ним. Лидеры режима поняли, наконец, что впредь они смогут достойно противостоять нажиму оппозиции и Запада, лишь опираясь на современные технические знания и современную армию, т. е. на все то, что составляло подлинную силу Запада. Именно поэтому они предприняли первые серьезные попытки выйти из ставшего весьма опасным состояния хронической отсталости. Так, в 50—60-х годах по предписанию сёгунского правительства в Японии, на территории, находившейся под его контролем, было построено несколько крупных предприятий западного образца: в 1853 г. отражательная печь, в 1855—1862 гг.— чугунолитейный завод, а в 1865 г.— металлургический завод. В то же время был '
создан и ряд новых предприятий легкой промышленности [32, с. 84-85],
В своих попытках быстрее модернизировать общество сёгунат осуществил и ряд других мер. В частности, он разрешил более широкий перевод иностранных книг и создание специальных учебных заведений нового типа. Он проявил растущую терпимость и даже заинтересованность к расширению внешней торговли со странами Запада: с 1859 до 1867 г. ее объем увеличился почти в 16 раз [16, с. 100].
Однако практически контакты с Западом не только не укрепили позиции режима, но, скорее, ослабили их, создав множество новых проблем, усилили его неустойчивость. Так, например, они нанесли чувствительный удар по интересам самых разных слоев населения. Ввоз сравнительно дешевых фабрично-заводских изделий разрушал старую систему экономики, сложившиеся торговые связи, способствовал разорению многих тысяч людей — ремесленников, торговцев-крестьян и даже париев-кожевников. Терпели крах десятки цеховых объединений. А вместо них создавалось слишком мало предприятий нового типа, которые могли бы обес-
лечить разорявшихся людей работой, а страну — изделиями отечественного производства. Несколько десятков сравнительно небольших предприятий, производивших оружие, суда, металлические изделия, и 111 предприятий легкой промышленности, сооруженных в Японии в 50—60-х годах XIX в., не могли обеспечить решение ни экономических, ни социальных проблем режима [34, с. 140].
Особо сложной проблемой режима, вызванной установлением контактов с Западом, стало распространение в Японии идей гуманизма и необходимости буржуазных и демократических преобразований, что содействовало усилению критических настроений и взглядов, радикализации общества.
И наконец, более реальной стала опасность вмешательства Запада во внутренние распри и укрепления его политического влияния, главным образом за счет сёгуната.
Таким образом, в связи с усилением сепаратистских устремлений, формированием антисёгунской коалиции и крахом политики изоляции положение режима быстро ухудшалось. Постепенно переставали действовать многие важнейшие компоненты феодальной структуры, такие, например, как цеховые объединения кабу накама, деревенские общины и пятидворки, что еще более подрывало возможности ее нормального функционирования.
Несмотря на разрешение в 50-х годах восстановить систему кабу накама, в условиях создания новых современных предприятий и быстрого развития внешней торговли она практически так и не смогла возродиться. В деревне резко уменьшилось регламентирующее значение общин и особенно пятидворок (в 1868 г., уже при новом правлении, они были официально отменены). Их упадок был неизбежен в условиях социального расслоения второго сословия, усиления влияния помещиков и кулаков, расцвета частного предпринимательства и духа индивидуализма.
Атрофия кабу накама, общин и пятидворок оказала двоякое воздействие на положение крестьян и горожан. С одной стороны, она, несомненно, способствовала раскрепощению людей, стимулировала их предприимчивость и инициативу. Но, с другой стороны, на первых порах она поставила значительную часть трудящихся в весьма затруднительное положение, создавая для них множество новых и трудных проблем. Дело в том, что кабу накама, общины и пятидворки были весьма сложным и во многом противоречивым явлением в жизни феодального общества, что исключало возможность их однозначного определения. Поясним это на примере пятидворок.
Бесспорно, важнейшая цель, которую преследовали феодальные власти Токугава, укрепляя систему пятидворок, заключалась в том, чтобы добиться полной нивелировки индивидуальностей и приспособления всех представителей подчиненных сословий к выполнению их основного назначения — быть законопослушными подданными. Для господствующих слоев пятидворки были крайне полезным инструментом социального умиротворения — своеобраз-
ним гарантом выполнения всех повинностей и безоговорочного подчинения народа.
По вместе с тем эта система в условиях феодального общества имела и некоторое положительное значение для миллионов японцев. Ведь пятидворки (как и общины кабу накама) обеспечивали своим членам хотя бы минимальные гарантии взаимопомощи. своего рода страховки в случае стихийных бедствий, голода, болезни, смерти кормильца и т. д. Кстати, феодальные власти обычно с охотой подчеркивали именно эти аспекты системы пяти-дворок, стремясь внушить народу мысль, что она в первую очередь нужна и выгодна самим крестьянам и горожанам. Так, например, в действовавшем более двух веков (с 1664 до 1868 г.) специальном уложении о гонингуми (пятидворках) говорилось, что их члены должны «относиться друг к другу по-родственному, поощрять браки, опекунство, всяческую помощь, а также отвечать за каждого и следить за всеми» [22, с. 117]. Таким образом, пяти-дворка (как и цех и община) на протяжении веков являлась привычной и в некоторых отношениях полезной формой организации жизни крестьян и горожан. Ее ликвидация на какое-то время сделала положение миллионов людей гораздо менее устойчивым, содействуя процессу пролетаризации широких народных масс.
В условиях неуклонного ослабления всех основ режима Токугава происходило резкое нарастание борьбы народных масс. В 50-х и особенно в 60-х годах XIX в. количество актов сопротивления властям и знати превысило число народных выступлений даже в голодные 30-е годы. Всего за 1844—1867 гг. в Японии произошло 174 довольно крупных выступления крестьян и горожан [22, с. 131]. Рост народного движения вызывался в первую очередь стремлением низов обеспечить хотя бы минимальные гарантии своих интересов в этом быстро менявшемся мире.
В то же время происходило усиление всего оппозиционного движения, расширялась сфера поисков приемлемых способов и путей выхода из состояния кризиса. В связи с этим в 50—60-х годах страна и общество оказались расколотыми на два основных враждующих лагеря: антисёгунский и проправительственный. Причем спор между ними шел не только по вопросу о власти и о методах укрепления государственной структуры, но и в какой-то мере и по социальным проблемам.
Центром антисёгунской оппозиции стали усилившиеся княжества юго-запада страны. Однако и среди них не было единства. Между правителями и политическими деятелями этих княжеств (Тёсю, Сацума, Тоса и Хидзэн) существовали значительные разногласия по вопросу о наиболее эффективном способе оздоровления общества. По существу, в стране возникло несколько политических центров, стремившихся навязать остальным свою волю, свое представление о возможных путях дальнейшего развития Японии. Однако в их планах было и много общего. В частности, все они выступали за развитие современного промышленного производства, особенно военной промышленности [66, с. 248, 256].
Противоречия, которые довольно долго мешали южным оппозиционным княжествам объединиться, определялись не только некоторыми идейными разногласиями, но и эгоистическим стремлением каждого из них добиться ведущей роли в борьбе за преобразования в стране. Однако постепенно они все же сблизились на весьма широкой идейной базе восстановления власти императора. В конкретных условиях того времени эта идея оказалась наиболее приемлемой основой их сплочения. Она позволила княжествам и разным социальным кругам, поддержавшим оппозицию (представителям знати, разорявшегося дворянства, тёнин, крестьян и париям), вкладывать в нее свое содержание, свои представления о необходимых переменах в обществе, которые, как они надеялись, станут возможными в связи со сменой власти.
Перед лицом формирования оппозиционного лагеря не бездействовал и сёгунат. Он активно готовился к неизбежной борьбе, пытаясь создать надежную техническую базу для сопротивления действиям оппозиции. Осуществлялось широкое строительство военных предприятий, арсеналов, верфей. Были спущены на воду первые современные военные суда, одно из которых правительство даже направило в первое для японского флота путешествие в Европу. Создавались пехотные и военно-морские училища для подготовки офицеров новой армии. Предпринимались и другие меры модернизации общества.
Однако при внешней схожести образа действий двух лагерей — правительственного и антисёгунского — политические цели их заметно отличались друг от друга. Сёгунат поддерживали наиболее консервативные силы, которые в основном ориентировались на прошлое, черпая там свои представления о перспективах дальнейшего развития Японии. Противники же сёгуната, хотя и не единые в вопросе о путях возможной эволюции страны, все же исходили из необходимости какого-то учета происшедших в мире и в самой Японии перемен, допускали возможность определенных политических и социальных преобразований в стране.
Противоречия между двумя лагерями вылились, наконец, в открытое столкновение. Причем несколько неожиданно по вопросу об изоляции страны. Неожиданно потому, что не он определял политическое противоборство этих сил. Однако именно он оказался тогда одним из наиболее острых и актуальных, вызывающим особый накал страстей. Поэтому когда в 50-х годах сёгунат вынужденно открыл ряд портов для внешних сношений, его противники сразу же воспользовались этим и обвинили бакуфу в предательстве национальных интересов. Это обвинение выглядело в какой-то степени демагогическим, поскольку сами оппозиционеры из южных княжеств еще в 40-х годах настояли на смягчении изоляционистских ограничений. Следовательно, по существу, противники режима выступили не против контактов с Западом вообще, а лишь против стремления сёгуната сохранить за собой монопольное право на решение любых вопросов о связях с внешним миром. Правда, в какой-то мере они, очевидно, и действительно опасались, что политика открытых дверей может привести к политическому закабалению Японии, к ослаблению их власти.
Однако противоречия в этой сфере длились не слишком долго и завершились, как и начались, весьма неожиданно. Противники режима выбрали довольно неудачную для себя и даже опасную для всей страны форму демонстрации своих патриотических чувств и дискредитации сёгуната. Возможно, они просто слишком плохо ориентировались в соотношении сил разных стран, в международных делах в целом. Но как бы там ни было, они неожиданно решились на обстрел европейской военной эскадры, курсировавшей в японских прибрежных водах. Однако жестокий ответный артиллерийский удар со стороны этой эскадры подействовал на южных князей отрезвляюще, и они быстро согласились с необходимостью и целесообразностью широких контактов с Западом, которые устанавливал тогда сёгунат.
После этого вражда противостоящих лагерей переросла в откровенную борьбу за обладание политической властью. Лидеры обоих лагерей пытались завоевать доверие более широких слоев населения, поскольку понимали, что реально рассчитывать на победу они могут только при условии поддержки их со стороны разных сословий и социальных групп.
Оппозиционные княжества Юга проявили в этих попытках все же большую склонность к социальным компромиссам, нежели их противники. Их политические лидеры смогли в какой-то мере отойти от одного из основных принципов режима — полного отстранения низших сословий от участия в решении любых общественных проблем. При этом они в чем-то даже нарушили принцип сословности. Так, осенью 1864 г. в княжестве Тоса из представителей всех сословий была создана вооруженная народная милиция. А в 1865 г. во владениях Асикага был сформирован корпус крестьянского ополчения [33, с. 252—253].
Но дальше всех по этому пути пошли либерально настроенные политические деятели княжества Тёсю, пришедшие там к власти в 1863 г. В 1865 г. они приступили к формированию военных соединений принципиально нового типа, так называемых кихэйтай (отрядов внезапного действия). В них допускались представители всех слоев населения: ронины, крестьяне, горожане и даже парии. Инициаторами создания кихэйтай были выдающиеся политические деятели предмэйдзийской Японии голландоведы Омура Масудзиро (1824—1869) и Такасуги Синсаку (1839—1867). Эти люди проявили достаточно политической мудрости и зрелости в понимании того, что основой силы новой армии могут стать только какие-то социальные преобразования. Только они, по их мнению, могли привести к подлинному оздоровлению общества, к преодолению кризисной ситуации. И хотя эти деятели и не предполагали какой-то коренной ломки общественной структуры, их подход к задачам страны все же показался многим слишком смелым и вызвал сопротивление со стороны знати [33, с. 260—261].
Омура Масудзиро и Такасуги Синсаку понимали, что вошедшие в состав кихэйтай представители низших сословий в массе своей вовсе не собираются рисковать своей жизнью только ради «любимого» императора. Искренний энтузиазм в воине за монархию могла дать им только надежда на удовлетворение при новом режиме каких-то их нужд. Поэтому политические лидеры Теею пообещали крестьянам, горожанам и даже париям решить в будущем отдельные, наиболее болезненные и важные для них проблемы: освободить земледельцев от крепостной зависимости, гарантировать предпринимательскую деятельность, отменить сегрегацию. Несомненно, это были пока всего лишь обещания. Но и они были весьма примечательным явлением эпохи.
Значение формирования кихэйтай вышло далеко за рамки самого княжества Тёсю. Прежде всего потому, что этот шаг свидетельствовал о наступлении принципиально нового этапа политической борьбы, когда стали вырисовываться социальные устремления противников бакуфу. А также потому, что пример Тёсю поддержали представители и других княжеств, вошедших в состав антисёгунской коалиции.
Но при оценке степени демократичности и социальной значимости кихэйтай необходимо учесть по крайней мере два обстоятельства. Во-первых, создание войск нового типа было вынужденным актом лидеров Тёсю, преследовавших свои собственные политические цели. Очень точно это обстоятельство охарактеризовал канадский ученый Г. Норман. Он считал создание кихэйтай своеобразной формой ограничения крестьянских восстаний и средством направить их в русло борьбы против режима Токугава, т. е., по существу, это было, по его определению, контролируемое сверху крестьянское восстание, сориентированное против бакуфу [32, с. 259]. Во-вторых, возглавили эти войска представители феодальной знати, основная цель которых сводилась к захвату политической власти в стране.
Однако наряду с этими субъективными моментами при оценке кихэйтай мы должны иметь в виду и некоторые объективные факторы. Реально эти подразделения в известной мере все же стали и революционными войсками, прежде всего потому, что практически они использовались не только для политических, но в какой-то степени и для социальных преобразований. А кроме того, значительная часть руководителей антисёгунского блока, а следовательно, и новой армии из княжеств Сацума, Хидзэн, Тоса и Тёсю лишь номинально входила в состав феодального дворянства. По существу же, т. е. по своим занятиям, идеям, настроениям и интересам, они уже давно были, скорее, буржуа, даже если они в этом и не признавались самим себе. Поэтому и цели, которые они ставили в борьбе за восстановление власти императора, уже не могли ограничиться только политическими мотивами.
В целом движение за свержение сёгуната развивалось в определенной степени стихийно. Цели возможных в будущем преобразований четко нигде не были зафиксированы. Однако в 60-х годах в нем уже достаточно определенно звучали следующие основные идеи: сотрудничество с Западом, модернизация армии и промышленности, отмена некоторых сословных ограничений, какие-то гарантии предпринимательской деятельности, подлинная централизация страны на базе передачи всех владений императору [66, с. 262]. А подобные преобразования, по существу, могли способствовать лишь буржуазному развитию страны. Следовательно, объективно это движение было направлено на буржуазную трансформацию общества.
После прихода к власти в Тёсю представителей более радикального крыла это княжество превратилось, по существу, в инородное, враждебное режиму образование. Его поддержали и другие княжества. Так, с 1864—1865 гг. Тёсю и Сацума стали совместно проводить независимую от бакуфу политику, не считаясь с общенациональными предписаниями и законами. Политическое положение в стране становилось все более угрожающим.
Сёгунат был не в состоянии предотвратить неконтролируемую •эволюцию отдельных частей Японии. Он довольно долго не решался на какие-либо карательные меры, надеясь, что процесс нарастания враждебности к нему не распространится на другие районы страны. Правители Токугава какое-то время пытались маневрировать, рассчитывая тем самым нейтрализовать действия оппозиции. Так, в 1862 г. сёгун демонстративно навестил императора и в течение трех месяцев гостил в его резиденции [19, с. 87]. Однако этот жест не привел к умиротворению. Власти Токугава поняли, что войны не избежать, и после создания на Юго-Западе войск кихэйтай начали усиленно к ней готовиться. Наконец, в 1865 г. сёгун двинул стотысячную армию на Юг.
Усилившиеся внутренние распри и вспыхнувшая в конце концов гражданская война, как и следовало ожидать, были использованы западными державами для попыток укрепления своих позиций в Японии. Правда, вначале они лишь присматривались к противоборствующим блокам, чтобы надежнее определить, на какую сторону им выгоднее встать. Наконец, Франция выбрала бакуфу, а Англия — их противников. Они снабжали своих подопечных оружием, военным снаряжением и советниками, надеясь в благодарность в будущем получить от победителя какие-либо политические и экономические преимущества. При этом они, естественно, не собирались стимулировать какие-либо прогрессивные преобразования в стране.
В первых же сражениях в 1866 г. стотысячное дворянское ополчение, возглавляемое военачальниками бакуфу Ии и Сакаки-бара, было разбито войсками нового типа — кихэйтай. Это событие имело большое военно-политическое значение. Однако неизмеримо более важным был его общественный резонанс: оно оказало огромное психологическое воздействие, изменило многие веками складывавшиеся «бесспорные» сословные представления. Впервые самураи были биты в открытом бою армией, в значительной степени состоявшей из простолюдинов. И что самое обидное для дворян —в рядах этой армии имелось несколько отрядов париев. Представители низов убедительно доказали, насколько несостоятельны некоторые важнейшие идейные принципы сословного деления. Вдруг выяснилось, что способность воевать не является врожденной привилегией знати. Крестьяне, горожане и даже парии неожиданно проявили те качества, которые всегда считались монополией дворян: храбрость и стойкость в бою, способность к самопожертвованию. И это не могло не содействовать распространению представлений о целесообразности и логичности отмены сословного деления общества. Не исключено, что отдельные попытки сёгунских властей реорганизовать свою армию на более широкой социальной основе были предприняты, в частности, и под впечатлением этого поражения их войск в 1866 г.
Важнейшей силой, которая содействовала ниспровержению режима Токугава, были крестьяне, горожане и парии. Их выступления в это время происходили в основном на территории, контролируемой бакуфу. В связи с этим сёгунат был вынужден держать в районах особой активности народных масс значительную часть своих войск, что весьма ощутимо сказывалось на военных операциях против сил оппозиционного блока. Так, например, во владениях Этиго около 60 тыс. восставших крестьян блокировали пути движения войск князя Сибата, вынудив их перейти на сторону антисёгунской коалиции [32, с. 262]. Крупные восстания произошли в 1866 г. также и в главных опорных пунктах режима: в Эдо и Осака [41, с. 124—125].
О необычайно широком размахе крестьянского движения в этот период говорят, например, такие данные: в некоторых из 17 крупных выступлений, имевших место в 1868 г., участвовало по 200— 250 тыс. человек.
С осени 1867 г. по всей стране прокатилась волна весьма своеобразных народных выступлений, известных под названием «Э, дзя най ка?»2. Они продолжались до весны 1868 г., т. е. до полной капитуляции сёгуната.
В период позднего феодализма такого рода выступления, имевшие довольно яркую эмоциональную окраску, традиционно происходили в Японии раз в несколько десятилетий. Они распределялись по времени так, что, по существу, на долю каждого поколения выпадала возможность пережить особые чувства, испытываемые участниками такого восстания. Возможно, этому существует даже какое-то психологическое обоснование, связанное с эмоциональным состоянием человека в условиях жестокого угнетения. Дело в том, что во время этих выступлений люди, освободившись от обычного чувства приниженности, иногда доводили себя до состояния экстаза. Мужчины и женщины, молодые и старые, собравшись большими группами, плясали и пели традиционную песню с рефреном «Э, дзя най ка?».
Но на этот раз подобные выступления имели и свои особенности. Во-первых, они начались в связи с распространившимся слухом о том, что в Нагоя произошло чудо — знамение больших перемен в стране. Во-вторых, восставшие не только пели, но и нападали на дома богачей, ростовщиков, склады и делили имущество и продовольствие между собой.
Таким образом, в 1866—1868 гг. наступление на режим приняло широкие масштабы. В это движение оказались вовлеченными не только представители дворянской оппозиции из числа кугэ (императорской дворянской аристократии) и южных феодалов, стремившихся вначале в основном лишь к захвату политической власти. Активное участие в нем приняли также и широкие массы горожан, крестьян и парии, выдвигавшие требования определенных социальных преобразований. Насколько сильным оказалось социальное потрясение этого периода, может показать тот факт, что даже проблема париев впервые стала предметом официального рассмотрения. Борьба вышла далеко за рамки конфликта внутри верхушки общества.
В стране сложилась ситуация, сущность которой выражает •известное определение: «Низы уже не хотели, а верхи не могли жить по-старому» [4, с. 218], т. е. революционная ситуация.
К переменам стремились все слои общества. Однако наиболее действенными оказались экономические, политические и социальные идеи лишь определенной части предпринимательских кругов и ориентирующейся на них части феодальной верхушки. Именно они и определили характер того медленного, мучительного, но неуклонного поворота в общественных отношениях и в политике, который начался во время и после свержения в 1868 г. режима Токугава.
30—60-е годы XIX в.—
поворот в истории париев
В 30-х годах XIX в. проблема дискриминации париев в Японии, пожалуй, впервые в истории страны стала объектом особого внимания общества. Начиная с восстания под руководством Осио Хэйхатиро эта проблема встала в ряд с другими сложными социальными проблемами общества на общенациональной политической арене. Отныне ей вынуждены были уделять внимание представители всех группировок, претендовавших на роль спасителей страны, реформаторов общества.
Это прежде всего объяснялось тем, что кризисные для режима социальные процессы, протекавшие во всех слоях общества, в среде париев проявлялись в самой острой и болезненной форме. Кроме того, политические деятели в своих попытках как-то решать сложные социальные проблемы уже не могли ограничиться лишь какой-то частью общества и вынуждены были включать в сферу своего внимания и париев. И наконец, имеется еще одно, пожалуй, главное обстоятельство: несомненный рост общественной значимости самой проблемы париев.
Последнее, в частности, выразилось в неуклонном росте общей численности сэммин, в увеличении их доли в составе населения страны.
Попытаемся хотя бы приблизительно установить численность париев в период Токугава. Приблизительно потому, что точных данных у нас нет и любые подсчеты могут быть лишь опосредованными и самыми общими.
Выше уже отмечалось, что на протяжении XVIII—XIX вв. при относительной стабильности численности всего населения Японии количественно росли только группы париев. Все имеющиеся у нас сведения (хотя и весьма разрозненные) подтверждают это.
Так, например, в одном из районов владения Сэтцу численность крестьян за 50 лет (с 1775 до 1825 г.) увеличилась всего на 6%, в то время как количество буракумин выросло на 42% [7, т. I, с. 139—141]. В другом районе Сэтцу за 35 лет (с 1835 до 1870 г.) число крестьян сократилось на 4%, а буракумин выросло на 19% [7, т. I, с. 141]. В крупнейшем поселении сэммин — деревне Ватанабэ — менее чем за 50 лет (с 1786 до 1832 г.) число жителей выросло почти на одну треть, с 3805 до 5123 /f71, с. 151 — 153]. В княжестве Сэндай число сэммин за 68 лет (с 1801 до 1869 г.) выросло более чем в 2 раза, с 474 до 1138 [71, с. 151 — 153]. В некоторых деревенских бураку число жителей выросло за 100 лет почти в 4 раза [71, с. 151—153].
Можно полагать, что за 150 лет (с начала XVIII в.) количество сэммин выросло не менее чем в 2 раза. Правда, этот вывод основан на весьма приблизительных расчетах. В одной из специальных работ (к сожалению, только в одной) нам встретилось сделанное на базе весьма опосредованных подсчетов предположение, что в начале XVIII в. в Японии насчитывалось около 145 тыс. эта и несколько десятков тысяч хинин [55, с. 155]. Таким образом, в состав сэммин входило, очевидно, около 200 тыс. человек, т. е. приблизительно 1 % всего населения Японии.
Нам известны и некоторые данные о численности париев, относящиеся к 1871 г. Судя по переписи этого года, в стране насчитывалось около 400 тыс. человек «низкого» социального статуса. Из них примерно 280 тыс. входили в состав эта, 25,5 тыс. относились к категории хинин и более 80 тыс. являлись представителями других групп париев [86, с. 24]. Однако эти статистические данные вряд ли можно считать полными, поскольку перепись населения тогда была произведена не во всех районах страны. Следовательно, общая численность париев в середине XIX в., вероятно, была несколько выше указанной и составляла более 1,5% всего населения Японии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что за полтора столетия численность париев выросла не менее чем в 2—2,5 раза, а их доля в населении страны увеличилась с 1 до 1,5%.
Ряд имеющихся в нашем распоряжении сведений позволяет сделать еще один вывод, связанный с проблемой численности париев в период Токугава. Рост численности сэммин в этот период не был постоянным. Иногда он резко замедлялся. Причем эти колебания темпов роста происходили главным образом за счет хинин, численность которых имела общую тенденцию к сокраще
на
нию. О значительных перепадах в количестве хинин в XVIII— XIX вв. говорят, например, такие данные: в Эдо в 1717 г. насчитывалось 8004 хинин, в 1744 г.— 11 563, в 1750 г.— 7442, в 1786 г.— 10760. в 1837 г.—13266, в 1850 г.— 10008 [71, с. 151 — 153].
О соотношении численности эта и хинин на протяжении эпохи Токугава имеется лишь несколько разрозненных упоминаний. Предполагается, что в начале эпохи хинин по численности превосходили эта [51, с. 116]. Но уже к середине XVIII в. их доля не составляла и четверти количества эта [55, с. 155]. А к концу эпохи Токугава они составляли уже только около 8% от общей численности эта [86, с. 24]. Бесспорное и значительное сокращение доли хинин происходило не только за счет неуклонного роста группы эта, но и в связи с абсолютным уменьшением количества хинин, многие из которых постепенно переходили в состав хэймин.
Сокращение доли хинин сказалось и на общем положении париев. Во-первых, уменьшилась возможность значительных количественных перепадов, которые имели место главным образом за счет хинин. Во-вторых, дискриминируемое меньшинство становилось все более единообразным по своим сословным особенностям. В связи с этим и содержание проблемы дискриминации в значительной мере упрощалось, хотя она не становилась от этого легче для самих париев.
Наконец, в связи с проблемой численности париев и их доли в составе населения следует отметить еще одно важное обстоятельство. Дискриминируемое меньшинство распределялось по разным районам страны весьма неравномерно. На Севере и Северо-Востоке Японии париев почти не было, в то время как в ряде центральных и юго-западных областей страны (в политическом и экономическом отношении наиболее развитых и важных) они составляли в XIX в. от 5 до 10% населения [71, с. 145].
Таким образом, даже имеющиеся весьма приблизительные данные о численности сэммин свидетельствуют о значимости проблемы дискриминации для японского феодального общества, особенно для центральных и южных владений.
Однако одни цифровые показатели не могут дать подлинного представления о действительной общественной значимости проблемы париев. Только количественное увеличение сэммин вряд ли сделало бы явление дискриминации объектом особого внимания и растущей озабоченности властей и господствующих кругов. Ведь, несмотря на численный рост, они не играли столь значительной, как крестьяне или тёнин, роли в экономике и были изолированы от остальных слоев населения. Тогда почему же явление дискриминации со второй половины XIX в. становилось все более важной общественной проблемой?
Можно полагать, что решающую роль в этом отношении сыграла заметная эволюция самого феномена дискриминации париев, в котором с наибольшей отчетливостью проявились все противоречия режима в новую эпоху. В начале эры Токугава проблема
париев была по преимуществу сословной проблемой. Недовольство сэммин в основном вызывали предрассудки и традиционные нормы отношения к ним, связанные с унизительными ограничениями. А по условиям и уровню жизни многие из них тогда не на много уступали представителям средних групп крестьян и горожан [93, с. 103]. Однако в XIX в. проблема париев уже перестала быть строго сословной. Ее содержание в значительной степени определяли также и противоречия классового характера. В среде сэм-мин, в условиях общего ужесточения дискриминации, росло материальное и социальное неравенство: наряду с обнищанием основной массы париев шел процесс формирования «своих» угнетателей, рос объем повинностей и податей.
Общие социально-экономические перемены значительно ослабили рамки их профессиональных ограничений. Сократился круг запретных видов деятельности. Жители «особых» поселений стали шире заниматься мелкой торговлей вразнос, приобщались к ранее недоступным им видам ремесленного производства. Но главное — они внедрялись в сельское хозяйство.
Однако этот естественный и обычный для других слоев населения процесс, ломая привычный образ жизни париев, создавал для них дополнительные трудности, порождал новые противоречия в отношениях с другими сословиями. Ни ремесло, ни торговля, ни сельское хозяйство обычно не делали положение париев достаточно обеспеченным и надежно гарантированным. Ремесленников-париев, как правило, порабощал оптовый перекупщик. Бродячие торговцы всегда влачили жалкое существование. А привилегия занятия сельским хозяйством означала для сэммин главным образом статус батрака, в лучшем случае — арендатора, и только в порядке редкого исключения — крестьянина-собственника.
Характерно, что расширение диапазона доступных для париев профессий стало возможным главным образом благодаря усилиям новых групп угнетателей — перекупщиков, ростовщиков и помещиков. Так, например, внедрению сэммин в земледелие содействовала не старая знать, а помещики, надеявшиеся таким образом сохранить высокий уровень арендной платы для всех крестьян. Ведь парии нередко вынуждены были соглашаться на арендную плату в размере 70—80% урожая. А иногда помещики отбирали у них первый урожай целиком, оставляя лишь солому для мелких ремесленных поделок. В таких условиях помещикам, естественно, легче было устанавливать арендную плату для «обычных» крестьян в размере 50—60% урожая. Таким образом, приобщение париев к сельскохозяйственному производству практически использовалось землевладельцами для ограбления деревни и накопления капитала. С одной стороны, оно обычно усиливало противоречия между сэммин и остальными крестьянами. Но, с другой стороны, возникавшая общность занятий, интересов и настроений одинаковых профессиональных групп представителей разных сословий (причем не только в земледелии, но и в торговле и ремесле) при благоприятных условиях становилась социальной
базой для их объединения. Л это, безусловно, уменьшало сословную специфичность проблемы париев.
В какой-то мере эта проблема становилась проблемой внутри-сословных классовых противоречий. В результате ухудшения положения основной массы сэммин она все больше становилась проблемой нищеты и трущоб. И не удивительно, что стихийные бедствия наносили максимальный ущерб именно тем районам, где проживали парии. Так, 'например, во время голода 30-х годов XIX в. только в районах Кинки погибло до 20% всех жителей бураку [51, с. 364].
Но вместе с тем в этой наиболее угнетаемой и презираемой части общества продолжал формироваться социальный слой «своих» угнетателей. Об этом свидетельствуют даже некоторые правительственные акты. Например, когда в 1805 г. власти в очередной раз с гневом осудили париев за то, что они, забыв о своем статусе, строят себе добротные дома, носят красивую одежду, посещают чайные дома и позволяют себе общаться с хэймин как с равными, они имели в виду, бесспорно, не всех париев, а только их обогащавшуюся предпринимательскую верхушку [55, с. 258— 259]. Подобные предупреждения дают довольно четкое представление и о некоторых особенностях жизни богатых сэммин.
Социальное расслоение сословия отверженных нашло наглядное отражение даже во внешнем облике их поселений. Так, в деревне Ватанабэ среди скопища жалких и обветшалых домов в первой половине XIX в. все больше появлялось новых, крепких и богатых жилых зданий, лавок и складов состоятельных сэммин— старост, перекупщиков, маклеров, ремесленников. Такие же внешние изменения можно было наблюдать и во многих других городских и сельских бураку, в которых окрепли свои оборотистые и богатые дельцы, по положению, занятиям и интересам относящиеся, скорее, к категории помещиков, кулаков или предпринимателей. Даже в среде хинин появились довольно богатые и социально обособившиеся от остальных париев семьи.
Перемены в содержании проблемы сегрегации ставили перед париями новые задачи, выходящие за рамки сословных интересов. В этих условиях они уже не могли ограничиваться лишь требованиями отмены сегрегации. Разные группы отверженных стремились к удовлетворению и своих собственных социальных нужд, что сближало их с соответствующими группами других сословий. В их среде стали раздаваться требования, направленные на укрепление позиций предпринимателей, помещиков, кулаков, а также средних и низших слоев горожан и крестьян.
Таким образом, экономическая и социальная эволюция бураку находилась в русле тех перемен, которые, по существу, ослабляли сословную систему в целом, наносили удар по одной из главных основ политики бакуфу. Поэтому вполне объяснимо, что усилия сёгуната сохранить и упрочить всю сословную систему с особой жестокостью и нетерпимостью проявились в попытках укрепить рамки сегрегации сэммин.
< И тем не менее, несмотря на все внутрисословные перемены, в целом барьер сегрегации, отделявший париев от остальных японцев, практически всегда оставался достаточно прочным. Важную, даже возрастающую роль в сохранении такой изоляции жителей бураку играли не столько официальные законодательные акты, сколько многовековые традиции и предрассудки.
Каким же образом эти традиции и предрассудки воздействовали на положение дискриминируемого меньшинства? Какова их роль в создании определенного социально-психологического климата? Какие перемены происходили в этой сфере в рассматриваемое нами время?
В ранний период эпохи Токугава презрение к париям еще не имело такого всеобъемлющего и ярко выраженного характера, как в конце эпохи. В XVII в., например, им нередко доверяли рыть общие колодцы и строить тории без боязни осквернить эти сооружения3. Даже точные границы презираемого сословия официально еще не были определены. Так, представители местной администрации иногда обращались к центральным властям с запросами относительно государственных принципов классификации сэммин, выясняя, кого же следует относить к категории эта [74, с. 99]. Однако к концу XVII и на протяжении XVIII в. условия и принципы социального обособления париев постепенно были строго регламентированы властями и стена их отчуждения значительно упрочена.
Как известно, политика сегрегации париев в условиях феодальной Японии базировалась на вполне определенной идейной основе. Ее суть составили синтоистские и буддистские представления об «осквернении». Эту идею «осквернения» власти, в том числе и правители Токугава, постоянно поддерживали и закрепляли юридическими актами. Например, в 1683 г. был издан специальный указ, определявший, что употребление в пищу мяса коров, лошадей, свиней, ягнят, медведей, кабанов и обезьян «оскверняет» людей на 100 дней. Сравнительно безопасным в этом отношении, оказывается, было только мясо птицы и рыбы [93, с. 78—79]. Но в социальном плане употребление в пищу любого мяса считалось вполне допустимым и приличным лишь для париев [и... для знати].
Однако к XIX в. идея «осквернения» практически переставала служить надежным логическим обоснованием дискриминации париев. С одной стороны, потому что резко вырос диапазон занятий сэммин и доля «оскверняющих» видов работ соответственно уменьшилась. А с другой стороны, «грязные» занятия и действия постепенно получили какое-то распространение и среди широких слоев «чистого» населения: убоем скота и кожевенным производством (особенно из шкур оленей, медведей и других диких животных) стали заниматься и некоторые хэймин. Более широко распространился и обычай употребления в пищу различных видов мяса, хотя еще в очень незначительном количестве и чаще всего в слегка завуалированном виде, что вряд ли кого-нибудь могло
обмануть. В XIX в. в Эдо и в других крупных городах Японии уже широко продавали мясо (оленину, медвежатину и др.). но под более приемлемым для благочестивых японцев названием «лекарство», «черная акула» [89, с. 153—154]. Кроме того, в городских лавках более широко торговали мясом птицы, яйцами, икрой. Знать же всегда сравнительно свободно питалась мясом, в первую очередь мясом животных, убитых на охоте.
Идея «осквернения» все же не исчезла полностью, поскольку париев по-прежнему воспринимали «нечистыми». Она лишь несколько видоизменилась, став в большей степени социальной по своей сути. Если раньше о жителях бураку думали и говорили в общем так: «Парии осквернены потому, что занимаются грязными, недостойными обычного человека делами», то в конце XVIII •— в XIX в. формула их осуждения изменилась следующим образом: «Раз человек относится к категории сэммин, то он уж тем самым и осквернен». Следовательно, в данном случае «осквернение» уже не обязательно связывалось с какими-то определенными видами деятельности, а с естественно воспроизводимым по наследству социальным статусом. Считалось, что именно он и наделял человека не только определенным набором личных качеств, в основном отрицательных, но и субстанцией «оскверненности».
Однако в XVIII—XIX вв. психологическая отчужденность париев определялась уже не только представлениями об их «оскверненности», но и широко распространенной идеей «навлечения беды», которая способствовала дальнейшему ухудшению отношения к ним.
Собственно, идея «навлечения беды» в эпоху Токугава касалась не одних только париев. В этом плане они не были каким-то исключением. Так, например, в Японии издавна существовало представление о том, что девушки, родившиеся в год лошади4, выйдя замуж, обязательно навлекут на своих супругов и детей всяческие беды. И это суждение было далеко не забавным предрассудком. Практически девушки, родившиеся в этот злосчастный год, оказывались в положении настоящих изгоев, близком к условиям жизни сэммин: их все сторонились, боялись и презирали. Но для представителей всех сословий существовала возможность избежать подобного положения. Свадьбы обычно назначались таким образом, чтобы в роковой год лошади в новых семьях вообще не родились бы дети, неизбежно обреченные на унижения и отверженность. Поэтому в стране, во всех сословиях, как правило, имелось крайне мало девушек (как и юношей), родившихся в этот «страшный» год. А если и были, то они скрывали дату своего рождения как самую большую тайну [89, с. 147—148].
Парии же не могли скрыть своей «подлинной сути», и «обычные» японцы теперь еще более тщательно уклонялись от любого контакта с париями, стремясь уберечь себя не только от «осквернения», но и от возможного несчастья. А если тем не менее все же случалась какая-либо беда, то они чаще всего винили в ее приходе жителей бураку.
Можно привести множество примеров этого. Так, когда во время какого-то деревенского праздника в одном из центральных районов страны участник соревнований по борьбе сумо (вид японской борьбы) получил серьезную травму, присутствовавшие при этом зрители, ничуть не сомневаясь, решили, что виновником неожиданного несчастья мог быть лишь «проклятый эта», и стали искать в толпе зрителей париев. Страсти при этом настолько накалились, что были избиты даже люди, которых ошибочно приняли за париев [50, с. 211—212]. Или когда в 1830 г. в одном из храмов, в который традиционно многие десятилетия совершали паломничество и парии, произошел пожар, находившиеся там «обычные» прихожане решили, что беду навлекли, конечно же, сэммин. И хотя они и не нашли среди собравшихся богомольцев париев, они все же договорились впредь всегда мстить «грязным эта» за совершенную подлость и за присущую им всем злокозненность [50, с. 211].
Идея навлечения беды определяла характер отношений к париям не только в каких-либо частных случаях. Она содействовала созданию и общих правил, укреплению новых традиций, имевших, как всегда, силу строжайшего закона. Проиллюстрируем это положение на одном примере.
Обычно жители различных городов и сел свозили павший скот в заранее условленное место, откуда его регулярно забирали ка-вата (кожевники-парии). Но при этом сложилась традиция, в соответствии с которой массовые перевозки шкур и павшего скота, главным образом морские, разрешались только в период с ноября (после полной уборки урожая) до марта следующего года (до начала сева). Это странное на первый взгляд правило определялось широко распространенным предрассудком, что перевозки «оскверняющих» грузов в период сельскохозяйственных работ неизбежно навлекут какую-либо беду. Например, потонувшее в море судно с «нечистым» товаром якобы может вызвать наводнение, землетрясение и голод.
Практически этот предрассудок ставил кожевников в крайне трудное положение, лишая их возможности регулярно получать необходимое для ремесленного производства сырье. Поэтому нужда нередко заставляла их идти на страшный риск — нарушение подобных ограничений. А риск буквально был смертельный. Ибо, если нарушение раскрывалось, гнев крестьян не знал предела, особенно в неурожайные, голодные годы. В этих случаях крестьяне зверски, нередко до смерти, избивали нарушителей «священных» традиций, сжигали сырье, а также дома и имущество париев. Земледельцы искренне верили, что таким образом они делают благое дело — борются с подлинным источником всех своих бед, неурожая и голода.
Прочность психологической сегрегации париев н характер отношения, к ним определялись не только идеями осквернения и на-влечёния беды, но и предрассудками личного плана. Зараженные ими японцы априори предполагали в любом жителе бураку целый комплекс якобы обязательных для него качеств, таких, например, как вспыльчивость, агрессивность, бесхозяйственность, лень, порочность, склонность к воровству, обману, хитрость, коварство, ненадежность и т. п.
Обоснованность, неизбежность и даже естественность дискриминации логически закреплялась также и предрассудками иного рода, исключавшими саму возможность считать париев людьми. В соответствии с этими предрассудками их рассматривали представителями низшей, особой и в биологическом плане, категории людей. Их, например, часто рассматривали как якобы потомков какой-то животноподобной этнической группы (отсюда и возникло одно из оскорбительных прозвищ — ёцу). В фольклоре этого периода встречались даже такие суждения: «У сэммин нет одного ребра», «половые органы у них устроены ненормально, весьма странная система выделения» и т. п. [86, с. 11].
Предрассудки, бесспорно, играли значительную роль в определении характера отношения к разным слоям населения, в частности социальном обособлении крестьян, ремесленников и купцов. Однако в их сословном выделении решающее значение имели все же не предрассудки, а их функциональная, хозяйственная заданность. Что же касается париев, то с уменьшением их профессиональной специфичности и, следовательно, значимости идеи «осквернения» неуклонно возрастала социально изолирующая роль старых традиций и личных предрассудков, которые должны были доказать «логичность» и «правомерность» всего сословного деления общества.
Таким образом, эти предрассудки, имевшие явно выраженную социальную основу, играли все более заметную регламентирующую роль в структуре общественных отношений. Закрепляя рамки сегрегации, они служили каким-то суррогатом логического обоснования дискриминации. При этом практически они воздействовали и на социальную мораль в целом. Являясь шорами, мешавшими хэймин видеть действительность, они стимулировали распространение в их среде социального эгоизма и ограниченности.
Традиции, предрассудки, идеи осквернения и навлечения беды, а также и юридические акты властей, воздействуя в едином комплексе, довели отчуждение париев до чудовищных размеров. О его подлинных масштабах говорят многие факты. Так, во время нередких тогда пожаров в кварталах сэммин в районе Асаку-са (в Эдо) жители столицы обычно с полным безразличием взирали на бедствия своих соседей и не оказывали им никакой помощи [50, с. 4].
Можно привести еще один пример. В 1859 г. в столице Японии во время народного праздника по случаю сбора урожая один «презренный» житель района Асакуса, одетый в одежду паломника, направился на богослужение в общий храм. Но когда он прошел тории, что уже само по себе в глазах «обычных» японцев было святотатством, один особо бдительный прихожанин обратил яа него внимание. Он догадался, что это «чужак». Среди богомольцев быстро распространился слух: «Эта в храме!» Раздались возгласы: «Нечистый осквернил наш храм!» Разгневанная «неслыханной наглостью» толпа окружила несчастного жителя бураку, который в страхе начал истерически кричать: «Я тоже человек! И я тоже хочу здесь молиться!» В ответ кто-то крикнул: «Убьем скотину!» Богомольцы набросились на него и забили до смерти.
Узнав об этом событии, Дандзаэмон эта центральных районов Японии обратился в городское управление с жалобой на произвол и преступление, пытаясь добиться заслуженного наказания виновных. Однако власти, оказывается, даже и не думали, что кто-то в этом случае достоин порицания. Ведь убили-то всего-навсего пария. А судить за это означало бы признать какие-то права за сэммин. Посоветовавшись, члены управления ответили Дандза-эмону посланием, вызывающе оскорбительным и по содержанию и по форме. В нем, в частности, говорилось: «По социальному статусу эта составляют всего лишь одну седьмую часть хэймин. И поскольку в данном случае убили не семерых эта, то как же можно наказать хотя бы одного горожанина?» Дандзаэмон вновь попытался добиться какой-то справедливости. Однако на свои очередные заявления он в конце концов получил такой ответ: «Если вы так уж добиваетесь наказания кого-то из горожан, то давайте вначале убьем еще шестерых эта» [78, с. 56]. Сведения об этом происшествии и цинизме властей быстро распространились по всей стране, как среди хэймин, так и среди париев. Для первых они, по существу, означали разрешение на любой произвол и издевательства в отношении жителей бураку. А для вторых — крах даже минимальных надежд добиться хотя бы какой-то помощи и поддержки от существующих властей. Парии еще раз наглядно убедились в том, что у них нет ни защитников, ни покровителей, которые, как постоянно твердили в феодальном обществе, были необходимы всем.
Перечень примеров унизительной дискриминации париев мог бы быть бесконечным. Но и приведенных фактов достаточно, чтобы увидеть, насколько четко и строго предрассудки определяли характер и стиль поведения отдельных людей, толпы и даже властей в самых различных жизненных ситуациях, связанных с отношением к париям. По существу, в тех многочисленных случаях, когда характер поведения в отношении сэммин не устанавливался законом, он обычно определялся предрассудками, предубеждением.
Социальные предрассудки всегда играли существенную, регламентирующую роль в японском феодальном обществе. Определить ее подлинные масштабы, очевидно, невозможно. Но не учитывать ее нельзя. Ибо иначе наши представления о жизни общества будут обедненными и неполными, особенно если это касается положения сэммин.
На протяжении XIX в. в условиях, когда экономическое положение основной части париев ухудшилось, когда усилилось их психологическое отчуждение и дискриминация, сопротивление жителей бураку системе насилия неуклонно нарастало.
В общем-то известно не слишком много случаев каких-то крупных выступлений сэммин. Однако каждый акт их сопротивления, бесспорно, следует оценивать вдвойне-втройне, поскольку условия их жизни и особенно борьбы были исключительно трудными. Во время любого восстания они оказывались, по существу, между молотом и наковальней. В случае крестьянских восстаний париев направляли на их подавление. А это вызывало гнев и нередко погромы со стороны крестьян. Но если они отказывались от выполнения этой тяжкой для них повинности, их ждала суровая кара со стороны властей. Им трудно было действовать совместно с крестьянами. Сложно было выступать и самим. Ибо в этом случае обычно земледельцы и горожане не только не поддерживали их, но часто даже нападали на них. Следовательно, если парии хотя бы изредка решались на сопротивление, то это означало очень много. Особенно когда им удавалось действовать совместно с представителями других сословий.
Выступления жителей бураку в XIX в. происходили в самых разных формах: отказ от выполнения каких-либо повинностей, подача петиций, самостоятельные бунты, совместные с крестьянами и горожанами выступления и т. д. Парии выставляли при этом весьма различные требования. Некоторые из них имели уже классовый характер и выражали интересы отдельных социальных групп сэммин: свобода предпринимательской деятельности, получение земли, отмена ростовщической задолженности и т. д. Однако большинство требований было сословного характера: ослабление или уничтожение дискриминации, отмена унизительных ограничений и повинностей, равноправие.
Иногда требования принимали даже несколько неожиданную на первый взгляд парадоксальную форму. Так, например, мужчины-парии, которым запрещали выбривать макушку и заставляли коротко стричь волосы, нередко во время восстания требовали разрешить им «обычные» прически. А замужние женщины из бураку были недовольны тем, что не имели права сбривать, как остальные, брови и чернить зубы. Сэммин часто выступали также и против предписанной им особой расцветки одежды [93, с. 99].
Однако эти требования были далеко не такими уж вздорными и мелочными, как это может показаться неискушенному наблюдателю. Если в условиях феодальной Японии расцветка и покрой одежды, прическа и украшения, обязательные и доступные только для самураев, были престижными явлениями, признаком их привилегированного положения, то для париев эти же показатели стали клеймом, подчеркивавшим их социальную и человеческую неполноценность. Для них они стояли в одном ряду с такими бесспорно унижающими обязанностями, как,, например, уже упоминавшееся ношение бирки с названиями бураку или же необходимость вечерами ходить с колокольчиками в руках, чтобы оповещать «обычных» японцев о приближении «оскверняющего» человека.
Поэтому требования отмены подобных унизительных регламентаций, по существу, были направлены против всей системы дискриминации.
Официальные документы далеко не всегда отмечали самостоятельные выступления париев и их участие в совместных восстаниях, поэтому на их основе трудно судить о подлинных масштабах движения сэммин, особенно если учесть, что с конца XVIII — начала XIX в. власти все чаще стали привлекать буракумин к своим карательным действиям. Однако на основании отдельных, известных нам выступлений буракумин вполне возможно представить некоторые интересные и важные детали и тенденции движения.
Известно, что после подавления крупного восстания крестьян во владениях Идзуми в 1782 г. было казнено 117 его зачинщиков, причем 95 из них являлись жителями бураку. Этот факт, конечно, не означает, что таким же было соотношение крестьян и париев среди восставших. Но вряд ли можно усомниться в том, что сэммин составляли значительную их часть. Вместе с тем известно, что вскоре, в 1786 г. произошло восстание крестьян Фукуяма, во время которого земледельцы совершили ряд нападений на поселения париев в отместку за их вынужденное участие в подавлении выступления жителей деревень данного владения [79, с. 33].
В 1808 г. жители одного из бураку в районе Банею составили петицию с жалобой на недостойные действия старосты и добились его смещения. Такой же инцидент имел место в Сэтцу в 1822 г. [50, с. 197].
В 1792 г. буракумин обязали участвовать в розыске и наказании тайных христиан, в том числе и в среде самих париев [50, с. 193]. Власти при этом не раз пытались как-то стимулировать рвение сэммин, поскольку их энтузиазм был, очевидно, далеко не достаточным. Правители награждали особо отличившихся карате-лей-сэммин деньгами или продуктовыми подарками, как это было, например, в 1810 г. после расправы с бунтовщиками в Тояма [75, с. 455], а также в 1813 г. в Эттю [50, с. 196].
Привлекая париев к выполнению карательных функций, власти нередко ставили жителей бураку в такое положение, когда они должны были преследовать, наказывать и казнить представителей своего же сословия. Так, например, в 1823 г. в нескольких районах Кюсю вспыхнуло мощное восстание, в котором участвовало более 70 тыс. крестьян из 280 деревень. Среди карателей, посланных на подавление восстания, были и отряды мобилизованных париев. Свое оружие им пришлось использовать, очевидно, и против своих братьев по сословию, о чем говорит хотя бы тот факт, что из 26 казненных зачинщиков этого населения 4 были жителями бураку [75, с. 455].
Некоторые документы позволяют сделать вывод о том, что участвовавшие в совместных с хэймин выступлениях парии (в основном эта) сражались с карателями с особым упорством и смелостью. Например, когда восставшие в 1833 г. крестьяне и горожане ряда районов Банею в столкновениях с карателями потерпели поражение и бросились в панике бежать, только отряды париев сопротивлялись до конца, понимая, что в любохм случае их ждет только гибель [78, с. 62].
Важнейшей вехой на пути развития движения сэммин за свои права явилось уже упоминавшееся восстание в Осака в 1837 г. Его руководитель Осио Хэйхатиро сумел в какой-то мере преодолеть рамки сословной, дворянской ограниченности, пытаясь учесть какие-то нужды разных слоев населения, даже париев. Считая необходимым и возможным привлечь к участию в намечаемом выступлении не только хэймин, но и жителей бураку, он еще в конце 1836 г., в период подготовки к восстанию, послал своих представителей в бураку района Осака, в том числе и в известную нам деревню Ватанабэ. С ними он отправил для раздачи сэммин все оставшиеся у него личные деньги, а также и обращение с призывом примкнуть к восстанию. Осио Хэйхатиро не ошибся в своих расчетах. Парии были готовы поддержать любого политического деятеля, который предложил бы им какую-то перспективу облегчения их участи и отнесся бы к ним как к людям. Жители бураку сразу откликнулись на обращение письмом, в котором они, в частности, заявили о своем согласии отдать все для завоевания человеческих прав. Знакомя своих единомышленников с этим документом, Осио Хэйхатиро заявил: «Если мы провозгласим, что будем добиваться их равноправия, они, я уверен, пойдут за нами в огонь и воду» [78, с. 59]. Он предполагал, что к моменту восстания удастся сформировать надежный боевой отряд из париев в количестве от пятисот до тысячи человек, который совместно с другими соединениями горожан и крестьян обеспечит достижение намеченных им политических целей [50, с. 203].
Но восстание было подавлено в самом зародыше, и Осио Хэйхатиро, который считал сэммин своими верными сторонниками, как предполагают, даже пытался найти убежище в бураку.
Таким образом, восстание Осио Хэйхатиро имело особое значение в истории париев. Это был, по существу, первый в истории факт, когда политический деятель Японии обратил особое внимание на проблему дискриминации. Поэтому можно считать, что с восстания под руководством Осио Хэйхатиро начался новый этап движения жителей бураку. Стали закладываться основы идеологии освободительного движения презираемых социальных групп.
В середине XIX в. активность сопротивления париев властям и знати возросла. Заметную роль парии сыграли, например, в городских бунтах в Осака в 1843 г. [75, с. 175]. А в 1856 г. произошло, пожалуй, крупнейшее самостоятельное выступление жителей бураку, охватившее ряд южных районов владения Бидзэн. Оно весьма ярко характеризует формы и содержание движения париев этого периода в целом.
Непосредственным поводом к выступлению послужил изданный в 1855 г. указ местных властей, в котором, в частности, говорилось: парии «должны быть всегда благоразумными и не позволять себе что-либо, соответствующее лишь крестьянам-хэймин... В связи с этим они должны носить одежду без всяких украшений и только темно-коричневую и цвета индиго» [84, с. 60]. Кроме того, указ запретил жителям бураку ношение шляп и использование некоторых видов обуви.
В ответ на эти ограничения жители 53 бураку владения собрались в заранее обусловленном месте и составили петицию, адресованную непосредственно князю. Ее содержание дает отчетливое представление об идейном багаже петиционеров. Парии владения робко просили отменить ограничения в одежде, причем только потому, что они вызовут необходимость в дополнительных расходах на новую одежду и сделают невозможным выполнение ими обязанности соглядатаев. Однако даже такая умеренная петиция не была принята властями. Тогда, в июне 1856 г., около 3 тыс. (а по некоторым сведениям, около 7—8 тыс.) недовольных жителей бураку вновь собрались на берегу реки Есии. Тут были представители всех семей бураку владения — от каждого дома по одному человеку. В знак протеста все явились к месту сбора в запрещенных указом соломенных шляпах. Они составили новую петицию, в которой более обоснованно и настойчиво заявили о своих претензиях. В ней они писали: «В других владениях эта получают продовольственное содержание за счет урожая, выращиваемого крестьянами. В нашем же владении мы, эта, уже давно сами занимаемся земледелием и сами вносим различные натуральные и денежные подати. И несмотря на это, мы, как и прежде, продолжаем подвергаться ограничениям и дискриминации. Это нас крайне огорчает» [78, с. 61].
Вторая петиция еще более ярко характеризует уровень социального мышления и суть устремлений значительной части жителей бураку, приобщившихся к «благородным» занятиям. Эти парии, оказывается, считали вполне естественной сегрегацию тех сэммин, которые продолжали заниматься традиционными видами деятельности и получали продовольственные пайки. Они не могли себе даже представить возможность полной отмены сословных перегородок. Поэтому они считали логичной и необходимой отмену дискриминации только для тех буракумин, которые смогли переключиться на «чистые» виды занятий. Авторы данной петиции наивно полагали, что стоит лишь открыть глаза властям на изменившуюся ситуацию, как их положение сразу будет улучшено.
Составив петицию, жители бураку владения Бидзэн колонной двинулись к резиденции бугё5, с тем чтобы вручить ее властям. Но там их встретил отряд вооруженной самурайской охраны, который остановил толпу, разрешив пройти для переговоров лишь восьмерым представителям сэммин. После этого солдаты арестовали и увели 12 человек, которых объявили зачинщиками «наглой акции Сэммин». Всем остальным было приказано разойтись.
Правда, предварительно им пообещали, что их новая петиция будет самым серьезным образом рассмотрена. Однако дело кончилось лишь жестокой казнью пятерых из числа арестованных.
В 60-х годах XIX в. участились случаи совместных выступлений представителей разных сословий, причем парии, поддерживая и общие требования восставших, вместе с тем часто заявляли и о своих сословных претензиях. Так, весьма весомым было участие париев в бунтах горожан, происходивших в Осака в 1866 г. Более 1200 жителей бураку присоединились к восставшим, добиваясь улучшения условий жизни. А во время волнений в Нисино-мия местные эта были даже, как утверждают, инициаторами выступления горожан [78, с. 62]. Акты совместного сопротивления властям были отмечены и в ряде других районов страны.
Можно выделить несколько основных групп требований сэммин в выступлениях рассматриваемого периода. Та часть жителей бураку, которая не смогла приспособиться к новым экономическим условиям, настаивала на сохранении или восстановлении своих традиционных профессиональных привилегий. Их поддерживали те предприимчивые парии, которые сумели воспользоваться этими условиями, но были весьма заинтересованы в закреплении монопольных сфер сбыта готовых изделий и получения необходимого сырья [7, т. I, с. 142—144]. Основным мотивом в социальных претензиях сэммин-земледельцев было: «Мы отдаем все силы сельскохозяйственному производству, вносим все требуемые подати. Так разве мы отличаемся чем-либо от других крестьян?» [7, т. I, с. 187].
В условиях обострения в середине XIX в. проблемы сегрегации сэммин и усиления их борьбы за свои права два враждующих политических лагеря в Японии (антисёгунский и правительственный) предприняли на определенном этапе попытки привлечь на свою сторону наряду с другими сословиями и париев. Достаточно отчетливо это впервые выявилось в начале 60-х годов в связи с формированием во владениях Тёсю отрядов кихэйтай. Один из инициаторов создания новой армии, Такасуги Синсаку, в своих социальных воззрениях оказался настолько последовательным, что настоял на включении в состав кихэйтай не только горожан и крестьян, но и жителей бураку.
Это явилось небывалым и принципиально новым в истории Японии событием. Оно стало настоящим социальным потрясением: презираемые парии впервые допускались в ту сферу деятельности, которая веками являлась монополией привилегированного сословия, так как военная служба всегда рассматривалась как наиболее престижное занятие.
Таким образом, после того как жители бураку постепенно внедрились в ранее запретные виды экономической деятельности — ремесло, торговлю, а также сельское хозяйство,— они, наконец, оказались и в рядах вооруженных сил. Этот процесс усилившейся социальной эволюции весьма ощутимо расшатывал идейную основу сегрегации, сословную замкнутость.
По предписаниям властей княжества набор жителей бураку в армию производился из расчета пяти человек от каждых ста семей. Из числа добровольцев-сэммин отбирались наиболее крепкие, ловкие, пользующиеся хорошей репутацией молодые мужчины. Предполагалось, что в армии они практически будут исключены из объединений париев, а после окончания военной службы получат формальное право войти в состав хэймин. Понятно, что, имея такую перспективу, буракумин с большой охотой вступали в ряды кихэйтай [78, с. 65].
Создание воинских подразделений из числа добровольцев-сэммин оказалось весьма выгодным для властей предприятием. Их экипировка, обеспечение оружием и снаряжением, а также и продовольственное содержание осуществлялись не за счет княжеской казны, а за счет добровольных взносов самих буракумин, в первую очередь наиболее состоятельных. В надежде на свое скорое сословное освобождение парии делали эти пожертвования довольно охотно.
Однако все это не привело к быстрому реальному уменьшению дискриминации париев и презрения к ним со стороны жителей княжества, даже в армии. Так, например, среди населения владения Тёсю в связи с привлечением париев к военной службе распространилось такое пренебрежительное суждение о них: «Во время голода едят и дрянь, а в плохие времена приходится использовать и никудышные войска». А в самих отрядах кихэйтай солдаты-буракумин были объединены в свои особые подразделения, поскольку «обычные» японцы были против совместной службы с «грязными» париями. В составе кихэйтай были созданы четыре сравнительно небольших отряда, состоявших исключительно из сэммин. Даже младшие командиры в них были из жителей бураку. Таким образом в армии, солдаты которой должны были сражаться за общую цель, продолжал строго соблюдаться принцип сегрегации. И тем не менее сам факт включения отрядов париев в кихэйтай, несомненно, стимулировал рост социального самосознания и самоуважения в их среде. Этому способствовало также то обстоятельство, что, как отмечают даже официальные документы, именно военные формирования париев особо отличились в победоносных боях с самураями из сёгунской армии [78, с. 66].
Что касается правительственного лагеря, то на территории, контролируемой сёгунатом, в целом продолжалась политика усиления дискриминации париев. Власти по-прежнему пытались при помощи ужесточения юридических ограничений и регламентаций сохранить старые барьеры, отделявшие жителей бураку от остального населения. Им вновь запретили заниматься такими престижными видами деятельности, как шелководство, прядение, ткачество, производство сельскохозяйственных орудий. Вместе с тем буракумин более настойчиво привлекали к выполнению полицейских и карательных функций. Стремясь затормозить бегство из бураку, что стало ведущей формой сопротивления политике сегре-
гацни, власти с растущим упорством выискивали скрывавшихся среди хэймин париев и возвращали их в свои поселки, причем одинаково жестоко наказывали как беглых сэммин, так и тех, кто помогал им скрываться.
Но даже сёгунские власти были вынуждены, наконец, признать, что одни лишь строгость и непреклонность не могут обеспечить успешного осуществления их социальной политики. В условиях угрожающего развития кризиса правители Токугава пытались спасти и упрочить свои позиции путем маневрирования.
Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 1855 г., когда сёгунские власти приказали начать переселение эта, находившихся под контролем Дандзаэмона, в осваиваемые районы о-ва Хоккайдо [77, с. 151]. В правительственных кругах серьезно рассчитывали таким образом добиться двойной выгоды: без особых затрат стимулировать освоение северных областей и обеспечить смягчение недовольства хэймин и париев в тех районах, где вражда между ними приняла слишком опасный характер. Однако эти меры носили .крайне ограниченный и принудительный характер и поэтому ничего не могли решить. Их практические результаты были весьма ничтожны.
Тогда в 1867—1868 гг., т. е., по существу, накануне своего краха, сёгунат сделал несколько новых попыток завоевать доверие париев, главным образом эта (проблема париев стала в основном проблемой эта). Количество хинин резко сократилось. Они, в первую очередь артисты, повсеместно переходили в состав хэймин (чаще всего в сословия тёнин).
В мае 1867 г. сёгунат обратился к жителям бураку с призывом (с призывом, а не приказом!) собрать средства для пополнения опустевшей государственной казны. Отношение буракумин к этому призыву видно из реакции на него жителей деревни Ватанабэ. Они направили властям послание, в котором выразили согласие всемерно помогать сёгунату, но при условии, если власти отменят практику сегрегации (см. Приложение 21). Характерно, что свою просьбу они обосновали не стремлением добиться социальной справедливости, а констатацией определенной нелогичности практики сегрегации. По их мнению, дискриминацию париев следует отменить уже хотя бы потому, что иностранцы свободно употребляют в пищу мясо и никто не считает, что это чем-то оскверняет их. Ведь они в отличие от париев являются у себя полноправными и свободными людьми, подчеркивали в своем послании жители Ватанабэ.
Эта ссылка на иностранцев весьма любопытна. Она свидетельствует о том, что по мере расширения контактов с Западом японские парии все более приходили к выводу, что идейные принципы дискриминации далеко не абсолютны и не универсальны, и пытались использовать новую информацию для достижения равноправия б.
Естественно, сёгунат не счел возможным пойти так далеко. Но все же резкое ухудшение его положения делало его более
терпимым даже в обращении с париями, в котором стали появляться совершенно необычные, примирительные нотки.
По примеру южных княжеств сёгунат решился на привлечение париев к военной службе. Однако он не пошел так далеко, как правители Тёсю: жителей бураку использовали в армии сёгуна только в качестве вспомогательной силы — в отрядах армейских носильщиков и чернорабочих. В 1867 г. сёгунат вновь продемонстрировал свою готовность пойти на какие-то уступки париям, причем весьма своеобразным способом. К заболевшему отцу Дан-дзаэмона власти вдруг послали для консультации личного врача сёгуна. Этот шаг вызвал большое удивление в стране. Но Дандзаэмон понял,, что в сложившейся ситуации он может добиться от сёгуната реального смягчения системы сегрегации. Он сформировал из подведомственных ему эта небольшой отряд военизированной охраны и предоставил его в распоряжение сёгуната. В благодарность за это сёгун 13 января 1868 г. объявил о переводе главы эта в состав хэймин. Через три дня Дандзаэмон попытался добиться такой же привилегии и для 60 членов его административного управления. К его крайнему удивлению, власти сразу же удовлетворили его просьбу. Глава эта решил, что история предоставила париям уникальную возможность, которую нельзя упустить. Он обратился к сёгунскому правительству с петицией, в которой просил отменить все формы сегрегации париев, находившихся в его подчинении, и перевести их в состав хэймин. За это он обещал любую экономическую и военную поддержку режиму Токугава [93, с. 106; 77, с. 153].
Однако добиться удовлетворения последней своей просьбы он уже не смог. Режим в эти дни, по существу, уже был лишен возможности что-либо решать. 27—30 января 1868 г. правительственные войска потерпели сокрушительное поражение в бою с силами антисёгунской коалиции при Фусими. А в мае того же года сёгунат полностью капитулировал.
С крахом режима Токугава завершился большой и наиболее тяжелый период в истории дискриминации париев в Японии, длившийся более двух с половиной столетий.
Идейная эволюция общества
в эпоху Токугава
Движение за преобразования, развернувшееся в Японии в 50—-60-х годах XIX в., и сама «реставрация Мэйдзи» были подготовлены не только социально-экономическими и политическими изменениями феодального общества, но и его идейной и психологической эволюцией.
Идейная сфера, бесспорно, является одной из важнейших в сложном комплексе явлений, называемом «общественная жизнь страны». Правда, ее эволюция зависит в основном от материальных общественных перемен — в экономике, политике и т. д. Но это вовсе не означает, что ее суть заключается лишь в пассивном
фиксировании этих перемен. На определенном этапе она становится направляющей силой эволюции общества. Распространяющиеся в стране новые идеи содействуют формированию новых устремлений, настроений и психологии, обеспечивая тем самым необходимую базу для будущих перемен общества в соответствии с возникающими в нем реальными потребностями.
Главными идейными основами режима Токугава были политические и социальные догмы конфуцианского учения, которое всемерно поощрялось властями. Сёгунат благоволил к конфуцианству потому, что его догмы совпадали с основными принципами проводимой им политики и оно весьма точно и последовательно защищало интересы господствующих кругов феодального общества. Так, например, конфуцианская социально-политическая философия утверждала принцип естественности и незыблемости сословного деления, отдавала хозяйственное и нравственное предпочтение земледелию перед ремеслом и торговлей, считала главным достоинством и долгом человека безропотное подчинение властям. Естественно, что эти идеи не могли не быть близкими феодальной знати. И большинство состоявших на государственной службе философов, историков и писателей в своих трудах развивали основные догмы конфуцианства, умело приспосабливая их к нуждам текущего момента.
Важнейшую роль в духовной жизни Японии в эпоху Токугава играли также и поддерживавшиеся властями националистические идеи. Они в основном отвергали наличие в культуре и идеологии какого-либо другого народа чего-либо достойного восприятия или подражания в Японии. Такой крайний национализм был выгоден и необходим только господствующим кругам, поскольку он «объяснял» и наполнял «патриотическим» содержанием проводимую ими политику строгой, единственной в своем роде изоляции страны. Он избавлял власти от неприятной для них необходимости открыто признать тот факт, что эта политика служила в основном интересам феодальной знати, содействуя консервации существующей системы общественных отношений.
Однако даже режим Токугава, пользующийся всеохватывающей, исключительной политической монополией, был не в состоянии противостоять процессу идейной эволюции, распространению новых суждений, оценок и настроений. А этот процесс неизбежно подрывал влияние господствующей философии, устои всей системы Токугава по крайней мере не меньше, чем экономические, социальные и политические перемены.
Идеологическая и политическая оппозиция режиму возникла уже в начале эпохи Эдо. Те социальные и политические принципы, на которых воздвигалось монументальное здание режима Токугава, не могли стать и не стали объектом восторга всех слоев населения. Ведь сёгунат, по существу, защищал интересы только довольно узкого круга привилегированной верхушки. Это обстоятельство и предопределило распространение духа критического восприятия многих сторон действительности феодальной Японии.
О настроениях и взглядах тех слоев общества, которые оказались недовольными политикой Токугава, можно судить, например, по произведениям Ито Дзинсая (1627—1705), талантливого литератора, выходца из деловых кругов. Он весьма четко сформулировал основные претензии этих кругов к сёгунату. Прежде всего, он указал «а огромный вред, который приносит обществу система взаимной слежки и доносов, а также мелочная регламентация, сковывающая творческую инициативу людей. Он отмечал, что крайний национализм, маскирующийся обычно под личиной «патриотизма», чрезвычайно сужает кругозор людей и оглупляет народ. В противовес всему этому он предлагал всемерно распространять просвещение и способствовать более свободному развитию личности [39, с. 59]. В его рассуждениях еще не было какой-то конкретной идеи социальных преобразований. Здесь, скорее, ощущалась надежда на рационализацию и гуманизацию существующего режима. Но даже такие суждения могли породить в обществе беспокойный дух перемен. А это не могло не тревожить власти, для которых самым большим преступлением были любые упреки в их адрес, воспринимавшиеся обычно как покушение на присвоенную ими монополию на государственную мудрость и высшую справедливость. Поэтому многие работы Ито Дзинсая были запрещены. Но, несмотря на это, они ходили по рукам в списках, зачитывались до дыр и способствовали распространению критического восприятия политической действительности.
Критически оценивал многие стороны режима Токугава и видный общественный деятель и ученый Огю Сорай (1666—1728), несмотря на свою приверженность господствующей идеологии. Его критика, если можно так выразиться, была критикой справа. В первую очередь он был недоволен усилением предпринимательских кругов, что, по его мысли, нарушало естественный общественный порядок и развращало народ. Поэтому он предлагал обратить самое серьезное внимание на возрождение и укрепление позиций основных феодальных сословий — самураев и крестьян. Вместе с тем для упрочения нравственных устоев он настаивал на свободе личной жизни человека и необходимости развития наук (в первую очередь западных) и просвещения [66, с. 236].
Видный философ второй половины XVIII — начала XIX в. Яма-гата Дайни, отмечая отдельные недостатки режима, попытался определить ту социальную силу, которая может оказаться достаточно действенной в борьбе с любым общественным злом. Он полагал, что такой силой может стать лишь зажиточное крестьянство, которое только и способно нейтрализовать несомненный вред, как он считал, наносимый стране торговлей [28, с. 193].
Таким образом, эту группу философов в первую очередь волновал нравственный аспект все более усложнявшихся социальных проблем. Однако в своих еще довольно робких попытках определить какие-либо приемлемые способы их разрешения они чаще всего обращались в прошлое, к наиболее консервативным методам
ведения социальной политики. Но, рассматривая социальные проблемы в основном с точки зрения нравственных, этических критериев, они вовсе не считали необходимым что-либо менять в самом характере общественных отношений. Они надеялись избавиться от любого социального зла (от алчности, хитрости, продажности, взяточничества и т. д.) путем нравственного совершенствования людей. Но даже беспредельно преданные режиму конфуцианские философы, третировавшие ремесло и торговлю и превозносившие земледелие, постепенно вынуждены были в какой-то мере учитывать реальность и согласиться, что ремесло и торговля вообще-то сами по себе не слишком низкие виды деятельности. Более того, они даже, оказывается, нужны и полезны обществу. Но вот многие алчные люди, занимающиеся ремеслом и торговлей, якобы и воплощают в себе все общественное зло. И все беды режима проистекают, следовательно, от их аморальности [98, с. 131].
В данном случае философская мысль во многом плелась в хвосте менявшейся действительности, и ее главной целью было лишь определение более эффективных мер защиты феодальной структуры общества. Представители этого направления выступали за ограничение влияния предпринимательских кругов, за консервацию существующих порядков, против каких-либо социальных перемен [98, с. 133]. Однако, в условиях когда в стране росло число людей, не удовлетворенных и напуганных неутешительными результатами реформ-паллиативов, и создавалась более реальная основа для политической оппозиции, развивались и другие философские направления, которые стимулировали стремление к более значительному переустройству общества. Их представители выражали интересы и настроения разных слоев населения.
Зарождение антисёгунских идей и настроений происходило самыми разными путями. Так, изоляцией страны оказались весьма недовольны представители школы рангакуся (голландоведов). Правда, они не стали какой-то действенной преобразующей силой, так как являлись скорее учеными, чем политиками.
Более эффективной в этом отношении была деятельность сторонников учения сингаку (о морали), настаивавших на внедрении в народе таких качеств, как деловитость, бережливость, честность. В XVIII в. ими стали распространяться новые идеи индивидуализма, общественной ценности самого человека, его чувств и настроений. С такими идеями выступили совершенно различные по другим своим взглядам общественные деятели Японии. Таким образом, формировалось новое представление не только о долге человека перед обществом, но и об ответственности последнего перед индивидуумом. По существу, эти идеи оказались близкими всем недовольным своей приниженностью и бесправием, в первую очередь предпринимательским кругам.
Неизбежным результатом подобной эволюции системы взглядов и настроений явились новые представления о нелогичности и общественной вредности сословной структуры. Так, например,
видный общественный деятель второй половины XVIII — начала XIX в. Кайхо Сэйрё (1755—1815) проявил настолько широкий подход к оценке ремесла и торговли, что счел вполне оправданным, нравственным и даже необходимым приобщение знати к предпринимательской деятельности.. Он писал: «Почему никто не удивляется, когда самурай покупает? А если он продает, то все считают это недопустимым. Нет, такой подход явно нелогичен!» [98, с. 135]. Объективно ход таких рассуждений мог привести даже и к отрицанию необходимости сословного деления. Правда, сам Кайхо Сэйрё, призывая самураев заняться коммерцией, вовсе не настаивал на отмене сословий. Он стремился к «более гармоническому сочетанию» интересов высших и низших социальных групп, к укреплению позиций знати в быстро менявшихся условиях ее существования.
Гораздо дальше его в оценке социальной ситуации пошел ученый и философ Сиба Кокан (1747—1818). Уже в конце XVIII в. он высказал мысль о необходимости равноправия для всех людей [43, с. 87]. Он выдвинул крайне еретическую для Японии того времени идею о том, что «все, начиная с Сына неба и сёгуна и кончая дворянами, крестьянами, купцами, сэммин и нищими,— все они в равной мере люди» [28, с. 192].
Совершенно особое место в истории развития общественной мысли Японии занимает выдающийся философ Андо Сёэки. Его анализ социальных отношений явился вершиной осмысления действительности не только для своего времени, но и для последующей эпохи. Многие его наблюдения и суждения по своей точности и общественной значимости стояли на уровне высказываний передовых мыслителей Запада XVIII — начала XIX в. Однако его труды в целом остались почти неизвестными его современникам.
Андо Сёэки родился в семье ронина на рубеже XVII—XVIII вв. Он получил довольно разностороннее образование и, что особенно важно, познакомился с некоторыми трудами западных ученых об обществе. Это дало ему возможность сравнивать и, следовательно, делать более глубокие выводы относительно японского общества его времени.
О его взглядах можно судить по сохранившимся отрывкам из двух его основных произведений: «Истинно действенные законы природы» и «Сообщение об истинном всеобщем пути». Исходным пунктом всех его рассуждений о японском обществе было осуждение существующего в нем и постоянно усиливавшегося социального неравенства. Он порицал противоестественное, с его точки зрения, деление населения на четыре сословия. Подчинение народа знати было, по его мнению, не чем иным, как «узаконенным беззаконием» [38, с. 127]. Андо Сёэки писал, что такое положение сложилось не естественным путем, а вследствие интриг и козней «мудрых» (он иронически употреблял это слово в качестве синонима слов «хитрый», «своекорыстный») людей. Эти «мудрецы», по его мнению, утвердив социальное неравенство, исказили естественный миропорядок [54, с. 62—63]. Выступая против конфуцианцев, которых он рассматривал как своих главных идейных противников, Андо Сёэки особенно подчеркивал, что именно они оправдывают и поддерживают такое беззаконие.
В условиях господства национализма Андо Сёэки сумел подняться до вершин независимого мышления и в тех сферах, которые уже давно считались священными и поэтому не подлежащими критическому восприятию. Он, в частности, весьма скептически оценивал общественное значение ратных деяний героев времен Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Не унизился Андо Сёэки и до-пренебрежительных, высокомерных отзывов о других народах, что в то время являлось наиболее распространенным и легким спосо^ бом демонстрации патриотизма. Он неизменно отзывался об этих народах с таким же уважением, как и о своем народе [38-с. 129—131].
Суждения Андо Сёэки о необходимых переменах носили чрезвычайно радикальный характер. Путь к установлению в Японии «естественного порядка вещей», по его мнению, мог начаться только с полного уничтожения социального неравенства, с отмены привилегий знати. Ибо естественным он считал такой мир, в котором нет классового и сословного неравенства, различий между «благородными» и «подлыми» и где все люди заняты сельскохозяйственным трудом [78, с. 63].
«Если,— писал он,— ликвидировать такое положение, когда некоторые люди могут не трудиться и присваивать себе огромное количество еды и одежды, то ие будет и бедных» [43, с. 75]. Интересно отметить, что этот важный принцип социально справедливого общества еще в древности был высказан христианскими мыслителями, а впоследствии был зафиксирован в трудах многих европейских социалистов-утопистов и нашел воплощение в-известной формуле: «Кто не работает, тот не ест». Весьма примечательно, что к одинаковым выводам и оценкам характера общественных отношений независимо друг от друга приходили люди разной культуры, жившие в разных районах земного шара.
В позитивной части своей программы, предлагая создать новое, справедливое общество, Андо Сёэки ориентировался не на будущее, не на закономерное, поступательное развитие общества,, а на его «золотое» прошлое. Предлагавшийся им коммунизм был по своей сути крестьянским, утопическим. Но в условиях Японии XVIII в. он и не мог предложить что-либо иное. По его мысли, жизнь в этом идеальном обществе должна была проходить в естественных условиях — среди природы, в занятиях земледелием — и неизменно оставаться высоконравственной. Ремесленникам и купцам он отводил второстепенную, вспомогательную роль-обслуживания нужд крестьян [38, с. 160]. Социальное равенство' и высокая нравственность должны были базироваться на основном обязательном принципе: «Усердная работа и умеренное потребление для всех» [7, т. I, с. 127].
Андо Сёэки думал и о возможных путях демократизации государственного управления. Он считал, что функции правительства1 должны быть строго- ограничены только сферой материального учета н контроля. По его мнению, это могло предотвратить опасную возможность превращения высшего органа власти в инструмент защиты интересов лишь какой-то одной группы населения и насилия над всеми остальными [38, с. 162].
Бесспорно, в научном отношении и с точки зрения возможности практического осуществления социальная философия Андо Сёэки крайне наивна и весьма уязвима во многих своих положениях. Но если учесть все' неблагоприятные условия, в которых она создавалась (изоляция страны, строжайший полицейский надзор за поведением и мышлением, низкий уровень общественного развития), то его учение представляется просто феноменальным явлением. Оно стало вершиной идейных поисков того времени. Главное его достоинство заключается в том, что оно не замкнулось в узкосословных рамках, что было характерно для большинства учений эпохи, а предлагало какую-то рациональную схему для всех слоев населения, хотя и основанную главным образом на интересах и идеалах крестьян. Кстати, в этом же заключалась и его основная слабость с точки зрения возможности реализации каких-либо его положений.
Более реальными в смысле возможности их воплощения в жизнь в эпоху Токугава могли быть сравнительно ограниченные системы взглядов, ставившие лишь частные конкретные политические или социальные цели реформирования общества в интересах определенных влиятельных групп. На какой-то срок они и становились организующим началом для той части знати или предпринимательских кругов, интересы которых они должны были выражать.
В конце XVIII—XIX в. подобные идейные поиски были связаны в основном с формированием двух враждующих политических лагерей — правительственного и антисёгунского. В социальном плане вначале между ними не было каких-то заметных различий: оба они в целом выступали за полное сохранение существующих в стране общественных отношений. Противоречия же определялись по преимуществу политическими разногласиями.
Главные усилия философов и общественных деятелей — сторонников режима Токугава — были направлены на изыскание и обоснование приемлемого способа и допустимого объема реформирования системы управления, которое обеспечило бы сохранение и укрепление существующей феодальной структуры. Ряд ученых, рассматривавших, в частности, различные аспекты политики изоляции, пришел к выводу, что экономический застой и растущее отставание от стран Запада в конце концов могут привести режим Токугава к полному банкротству. Они полагали, что только отказ от изжившей себя политики изоляции, расширение контактов с Западом могут обеспечить быстрый прогресс Японии и создание условий для преодоления всех внутренних и внешних трудностей режима. Рассматривая отказ от политики изоляции как панацею •от всех зол, они обычно ссылались на пример Англии, которая,
находясь, по их мнению, в сходных с Японией географических и исторических условиях, смогла все же стать богатой и сильной в основном, как они считали, за счет внешней торговли [98, с. 136—137]. Наиболее ярким представителем этого философского направления был разносторонний ученый (экономист, астроном, географ, голландовед) Хонда Тосиаки (1744—1821), автор ряда исследований по общественным проблемам. Сторонником отказа от политики изоляции был и ёкои Сёнан (1809—1869)—политический деятель из клана Кумамото (на о-ве Кюсю), который занял компромиссную позицию в борьбе враждующих лагерей.
Точка зрения этих ученых имела сторонников даже в правительственных кругах, в которых в начале XIX в. выявились колебания по поводу государственной целесообразности продолжения политики изоляции страны. Но единственным следствием этих колебаний было создание в 1811 г. специального, строго контролируемого официального органа для перевода на японский язык разнообразной иностранной литературы. На подлинный отказ от политики изоляции власти тогда еще не были готовы.
Вместе с тем в стране распространялось мнение о том, что способы укрепления режима следует искать и на путях каких-то перемен в социальной сфере. Однако эти поиски, были еще крайне робкими. За социальными образцами чаще обращались в далекое прошлое. Так, например, глава сёгунского артиллерийского ведомства Эгава Торадзаэмон (1801—1855) предложил властям возродить старую систему нохэй (крестьян-солдат, крестьянской милиции). Это, по его мнению, могло не только усилить армию, но и расширить социальную опору сёгуната [33, с. 246]. Это предложение показалось властям привлекательным, и в 1853 г. они сформировали небольшой отряд нохэй. Однако это, естественно, не могло обеспечить решение какой-либо сложной общественной проблемы.
Такая же участь постигла и предложения ряда других реформаторов, пытавшихся укрепить позиции структуры Токугава при помощи частных, сравнительно незначительных перемен в жизни общества. Сёгунат был явно не в состоянии породить какую-либо конструктивную социальную или политическую идею.
Главной идеологической основой антисёгунского лагеря стал философский комплекс идей монархизма, причем его содержание с течением времени существенно менялось.
Идеология приоритета императорской власти начала возрождаться еще в XVII в. Ее базой стала серия работ по общей истории Японии (насчитывавшая 243 тома), составленная группой ученых из клана Мито в 1657—1715 гг. Авторы этой работы стремились доказать, что власть императора священна и неоспорима. Хотя такой аспект рассмотрения истории страны неизбежно предполагал какую-то, чаще всего завуалированную, критику существующей формы правления, однако явных выпадов против сёгуната в этой работе еще не было. Поэтому тогда она и не вызвала особого беспокойства у правителей страны, тем более что они и сами всегда демонстративно подчеркивали верховенство императора, при условии что последний не будет вмешиваться в дела управ.-ления.
Вместе с тем в идейный комплекс антисегунскои коалиции вошла и система взглядов школы вагакуся или кокугакуся (япониз-ма, исконно японской культуры, традиций и норм нравственности), которая, в частности, выступала против распространения в Японии конфуцианства, чужого учения, завезенного с материка. Эту школу вряд ли можно было заподозрить в какой-то особой прогрессивности. Ибо она, как и сёгунат в целом, действовала в основном под «патриотическими» лозунгами и догмами, парализующими всякую способность к логическому, объективному восприятию общественных реалий. Правда, в отличие от властей эта школа насаждала преклонение перед императором на базе идей синтоизма. Но, настаивая на восстановлении «законной» власти императора, она стремилась в первую очередь лишь к укреплению своих политических позиций. Сторонники вагакуся не выступали и против изоляции страны.
На протяжении всего XVIII в. идеи монархизма и японизма не имели серьезного политического значения. Лишь в конце века в связи с усилением недовольства правлением Токугава в разных слоях общества эти идеи стали приобретать популярность.
Видным представителем этого течения был крупный ученый и общественный деятель Японии Мотоори Норинага (1730—1801). Он поддерживал идеологию монархизма, всемерного развития японизма, видя в ней надежный источник оздоровления общества. Он полагал, что путь к подлинной реализации идеи восстановления власти императора и некоторых забытых японских социальных традиций лежит через борьбу с различными формами общественного зла: с роскошью, взяточничеством, нищетой и т. д. [28, с. 193]. Следовательно, основное внимание он обращал на нравственную деградацию общества, считая ее главной социальной проблемой режима. Но способы ее решения он представлял себе довольно туманно, предлагая лишь реформировать общество на основе укрепления феодальной структуры, внедрения национализма и всемерного развития патриархальных форм взаимоотношений в социальной сфере.
Более последовательным критиком пороков режима был выдающийся ученый и писатель Рай Санъё (1780—1832). Но его позитивная программа также была весьма общей и приблизительной. В основном своем труде, трехтомной истории Японии (Нихон гай си), он связывал свои надежды на разрешение сложных проблем общества с восстановлением законной власти императора.
Однако в XIX в. содержание идеи реставрации власти императора и возможных при этом общественных перемен, которой придерживались сторонники оппозиции, постепенно пополнялось новыми существенными элементами. Предполагаемые политиче.-ские перемены в стране все чаще связывались с требованиями каких-то гарантий предпринимательской деятельности. Эта тения
денция стала особенно заметной после восстания под руководством Осио Хэйхатиро, когда в обществе более четко проявились черты антисословных настроений. Но и в данном случае определяющим было, скорее, желание некоторых социальных слоев (части дворянства и предпринимательских кругов) добиться распространения системы привилегий на эти слои, нежели забота о народе в целом. Правда, благодаря трудам Андо Сёэки, Сиба Кокан и некоторых других мыслителей в идейную жизнь страны в какой-то мере вошли суждения и представления о необходимости учитывать интересы крестьян и горожан. Но в реальной политике, в противоборстве враждующих лагерей они еще не играли замет-, ной роли. Практическое значение тогда могли иметь только те философские построения, которые выражали интересы социальных слоев, уже обладавших каким-либо экономическим и политическим влиянием и способностью к самоорганизации: рвущейся к власти оппозиционной знати и поддерживающих ее помещиков и предпринимателей, нуждавшихся в упрочении своего политического положения.
Однако лидеры оппозиционного лагеря постепенно уясняли, что если они серьезно хотят добиться успеха, то они хотя бы в минимальной степени должны учесть потребности и других социальных групп общества. Ибо без поддержки или хотя бы доброжелательного нейтралитета основной части населения надеяться на подлинное упрочение своего положения они не могли. Поэтому и были тогда предприняты первые попытки выяснить, какие перемены в положении низших сословий желательны и возможны. Эти попытки коснулись даже проблемы дискриминации. Правда, осмысление явления дискриминации носило тогда весьма поверхностный характер и не ставило целью его уничтожение, но уже сам факт распространения философских размышлений и на данный, ранее совершенно игнорировавшийся социальный объект говорил о значительности перемен в умонастроениях феодального общества Японии.
Однако поверхностный характер рассмотрения проблемы париев определялся не только нежеланием общественных деятелей по-настоящему решать эту проблему, но несомненно и ее исключительной сложностью и запутанностью. Особая сложность проблемы определялась рядом обстоятельств. Прежде всего, явление дискриминации — наиболее противоречивая и консервативная область социальных отношений. Кроме того, правящие круги традиционно искусственно изолировали эту область от остального общества, стремясь доказать, что она вообще не связана с проблемами других сословий. Наконец, совершенно исключительную роль в сохранении этого явления играли давно сложившиеся традиции и предрассудки, подлинную общественную значимость которых оценить особенно трудно.
И все же с конца 30-х годов XIX в., особенно после восстания под руководством Осио Хэйхатиро, эта проблема уже не сходит с повестки дня, хотя, естественно, и не рассматривается как
первоочередная. Ей постоянно уделяют внимание самые различные общественные и политические деятели и ученые, усилиями которых ее рассмотрение было, наконец, сдвинуто с мертвой точки. Были выдвинуты первые идеи о возможных способах смягчения и даже решения проблемы сегрегации париев.
В 1848 г. была опубликована книга Хоаси Банри (1778—1852). Автор, высокообразованный человек и многогранный специалист, рассматривал в ней в основном общую социальную ситуацию в стране. Но в книге имелся и специальный раздел, в котором автор попытался наметить один из приемлемых для сёгуната способов решения проблемы сегрегации (см. Приложение 23). В нем Хоаси Банри выступил с предложением совместить освобождение париев с освоением необжитых районов Севера Японии. В соответствии с его планом всех жителей бураку следовало подвергнуть обряду очищения, который избавил бы их от «оскверненно-сти», и переселить в северные, малолюдные тогда области страны (на северо-восток о-ва Хонсю, на о-в Хоккайдо и прилегающие к нему острова). Тем самым, по мысли автора проекта, правителям страны не нужно было бы тратить средства и прилагать особые усилия к решению сложной проблемы сегрегации париев: они просто физически были бы изъяты из тела японского общества, что, кстати, способствовало бы консолидации последнего. Кроме того, такой довольно дешевый способ освоения Севера мог обернуться для всего государства значительными дополнительными выгодами за счет развития там усилиями бывших париев различных отраслей производства: горного дела, лесной промышленности, сельского хозяйства и рыболовства.
Следует отметить, что предложения Хоаси Банри не были вполне оригинальными. Еще задолго до него, во второй половине XVIII в., видный деятель сёгунского правительства Танума Оки-цугу (1719—1788) выступил с проектом распространения власти Дандзаэмона на всех париев страны, с тем чтобы под его руководством организовать переселение значительной их части (около 70 тыс.) на Север для его освоения [71, с. 162].
Как уже отмечалось в предыдущем разделе, правительство в конце 50-х годов предприняло попытки осуществить подобные планы. Однако практически они не дали почти никаких результатов ни в социальном, ни в экономическом плане, в частности потому, что жители бураку вовсе не хотели уезжать из родных мест и решительно выступали против их принудительного переселения на Север.
На проблему сегрегации париев обратили внимание и общественные деятели некоторых княжеств, в первую очередь тех, которые находились в оппозиции к сёгунскому правлению. Особенно примечательным в этом отношении документом явилась статья ученого и выдающегося общественного деятеля из княжества Kara, сторонника реставрации власти императора, Сэнсю Фудзиацу (1815—1864). Она называлась «Принципы управления эта» (см. Приложение 25).
Особое внимание привлекают следующие три суждения автора. Прежде всего, предположение автора о том, что парии якобы потомки плененных корейцев или охранников гробниц. Очевидно, это было для него достаточным объяснением дискриминации жителей бураку. Но Сэнсю Фудзиацу предлагал «великодушно» забыть их прошлое и считать вполне добропорядочными японцами. Далее, автор статьи выдвигал самый веский аргумент в пользу отмены сегрегации париев. Он считал, что пришло время, когда это лучше сделать добровольно и сверху, а не дожидаться, пока этого добьются сами восставшие сэммин снизу. Таким образом, он предлагал властям наиболее целесообразный и разумный выбор. И наконец, он вполне справедливо утверждал, что одно лишь формальное провозглашение их равноправия практически почти ничего не изменит. Поэтому он считал необходимым подкрепить юридический акт освобождения сэммин от сегрегации системой достаточных экономических гарантий: наделить их участками земли, жильем и необходимым минимумом денежных средств [78, с. 64; 7, т. I, с. 178]. По мысли Сэнсю Фудзиацу, эти меры будут способствовать ликвидации складывавшихся на протяжении длительного времени профессиональных и экономических различий между парнями и хэймин и тем самым создадут реальную базу для отмирания элементов сегрегации. Автор проекта вполне справедливо полагал, что отмена сегрегации будет способствовать росту национального богатства и улучшению общего психологического климата в стране [76, с. 169]. Последние положения проекта, несомненно, были наиболее конструктивными. Однако они надолго остались лишь предложениями.
Идея «очищения» париев и перевода их в состав хэймин и предоставления им при этом минимально необходимой материальной помощи была поддержана и другими общественными деятелями Японии [50, с. 217].
Таким образом, в середине XIX в. впервые были открыто провозглашены идеи, которые еще совсем недавно казались невозможными. По существу, впервые признавался сам факт дискриминации париев и была высказана мысль о противоестественности и необоснованности этого явления. Некоторые общественные деятели Японии публично заявили, что жители бураку такие же люди, как и все остальные, и поэтому их следует освободить от унижений. Правда, при этом особо подчеркивался такой веский довод в пользу необходимости отмены сегрегации, как большой революционный потенциал париев, их способность добиться освобождения и собственными силами. И наконец, серьезность намерений реформаторов подчеркивалась их предложениями обеспечить равноправие отверженных хотя бы минимальными экономическими гарантиями.
Первыми на путь каких-то социальных перемен в сфере дискриминации встали наиболее радикально настроенные политиче-ские руководители клана Тёсю. Мы уже отмечали, что видный деятель антисёгунского направления Ёсида Сёин еще в конце
50-х годов выступил с предложением привлечь в новую армию кихэйтай добровольцев из числа жителей бураку. При этом он считал необходимым освободить этих солдат и их семьи от системы дискриминации, а впоследствии распространить освобождение и на остальных париев [50, с. 223].
Однако, несмотря на образование в середине XIX в! двух враждующих политических лагерей и известную поляризацию социальных сил, в стране еще не сложилась какая-то стройная философская концепция возможных общественных преобразований, хотя их необходимость и неизбежность стала уже для многих неоспоримой. Режим оказался совершенно несостоятельным в идейной сфере.
Что же касается оппозиционного лагеря, то там в этой сфере царил полный разброд. Высказывались, по существу, противоположные суждения о пользе контактов с Западом, о роли разных слоев населения в обществе. Это свидетельствовало о нарастании социальных и политических противоречий в этом лагере, что в. значительной мере ослабляло его.
И все же именно в недрах антисёгунского блока сложились хотя бы общие представления о некоторых деталях реконструкции системы, которая дала бы возможность преодолеть наибольшие трудности и обеспечить ее прогресс. Это в первую очередь идеи о необходимости сокращения или даже полной отмены сословных ограничений, усиления роли предпринимательских кругов, развития современной промышленности и науки, создания новой несословной армии, развития полезных контактов с Западом. Были высказаны даже суждения о возможных переменах в отношении сегрегации париев.
Хотя все эти предлагавшиеся перемены ни в одном документе не определялись как важные элементы буржуазной революции, по существу, они именно таковыми и были, даже в том случае, когда мыслившие категориями феодализма философы полагали, что эти меры послужат лишь интересам привилегированных кругов высшего сословия и не приведут к качественному изменению характера общества.
Таким образом, происходила в определенной степени революция умов, которая является важнейшей предпосылкой перехода к новому обществу [28, с. 263]. В условиях экономически отсталой и слабо связанной с внешним миром феодальной страны с огромным трудом зарождались идейные основы новой структуры общества, новые принципы внешней и внутренней политики господствующих кругов.
Поздней осенью 1867 г. антисёгунская коалиция начала, наконец, решающее наступление на режим. В октябре этого года представители княжества Тоса обратились к сёгуну Кэйки с настоятельным предложением отказаться от власти в пользу императора. Сёгун, понимая, что при сложившихся обстоятельствах ом не может игнорировать это послание, послал письмо императору, в котором официально сложил с себя полномочия верховного правителя страны. Однако в то же время он, опираясь на поддержку ряда княжеств (Хиго, Сэндай, Цусима и др.), сделал последнюю попытку повернуть ход событий в свою пользу с помощью военной силы [191, с. 383].
В Киото, где находилась резиденция императора, сосредоточились войска противников режима (из Тёсю, Сацума, Хидзэн, Ова-рн и других владений), значительную часть которых составляли отряды нохэй и кихэйтай. Эту объединенную армию возглавил представитель феодальной знати Юга известный полководец Сай-го Такамори. В начале 1868 г. эта армия под г. Фусими нанесла решительное поражение войскам сёгуна. Лишившийся военной опоры, сёгун в мае 1868 г. полностью капитулировал. И хотя разрозненные части противников нового режима пытались еще какое-то время оказывать сопротивление в ряде районов страны, было очевидно, что победа антисёгунской коалиции бесспорна и окончательна.
Феодальный режим Токугава, господствовавший в стране на протяжении более двух с половиной веков, потерпел крах. Крах режима означал не просто формальную смену правителей, а значительный поворот в социальной истории Японии. С наступлением эпохи Мэйдзи начался во многом новый период развития страны, характерный некоторыми новыми особенностями и принципами внешней и внутренней политики, новой спецификой положения всех слоев населения. По существу, в стране начался период становления капитализма во всех сферах жизни общества.
СТАНОВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА В ЯПОНИИ (70—80-е ГОДЫ XIX в.)
Вначале казалось, что свержение династии Токугава не приведет к каким-то значительным переменам в стране, во всяком случае в социальных отношениях. Действительно, на какие серьезные изменения можно было рассчитывать в конце 60-х годов, есл|и в результате политического переворта к власти пришли представители того же привилегированного сословия, что и свергнутые правители? Кроме того, лидеры нового режима и не имели какой-то четкой программы преобразований, а тем более желания коренной ломки давно устоявшихся и выгодных социальных отношений.
И несмотря на это, в сравнительно короткий срок, за какие-нибудь 20—25 лет после «реставрации Мэйдзи»1, Япония изменилась до неузнаваемости. При этом перемены коснулись буквально всех сторон жизни общества. Довольно быстро и радикально было покончено с состоянием застоя и косности. Явный прогресс наметился в экономической, политической и социальной сферах.
В стране, в первую очередь в центральных районах, строились заводы, фабрики и верфи, прокладывались дороги, возводились мосты, сооружались современные порты, спускались на воду военные, торговые и пассажирские суда, открывались специализированные учебные заведения.
Неузнаваемой становилась и общественная жизнь. Возникло большое количество новых издательств и был налажен регулярный выпуск газет и журналов самой различной ориентации. Как-то вдруг и обильно хлынул поток переводной зарубежной литературы. Изолированное в течение столетий от внешнего мира общество после «переворота Мэйдзи» стало жадно впитывать в себя новые идеи самого разного направления. Шел мучительный, но необходимый процесс осмысления сложившегося в стране положения, поисков путей дальнейшего развития, решения различных социальных, экономических и даже моральных и этических проблем. В огромном богатстве и многообразии философских и политических идей Запада общественные деятели Японии пытались найти то, что, по их мнению, могло подойти к привычным представлениям и конкретным условиям страны.
Но вместе с тем по мере развития контактов с Западом и на-
растания угрозы военного столкновения с ним в стране вновь стали усиливаться националистические, шовинистические настроения. Определенные круги стремились оградить идейный мир японцев от любого зарубежного влияния, ограничившись восприятием лишь технического опыта и знаний.
Отечественное и зарубежное в это время сосуществовало и боролось не только в сфере идей, но и в науке, технике и быту. Строились здания западной архитектуры, был введен новый календарь, получили некоторое распространение европейская одежда и прически. Повсеместно ощущалось стремление изменить не только общественные порядки, но и образ и стиль жизни. Преображение Японии на сей раз касалось не какого-то отдельного, изолированного аспекта жизни страны, оно носило всеобъемлющий характер.
Одним из важнейших показателей основательности общественных потрясений явились перемены в социальной сфере. Они выразились в том, что в это время несколько ослабло влияние старой феодальной верхушки, в первую очередь даймё, растворялась в гуще «простого народа» основная масса дворянства. В то же время усиливались наследники феодального режима — помещики (дзинуси)2. Росло влияние представителей предпринимательских кругов, заставивших, наконец, правителей Мэйдзи допустить их к определенному участию в управлении страной. Исключительное значение во всей общественной жизни, бесспорно, имел и процесс зарождения и начала формирования рабочего класса, который к концу рассматриваемого здесь периода проявил себя в качестве самостоятельной социальной силы. Весьма показательным для качественных изменений общества явились и изменения в психологии разных слоев населения, пересмотр ими многих «незыблемых» социальных ценностей.
Эпоха Мэйдзи началась далеко не одинаково для разных социальных групп. Вначале новые власти постарались удовлетворить запросы лишь определенной части старой знати и близких ей кругов предпринимателей. Для многих же других групп населения положение не только не изменилось к лучшему, но стало даже в чем-то хуже. Это сразу создало базу для широкой и разнохарактерной оппозиции новому режиму. Им были недовольны обездоленные и разорившиеся самураи, часть помещиков, по-Прежнему закабаленные крестьяне, нарождающийся совершенно бесправный рабочий класс, значительная часть интеллигенции и парии. В связи с их борьбой новые правители оказались вынужденными идти по пути преобразований гораздо дальше, нежели они рассчитывали.
Таким образом, событие, на первый взгляд для судеб всего общества не слишком значительное — приход к власти новых правителей из дворянского сословия,— по существу, стало отправной точкой длительного процесса весьма основательных, революционных по своей сути преобразований в стране. В результате его была создана новая, достаточно успешно функционировавшая экономика. Формировались новая культура, идеология, многие новые этические и нравственные представления и психология. Значительно изменилось все общество в целом.
В связи с этим возникают по крайней мере два вопроса. Во-первых, каковы причины столь значительных, заранее никем не планировавшихся перемен во всех сферах жизни общества? И, во-вторых, какова сущность переворота Мэйдзи и последовавшего за ним периода реформ? В обширной литературе, посвященной сложнейшему и весьма противоречивому 20—25-летнему периоду истории Японии, начинающемуся с «реставрации Мэйдзи», по этим вопросам высказывались весьма противоречивые суждения (см. [52, с- 4—14]).
Не ставя своей задачей решать здесь эти вопросы, мы намерены подробнее остановиться лишь на некоторых их частных аспектах, связанных с процессом социальной и идейно-психологической эволюции Японии в период с 1868 г. до начала 90-х годов.
Начало буржуазных преобразований.
Социальная эволюция Японии
К осени 1868 г. были ликвидированы последние разрозненные очаги сопротивления противников новой власти. Император со •своим двором переехал в столицу, которую в сентябре того же года переименовали в Токио, и было провозглашено начало нового правления, получившего наименование Мэйдзи («Просвещенное правление»).
Ведущую роль в рядах пришедшей к власти антисёгунской коалиции играли преисполненные непомерных политических амбиций представители южных кланов — Тёсю и Сацума, а также Тоса и Хидзэн. Вначале их не слишком волновали проблемы всей страны. В первую очередь они стремились укрепить ущемлявшиеся при Токугава права группы могущественных феодалов тодзама, в основном Юга страны. Но этой цели они добились уже в период захвата власти, когда сформировали правительство, имевшее откровенно клановый характер.
Однако новые власти сразу же столкнулись с насущной необходимостью решать и важнейшие общенациональные проблемы, как оставшиеся им в наследство от свергнутого режима, так и новые, возникшие после переворота Мэйдзи. Были ли они готовы к этому? Конечно же, они были заинтересованы в том, чтобы успокоить и привлечь на свою сторону как можно более широкие слои^ населения. Но какой-то четкой конструктивной программы действий у них вначале не было, и об этом, в частности, •свидетельствует программное заявление, сделанное ими весной 1868 г. в виде клятвы императора собранию представителей придворной знати, даймё, высшей бюрократии и дворянской интеллигенции. Согласно этой клятве будущее Японии рисовалось пред* «сгавнЕгелям новой власти пока лишь в самых общих чертах:
< I. Должно быть создано совещательное собрание и все дела управления будут решаться согласно с общественным мнением; 2. Все классы — н правители и управляемые — должны посвятить себя целиком процветанию нации; 3. Всем военным и гражданским чинам и всему народу должно быть позволено осуществлять свои стремления согласно способностям каждого; 4. Все отжившие обычаи прошлого должны быть отброшены, и право и справедливость, как они признаются, будут утверждены повсюду; 5. Для прочного возведения основ империи повсюду в мире будут заимствованы знания» (цит. по [19, с. 102]). Весьма торжественная и вместе с тем достаточно неопределенная декларация. За исключением, пожалуй, лишь вполне конкретного, но не решающего, пятого пункта. На основании этой программы трудно было представить, что же реально изменится в стране.
Однако эта неопределенность была следствием, очевидно, не только отсутствия четких планов: она могла быть и преднамеренной, имея целыо придать декларации видимость обещания лучших перемен для всех слоев населения. Но вместе с тем клятва в целом все же явно предполагала возможность осуществления перемен, в первую очередь отвечавших интересам правящих кругов, таких, как развитие экономики и науки, отказ от некоторых уже изживших себя атрибутов общества и введение новых форм управления государством.
В начале эпохи Мэйдзи важнейшую роль во всей политической жизни страны играла группа молодых государственных деятелен, происходивших из знатных дворянских семей. Они заняли наиболее ответственные посты в руководстве страны (в качестве министров, советников, послов и т. д.) и формировали основные принципы политики государства в это время. В их число входили,, в частности, Кидо Такамаса (1834—1877) и Иноуэ Каору (1835— 1919) из княжества Тёсю, Окубо Тосимитн (1832—1878). Сайго Та ка мори (1827—1877) и Курода Киётака (1840—1900) из княжества Сацума, Итагаки Тайсукэ (1837—1919) и Гото Сёдзиро-(1837—1897) из княжества Тоса, Ивакура Томоми (1825—1883) из придворных кругов.
Однако эта группа молодых политических лидеров была далеко не единой в своих представлениях о возможных способах н объеме допустимых преобразований в стране, хотя все они понимали, что вообше-то преобразования жизненно необходимы. Многие из них побывали в различных странах Европы н в США, в известной мере приобщились к западной буржуазной культуре и во многом мыслили категориями капитализма. Их явно поразили и увлекли экономические и политические достижения развитых стран Запада, которые они хотели сделать своим образцом.
По вместе с тем среди новых руководителей страны имелись и крайне националистически настроенные деятели (например, командующий армией Сайго Такамори), которые по-прежнему мыслили узко сословными понятиями. Они видели свою основную-иель в защите интересов дворянства и не хотели опасных, по их.
мнению, перемен. Возникшие в связи с этим разногласия отражали противоречивость положения, сложившегося в стране после переворота. Не удивительно, что в процессе внутренней борьбы состав нового руководящего ядра постепенно менялся.
Что же заставило эту далеко не единую группу наиболее влиятельных тогда политических деятелей, в целом опасавшихся каких-то радикальных перемен, не только согласиться, но и возглавить осуществление весьма существенных реформ? Здесь можно отметить ряд решающих обстоятельств.
Прежде всего правители Мэйдзи хорошо понимали, что их власть может быть эффективной, авторитетной и длительной лишь в том случае, если они окажутся в состоянии решить хотя бы наиболее сложные проблемы, накопившиеся за многие десятилетия эпохи Токугава. Поэтому в отличие от своих предшественников они были более решительными в выборе мер по оздоровлению общества, правда, стремясь при этом все же не слишком радикально изменять старый социальный порядок.
Вместе с тем некоторые возникшие во второй половине XIX в. новые для Японии объективные обстоятельства также заставили .правителей страны в своих преобразованиях быть более энергичными и решительными, чем это им самим вначале хотелось. В условиях полного краха политики изоляции и усилившейся политической и экономической экспансии со стороны капиталистического Запада перед Японией встала дополнительная сложная н острая проблема сохранения своей государственной независимости. Властям, бесспорно, были хорошо известны многочисленные факты закабаления народов Азии и Африки развитыми капиталистическими странами, которые все настойчивее стремились внедриться и в Японию. И лидеры Мэйдзи уже достаточно хорошо понимали, что в этих условиях они не могут ограничиться лишь незначительными внутренними реформами. Им необходимо было найти более надежный способ противостоять нажиму Запада. А единственным убедительным аргументом в противоборстве с .ним могло стать лишь быстрое усиление Японии. Они и поставили перед собой именно эту цель, которая уже в начале эпохи Мэйдзи была выражена в новой политической формуле: «Богатая страна, сильная армия». Эта формула явилась определяющим принципом их правления, и большинство осуществлявшихся властями Мэйдзи мер было подчинено достижению именно этой цели. Таким образом новая международная ситуация стала дополнительным стимулом политики преобразований.
В связи с этим встает вопрос: почему же все проводившиеся властями Мэйдзи реформы носили в основном буржуазный характер? Ведь правящие круги, преобразуя некоторые элементы общественной жизни, вовсе не ставили перед собой до конца осознанной задачи внедрения буржуазных социальных отношений, буржуазной политической структуры, идеологии и образа жизни.
Эго происходило прежде всего потому, что все прежние реформы, осуществлявшиеся в рамках феодальной структуры, не
давали надежных результатов. И следовательно, вновь повторять их не имело никакого смысла, особенно в совершенно новой ситуации. Кроме того, и это главное, происшедшие за период Токугава изменения в экономике и в социальных отношениях уже предполагали необходимость и возможность принципиально нового подхода к проблеме реорганизации общества. *
Далее, стремясь как можно быстрее догнать Запад, японские власти охотно и в большом объеме внедряли у себя его формы развития в экономике, науке, в общественной жизни и в быту. Они надеялись, что это поможет им сделать страну богатой и сильной, причем без необходимости значительно менять социальный строй и свою политику. Они предполагали, что «исконно японский дух» — патернализм, законопослушание, национализм избавят их от таких элементов капиталистического развития, как рабочее движение, профессиональные организации, социалистическая идеология. Однако, как показала практика, этим надеждам не суждено было сбыться: заимствуя у капиталистического Запада его формы развития, они неизбежно способствовали укреплению в стране элементов буржуазности.
И наконец, важнейшим обстоятельством, стимулировавшим развитие в стране капитализма, было то, что власти не могли произвольно оборвать начатый ими цикл преобразований. Допуская и формируя одно звено в цепи преобразований, они часто оказывались перед необходимостью соглашаться на внедрение в жизнь и следующего связанного с ним звена, о котором раньше, казалось, они и не помышляли.
В этой связи следует отметить и то, что правящие круги Японии в эпоху Мэйдзи уже и субъективно были в значительной мере подготовлены к «обуржуазиванию» страны. Бесспорно, они были заинтересованы в сохранении своих старых дворянских привилегий. Но хотя по своим идеям и Настроениям они оставались в основном дворянами, вместе с тем они уже давно не чурались и предпринимательской деятельности и нового строя жизни.
При рассмотрении положения, которое сложилось в Японии в начале эпохи Мэйдзи, важно также выяснить, каким образом эта страна в сложнейших и весьма неблагоприятных для нее условиях довольно быстро (за какие-то 20—25 лет) прошла первый, наиболее трудный цикл становления в ней капитализма. Мы хотим здесь отметить некоторые наиболее общие причины этого.
История отпустила Японии очень короткий срок, за который она могла осуществить меры, обеспечивающие ее независимость. Правители страны, если и не отдавали себе полностью в этом отчет, практически хорошо чувствовали это. Кроме того, исторически революционные преобразования в Японии были произведены довольно поздно, во второй половине XIX в., т. е. в совершенно другой обстановке, чем, например, буржуазные революции в Нидерландах, Англии или Франции. В последних они были в значительной мере автономными и изолированными явлениями и происходили в условиях феодального окружения. В Японии же они осуществлялись в период расцвета мировой системы капитализма, которая методами экономического, политического, военного н идейного нажима воздействовала на весь процесс преобразований в стране, ускоряя и направляя его по вполне определенному пути.
В связи с рассмотренными выше проблемами представляется1 необходимым коснуться и вопроса о характере «переворота Мэйдзи». Был ли этот переворот революционным событием? Как известно, в прошлом многие японские исследователи не считали, его таковым. Они предпочитали оценивать его лишь как акт восстановления законной власти императора, совершенный его приверженцами, которые якобы и не помышляли о каких-то революционных преобразованиях. А буржуазные реформы и принятие-в 1889 г. конституции, по логике этих рассуждений, были лишь своеобразным щедрым даром мудрого и милостивого монарха (см. Приложение 39). Да и в настоящее время также иногда отрицается революционная сущность «реставрации Мэйдзи», а в деле буржуазных преобразований особо подчеркивается лишь роль Движения за свободу и народные права (Дзию минкэн ундо) и преобразующее влияние Запада (см. [52]).
Мы полагаем, что при характеристике событий данного периода (с 1868 г. до начала 90-х годов) прежде всего следует учитывать все приведенные нами выше объективные обстоятельства, которые отодвигают на второй план побуждения и желания императора и его окружения. Ибо именно реальная действительность во многом определила образ действий властей и самого монарха,, а не их собственные старые представления и идеи. И хотя новые лидеры Японии и не имели четких планов буржуазных преобразований, это еще не может опровергнуть тезис о революционном значении самого «переворота Мэйдзи».
Далее, при определении сущности этого переворота мы не можем искусственно оторвать его от последовавших за ним событий. Мы полагаем, что «реставрация Мэйдзи», осуществленные после нее реформы, Движение за свободу и народные права, принятие конституции и создание парламента — все это последовательно связанные между собой компоненты одного исторического-цикла внедрения в стране капитализма. Реформы 70—80-х годов,, имевшие несомненный буржуазный характер, стали возможными только благодаря перевороту Мэйдзи. Следовательно, этот переворот, который направил Японию на новый путь развития, явился революционным, переломным событием в истории страны. Когда мы говорим, что в Японии имела место незавершенная буржуазная революция, мы исходим также и из оценки ее результатов, которые стали очевидными только к концу рассматриваемого нами периода — началу 90-х годов.
С учетом приведенных здесь соображений мы можем констатировать некоторые общие положения. «Переворот Мэйдзи» был не произвольный верхушечный акт смены власти, а своеобразная форма разрешения назревавшего в течение долгих десятилетий .кризиса феодальной структуры общества. Последовавший за ним процесс буржуазного перерождения Японии показал, что так называемая "реставрация Мэйдзи была не чем иным, как началом революции, открывшей путь к построению капиталистического общества.
Роль Запада, мировой капиталистической системы во внедрении в Японии буржуазной структуры была огромной. Иначе и быть не могло. В условиях наличия многих готовых образцов в разных сферах общественной жизни, безусловно обеспечивавших быстрый прогресс, японским предпринимателям и политическим деятелям нечего было тратить усилия на изобретение уже известного. Чтобы подняться до уровня передовых капиталистических стран, необходимо было освоить их достижения. Однако этот процесс происходил далеко не в форме помощи «доброго» Запада «бедной» Японии. Он осуществлялся в условиях ожесточенной борьбы ч огромных усилий Японии, стремившейся не допустить своего закабаления и превращения в зависимую или колониальную страну. Поэтому в какой-то мере «переворот Мэйдзи» и последующий период преобразований имели характер борьбы за сохранение государственной независимости.
Однако по мере укрепления в стране капитализма во взаимоотношениях с заграницей довольно быстро и отчетливо наметился переход от обороны к агрессивности, к империалистической политике порабощения других народов.
Лидеры нового режима в целом действовали довольно энергично, разумно и полезно не только с точки зрения своих классовых интересов, но и с точки зрения потребностей буржуазного государства в целом. Так, хотя для тех социальных кругов, которые они представляли, была характерна националистическая, шовинистическая идейная направленность, которая неизбежно ведет к ограниченности мировосприятия, они все же оказались достаточно настойчивыми и последовательными в изучении и восприятии зарубежного опыта, который, по их мнению, мог быть полезным для прогресса Японии. При этом им приходилось преодолевать упорное сопротивление наиболее твердолобых националистов, которые, выступая в роли «патриотов», утверждали, что «истинным» японцам нечему учиться у западных «варваров».
Сразу после «переворота Мэйдзи» за границу были направлены многочисленные специализированные миссии, которым было поручено изучить организацию и технологию промышленного производства и банковского дела в США, судостроения в Англии, медицины и военного дела в Германии и т. д. {95, с. 123]. В состав наиболее ответственных комиссий входили ведущие политические деятели режима: Кидо Такамаса, Иноуэ Каору, Окубо Тосимити и многие другие.
В числе важнейших реформ, проведенных новыми властями •с учетом опыта Запада, были аграрная, военная, школьная и социальная (отмена сословий) реформы.
Осуществляя в 1871—1873 гг. аграрную реформу, власти в первую
очередь преследовали цель получения в государственную казну средств, необходимых для модернизации промышленности и усиления армии. При этом, по существу, они явно не желали менять, что-либо в социальном строе деревни. Они пошли лишь на то,, чтобы закрепить и узаконить перемены, которые произошли в ней еще в период Токугава. Земля была капитализирована, определена ее стоимость и введен государственный поземельный налог,, который составлял в год около 3% ее стоимости. Законными владельцами земли были признаны ее фактические хозяева на момент проведения реформы. Они-то и должны были уплачивать, установленный законом налог. Таким образом, реформа не дала землю крестьянам, нуждавшимся в ней. Хотя она и отменила платежи крестьян крупным феодалам (даймё), положение земледельцев от этого практически не улучшилось: долю урожая, изымавшуюся прежде князьями, стало забирать государство. Зато статус и положение помещиков заметно укрепились. Практически некоторыми своими положениями реформа стимулировала процесс заметных социальных перемен в деревне (подробнее этот процесс будет рассмотрен ниже).
В условиях краха политики изоляции, усиления экспансионистских устремлений правящих кругов и обострения внутренних противоречий власти особенно много внимания уделили реорганизации армии. Еще в 1868 г. было принято решение о роспуске формирований кихэйтай, сыгравших столь заметную роль в разгроме войск сёгуна. В связи с отменой в начале эпохи Мэйдзи деления страны на княжества были распущены также и все самурайские формирования. Вместо них на основе принятого в 1872 г. закона о всеобщей воинской повинности стала создаваться новая армия буржуазного типа. Этот акт вначале вызвал недовольство разных слоев населения. Однако самурайство, всегда считавшее военное дело своей монополией, быстрее других смирилось с новыми военными принципами, получив исключительные права на замещение офицерских должностей. При этом в вооруженных силах, как и во многих других сферах, сразу утвердились традиции клановости: офицерами в пехоте по преимуществу становились самураи из бывшего княжества Тёсю, а во флоте — из Сацума.
В качестве главного инструмента политики господствующих кругов армия быстро превратилась в важнейший элемент всей общественной жизни страны. Она стала не только орудием внешней экспансии и подавления внутри страны, но и духовного порабощения народа. Именно в это время были заложены основы японского милитаризма, который с такой силой и жестокостью проявил себя на мировой арене в первой половине XX в.
Правители Мэйдзи уделили также серьезное внимание созданию государственной системы образования. При этом они-исходили не из стремления к просвещению народа и демократизации общества, а из утилитарной потребности промышленности, администрации, армии и флота в грамотных людях. Школьная реформа, проводившаяся на основе принятого в 1872 г. закона о школьном образовании, осуществлялась под демагогическими лозунгами: «Ни одного неграмотного!», «Открывать способности, выращивать таланты!» [7, т. II, с. 70].
Закон о школьном образовании, как и многие другие нововведения властей, вызвал широкое недовольство. «Простой народ» был возмущен тем, что в связи с этим законом еще более увеличивалось налоговое бремя. Самурайство же всегда считало образование своей привилегией.
Однако последнее сравнительно быстро было умиротворено, так как именно из его среды в основном стали комплектоваться кадры учителей, что обеспечило заработком тысячи обнищавших дворян. Кроме того, знать вполне устраивало то, что новая школа целиком была поставлена на службу интересам правящих кругов. Ее цель заключалась не только в подготовке элементарно грамотных людей, но и в том, чтобы воспитать законопослушные и надежные кадры для государственного аппарата. Учащимся кроме основ знаний внушали любовь к монарху, веру в естественность и незыблемость существующих в стране порядков и в исключительность роли Японии в развитии мира, т. е. учили не как думать, .а что думать [95, с. 128—129]. Таким образом, новая система образования явилась важным средством укрепления режима Мэйдзи.
Огромное преобразующее воздействие на общество оказала энергичная деятельность властей в области создания экономической, промышленной основы нового режима, что было необходимо для решения задач, выраженных формулой «Богатая страна, сильная армия». Уже в начале эпохи Мэйдзи был разработан и осуществлен комплекс разнообразнейших мер. В течение 1869— 1871 гг. была произведена унификация денежных знаков и введена единая для всей страны финансовая система [34, с. 21.2—213]. В 1872 г. с помощью английских специалистов Токио и Иокогама были связаны между собой железнодорожной веткой и телеграфом [34, с. 241—242]. За счет государственной казны было сооружено большое число предприятий военного назначения. Вместе с тем строились шелкомотальные, ткацкие и спичечные фабрики, стекольные и цементные заводы. За десять лет, с 1869 по 1879 г., было введено в число действующих 489 довольно крупных промышленных предприятий, в 2 раза больше, чем за предшествующие два столетия [34, с. 239—240].
Правительство не только само занималось проблемами экономики, но и пыталось привлечь к этому делу предпринимательские круги. Однако японская буржуазия была еще довольно слабой и неохотно вкладывала свои средства в промышленность, считая это ненадежной и рискованной операцией. Действительно, стрем^-ление властей любой ценой быстро догнать капиталистический Запад нередко приводило к крупным просчетам и потерям. Приглашенные из-за рубежа специалисты обычно не экономили отпускавшиеся им средства. А недостаточно опытные или недобросовестные отечественные эксперты, случалось, весьма некритически копировали зарубежные образцы. Так, иногда в Японию ввозились непригодное или не подходящее для нее оборудование и механизмы или же импортировались такие сельскохозяйственные культуры, которые совершенно не соответствовали почвенным и климатическим условиям страны.
Однако все это не могло дискредитировать в глазах властей идею столь желанной ими индустриализации страны. Они с готовностью брали на себя основное бремя расходов и риска по созданию в стране современной экономики. Таким образом, первый, наиболее трудный этап становления в стране капитализма был достаточно успешно пройден Японией лишь благодаря мощной поддержке государства. При этом своими усилиями власти фактически стимулировали развитие не только капиталистической по своей сути системы производства, но и буржуазного стиля жизни и мышления. Хотя укрепление этих черт не входило в их планы, власти не стремились особенно контролировать или пресечь данный процесс.
Приобщение Японии к мировой капиталистической системе неизбежно сопровождалось воздействием Запада на самые разные, в том числе и на чисто внешние, стороны жизни японского общества. Так, в частности, в стране получили известное распространение западная одежда и кухня. В 1873 г. был введен европейский календарь [89, с. 146]. Многие административные здания, гостиницы, деловые центры, магазины, вокзалы строились по проектам иностранных архитекторов. Но даже эти чисто внешние показатели отчетливо подчеркивали основательность и необратимость происходивших в стране перемен.
Громадное значение для жизни общества имели перемены в социальной сфере. Хотя основные усилия властей в этой области были направлены на сохранение позиций господствующего сословия, пожалуй, наиболее ощутимые изменения произошли именно в его среде. Так, в частности, создание подлинно централизованного государства и развитие в нем современной экономики стимулировало ликвидацию старой системы княжеств. По инициативе ряда политических деятелей Юга страны в 1869 г. князья начали передавать права на свои владения императору. Однако это был не акт бескорыстной и безграничной преданности императору, а, скорее, удачная для феодальной верхушки сделка. Передача-прав на владение щедро вознаграждалась за счет государственной казны, а многие бывшие владетели остались наследственными губернаторами в своих прежних княжествах, причем правительство гарантировало сохранение за ними одной десятой доли дохода. Таким образом знать получила, наконец, прекрасную возможность легко и с выгодой отделаться от груза безысходных проблем, которые усложняли ей жизнь на протяжении уже многих десятилетий, и приспособиться к новым условиям.
В 1871 г. процесс дефеодализации был закреплен новым законодательным актом императора, преобразовавшим княжества в префектуры [66, с, 265]. Вместо 272 княжеств были созданы вначале 72, а затем 50 префектур. Наследственные губернаторы были
заменены назначаемыми правительством, старые феодальные заставы были отменены. В результате этого Япония стала, наконец, по-настоящему единым государством, что явилось основой всех происходивших впоследствии в стране преобразований.
Представители знати, «благородно» отказавшиеся от своих прав на владения, а также лишенные в 1873 г. рисовых стипендий и жалованья самураи получили огромную денежную компенсацию. За весьма короткий срок в виде наличных денег и государственных облигаций им выдали примерно 211 млн. иен, сумму, почти в 3 раза превышавшую годовой бюджет государства [32, с. 67]. Благодаря этим средствам многие предприимчивые представители знати смогли обеспечить себе надежные источники обогащения и остаться подлинными хозяевами страны: они скупали земельные участки и превращались в помещиков, по дешевке приобретали у государства или создавали сами новые предприятия и становились капиталистами. Именно таким образом возникли такие могущественные и влиятельные капиталистические фирмы Японии, как Сибудзава, Маэда, Хосогава, Мори, Ивасаки и Фудзита [34, с. 231—232].
Вместе с тем лидеры Мэйдзи по возможности старались сохранить социальную обособленность и привилегии господствующего-дворянского сословия. В 1869 г. они отменили некоторые старые категории знати (кугэ, буси и др.). Представителям привилегированного сословия официально разрешили свободно выбирать угодный им вид деятельности, брачного партнера и т. д. Но уже в 1872 г. власти утвердили новую систему иерархии знати, выделив в ее среде следующие основные группы: кодзоку (император, его i семья и родственники), кадзоку (бывшие даймё и влиятельные кугэ), сидзоку (потомки самураев) и соцудзоку (асигару, рядовые). Цель этой меры заключалась в закреплении за каждой новой категорией знати каких-то особых привилегий.
Но практически власти Мэйдзи обеспечили и защитили в этот переходный период интересы лишь высших групп дворянского сословия. Правда, многие из 'низших категорий сидзоку и соцудзоку (составлявших основную часть сословия) заняли выгодные и надежные должности, став офицерами, чиновниками, учителями, инженерами, причем этот процесс обеспечивался скорее сословной традицией, а не закрепленным законом правом.
Однако многие тысячи представителей низших групп дворянства, лишившись феодальной ренты, остались без каких-либо гарантированных источников дохода и быстро превратились в представителей «простого народа». Это не могло не породить недовольства в их среде, ставшей основой одного из направлений антиправительственных выступлений в начале эпохи Мэйдзи. Преисполненное спеси, разочарованное в новом режиме нищавшее дворянство иногда выступало против осуществлявшихся в стране перемен, за восстановление тех порядков, которые обеспечивали им сословную исключительность. Такой бунт произошел, в частности, в 1874 г. в провинции Сага [19, с. 99—100].
Но наиболее ярко их недовольство, отчаяние и решимость сохранить свои привилегии проявились в крупном антиправительственном восстании дворян бывшего владения Сацума, которое произошло в 1877 г. под руководством одного из наиболее видных деятелей эпохи Мэйдзи — Сайго Такамори.
Несмотря на то что владетели Сацума были в числе инициаторов передачи своих прав на землю императору, это княжество, единственное из всех, вплоть до 1877 г. сохранило в неприкосновенности свою автономию. В рядах местной знати особенно остро проявилось недовольство характером далеко зашедших перемен, стимулированных в какой-то мере ими самими. Многих возмущали происходившие в стране социальные преобразования, а также попытки ограничить их возможности влиять на общегосударственные дела. Это княжество больше, чем какое-либо иное, можно было назвать дворянским: из 812 тыс. его жителей около 204 тыс. входило в состав привилегированного сословия [33, с. 267]. Поэтому именно оно стало последним бастионом феодальной знати, которую поддержало большинство средних и низших самураев.
Подготовка к вооруженному выступлению против режима началась еще в разгар преобразований Мэйдзи, в 1873 г., когда устраненный из состава правительства Сайго Такамори вернулся к себе в Сацума и приступил к формированию новой самурайской -армии,
В начале 1877 г. на подавление этого грозного очага сослов-яого сопротивления правительство двинуло соединения новой армии. насчитывавшие около 60 тыс. человек. Свое первое испытание в деле новая армия выдержала вполне успешно. Ожесточенные сражения, длившиеся до осени 1877 г., окончились полным разгромом последнего военного оплота оппозиционного самурайства н окончательным включением княжества Сацума в государство [82, с. 427].
Социальные перемены произошли и во всех других слоях населения. Было отменено деление на сословия но ко сё. Полноправие представителей этих сословий власти подчеркнули в 1870 г. разрешением иметь им всем фамильные имена [71, с. 191]. Это был еще один шаг на пути буржуазной эволюции общества, правда, не слишком значительный.
Однако, отменив сословия но ко сё, правители Мэйдзи сразу включили их представителей в новое социальное объединение — «простой народ» (хэймин), противопоставленное знати. А это свидетельствовало о том, что лидеры нового режима в своей социальной политике все еще мыслили и действовали категориями старого феодального общества. Реальное социальное и экономическое положение основной массы населения в результате этих мер изменилось мало. По существу, острота многих социальных проблем не только не уменьшилась, но, скорее, даже усилилась.
Наиболее сложной оставалась аграрная проблема. Если взаимоотношения властей с дворянством были урегулированы довольно быстро и на вполне приемлемых для последнего условиях, то
опасное для режима положение в деревне сохранялось очень долго. Основные причины этого крылись в том, что надежды крестьян на улучшение жизни при новом режиме не оправдались. Все дальше в прошлое уходил «переворот Мэйдзи», а для них почти ничего не изменилось. Уже в первые годы Мэйдзи имели место много выступлений крестьян [32, с. 50]. Так, в 1868 г. было зарегистрировано 20 крестьянских восстаний3, в 1869 г.— 40, в 1871 г.— более 30 восстаний [32, с. 50]. Не может быть сомнений, что крестьянские волнения в какой-то степени стимулировали проведение в 1871—1873 гг. аграрной реформы.
Однако и реформа в том виде, в каком она была осуществлена, не решила большинства социальных проблем деревни и не удовлетворила нужды подавляющей части земледельцев. Хотя правители страны выдавали свою реформу за акт заботы обо всех крестьянах, она решила в основном только те задачи, которые представляли насущный интерес для правящих кругов, для режима в целом. Она обеспечила государственную казну средствами, необходимыми для создания современной промышленности и армии, стимулировала рост сельскохозяйственного производства и в какой-то степени содействовала развитию внутреннего рынка и созданию резервов рабочей силы.
В соответствий с аграрной реформой около 80% всех доходов государственного бюджета составили взносы в счет поземельного налога, которые отнимали у крестьян более 60% общего сельскохозяйственного продукта. Таким образом, по существу, японская деревня была превращена правителями страны в своеобразную внутреннюю колонию.
Некоторый рост сельскохозяйственного производства определялся, в частности, тем, что крестьяне в результате реформы получили возможность свободнее распоряжаться своими участками земли, использовать наиболее приемлемые для них методы ведения хозяйства, выращивать более выгодные культуры, а также распространением духа конкуренции.
Основная масса крестьян не была удовлетворена этой реформой. Правда, юридически она действительно несколько упрочила позиции землевладельцев, в основном крупных, сдающих землю в аренду. Ведь помещики всегда имели возможность всю тяжесть налогообложения переложить на плечи арендаторов, оставляя при-этом и себе значительную часть плодов их труда. В худшем положении были крестьяне-собственники, не сдававшие землю в аренду. Им приходилось рассчитываться по налогам самим. И в наихудших условиях оказались собственники-арендаторы, подвергавшиеся двойному гнету — со стороны государства и помещиков, и арендаторы. Последние две категории составляли основную часть крестьянства.
В связи с капитализацией земельного фонда и разрешением купли-продажи земли усилился процесс обезземеливания крестьян,, в основном мелких и средних землевладельцев. Попавшие в безвыходное положение крестьяне могли теперь совершенно свободно
продавать свои наделы, т. е. «свободно» превращаться в батраков л пролетариев.
Наконец, реформа ухудшила положение низших и средних групп крестьян тем, что нередко способствовала лишению их старых прав на общинные участки (леса, пастбища, луга), которые могли теперь уже вполне «законно» переходить в собственность государства и крупных землевладельцев.
Таким образом, аграрная реформа оказалась полезной и выгодной только помещикам, часто занимавшимся также предпринимательством, ростовщичеством и торговлей. Для основной же массы крестьян положение не только не улучшилось, но практически во многом ухудшилось. Реформа усилила процесс социального расслоения в деревне. С одной стороны, увеличилось число крупных землевладельцев и выросли размеры находившейся в их собственности земли. А с другой стороны, при уменьшении общего количества землевладельцев росла категория полуарендаторов и совершенно неустроенных людей, потенциальных батраков и рабочих. Не удивительно, что после проведения реформы крестьянское движение не только не прекратилось, но и продолжало нарастать. Всего за 10 лет после «переворота Мэйдзи» власти зарегистрировали более 500 актов сопротивления жителей деревни, в том числе около 180 восстаний, в то время как за весь период Токугава их было около 600 [77, № 22, с. 155].
Выступления крестьян носили, как правило, стихийный характер. Возбужденная и крайне встревоженная деревня в конце 60-х и особенно в начале 70-х годов полнилась устрашающими, часто самыми фантастическими слухами. Они свидетельствовали о том, что недоверие крестьян к новым властям быстро росло. Любую перемену, каждую реформу правительства крестьянство воспринимало со страхом, как акцию, направленную на его окончательное разорение и порабощение. Оно, например, протестовало против введения нового календаря, будучи недовольно тем, что его заставляют отказаться от стиля жизни отцов и дедов. Неожиданное возмущение вызвали приказы о нумерации домов, так как пошли слухи о том, что она осуществляется для предполагаемого изъятия у крестьян их жен и детей. Проведение телеграфных и телефонных линий связи в ряде районов страны было воспринято как устрашающая подготовка к перекачке по проводам крови крестьян, которую якобы будут вывозить за границу для производства красителей [32, с. 51].
Но особенно непримиримо вели себя крестьяне в отношении военной и школьной реформ. Неосторожная, витиеватая фраза декрета о всеобщей воинской повинности, определявшая ее как «налог кровью», часто воспринималась буквально, вызывая в деревнях страх н гнев. Так, участники 12 из 30 восстаний в 1873 г. требовали отмены этого декрета [34, с. 208]. В сельских районах часто раздавались требования отказаться и от введения системы всеобщего школьного образования. Крестьяне опасались, что у них отберут детей, принятых в школы.
С конца 1871 г. участились случаи нападения на поселения париев и протестов по поводу принятого в августе этого года декрета об освобождении жителей бураку (подробнее об этом см. В' шестой главе). Случалось, что в начале 70-х годов крестьяне, поддавшись на призывы провокаторов, выступали против смещения губернаторов из числа бывших даймё, а иногда даже требовали восстановления режима Токугава [22, с. 154].
На первый взгляд крестьянское движение в начале эпохи Мэйдзи представляется следствием крайней отсталости, ограниченности, консерватизма, даже реакционности крестьянских масс. Однако более детальное рассмотрение и более полный учет всех обстоятельств убеждает в том, что это далеко не так. Основным побудительным импульсом всех крестьянских выступлений было вполне оправданное беспокойство по поводу реальной возможности дальнейшего ухудшения положения жителей деревни. Ведь практически все тяготы, связанные с модернизацией Японии, правители страны пытались возложить именно на крестьян.
Так, служба в армии надолго отрывала от работы наиболее трудоспособных жителей деревни, значительно ухудшая положение остающихся членов их семей. Кроме того, «всеобщая» воинская повинность на деле не была таковой. От нее освобождались чиновники, студенты (в основном дети состоятельных людей), крупные домовладельцы и налогоплательщики и лица, просто откупившиеся от военной службы (для этого достаточно было уплатить сумму в 270 иен) [66, с. 267]. Ясно, что именно это обстоятельство было основной причиной недовольства крестьян системой воинской повинности, хотя нигде четко и не сформулированной.
Что же касается школьной реформы, то, выступая против нее, крестьяне боролись вовсе не с распространением образования, авторитет которого в их среде всегда был чрезвычайно высок, а с необходимостью нести дополнительные тяготы и повинности. Дело в том, что их заставили создавать в каждой деревне особый школьный фонд на строительство и содержание школ. Кроме того, обязательное обучение в школах было платным -и довольно дорогим: за обучение в начальной школе нужно было вносить ежемесячно примерно 50 сэн, а в средней — 5,5 иены, что равнялось соответственно цене 20 и 220 кг риса [78, с. 72].
Протесты крестьян против указа об освобождении париев были вызваны в первую очередь недовольством бедняков возможной конкуренцией в аренде земли, в получении работы, а также и убеждением в том, что теперь весь «простой народ» окажется низведенным до положения париев.
Таким образом, за каждым, на первый взгляд реакционным или бессмысленным выступлением крестьян стоял вполне реальный и обоснованный комплекс причин их недовольства и беспокойства. Жители деревни достаточно хорошо ощущали и все лучше понимали, что все перемены в стране происходят за их счет. Именно поэтому фантастические слухи и дикие претензии во время подавляющего большинства восстаний имели явно второстепенное значение. Нападениям восставших в основном подвергались помещики, ростовщики и чиновники — вполне реальные и достойные объекты их недовольства и вражды. Да и требования земледельцев становились все более разумными и четкими: получение земли, снижение налогов и цен, самоуправление. Таким образом, постепенно в крестьянском движении прокладывало себе путь понимание истинных целей борьбы.
Несмотря на многие его слабости, крестьянское движение создавало обстановку постоянной напряженности в стране и вызывало большую тревогу в правительственных кругах. О масштабах крестьянских выступлений свидетельствуют следующие факты. В некоторых восстаниях в декабре 1868 г. участвовало до 100 тыс. человек в каждом, и для их подавления пришлось использовать воинские части [22, с. 136—144]. В конце 1871 г. произошло крупное выступление крестьян префектуры Тоса, после разгрома которого к ответственности было привлечено более 28 тыс. человек [22, с. 151]. В провинции Тикудзэн восставшие крестьяне сожгли более 5 тыс. домов богачей, ростовщиков и чиновников. Подавив это восстание, власти арестовали около 54 тыс. человек [22, с. 152]. В ноябре 1872 г. в провинции Бунго полицейские власти подвергли различным видам наказаний около 28 тыс. участников восстаний, причем 520 из них были сосланы на каторгу [22, с. 155]. Власти вынуждены были постоянно направлять в разные районы страны войска. Мощное крестьянское движение, в свою очередь, побуждало правящие круги форсировать реформаторскую деятельность, чтобы как можно быстрее упрочить свои позиции и как-то стабилизировать общее положение в стране.
Наиболее важным социальным следствием быстрого развития капиталистических отношений в Японии в последней трети XIX в. было формирование рабочего класса. Новые правители страны не предполагали, что своей деятельностью они сеют семена новых, весьма сложных и опасных для себя социальных проблем. Их наивные расчеты получить розу без шипов, мощную экономику без рабочего движения очень быстро потерпели крах. Япония, естественно, не могла избежать процесса формирования рабочего класса и превращения его в самостоятельную социальную силу. В условиях же сжатых во времени экономических и социальных преобразований всей страны этот процесс происходил особенно быстро.
Формирование рабочего класса в Японии в целом происходило в соответствии с общими закономерностями развития капиталистической системы. Однако оно имело ряд своих специфических особенностей. Вначале на вновь создаваемых промышленных предприятиях (как уже отмечалось, преимущественно государственных или полугосударственных) работали разорявшиеся ремесленники и бывшие цеховые ученики, а также мобилизуемые на определенный срок крестьяне и бедняки-горожане. Но в 70— 80-х годах на новые заводы и фабрики начался значительный приток из деревень дочерей н вторых-третьих сыновей крестьян-бедняков, нуждавшихся в дополнительных доходах. Родители часто отдавали своих детей хозяевам предприятий в наем на основании кабальных договоров, заключаемых с ними. Правда, крестьяне при этом обычно надеялись, что, преодолев с помощью ссуды временные трудности, они смогут вернуть своих детей домой. Но чаще всего этим надеждам не суждено было сбыться. Девушки и юноши, а нередко — девочки и мальчики, попавшие таким образом на предприятия, оказывались в положении полукрепост-ных. Они жили в общежитиях, получали только минимум питания и одежды и не имели никаких гарантированных прав. Им постоянно внушалась мысль, что хозяева предприятий их облагодетельствовали, предоставив работу, за что они должны быть им вечно благодарны.
В соответствии с господствовавшими в стране идеями патернализма хозяева и рабочие трактовались как «отцы» и «дети», как члены одной семьи с общими интересами. При такой системе считались вполне допустимыми «отеческие» наказания провинившихся рабочих, которых хозяин («отец») мог посадить в карцер, высечь розгами или выгнать без одежды на мороз. Юридически оправданной и достаточно нравственной считалась и практика, когда, например, сотни женщин-матерей спускались на работу в шахты со своими грудными детьми, чтобы заработать себе на жизнь [30, с. 7].
Пролетариат в эти годы был еще очень малочислен и разрознен. Не существовало никакого трудового законодательства, и рабочие, не имевшие своих профессиональных организаций, были совершенно беззащитны перед лицом своих угнетателей. Правда, иногда рабочие, доведенные до отчаяния, протестовали, но самым примитивным способом; ломали машины, нападали на иностранных специалистов, администраторов и т. д. [34, с. 296].
Однако быстрое капиталистическое развитие Японии неизбежно отражалось на положении, удельном весе и самостоятельной политической активности различных социальных слоев населения, в том числе и рабочего класса.
Политическая и идейная эволюция Японии
После «реставрации Мэйдзи» японское общество изменялось не только в социальном отношении, но также и в политическом и идейном плане. Все более актуальной становилась задача создания политической структуры, принципиально отличной от прежней, которая могла бы обеспечить нормальное функционирование всего общественного организма в новых условиях. Необходимость в ней определялась, в частности, тем, что политическая жизнь теперь неузнаваемо изменилась, став гораздо многообразней и сложней. По существу, впервые все слои населения довольно отчетливо заявили о себе, о своих претензиях на политической арене. Если в период феодализма в трудах философов, литераторов
и общественных деятелей по преимуществу находили отражение' лишь идеи и настроения привилегированного сословия, то теперь попытки разностороннего осмысления своего положения стали характерны для всех социальных кругов. Развернулась еще непривычная для Японии идеологическая борьба по определению места н роли каждой социальной группы в иерархии общества. Этот процесс требовал новых политической организации и методов. Фактически в этом проявилось еще одно направление становления в стране капитализма, утверждавшего в качестве основных принципы индивидуализма и конкуренции.
Сразу после «переворота Мэйдзи» и до 90-х годов Япония переживала небывалый для нее период политической активности.. В эти годы господствующие круги выработали и навязали народу наиболее приемлемые для них формы политической организации общества. Обладая властью и реальными средствами для подавления опасной оппозиции и утверждения своих принципов, они’ широко прибегали к определенным ограничениям и репрессиям в отношении своих противников, к методам фальсификации и дискредитации чуждых им идей.
Каким же образом развивался этот процесс стабилизации по-: литической. сферы?
«Переворот Мэйдзи» удовлетворил политические амбиции-лишь небольшой части знати, в первую очередь Юго-Запада Японии. Основная же часть населения от него 'ничего не получила.. Поэтому в разных слоях населения быстро нарастало недовольство новым режимом, который не оправдал их надежд. Предпринятые-вскоре после переворота энергичные меры по интенсивному развитию и модернизации страны также вызвали далеко не однозначную реакцию в обществе. Все это стимулировало рост политической активности в 70—80-х годах. Причем критика режима велась как слева, так и справа.
Некоторые крупные феодалы были недовольны преобладающей ролью представителей южных княжеств в определении политики страны. Используя обычную в то время терминологию, они потребовали «подлинного прогресса и перемен», понимая под этим, однако, лишь более «справедливый», с их точки зрения, дележ власти, т. е. свое более широкое участие в управлении страной. Часть самурайства, реально пострадавшая от происходивших в-стране перемен, выступала с требованиями восстановления своих старых привилегий. Этим кругам иногда даже удавалось инспирировать крестьянские выступления под лозунгами возврата к порядкам «золотого прошлого». С этим лагерем, критиковавшим режим справа, власти договорились довольно быстро.
Более опасными для властей были силы, критиковавшие режим слева. Они имели гораздо более широкую социальную основу и большие возможности влиять на ход эволюции общества. Но1 этот лагерь характеризовался крайней неоднородностью и на протяжении рассматриваемого периода его состав постепенно менялся. Поэтому реализовать все заложенные в нем потенции было-весьма трудно. По мере того как от него отходили на сторону режима в какой-то степени удовлетворенные властями круги общества, он пополнялся представителями более низших слоев населения, и это неизбежно вело к значительной радикализации левых кругов. В конце концов правители Мэйдзи отказались от политики лавирования, компромиссов и каких-то уступок в своих взаимоотношениях с левой оппозицией и перешли к репрессиям. По они решились на это только тогда, когда убедились в достаточной поддержке со стороны наиболее богатой и влиятельной части населения. Этот процесс был довольно длительным и продолжался до конца века.
Открытые претензии в адрес режима Мэйдзи слева вначале прозвучали в основном из среды новой сельской верхушки, связанной с предпринимательством, торговлей и ростовщичеством. Это были требования сельских самураев (госи), превращавшихся в помещиков, а также других сельских богачей (гоно), часто прибегавших к труду наемных рабочих. Они выступали за «прогресс и социальную справедливость», понимая их, однако, лишь как ограничение влияния крупных феодалов, снижение поземельного налога и гарантии предпринимательской деятельности. Они, так же как и крупные феодалы из правой оппозиции, считали, что своих целей они смогут добиться лишь при условии создания такого представительного органа власти, в работе которого они надеялись участвовать. Причем его роль и структуру они представляли по-своему.
В конце 70-х и особенно с начала 80-х годов, когда госи и юно, удовлетворившись некоторыми уступками властей (в частности, снижением поземельного налога), стали на сторону режима, в оппозиционном лагере все настойчивее зазвучали голоса недовольной части крепнущей городской буржуазии, а также крестьян и рабочих, даже из числа париев. Их претензии, естественно, оказались более радикальными и в основном совершенно неприемлемыми для господствующих кругов.
Все эти оппозиционные течения, весьма различные по своей социальной сути и представлениям о содержании необходимых перемен, получили в Японии общее название Движение за свободу и народные права (Дзию минкэн улдо). Это движение явилось естественной реакцией на «переворот Мэйдзи» разных слоев населения, пытавшихся по-своему определить возможный характер нового общества. По существу, оно оказалось главной движущей силой эволюции общества, поскольку благодаря именно его активности были заложены такие важнейшие элементы нового общества, как система политических партий, парламентаризм и некоторые другие составные части буржуазной демократии.
Нарастанию политической активности способствовали особые условия, сложившиеся в Японии в начале эпохи Мэйдзи. Власти тогда еще терпимо отнеслись к повсеместному возникновению кружков, клубов, объединений, частных школ, в которых многие •шеячи людей знакомились с идеями европейских философов, coir,н
циологов, общественных деятелей, обсуждали возможные пути дальнейшей эволюции Японии. До 1875 г. сравнительно, легко разрешалось создание издательств, основание газет и журналов, на страницах которых дискутировались самые различные общественные проблемы. Кружки, клубы и газеты явились первичной формой организации политической жизни страны.
Чем же можно объяснить такую терпимость властей к совершенно невиданному повороту в общественной жизни Японии, к этой исключительной возможности высказывать разные точки зрения по вопросам, всегда считавшимся монополией господствующих кругов?
Прежде всего, это объяснялось тем, что после переворота Мэйдзи социальная обстановка в стране оказалась исключительно сложной. Придя к власти, новые правители столкнулись не столько с энтузиазмом и надеждами основной части народа, как это обычно бывало после революционных переворотов в других странах, сколько с недовольством и разочарованием почти во всех слоях общества. Поэтому они не могли не попытаться выяснить и учесть в какой-то мере их главные претензии, ибо иначе вполне реальной была угроза нового переворота. Таким образом, либеральная политика как попытка определить реформы, способные предохранить от угрозы более глубокого переворота, в известной мере даже устраивала в то время правящие круги Японии [21г с. 75—77].
Большинство обсуждавшихся идей и проектов имело явно выраженную буржуазную сущность. В широких кругах японской общественности, очевидно, уже не было особых сомнений в необходимости именно капиталистического развития страны. Поэтому многие предложения в первую очередь были направлены против сохранявшихся элементов феодальной организации общества. Так, один из видных инициаторов Движения за свободу и народные права, Итагаки Тайсукэ, выступил в 1870 г. в печати с декларацией, в которой призвал как можно быстрее покончить с сословным делением общества, со все еще характерной для страны мелочной регламентацией, «когда человек лишен возможности свободно выбирать себе подходящее хаори4, фасон воротничка и цвет одежды». Настаивая на создании условий для развития индивидуальностей, способностей и талантов каждого, он, по существу, пропагандировал буржуазный образ жизни [71, с. 191—192].
Подобного рода общие идеи и предложения, широко обсуждавшиеся в оппозиционных кругах, совпадали со стремлениями значительной части населения к переменам и воспринимались с подъемом.
Как известно, социальная основа Движения вначале была весьма ограниченной. Расширения своих политических прав тогда добивались лишь некоторые крупные феодалы, не довольные, в частности, «робостью и пассивностью» властей на международной арене, а также близкие им по взглядам предприниматели (госё) и состоятельные землевладельцы (госи и гоно). В петициях в
высшие органы власти они настаивали на своем участии в решении важнейших государственных дел. От их имени в 1874 г. ряд видных политических деятелей Японии (Итагаки Таисукэ, Гото Сёдзиро и др.) обратились к правительству с настойчивым предложением создать в стране представительный орган власти. Власти, со своей стороны, были готовы вести диалог с этими кругами, доверие которых они всячески стремились завоевать. Поэтому они и согласились на компромиссы, хорошо понимая, что привлечение новых представителей знати и предприниматель- ;
лась ожесточенная борьба.
Однако постепенно Движение расширялось. Все более активную роль в нем играла быстро усиливавшаяся буржуазия, особенно средние и мелкие ее слои. Они добивались большей доли своего участия в управлении страной, настаивая на создании парла-.мента, суть которого они представляли по-своему.. В целом требо- ;
вание созыва парламента становилось важнейшим элементом всей j
политической жизни страны.
Власти проявили готовность договориться и с этими представителями Движения. Они исходили из того, что японская буржуазия вовсе не претендовала на всю полноту власти, а о политическом паритете с ней, конечно же, можно было договориться. Да и сами лидеры режима Мэйдзи в большинстве своем уже в достаточной степени прониклись идеями буржуазности.
Но с начала 80-х годов в русле Движения появилось еще одно течение, принципиально новое и достаточно радикальное, которое оказалось уже совершенна нетерпимым с точки зрения лидеров Мэйдзи. Это было течение, как-то выражавшее интересы и идеи средних и низших групп крестьянства, рабочих и даже сословные интересы париев. В данном случае власти даже и мысли не допускали о возможности каких-то переговоров или уступок.
Во взаимоотношениях с ним они считали приемлемым только методы насилия и репрессий. А политическая активность этих слоев, составлявших подавляющее большинство населения, расценивалась властями как акт государственного преступления, как удар по самим устоям общества.
Представители этого течения в отличие от остальных течений не смогли создать какой-то своей организации и наладить выпуск своих газет и журналов. На политической арене они выступили в рамках уже существовавших партий и обществ на страницах некоторых либеральных изданий. Они не ставили вопроса о смене власти и о своем участии в управлении страной. Их претензии и требования в основном носили еще весьма общий, скорее, декларативный характер. И несмотря на это, лидеры Мэйдзи сразу
почувствовали в них самую большую угрозу своему господству. Они отказались обсуждать даже какие-то их частные, конкретные нужды: требования о снижении цен и налогов, уменьшения повинностей, обеспечения прав на профессиональную организацию, повышения зарплаты, смягчения дискриминации. Когда Движение достигло этого, по своей сути народного, демократического уровня развития, власти обрушились на него с репрессиями.
Но, несмотря на всю свою слабость, неорганизованность и про* гиворечнвость, именно это радикальное течение, Дзию минкэн ундо, оказало, пожалуй, решающее воздействие на характер стабилизации политической ситуации в стране, осуществленной властями к 90-м годам. Боясь усиления этого течения, власти поспешили пойти на компромисс с новыми помещиками и буржуазией относительно основных принципов политической организации общества и доли их участия в управлении страной, чтобы на этой базе объединить свои усилия, направленные на пресечение развертывавшегося в стране демократического движения.
Таково в самых общих чертах социальное и идейное содержание Движения за народные права. Отметим теперь кратко его основные фактические вехи.
К середине 70-х годов политическое оппозиционное движение уже не могло ограничиться лишь дискуссионными клубами и союзами. спорами в газетах и журналах. Возникла необходимость в новых организационных формах, и в 1874 г. были созданы первые политические объединения: Общество патриотов (Айкокуто) н
Общество по определению цели в жизни (Риссися), которые заявили о необходимости введения в Японии конституционного правления. Правительство сочло для себя полезным пойти в чем-то навстречу этой верхушечной оппозиции из помещиков и буржуа, чтобы превратить ее из оппонента в союзника. С этой целью оно в начале 1877 г. приняло решение о снижении поземельного налога с 3 до 2,5% стоимости земли. Это было с удовлетворением встречено помещиками и состоятельными крестьянами-землевла-дельцами, которые вскоре проявили склонность отойти от движения [34, с. 249] при обязательном условии получения не только экономических, но и политических гарантий своего положения.
В связи с этим летом 1877 г., когда правительственные войска вели ожесточенные бои с восставшими самураями в Сацума, крупные землевладельцы вместе со своими союзниками по блоку направили на имя императора петицию, добиваясь его согласия на создание парламента. В ответ на это правительство в 1878 г. заявило, что с 1880 г. оно разрешит систему совещательных собраний в префектурах и городах, т. е„ по существу, согласилось на расширение прав участия находившихся в оппозиции слоев дворянства и буржуазии в решении местных дел.
Однако это также не удовлетворило верхушечную оппозицию..
Она стремилась к участию в решении не только местных, но и общегосударственных дел. Ее политические организации продолжали настаивать на введении парламентарной формы управления
страной. И власти, опасаясь, что их упорство может привести к: углублению расхождений с этими кругами, выступили в 1881 г. с обещаниями создать парламент через десять лет, в 1890 г. Лидеры Мэйдзи предполагали использовать остающееся до этого срока время для тщательной подготовки к новым условиям полнтиче1-ского управления страной. В результате этого акта те влиятельные круги, которые могли реально рассчитывать на участие в работе нового органа власти, стали постепенно отходить от движения и готовиться к деятельности в условиях парламентаризма. Начался процесс их самоорганизации, выработки основных принципов и целей политики, которые они намеревались защищать и проводить в рамках парламента. В 1881 г. в Японии была создана первая политическая партия — Дзиюто (Либеральная), представлявшая интересы помещиков, сельских предпринимателей и средней городской буржуазии, не пользовавшихся какими-либо привилегиями и поэтому настроенных довольно радикально. В 1882 г.. была образована Кайсинто (Партия конституционных реформ), выражавшая интересы крупных бюрократов, промышленников и купцов.
Однако создание этих весьма умеренных партий вызвало у властей сомнения и озабоченность. Стремясь парализовать любук> возможность подвергнуть сомнению принципы, на которых основывалась его власть, правительство в том лее, 1882 г. в качестве меры предосторожности создало партию Тэйсэйто (Конституционно-императорская партия), которая была призвана проводить политическую линию правительства во всех межпартийных дебатах,, неизбежных в условиях парламентаризма.
Таким образом, в связи с усложнением общественной жизни в; начале 80-х годов возникли некоторые новые элементы системы государственного управления капиталистической Японии. Предполагалось, что в таком виде эта система окажется гораздо надежнее, гибче и эффективнее в решении сложных проблем общества..
Но развитие политического движения не могло ограничиться теми рамками, которые устанавливали власти и в пределах которых они видели возможность и выразили готовность пойти на какой-то компромисс, сговор. На политической арене уже в начале* 80-х годов появились люди, выражавшие интересы тех слоев населения, которым правители Мэйдзи отводили роль пассивных объектов угнетения: бедных и разорявшихся слоев крестьянства (полу-арендаторов, арендаторов и батраков), совершенно бесправных тогда рабочих,- а также в определенной степени и париев. Это* были первые ростки подлинно демократического движения, которое на первой стадии своего развития в идейном и организационном отношении было еще весьма примитивным и формировалось в рамках уже существующих политических объединений.
Демократическое, радикальное течение Дзию минкэн ундо зародилось и достигло довольно заметного развития в основном внутри Либеральной партии. Это произошло несколько неожиданно для ее лидеров и вопреки их воле и желаниям. В местные отделения этой партии в разных районах страны стали вступать представители «простого народа» — крестьяне, рабочие, а также и «нового простого народа» (париев), привлеченные в нее широковещательными декларациями о свободе и социальной справедливости. Однако они вкладывали в эти понятия свое содержание, весьма отличное от того, которое имели в виду создатели партии. На собраниях местных отделений Дзиюто стали раздаваться требования такого переустройства общества, которое отвечало бы интересам средних и низших групп «простого народа» и париев. Начался процесс радикализации многих партийных ячеек, что, по существу, противопоставляло их всей остальной партии.
Постепенно радикальное крыло Движения выдвинуло и своих лидеров, которые предприняли первые попытки как-то организовать его и сформулировать его требования. Это были честные, готовые на самопожертвование люди, для образа действий и мышления которых был характерен подлинный демократизм — весьма привлекательная и крайне редкая тогда в политических кругах черта. Однако их представления о способах и целях необходимого переустройства общества были весьма противоречивы, а в выступлениях патетика и эмоциональность преобладали над точностью анализа и конкретностью задач.
Противоречивый характер воззрений представителей левого крыла объяснялся тем, что они формировались на основе знакомства с произведениями весьма разнохарактерных философов и общественных деятелей: Руссо, Вольтера, Монтескье, русских народников и западных социалистов (последних по преимуществу анархистского толка). Во всех этих источниках они находили для себя что-то близкое, но выработать какую-то единую систему взглядов так и не смогли. В этой среде сформировались и выдвинулись такие выдающиеся деятели левого, демократического течения, как Накаэ Тёмин (1847—1901), Ои Кэнтаро (1843—1922) и Уэкн Змори (1856—1893). И все же они пытались выступить от имени всех ущемленных слоев населения, даже если между ними и не было особой социальной общности. Так, Узки Эмори в своей работе «Дзию минкэн рон» («О свободе и народных правах») писал: «Хочу обратиться ко всем: к уважаемым японским крестья-» нам, торговцам и ремесленникам, к врачам, капитанам и извозчикам, охотникам, мелким лавочникам и син хэймин (новому простому народу — так .называли тогда париев.— 3. X.). Все вы в одинаковой степени обладаете одним неотъемлемым богатством — вашим правом на свободу» |78, с. 79].
Лидеры левого крыла пытались сплотить низшие социальные слои вокруг идеи об укреплении в Японии конституционной монархии или даже республики [34, с. 272—276]. В перспективе достижение этих целей, по их мнению, могло бы способствовать решению всех основных проблем. А пока они предлагали добиваться решения каких-то частных задач.
Однако наладить действенные контакты с народом им в целом так и не удалось. Т.ам их часто просто не понимали. Крестьяне и ремесленники, представители хэймин и син хэймин еще не были готовы бороться за конституцию или республику. Это им казалось слишком отвлеченной задачей. Поэтому среди левых стала распространяться идея террора как самого эффективного средства достижения их целей. По примеру русских народников они стали переходить к актам террора и даже планировали убийство наиболее одиозных деятелей правительства (особенно активными были террористы в районах Гумма и Нагоя) [66, с. 277—278]. Вместе с тем они попытались организовать и широкие народные выступления, в частности в Такасаки и Нагоя, с целью осуществления политического переворота. Однако им удавалось поднять население лишь в тех случаях, когда они выдвигали лозунги, более близкие крестьянам и горожанам, такие, как отмена сословных ограничений, улучшение условий жизни, демократизация системы управления. Так, в декабре 1884 г. им удалось поднять восстание крестьян-должников, арендаторов и батраков районов Титибу. Восставшие (около 10 тыс. человек) требовали снижения налогов, отмены воинской повинности, возвращения заложенных участков земли [66, с. 278].
Хотя внутри левого крыла Движения и не было единства взглядов и четкости представлений о характере возможных перемен, а выступления, организованные его представителями, были разрозненными, власти были явно напуганы деятельностью радикалов. В первую очередь они попытались развалить левое крыло Движения изнутри: в его ряды стали засылать шпионов и провокаторов, которые должны были разжечь разногласия, дискредитировать его лидеров [66, с. 278]. Кроме того, с целью опорочить и полностью изолировать левое крыло, ослабить его социальную базу использовалось осуществление закона о местном самоуправлении и обещание конституции и парламента. В результате этих усилий властей руководители Либеральной партии, обеспокоенные нараставшей угрозой ее опасного перерождения, приняли в 1884 г. решение о самороспуске Дзиюто.
Правительство ужесточило также свой контроль над всеми формами общественной жизни, более строгой и придирчивой стала цензура печати, десятки внушавших подозрение газет были закрыты, а многие редакторы оштрафованы. Уменьшились и возможности проведения собраний и создания каких-либо объединений. Наконец, в 1887 г. несколько сот особенно опасных, с точки зрения властей, сторонников распущенной партии Дзиюто были высланы из столицы (в частности, в Осака был переселен Накаэ Тёмин) [78, с. 81]. Власти надеялись, что такими мерами им удастся парализовать левое крыло Движения и избавиться от угрозы радикализма.
В то же время власти ускорили подготовку к принятию конституции и открытию парламента. Они шли на столь крупные политические преобразования в стране, сознавая, что в условиях централизованного буржуазного государства принципы клановости в управлении им становятся все более нетерпимым анахронизмом и единственно возможным принципом господства является классовый принцип. В этом их убедило и реальное социально-экси номическое развитие Японии и Движение за свободу и народные права. Кроме того, они надеялись, что конституция и парламент помогут им избавиться от незапланированной оппозиции, что критика впредь будет поставлена в «законные» рамки и станет вполне безопасной.
Тем не менее власти постарались заранее сделать все возможное, чтобы интересы господствующих кругов и в новых условиях были полностью гарантированы. Так, в частности, в 1884 г. был издан закон, в соответствии с которым была создана на европейский манер своя титулованная знать. Около 500 наиболее высокопоставленных представителей старой знати получили титулы князей, маркизов, графов, виконтов и баронов. Тем самым был определен весьма узкий круг лиц, которым впоследствии было предоставлено исключительное право на комплектование верхней, привилегированной палаты японского парламента по образцу английской палаты пэров [19, с. 120]. Кроме того, в 1885 г. было создано и правительство европейского типа —кабинет министров во главе с премьер-министром, ответственный только перед императором. Этот орган власти, по идее правящих кругов, также должен был способствовать нейтрализации возможных нежелательных актов нижней палаты будущего парламента.
Наконец, в 1889 г. правительство утвердило первую японскую конституцию, которая, как обещали власти, должна была гарантировать статус и права всех слоев населения. Однако практически она обеспечила права, причем, по существу, неограниченные, только императора и тех социальных кругов, интересы которых он представлял. Права же японского народа оговоркой «в пределах, установленных законом» превращались в весьма эфемерные, поскольку эти пределы по своему усмотрению могли определять лишь сами власти.
В 1890 г. были проведены первые выборы в японский парламент. Однако если учесть, что избирательное право получило лишь немногим более 1% всего населения страны (460 тыс. из 42 млн.) и подавляющее большинство населения было лишено возможности участвовать в формировании нового высшего органа власти, и так до крайности ограниченного в своих правах, то совершенно ясно, что принятие конституции и создание парламента свидетельствовало лишь о росте классового самосознания господствующих кругов, которые стремились все формы социальных распрей и политической борьбы превратить в тщательно контролируемый процесс, локализованный в рамках созданного ими высшего органа власти. Тем не менее создание нового политического механизма управления (партии, парламент, конституция) соответствовало потребностям общественного развития буржуазной Японии того периода.
Таким образом, к началу 90-х годов в Японии произошли большие качественные изменения не только в экономической и со
циальной, но п в политической сфере. Они явились необходимым и важным компонентом цикла буржуазных преобразований, происшедших в Японии после переворота Мэйдзи. Хотя вопрос о власти в Японии в начале эпохи Мэйдзи решался не так, как, например, в Англии или во Франции во время происходивших там буржуазных революций, эти различия касались главным образом лишь формы, а не существа проблемы. Преобразования второй половины XIX в. в Японии, в том числе и в политической сфере, составили суть буржуазной революции в этой стране. Но и здесь она оказалась незавершенной, половинчатой. Осуществлявшие эту революцию круги оказались неспособными на решительные, последовательные акции: политические партии в Японии не добились большого влияния, конституция была крайне куцей, а парламент весьма беспомощен.
Однако господствующие слои общества вполне удовлетворились тем, что к началу 90-х годов им удалось на время решить некоторые социальные проблемы, несколько успокоить социальное море, волновавшееся весь раннемэйдзийский период. К этому времени были окончательно подавлены выступления недовольной части среднего и низшего самурайства. В какой-то мере была умиротворена деревня, где для помещиков и крестьян-собственников был снижен поземельный налог. Буржуазия получила более широкие возможности участвовать в решении общегосударственных дел, и у нее исчезли основные причины для недовольства. И при всем при том верхушка бывшей феодальной знати сохранила значительную долю своей власти, получила огромные денежные суммы, новые чины и должности и с успехом приспособилась к новому строю жизни.
Власти и правящие круги избежали неприятной необходимости хотя бы минимально удовлетворить нужды народа и смогли нанести сильный удар по левой демократической оппозиции. Однако полностью устранить радикальные настроения и идеи из жизни общества они были не в состоянии. Демократическое движение, выражавшее интересы широких слоев населения, подспудно эволюционировало, набирало силы и уже в начале XIX в. опять стало важным элементом всей общественной жизни страны, причем на гораздо более высоком идейном и организационном уровне.
Предпосылки дальнейшей эволюции японского общества
Общественное развитие — это живой процесс; в обществе всегда или что-то отмирает, или укрепляется, или только зарождается. Однако интенсивность этого развития в разные периоды далеко не одинакова. Так, 20—25-летний период после переворота Мэй-дзи оказался исключительно важным в истории Японии не только тем, что за это время общество перешло на буржуазные рельсы, но и возникновением многих таких явлений и процессов, которые
в значительной степени предопределили будущее развитие страны.
В период Мэйдзи был преодолен, наконец, застой эпохи Токугава. Успехи, достигнутые в экономической, культурной и политической сферах, укрепили позиции и авторитет нового буржуазного режима и позволили ему поставить новые задачи, разрешение которых сулило ему огромные выгоды.
Так, в области экономики только за 10 лет, с 1868 до 1878 г., размеры посевных площадей выросли с 3 до 3,8 млн. те [34, с. 239]. К 1890 г. была создана сеть железных дорог общей протяженностью 2200 км [34, с. 258]. В начале 90-х годов ежегодно выплавлялось уже более 100 тыс. т стали, главным образом на о-ве Кюсю, и добывалось около 3 млн. т угля [30, с. 3]. Были построены оборудованные современными станками и машинами предприятия различных отраслей промышленности, в первую очередь военной, на многих из которых работало по нескольку тысяч • человек [39, с. 3]. Экономическое развитие страны быстро сказалось и на численности населения. За 20 лет, с 1870 до 1890 г., оно выросло с 34,5 до 42 млн. [32, с. 56].
Все это позволило японским предпринимателям значительно усилить экономическую экспансию, увеличить экспорт хлопчато^ бумажных и шелковых тканей, а также ряда других товаров. К началу 90-х годов, когда в Японии начали создаваться монопольные объединения, правящие круги проявили интерес и к политической экспансии на международной арене.
Таким образом, уже в первое двадцатилетие эпохи Мэйдзи страна, которая в течение более двух столетий была почти полностью изолирована от жизни всего остального мира, стала быстро превращаться во все более динамичную и агрессивную силу, угрожавшую своим соседям. Главным в ее внешней политике стало стремление к безграничной экспансии на основе принципа «Богатая страна, сильная армия».
Встав на путь капиталистического развития, Япония весьма быстро усвоила те принципы взаимоотношений с другими странами, которые были характерны для ведущих империалистических держав. Она включилась в сложную политическую игру западных держав, стремясь встать в один ряд с ними в борьбе за раздел мира. Именно с этого времени началась история внешней экспансии милитаристской Японии. В 1872 г. Япония захватила о-ва Рюкю, в 1879 г. совершила вторжение на о-в Тайвань. А в 1876 г., сама еще опутанная сетыо неравноправных договоров, она навязала первый подобный договор Корее.
По мере экономического и политического усиления страны росли и аппетиты ее правящих кругов. К концу века буржуазная Япония поставила в качестве основной долгосрочной задачи своей внешней политики захват Кореи и Китая. Правители страны хорошо понимали, что решение этой задачи чрезвычайно трудно и неизбежно приведет к противоборству с другими империалистическими державами, в первую очередь с Россией. Поэтому власти стали уделять все более серьезное внимание всесторонней мнлн-
таризацни страны, что не могло не наложить свой отпечаток на весь общественный климат страны, на особенности ее социальной эволюции.
Наряду с мерами широкого военно-промышленного строительства и перевооружения армии по всей стране развернулась и соответствующая идеологическая обработка населения. Она осуществлялась через печать, в учебных заведениях и в армии и преследовала цель сплотить японцев, психологически подготовить их к участию в агрессивных войнах. В качестве основы такого сплочения использовался оголтелый шовинизм. Населению страны все более широко и настойчиво внушали идеи об «исключительности истинно японского духа», о якобы присущих только японцам широте души, выдающейся отваге, бескорыстии и благородстве, о необходимости гордиться славными боевыми традициями и о почетном долге жертвовать жизнью за императора [95, с. 130]. Однако враждебное отношение ко всему зарубежному, распространявшееся под «патриотическими» лозунгами борьбы с преклонением перед иностранщиной, определялось не только стремлением подготовить страну к войне. Оно было необходимо властям также и для нейтрализации возможного влияния прогрессивных, в первую очередь социалистических, идей Запада [43, с. 87].
Особенно интенсивно идеологическая обработка велась в армии. Юношам, главным образом крестьянам, 'надолго оторванным ют проблем и трудностей своей социальной среды, кроме всего прочего, внушались идеи о святости императора и монархической системы, о вреде критиканства и либерализма.
Таким образом, пропаганда была ориентирована не только на внешний мир. Она преследовала также и цель убедить японский народ в естественности и незыблемости установившихся в стране порядков. За истинный патриотизм выдавались такие черты, как преклонение перед титулованной знатью, бездумная ненависть к любой оппозиции и безоговорочная поддержка всех мер властей.
Все это свидетельствует о том, что в деле формирования законопослушной, националистически ограниченной и агрессивно настроенной личности японский империализм не был лишь бездумным подражателем капиталистического Запада. Во многом он оказался в малопочетной в данном случае роли зачинателя, пионера.
Таким образом, быстрое экономическое развитие Японии, формирование в ней монополистического капитала, укрепление материальных и идейных основ милитаризма предопределило и многие особенности будущего развития страны.
Однако в общественной жизни, в сфере социальных отношений происходили и процессы совершенно другого характера, которые, пожалуй, в определенных условиях не в меньшей степени могли сказаться на судьбах страны. Более отчетливо обозначились социальные контуры японской деревни, возросла роль рабочего класса в различных сферах жизни страны. Закладывались основы
развития нового, более радикального народного демократического движения.
Аграрная реформа ликвидировала господство крупных феодалов, место которых в качестве налогополучателя заняло само государство. Это способствовало процессу определенной общенациональной унификации положения крестьян по формам зависимости—теперь в основном от государства и от помещиков. В связи с этим существенно менялись цели и характер крестьянского движения. Если в первый период Дзию минкэн ундо в Движении участвовала вся японская деревня, не довольная государственной политикой поощрения за ее счет торговых и финансовых домов [32, с. 115], то в 80-х годах оно стало по преимуществу движением более обездоленных групп крестьян — полу арендаторов* арендаторов и батраков, т. е. из сословного оно вее более превращалось в классовое. Причем социальная разграничительная линия прошла внутри самой деревни: нищавшее крестьянство повело борьбу против усилившихся землевладельцев-помещиков.
Перемены в характере Движения определялись главным образом тем, что многие деревенские труженики лишались своих прав на землю и вынужденно вступали в весьма унизительные отношения зависимости от землевладельцев-помещиков. К концу XIX в. уже подавляющая часть земледельцев оказалась связанной с арендой земли. Так, в 1887 г. только треть жителей деревни не прибегала к ней и оставалась собственниками земли (в эту категорию включались и помещики). А около двух третей (66,6%) всех земледельцев арендовали землю, хотя и* в разной степени (около 40% крестьян были полуарендаторами). Впоследствии доля последних неуклонно увеличивалась. О темпах обезземеливания земледельцев говорит хотя бы тот факт, что только за 1883— 1890 гг. около 300 тыс. (крестьян лишилось своих наделов [7, т. II, с. 50].
Процесс социального расслоения деревни нарастал. Обнищание и разорение средних и бедных групп крестьян происходило на фоне дальнейшего обогащения состоятельных землевладельцев, причем арендаторы в своих взаимоотношениях с помещиками были поставлены в положение жалких просителей, лишенных даже минимальных прав. Они полностью зависели от произвола помещиков. Об этом, в частности, свидетельствует такой, почти обязательный, пункт договора об аренде: «Не протестовать, если землевладелец отберет арендуемую землю и будет сам ее обрабатывать или же передаст ее другому арендатору» [7, т. II, с. 56—57].
Наконец, социальные перемены в деревне в то время выразились еще и в росте числа полностью не устроенных людей, тех, кто вообще не имел своей земли и не мог добиться ее аренды. В первую очередь это стало судьбой вторых и третьих сыновей и незамужних дочерей крестьян, которые практически оказались лишними в деревне. В лучшем случае они батрачили в чужих хозяйствах, а чаще всего — отрывались от семьи и деревни и отправлялись в поисках средств существования в город.
Таким образом, в деревне складывалась во многом новая социальная ситуация. Она вела к изменению и характера ее борьбы. Основным объектом конфликтов чаще всего оказывались условия аренды и права на владение землей, т. е. крестьянское движение становилось преимущественно антипомещичьим.
Условия жизни и социальная специфика бедных слоев городского населения также претерпевали изменения. В начале эпохи Мэйдзи правящие круги еще не усматривали ничего угрожающего для себя в процессе социальных перемен в городе. Они полагали, что Япония в своем экономическом развитии избежит характерных якобы только для стран Запада проблем, связанных с ростом и организацией рабочего класса, и пойдет каким-то особым, японским путем. Пока рабочий класс страны был слаб и неорганизован, это казалось возможным.
Однако рабочий класс Японии рос довольно быстро и уже в конце 80-х— в 90-х годах проявил себя как самостоятельная социальная и политическая сила, воочию показав правителям, что развитие капитализма в Японии и в этом отношении происходит в полном соответствии с его общими закономерностями.
Если * в середине 80-х годов в Японии насчитывалось около 113 тыс. рабочих, то в середине 90-х годов их было уже более 380 тыс., а к началу XX в —около 500 тыс. [19, с. 123; 32, с. 114; 78, с. 88]. Эти цифры говорят об изменении всей социальной ситуации в Японии.
В общественной жизни страны возникли такие новые явления, как стачки, выступления рабочих с требованиями повышения заработной платы и сокращения рабочего дня, каких-то гарантий их прав. В конце 80-х годов появились первые профессиональные союзы. Усиление рабочего класса создало основу и для распространения в стране новой идеологии. Так, уже в 1882 г. в Японии была переведена первая книга социалистического содержания, «Прогресс и бедность», изданная в США. А в 1890 г. появился первый перевод на японский язык Коммунистического манифеста К. Маркса и Ф. Энгельса [30, с. 16].
Таким образом, к концу XIX в. в Японии сложилась общественная среда (рабочий класс, демократически настроенная интеллигенция), которая по своему положению и интересам была готова воспринять социалистическую идеологию. Практически Япония в социальном, политическом и идейном отношениях эволюционировала значительно дальше тех пределов, которые правящие круги считали допустимыми.
Власти с нарастающей тревогой следили за этими тенденциями общественного развития. Уже в конце XIX в. они стали прибегать к весьма распространенной во всех развитых капиталистических странах политике раскола противостоящих им социальных сил. Используя свой опыт по расколу крестьянства и привлечению на свою сторону зажиточных крестьян-собственников, ту же политику они стали проводить и в отношении растущего рабочего класса Японии. Как и в других капиталистических государствах, в связи с ростом потребностей промышленности страны в высококвалифицированных специалистах в Японии появилась (вначале очень небольшая) группа сравнительно хорошо оплачиваемой так называемой рабочей аристократии, которую режим и рассматривал как свою опору в рабочей среде. Но основную часть пролетариата по-прежнему составляли рабочие, получавшие нищенскую заработную плату и находившиеся в полной зависимости от произвола своих хозяев. А кроме этих двух групп рабочего класса в Японии росла и резервная армия труда, самая обездоленная часть рабочего класса — безработные.
Таким образом, за короткий отрезок времени Япония превратилась из изолированной от внешнего мира отсталой феодальной страны в развивающееся капиталистическое государство. Наряду с развитой капиталистической экономикой в жизни японского общества появились и многие другие атрибуты и черты буржуазной системы: всеобщая воинская повинность, буржуазное законодательство, политические партии и парламентаризм. Капитализм укрепился в промышленной, торговой, финансовой и идеологической сферах, стал господствующим в политике и в социальных отношениях, наложил свой отпечаток на психологию всех слоев; общества, Япония вошла в число империалистических держав, претендовавших на роль вершителей судеб всех других стран и народов земного шара.
Но вместе с тем в новом японском обществе сохранились и тщательно оберегались многие пережитки феодализма: монархическая система правления и идеология, господство помещичьего землевладения и влияние помещиков на политику, авторитет и огромная роль титулованной знати и клановых объединений, раболепие перед бюрократией, патернализм во взаимоотношениях между эксплуататорами и эксплуатируемыми и т. д.
В то же время в стране зародились и зерна будущего прогрессивного развития.
Таким образом, Япония вступала в XX в. в условиях противоборства различных общественных тенденций. Однако правящие круги рассчитывали, что достигнутая в начале 90-х годов XIX в. относительная политическая и социальная стабилизация в стране позволит им всесторонне укрепить помещичье-буржуазное милитаристское государство и резко активизироваться на международной арене.
Глава шестая
ПАРИИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА (70—80-е ГОДЫ XIX в.)
Ветер преобразований Мэйдзи пронесся и над бураку, изменяя веками устоявшийся уклад их жизни. В новых условиях парии, как и представители других слоев населения, стали втягиваться в капиталистическую экономику, приобщаться к буржуазному строю жизни. У них появилась надежда на то, что с отменой'сословной системы и укреплением буржуазной структуры явление сословной дискриминации вскоре исчезнет и они станут полноправными, «обычными» японцами.
Однако надеждам париев не суждено было сбыться. Сегрегация сэммин в эпоху Мэйдзи не только сохранилась, но даже приобрела новые черты, которые сделали эту проблему еще более острой. Правда, указ 1871 г. провозглашал формально освобождение и равноправие париев н якобы «решал все проблемы дискриминации. Однако практически положение париев не улучшилось. Все перемены, осуществленные сверху, были направлены, по существу, лишь на то, чтобы сделать сегрегируемое меньшинство более удобным и выгодным объектом угнетения.
Сохранение явления сегрегации нельзя объяснить лишь злой волей господствующих кругов, хотя в данном случае и она, бесспорно, имела место. Более важное значение имело здесь наличие в обществе неизбежного при капитализме социального неравенства и неравноправия, логическим завершением которого и была сегрегация париев. Становилось очевидным, что это явление осталось в обществе не как досадный и малообъяснимый пережиток прошлого, а как естественный и неотъемлемый элемент новой буржуазной системы в Японии.
Фактическому усилению дискриминации париев после переворота Мэйдзи в значительной мере способствовало и сохранение старых традиций и предрассудков — важных регуляторов социальных взаимоотношений и в новом обществе.
Рассмотрение положения париев после переворота Мэйдзи, важное и само по себе, имеет большое значение и для лучшего понимания особенностей такого сложного исторического феномена, как становление буржуазной Японии в конце XIX в.
Правители Мэйдзи и проблема дискриминации
■Отшумели политические и военные грозы 1867—1868 гг. К власти пришли новые правители. Однако вначале в положении групп париев, как н других слоев населения, не было никаких перемен. В 1869 г. были распущены отряды кихэйтай, в которых служили и парии, и жизнь в бураку опять покатилась по старой привычной колее. Создавалось впечатление, что новые правители полностью забыли о своих авансах, выданных буракумин еще до переворота Мэйдзи.
В некоторых феодальных владениях местные власти, как и прежде, продолжали издавать унизительные для сэммин указы и распоряжения. Так, например, в 1870 г. во владениях Вакаяма был обнародован указ, в котором, в частности, предписывалось следующее: «Когда сэммин идут по общей дороге, они должны придерживаться ее кромки. В населенных пунктах им нельзя выходить из-под навесов домов на середину улицы. Им запрещается питаться в городах. Соломенные шляпы они имеют право носить только в дождливую погоду» [71, с. 190]. Даже во владении Тоса, одном из главных оплотов нового режима, париев опять обязали носить особую прическу, запретили ночью появляться на улице и лишили права открывать окна, выходящие на улицу. Им вновь указали на недопустимость при встрече с «обычными» японцами смотреть им в лицо, поскольку это считалось «вызывающей наглостью» [55, с. 315].
Ограничения париев в разных районах страны несколько отличались друг от друга, но все они вполне вписывались в рамки одного явления: дискриминации отверженных, которую власти
всячески усиливали. Общая цель всех новых указов заключалась в том, чтобы предупредить жителей бураку о невозможности для них каких-либо перемен к лучшему, о необходимости твердо помигать свое место в обществе и не сметь претендовать на большее.
Ничего не изменилось для них и после провозглашения властями всеобщей свободы в выборе занятий. Их продолжали ограничивать в профессиональной сфере и по-прежнему привлекали к выполнению старых унизительных обязанностей стражников, тюремщиков и т. д. Известны даже случаи мобилизации буракумин для участия в подавлении народных выступлений, как это было, например, в 1870 г. в Хамада [71, с. 190]. Когда в 1870 г. все управляемые сословия были преобразованы в новое, формально равное социальное объединение «простой народ», все члены которого получили, в частности, право на фамилии, дискриминируемое меньшинство не было включено в его состав и по-прежнему было лишено права на фамилии [71, с. 191].
Однако в обстановке нарастания социальных перемен общины париев не могли остаться совершенно нетронутой цитаделью прошлого. Рано или поздно власти неизбежно должны были заняться какими-то преобразованиями и в этой сфере. Но характерно, что проблема дискриминации всплыла на поверхность политической
жизни Японии как-то случайно, даже независимо от воли властей.
Все началось с того, что в марте 1869 г. члены когисё — нового совещательного органа представителей всех княжеств — приступили к обсуждению очередного, казалось бы, чисто технического вопроса об унификации единицы длины ри1. И вдруг разгорелась весьма оживленная дискуссия вокруг проблемы, обычно старательно «забываемой» и избегаемой правящими кругами страны, а именно проблемы положения париев.
Почему лее это произошло? Что могло быть общего между положением сэммин и унификацией единицы измерения длины? Как выяснилось в процессе обсуждения, между этими двумя вопросами имелось много общего.
Собственно, проблема париев, какое-то рассмотрение которой было абсолютно неизбежным, могла стать тогда предметом обсуждения и в любой другой связи, например при решении вопросов административного управления, свободы выбора занятий, владения землей и т. д. Ведь положение буракумин во многом противоречило не только нормам буржуазного права, но даже элементарной логике. Однако практически получилось так, что импульсом к какой-то реорганизации в этой сфере послужила именно проблема унификации единицы длины.
Причина этого заключалась в том, что одной из форм пренебрежения к жителям бураку в период Токугава было, как уже упоминалось, исключение из географических карт и путеводителей названий и всех параметров (длины, площади и т. д.) этих поселений. Тем самым существенно искажалась общая топографическая картина страны, что в условиях происходивших буржуазных преобразований стало совершенно нетерпимым2. Таким образом, занимаясь унификацией единицы длины, оказалось невозможным не коснуться и проблемы дискриминации. А обсуждая эту проблему, нельзя было ограничиться только ее географическим аспектом. Поэтому вполне естественно, что дискуссия сразу распространилась на все стороны данного явления.
В ходе обсуждения были высказаны разные соображения и выдвинуты различные проекты решения проблемы дискриминации. Но во всех этих проектах выражалась только точка зрения правящих кругов. Правда, случалось, парии в это время и сами обращались к властям со своими петициями. Но они тогда еще не имели какой-то своей политической организации и, следовательно, четкого и единого представления о возможных путях подлинного освобождения. Не было и демократических организаций других слоев населения (крестьян и горожан), которые могли бы оказать воздействие на характер принимаемых властями решений. А рабочий класс, как самостоятельная социальная и политическая сила, вообще только зарождался. Поэтому и не удивительно, что официальные дискуссии и проекты по проблеме сегрегации были весьма ограниченны и поверхностны.
Большинство обсуждавшихся проектов уже исходило из «великодушного» признания жителей бураку такими же Людьми, как
я остальные японцы, независимо от их исторического происхождения [77, с. 155]. Однако отсюда вовсе не делался, казалось бы, логичный вывод о закономерности их социального равноправия. Практически все предложения в основном преследовали цель удовлетворения нужд государства, а не самих париев. Некоторые лз них, например, опять имели в виду переселение групп париев на о-в Хоккайдо с тем, чтобы осуществить его колонизацию и обес-лечить таким путем оборону страны от предполагаемого вторжения России или США с Севера. А какое-то решение проблемы дискриминации рассматривалось лишь как одно из условий осуществления этой задачи [77, № 2, с. 151].
Как уже отмечалось, такого рода предложения делались некоторыми общественными деятелями еще до переворота Мэйдзи.' Ловоды сторонников такого метода разрешения проблемы сегрегации сводились в основном к следующему: «Существование системы эта-хинин противоречит принципам милосердия. И если мы все ■оставим неизменным, то из их среды выдвинутся свои руководители. И когда они обратятся с призывом восстать, поднимутся эта всей страны и отомстят буси. Поэтому, если мы их используем в качестве крестьян-солдат на острове Хоккайдо с целью воспрепятствовать иностранному вторжению, это окажется полезным не только для них самих, но и для всей страны в целом» i[74, с. 106].
Таким образом, в правящих кругах все более отчетливо понимали, насколько взрывоопасной становилась ситуация в бураку. После переворота осознание этой реальной опасности неизмеримо выросло, в связи с чем возникли некоторые новые представления о возможных способах решения проблемы.
Об уровне и характере происходивших дебатов можно судить, например, по документу, представленному на обсуждение когисё видным государственным деятелем эпохи Мэйдзи Като Хироюки и названному им «Принципы Высочайшей отмены (сословия.—
3. X.) эта-хинин». Автор, правда, не привел в нем достаточно конкретных соображений о путях решения проблемы. Но он более подробно обосновал необходимость действовать. Он утверждал, что дискриминация париев противоречит всем естественным законам. Кроме того, ее сохранение, по его мнению, может подорвать престиж Японии на международной арене. Поэтому Като Хироюки считал необходимым «в полном соответствии с проводимыми Высочайшими реформами отменить категорию эта-хинин, а ее представителей включить в состав хэймин» (см. Приложение 24).
Более конкретные предложения внес Хоаси Комэкити, член княжеского совета из пров. Бунго. Он фактически поддержал проект, предложенный еще его отцом Хоаси Банри (1778—1853) в период Токугава. Об этом проекте уже шла речь раньше. Он содержался в опубликованной в 1842 г. Хоаси Банри книге «То Сэи фу рои» («Восточный Сэн фу рон»)3 и сводился к переселению сэммин на о-в Хоккайдо для его освоения и создания защитного барьера от угрозы нападения с Севера. Хоаси Комэкити пи-
сал: «Все люди от рождения равны. Поэтому и эта, которых столь долго все считали оскверненными, после ритуала в храме Дай-дзингу в пров. Исэ вполне могут стать рёмин. И тогда их можно будет послать в районы Эдзо4. В результате этого через 30 лет там будет достигнут значительный прогресс. А кроме того, таким образом будет устранена угроза вторжения в Японию с Севера» [71, с. 186].
Следовательно, когисё опять была предложена старая идея изъятия проблемы париев из японского общества и перенесения ее вместе с жителями бураку на Север, где она постепенно потеряла бы свою остроту и актуальность. «Обычные» японцы, по мысли авторов этих проектов, с течением времени забыли бы о своих предрассудках и стали бы относиться к бывшим париям как к равным.
Однако в процессе конкретных обсуждений это предложение вызвало возражения тех, кто считал, что переселение париев на Север и их трудоустройство там окажется предприятием слишком дорогим для государственной казны. Поэтому они сочли более целесообразным решать эту проблему на месте и лишь юридическими мерами без излишних затрат, как предложил, например, представитель княжества Мацумото Утияма Соносукэ (см. Приложение 26).
Несмотря на разногласия, одно выяснилось с достаточной очевидностью: большинство депутатов когисё склонялось к выводу о необходимости какого-то решения этой социальной проблемы. При голосовании 172 депутата из 201 поддержали мнение, что унификация единицы длины ри должна быть связана с решением проблемы сэммин [77, с. 155—156]. Самым убедительным в пользу такого решения, очевидно, оказался следующий довод, приведенный в статье политического деятеля из владения Kara Сэнсю Фудзиацу: «Если даже лишь какая-то часть эта сама придет к такому же выводу (о естественной необоснованности дискриминации.— 3. X.) и выступит против дискриминации, то ее неизбежно-поддержат эта всей страны... И тогда малыми военными силами с ними уже не справиться» (см. Приложение 25).
Однако обсуждение проблемы дискриминации в когисё ни к чему не привело. В июле 1869 г. политические права этого органа* были резко ограничены, в результате чего намечавшаяся было-тенденция как-то решить проблему дискриминации оказалась на время пресеченной. Вновь эта тема стала обсуждаться в правительственных кругах лишь в начале 1871 г., причем исключительную роль в этом сыграл выдающийся социальный реформатор Японии, тогда еще совсем молодой Оэ Таку (1847—1921).
Участник войны против сёгуната, он после переворота Мэйдзи был введен в правительственный аппарат и послан на стажировку в Европу. Там он открыл для себя новый мир идей буржуазных просветителей и демократов. Вернувшись на родину, он поселился в г. Кобэ, где впервые воочию столкнулся с проблемой сегрегации. Жалкая участь соотечественников-париев потряслаг
его, и он счел долгом своей совести сделать все возможное для облегчения их положения. Еще в 1870 г. он обращался к влиятельному в верхах советнику Окума Сигэнобу (1838—1922) с запросом по этой проблеме, а в январе и марте 1871 г. направил правительству два послания, в которых изложил свою точку зрения на возможные пути ее решения (см. Приложение 28).
Предложения Оэ Таку были гораздо более конкретными и радикальными, чем проекты его предшественников, и их осуществление, несомненно, могло принести определенные положительные результаты. Так, в своем январском послании он отмечал недостаточность одного лишь официального акта отмены дискриминации. Он настаивал на необходимости подкрепить его мерами материального обеспечения: предоставлением средств для поощрения деловой активности, для создания новых современных предприятий с привлечением зарубежных специалистов и т. д. По его мнению, в решении этой сложной социальной проблемы должна участвовать общественность всей страны.
Однако и Оэ Таку оказался не слишком последовательным поборником социальной справедливости. Он счел необходимым вначале перевести в состав хэймин и оказать материальную поддержку только наиболее состоятельным и предприимчивым жителям бураку. И лишь после этого, по его мнению, процесс освобождения можно было бы распространить на все остальные слои париев. Или, вернее, на их значительную часть. Ибо наиболее бедных и несостоятельных он, так же как и его предшественники» предлагал отправить на о-в Хоккайдо.
И все же, несмотря на известную непоследовательность, его идеи и деятельность в целом заслуживают положительной оценки. Его основная заслуга заключается в том, что он один из первых подчеркнул особую сложность и многоплановость явления сегрегации, необходимость всесторонних усилий, а также постепенности в ее ликвидации. Его идеи дали еще один импульс общественному самосознанию в этой сложнейшей социальной сфере. .
При поддержке некоторых высокопоставленных чиновников в июле 1871 г. Оэ Таку был введен в состав Промышленного отдела Народного ведомства, где ему предложили заняться подготовкой законопроекта об изменении статуса париев. Это назначение было вызвано рядом объективных обстоятельств. Прежде всего, власти стремились довести до какого-то реального результата усилия когисё по данному вопросу. Их побуждали к этому все более настойчивые просьбы париев, которые >на протяжении 1870—1871 гг. неоднократно обращались с соответствующими петициями к властям. В частности, с подобной петицией выступили жители бураку префектуры Хёго [7, т. И, с. 13]. Но, пожалуй, наиболее важное значение имело то, что сами власти уже не только убедились в политической необходимости изменения статуса париев, но и надеялись извлечь некоторые выгоды от подобного акта. Так, в пользу освобождения париев в июле 1871 г. неожиданно высказалось Финансовое ведомство, видя в нем воз-можностъ обложить дополнительно налогами около полумиллиона жителей страны и тем самым значительно пополнить государственную казну, что в условиях намечавшегося осуществления реформ было весьма кстати [7, т. II, с. 13].
Наконец, 28 августа 1871 г. Дадзёкан (так называлось тогда правительство Японии) опубликовало знаменитый декрет № 61, который явился итогом всех предпринимавшихся официальными властями усилий решить проблему париев (см. Приложение 29). Но этот итог оказался весьма скромным. Предложенное сверху решение сложнейшей социально-политической проблемы свелось лишь к официальному запрещению называть париев эта-хинин, т. е. формальной отмене сословной сегрегации, и распространению принципа свободы выбора занятий на жителей бураку. Никаких практических мер, которые могли бы содействовать решению проблемы, декрет не предусматривал.
Что же, по существу, представлял собой этот декрет и какую роль он сыграл в общественной жизни Японии?
Многие государственные деятели Японии того периода нередко •изъяснялись в духе таких всемирно известных политических документов, как Декларация независимости США или Декларация •прав человека и гражданина Французской буржуазной революции конца XVIII в. Это вполне соответствовало духу времени, переживаемого Японией. Однако новые японские лидеры всегда при этом оставались достаточно трезвыми прагматиками. Так, принимая декрет об освобождении сэммин (как его тогда называли), власти отнюдь не намеревались осуществить реальное уничтожение сегрегации париев. У них были другие, вполне конкретные цели: получить дополнительные средства для государственной казны, привлечь париев к службе в армии и использовать их как источник рабочей силы. Кроме того, правителям Мэйдзи в условиях развития международных контактов очень хотелось выглядеть в глазах Запада вполне респектабельными, современно мыслящими политическими деятелями, которых нельзя было бы упрекнуть в дикости и косности.
Таким образом, по существу, власти стремились только к тому, чтобы приспособить общины париев к нуждам укреплявшейся в стране буржуазной системы, к новым потребностям режима Мэйдзи. И в целом декрет № 61 вполне отвечал этим задачам.
Чтобы ни у кого не возникло каких-либо сомнений относительно истинных намерений авторов декрета, в рассылаемых местным властям приложениях и инструкциях к нему нередко давались вполне определенные и недвусмысленные пояснения. Так, в частности, отмечалось, что основная задача местных властей в связи с опубликованием декрета заключается лишь в срочном налого-• обложении париев (см. Приложение 30). Иногда даже откровенно указывалось, что декрет не предполагает обязательность дружеских и равных контактов хэймин с сэммин [7, т. II, с. 23].
По существу, такими пояснениями местным властям внушалась мысль, что они могут не слишком церемониться с сэммин.
Поэтому они ограничились в* основном осуществлением налогообложения жителей бураку и сочли себя вполне свободными or необходимости делать что-либо из того, что могло соответствовать букве нового закона: они не отменили ограничения и не осудили продолжавшуюся практику дискриминации. Часто париям даже просто не сообщали о декрете. Так, например, в префектуре Сига о нем не оповещали до начала 1872 г. Но жители местных бураку, прослышавшие все же о декрете, обратились с запросами о возможности его реализации в различные официальные инстанции, вплоть до губернатора. И летом 1872 г., почти через год после принятия декрета № 61, местные власти префектуры, наконец,, неохотно заявили, что впредь оскорбительные названия эта и хинин отменяются [71, с. 202].
Но это была еще не худшая форма реализации (правильнее было бы сказать — дискредитации) закона об освобождении. Во многих областях о нем сообщили только через несколько лет. А в одном из районов префектуры Нара в ответ на запрос жителей бураку местные власти сообщили, что по высшим государственным соображениям осуществление декрета о равенстве париев откладывается на 50 тыс. дней (т. е. приблизительно на 130лет)5. Слухи об этом ответе местных властей быстро распространились но всей стране, сея уныние и гнев в среде париев.
Таким образом, декрет № 61 как по своим целям, так и по методам своего осуществления, естественно, не мог решить проблему дискриминации в стране. Практически положение японских гариев в смысле их дискриминации почти не изменилось, а материальные условия их существования даже ухудшились (подробнее об этом см. в следующем разделе). Следовательно, проблема дискриминации только несколько изменила свое содержание, превратившись в проблему буржуазно-помещичьего общества. Ее суть теперь составили такие черты, как более низкая заработная плата, особенно жестокая эксплуатация арендаторов и т. п.
Однако все это не означало, что декрет № 61 совсем не оказал какого-либо положительного воздействия на положение париев. Принимая любой закон, власти обычно не могут точно предугадать все возможные его последствия. Ибо воплощенный в жизнь, он начинает в какой-то мере самостоятельное существование. Объективно декрет стимулировал возникновение некоторых новых правовых, идейных и психологических мо*ментов в явлении дискриминации, которые, несомненно, укрепили общественные позиции сэммин. Прежде всего, он содействовал распространению идей равенства и росту самосознания жителей бураку. Кроме того, он сделал официально оправданным создание париями своих союзов, издательств и т. д. Таким образом, декрет стал для буракумин определенной юридической основой, пусть даже и весьма ненадежной, их движения за подлинное равноправие.
Вполне естественно, что для властей эти положительные аспекты действия декрета были нежелательными и в значительной степени неожиданными.
Поэтому после его опубликования власти предприняли ряд мер, направленных, по существу, на поддержание сегрегации париев, что л\чше всего говорит об истинных намерениях властей в отношении дискриминируемого меньшинства. Так, в частности, формальная отмена сословной категории эта-хинин, как вскоре выяснилось, вовсе не предполагала включения париев в состав «простого народа», что можно было бы рассматривать как юридическое признание их равноправия. Уже в 80-х годах отъединенность сэммин от остального общества была закреплена новым изолирующим их названием: син хэймин (новый простой народ). Такое определение на первый взгляд звучало гораздо более прилично, чем прежние названия эта-хинин. Однако оно не могло никого обмануть: ни «обычных» японцев, ни самих париев. Все отлично понимали, что дополнением син (новый) власти вполне откровенно продемонстрировали свое желание продолжить политику сегрегации. И поэтому сам довольно нейтральный термин — син хэймин— по существу, сразу же наполнился таким же оскорбительным содержанием, что и прежние определения париев. Таким образом, вводя это новое название, власти в значительной степени сводили на нет декрет № 61.
Не удивительно, что жители бураку сразу начали повсеместно выступать против применения этого термина, наивно полагая, что его формальный запрет чем-то реально повысит их статус. Власти не слишком дорожили своим новым определением сэммин. Решив не накалять обстановку, они сравнительно легко уступили требованиям жителей бураку и вскоре ввели для них официальное название токусю буракумин (жители особых поселков), которое, по существу, играло ту же роль, что и все прежние термины, роль указателя рамок сегрегируемого меньшинства.
О стремлении сохранить дискриминацию париев свидетельствует и предписание властей при проведении подворовой перерегистрации с 1872 г. перед именами жителей бураку ставить особые пометки — бывший эта, син хэймин.
Тем же стремлением, очевидно, объяснялось также фактическое поощрение властями оскорбительных, издевательских описаний сэммин, появлявшихся в официальных и полуофициальных изданиях и после приказа об освобождении. Так, например, в одной весьма ответственной публикации имелись такие строки: «Все бедняки (сэммин.— 3. X.) в основном лентяи. Не будучи усердными в труде, они исключительно по своей вине впали в нищету. И при этом все же постоянно смеют жаловаться на какие-то тшблагоприятные внешние обстоятельства!» [71, с. 209]. Такие суждения логически освобождали власти от необходимости заниматься проблемами трущоб и ухудшения положения париев и в то же время стимулировали сохранение социальной разъединенности между людьми.
В другой официальной публикации, в справочнике «Руководство по национальным обычаям и нравам» («Дзэнкоку миндзи канрэй руйсю»), изданном министерством юстиции в 1880 г., было
дано такое определение париев: «Эта и хинин (здесь даже были сохранены старые, запрещенные властями названия париев.— 3. X.) —самые низкие среди людей. Они, по существу, почти звери» [86, с. 37—38]. Подобные суждения вполне обоснованно стали восприниматься теми, кто этого хотел, уже не просто как оправдание сохранения сегрегации, а как призыв к насилию и погромам. Практически такой же провокационный характер имели л нередко появлявшиеся в газетах тщательно подобранные материалы, в которых парии обычно изображались крайне низкими и порочными существами, наносящими материальный и моральный ущерб всему обществу.
Таким образом, са»ми власти и правящие круги буржуазной Японии способствовали сохранению в стране сегрегации париев, изоляции их от общества. Эти действия правителей Мэйдзи вызывались не только их несомненной предубежденностью, распространением среди них самых диких предрассудков, но и вполне конкретными социальными и политическими потребностями классового общества. О некоторых из них писал Лафкадио Хёрн, европеец, живший в Японии в конце XIX — начале XX в.: «Правительство оказалось достаточно хитрым и не преследовало хинин6. Ибо их цыганский образ жизни избавлял общество'от лишних забот. Не было необходимости содержать большое число правонарушителей или обеспечивать достойную жизнь людям, не способным заработать себе на пропитание: все они переводились в состав хинин. Там правонарушители, бродяги и нищие ставились под определенный контроль и практически исключались из сферы внимания властей» [96, с. 5—6]. Сохранение сегрегации париев и после переворота Мэйдзи, по существу, избавляло власти от необходимости уделять внимание и средства решению многих неприятных проблем. В поселения париев по-прежнему попадали правонарушители, калеки, беспомощные одинокие люди, бедняки —все те, кто по каким-то причинам стал нежелательным, обузой для «обычного» общества. Так, напршмер, в 1886 г. губернатор префектуры Токио приказал переселить в бураку всех бедняков округа, поскольку их дома и они сами, по его словам, выглядели уж крайне убого и портили достойный вид столицы [73, с. 206—207]. Кстати, такие меры властей были одной из причин продолжавшегося н после переворота Мэйдзи относительно более быстрого роста численности жителей бураку.
Однако заинтересованность властей в сохранении сегрегации париев определялась не только старыми, но и многими новыми стимулами. Наличие дискриминации буракумин в эпоху Мэйдзи давало господствующим кругам возможность более «обоснованно» •снижать заработную плату всем рабочим, повышать арендную плату в деревне, а в трудных, кризисных ситуациях обвинять во всех бедах «проклятых» париев. Другими словами, японская буржуазия, помещики и высокопоставленная бюрократия были материально заинтересованы в сохранении сегрегации.
Об этом убедительно говорит и тот факт, что власти не раз
пытались выяснить, каким образом можно было бы с наибольшей выгодой использовать это явление. Причем каждый новый проект такого рода обычно увязывался с очередными задачами капиталистической Японии. О характере этих проектов можно судить, например, по опубликованному в 1886 г. произведению Сугиура Дзю-го (1855—1924), крайне националистически настроенного государственного деятеля эпохи Мэйдзи. Оно называлось «Повесть о снах Хан Кая» («Хан Кай юмэ моногатари») (см. Приложение 35). Автор в полном соответствии с обсуждавшимися тогда в правительстве внешнеполитическими планами предлагал создать из числа сэммин новую 90-тысячную армию и использовать ее для захвата о-ва Тайвань, на который впоследствии переселить всех па- j
риев. Там их следовало, по его мнению, использовать для раз- *
вития наиболее выгодных для Японии отраслей хозяйства, что способствовало бы увеличению экспорта и поступления столь необходимой стране валюты. Такая колонизация острова, по мысли Сугиура Дзюго, была бы полезна и государству и париям. И главное, на чем он настаивал, ее следовало осуществить как можно скорее, чтобы упредить западные державы.
Так, вынашивая планы внешней экспансии, правящие круги стремились превратить в дополнительное оружие своей захватнической политики даже явление сегрегации, преобразовав стремление париев к освобождению в порыв к агрессии.
В конце 80-х — начале 90-х годов в условиях, когда в Японии широко развернулось общенациональное движение разных слоев населения за гарантию своих гражданских прав (в нем участво- '
вали также и парии), власти вынуждены были выдвинуть какие-то идеи, связанные с попытками более реального решения проблемы дискриминации сэммин. Эта новая черта социальной политики правителей Мэйдзи проявилась, в частности, в характере деятельности одной из многочисленных тогда общественных организаций— полуофициального Кюсю хэймин кай (Общества простого народа о-ва Кюсю).
Эта организация была создана с согласия и полного одобрения властей и ставила своей главной целью распространение основных идей правящих кругов в низших социальных слоях населения. В 1890—1891 гг. в издаваемой Обществом газете «Фукуре симпо» был опубликован ряд материалов, посвященных проблеме дискриминации. Так, в 1890 г. в ней появились «Обращение Общества к син хэймин префектуры Фукуока» и редакционная статья, в которых рассматривалось положение и задачи японских париев в начале 90-х годов с точки зрения буржуазно-помещичьих кругов и властей Японии.
Прежде всего, в этих материалах «великодушно» подтверждался, очевидно, еще нередко тогда оспариваемый факт, что сэммин такие же люди, как и все остальные японцы. Далее, признавалось, что положение париев (экономическое и правовое) после издания декрета № 61 фактически во многом ухудшилось.
Но кто же в этом виноват? — задавал вопрос автор материалов.
Власти? Ни в коем случае. Так никто не может даже подумать, в том числе, естественно, и сами парии. Ведь это было бы крайне несправедливо. Ибо правительство официально предоставило париям полное юридическое равноправие: «В законодательстве всей Японской империи вы не найдете и следа какого-либо ущемления дх прав и свобод». Поэтому вздорными и недостойными внимания являются те крикуны, которые подло продолжают твердить о необходимости какого-то дальнейшего расширения прав сэммин. Куда же дальше? Властям практически уже совершенно нечего делать в этом отношении.
Тогда кто же виноват в неравноправии и худших условиях жизни париев? Газетные материалы из «Фукурё симпо» все же нашли подлинных виновников такой нетерпимой далее ситуации. Ими оказались... сами парии. Только крупные недостатки их психологии, характера, привычек и стиля поведения, оказывается, не давали сэммин возможность по-настоящему воспользоваться предоставленной им свободой и подняться до уровня остальных .граждан страны. Отсюда делался вывод о том, что единственный путь к подлинному равенству лежит для париев через их самоусовершенствование, через воспитание «духа благородства и энергии, чувства собственного достоинства и самоуважения». А все это теперь в пределах их возможностей, поскольку в условиях справедливой конкуренции и утверждения в стране парламентарной системы они свободно могут проявить необходимую настойчивость и предприимчивость, покончить с вредными старыми привычками, обычаями и представлениями. И вот, когда они полностью воспользуются этими возможностями, они, несомненно, смогут добиться полного равноправия и уважения других японцев.
Но если среди сэммин найдутся такие нетерпеливые люди, продолжает развивать свою теорию «освобождения» газета, которые не захотят ждать, пока в результате их усилий по самовоспитанию постепенно исчезнет дух сегрегации, то им можно будет разрешить уехать за границу. И после того как они, разбогатев, вернутся на родину, то тогда уж к ним, богатым и независимым, все сразу отнесутся с должным почтением (см. Приложение 40).
Эти газетные обращения звучали подлинным гимном буржуазному строю жизни. Они призывали париев стать достойными его, понять и принять его дух и закономерности и действовать в соответствии с новыми «правилами игры». То есть практически они имели своей целью внедрить буржуазный образ мышления в среду сэммин.
Но вместе с тем, даже в этих, внешне вполне терпимых к париям заявлениях правящие круги, по существу, подходили к явлению сегрегации со старыми идейными мерками и установками. Ведь практически они и здесь исходили из признания справедливости всех существующих предрассудков, согласно которым виновниками возникновения и сохранения дискриминации являлись сами парии. Такой подход к проблеме, хотя и прикрытый завесой демагогических рассуждений, был в основном бесплоден. Но это,
очевидно, не волновало авторов подобных рассуждений. Ведь они относились к мерам по самовоспитанию и самосовершенствованию лишь как к средству, которое может предотвратить процесс радикализации париев и приобщения их к социалистической идеологии. И они в определенной степени добились своего. На протяжении ряда десятилетий именно эти идеи самовоспитания преобладали в движении париев.
Нельзя сказать, что они были полностью бесплодными в материальном плане. На их основе во многих бураку развернулось кооперативное строительство бань, парикмахерских, школ, были предприняты меры по озеленению поселков, созданы общества взаимопомощи, благотворительные организации. Это, конечно, несколько смягчало остроту материальных проблем сегрегации, но, естественно, не уничтожало ее.
Следовательно, в конце XIX в. практически в стране еще не было таких политических сил, которые были бы по-настоящему заинтересованы и способны наметить реальные меры по уничтожению сегрегации. Что же касается властей и господствующих кругов, то они явно не стремились к этому.
Парии и «обычное» общество
Пожалуй, никогда в истории Японии отъединенность париев от остального народа не проявилась в таком объеме и с такой силой, как это было в первые годы после «переворота Мэйдзи», особенно после принятия в августе 1871 г. декрета № 61. На первый взгляд может показаться даже несколько неожиданным то, с каким недоверием и озлоблением встретили в разных слоях общества, особенно в среде 'крестьянства, этот декрет. Сразу после его принятия было совершено множество нападений на буракумин и их поселения, причем некоторые из них вылились в кровавые погромы, в которых участвовали тысячи и даже десятки тысяч человек.
Как же случилось, что одни угнетаемые и обездоленные люди нападали на других, еще более обездоленных и гонимых? Что это — следствие только их отсталости, бескультурья и реакционности? Мы уже отмечали, что все эти качества действительно были тогда в какой-то мере характерны для японского крестьянства, его образа мышления и действий. Но в целом такой вывод был бы, пожалуй, слишком поверхностным. Бесспорно, имелись другие, более веские причины.
Конечно, для многих людей, особенно для тех, кто был заражен старыми социальными предрассудками, декрет № 61 явился весьма болезненным психологическим ударом. Они считали, что с его осуществлением будут разрушены надежные устои общества, которые воспринимались как единственно возможные и вечные, и наступит хаос. Вместе с тем многие, особенно крестьяне, не добившиеся после переворота Мэйдзи подлинного улучшения уело?
пий своей жизни, с крайней подозрительностью относились к любым переменам в обществе, считая, что они могут лишь ухудшить их положение. Так, довольно широко распространилось мнение, что власти декретом № 61 решили снизить социальный статус всех земледельцев до уровня париев и превратить последних в полноправных конкурентов хэймин во владении и аренде земли и в получении работы в промышленности. Именно эти обстоятельства и привели в движение тысячи людей и заставили их выступить против освобождения париев.
Эти выступления начались почти сразу же после издания декрета. Так, уже 13 октября 1871 г. около 5—6 тыс. земледельцев префектуры Сацума, вооруженных пиками и ружьями, совершили нападения на административные здания и дома чиновников и старост, протестуя против закона об освобождении. В результате этого нападения несколько человек было убито и ранено [71, ■с. 203].
В декабре 1872 г. подобные же выступления произошли в ряде префектур Коти и Тоса [71, с. 203].
В отчетах местных властей была сделана попытка так объяснить причины подобных выступлений: «Эта, став син хэймин, позволяют себе теперь свободно общаться с крестьянами. Какая же после этого может быть у людей добросовестность в выполнении своих обязанностей? Какая польза в том, что крестьян, по существу, превратили в эта?» [63, с. 63]. Таким образом, эти отчеты не содержат добросовестного анализа причин крестьянских выступлений, а лишь свидетельствуют о подлинных умонастроениях и чувствах местной администрации, во всяком случае, об их отношении к париям и к закону об освобождении.
О том, как возникали и протекали столкновения крестьян с париями, зачастую переходившие в кровавый погром, можно показать на примере событий, разыгравшихся в январе 1872 г. в районе Нара. Члены одной из общин париев, узнав наконец о правительственном декрете, заявили крестьянам основной деревни (куда входило их бураку), что впредь они больше не будут выполнять свои старые унизительные обязанности шпионов, охранников и могильщиков. Это «наглое» заявление привычно презираемых людей возмутило крестьян, и они решили проучить их, указать им их «подлинное» место в обществе: они запретили жителям бураку собирать хворост на общинных участках леса, покупать в деревенской лавке продукты. Тогда жители бураку направили своих представителей к старосте, чтобы добиться выполнения нового закона так, как они его понимали. Но там их встретила толпа крайне возмущенных новой «наглостью» сэммин крестьян, которые окружили жалобщиков и четырех из них убили. Это, наконец, заставило власти префектуры вмешаться: они арестовали четырех зачинщиков кровавой расправы. Но такой поворот событий лишь подлил масло в огонь. Группа крестьян, разгневанных тем, что им опять приходится страдать из-за «этих подлых эта», напала на их поселение и учинила там погром: много домов оыло сожжено, несколько человек ранено. Акты насилия прекратились только после того, как полиция произвела новые массовые аресты, а трое зачинщиков беспорядков были приговорены судом к смертной казни [86, с. 36].
Столкновения крестьян с париями и нападения на бураку происходили в разных районах страны на протяжении ряда лет.
Но в специальной литературе особо отмечены лишь десять наиболее крупных выступлений крестьян, во время которых были выдвинуты требования отменить закон об освобождении (см. Приложение 32). Такие выступления имели место, в частности, в префектурах Коти, Окаяма, Фукуока, Киото, Хиросима и Нара.
Наиболее значительным из них был кровавый бунт крестьян префектуры Окаяма, происходивший в течение последней недели мая 1873 г. Начало ему положил распространившийся в одной из деревень слух о появлении там какого-то незнакомца, подозреваемого в злостном шпионаже и доносах. Группа разгневанных крестьян обратилась за разъяснениями к старосте. Но тот, естественно, ничего не мог им объяснить. Тогда в среде крестьян возникло предположение, что за ними могли шпионить только жители-бураку. Возбужденная этими толками, толпа напала на поселок париев и учинила там погром, после чего двинулась и к другим бураку с теми же намерениями. По дороге к ним присоединялись вооружавшиеся чем попало сотни крестьян. К 28 мая бунт распространился на значительную часть префектуры.
(волосы, собранные в пучок на макушке) [77, № 2, с. 154].
Однако наиболее настойчиво они все же требовали «усмирения проклятых эта», проявляя в этом вопросе особую непримиримость. Вооруженные пиками и палками восставшие крестьяне окружали группы жителей бураку и, поставив их на колени, тре- ■ бовали покаяний и извинений за «допущенную ими наглость» [77,
№ 2, с. 154]. Они разрушали и сжигали их дома, безжалостно-избивали, калечили и даже убивали. О масштабах этого восстания ;
и о жестокости, проявленной его участниками, говорят следующие данные: в нем участвовало более 26 тыс. крестьян, за неделю беспорядков было разрушено и сожжено 10 домов правительственных чиновников, 15 зданий школ и более 300 жилищ бураку7; 18 жителей бураку (11 мужчин и 7 женщин) было убито и 11 тяжело ранено, кроме того, многие десятки людей получили травмы и ушибы ?86, с. 37].
Подавить восстание удалось только при помощи воинских частей. Власти привлекли тысячи его участников к суду, 15 зачинщиков казнили, 64 человека сослали на каторгу и несколько тысяч крестьян подвергли другим наказаниям [71, с. 205]. Суровость наказаний определялась, естественно, не заботой об охране жизни и имущества париев, а тем, что восстание приобрело устрашающие размеры и носило по преимуществу антиправительственный характер. Об этом, в частности, свидетельствует отчет местных властей, направленный правительству.
В отчете говорилось: «Основными причинами нынешнего восстания было неправильное толкование раздела приказа о воинской повинности, определяющего ее как „налог кровью“, возму* щение необходимостью платить за оформление документов на владение землей и создавать обязательный школьный фонд, а также предписанием стричь волосы». Что же касается нападения на бураку, то в данном случае виновниками будто бы были сами парии. «Кроме того,— писали авторы отчета,— после высочайшего декрета об отмене названий эта-хинин, последние в качестве син хэймин стали вести себя настолько высокомерно и вызывающе, что это, естественно, не могло не вызвать всеобщее возмущение» [73, с. 198].
Некоторые факты позволяют сделать вывод о том, что японские власти и отдельные официальные лица не просто с безразличием или со злорадством относились к погромам в бураку, но иногда и сами их провоцировали с целью ослабить антиправительственную направленность крестьянских выступлений. Так, например, во время одного восстания в префектуре Ояма местные чиновники, стремясь предотвратить нападения земледельцев на государственные учреждения и дома местных богачей, призывали крестьян «прежде всего сурово проучить совершенно обнаглевших эта» [77, № 2, с. 156].
Восстание в Окаяма явилось наивысшей точкой борьбы крестьян с приказом об освобождении, но далеко не последним подобным выступлением.
Так, в июне 1873 г. в ряде районов префектуры Фукуока восставшие крестьяне совершали нападения на кулаков, ростовщиков, кабатчиков и лавочников. Но вместе с тем было разрушено несколько сот домов в бураку [77, № 2, с. 155].
Во время восстания в районе Кагава в 1873 г. кроме зданий административного ведомства, школы, полицейского участка, управления старосты и домов богачей крестьяне разрушили также и более 40 домов сэммин [73, с. 199].
В целом в бурное десятилетне 1868—1877 гг. произошло более 200 различных крестьянских выступлений, причем доля восстаний, в которых проявилась враждебность к сэммин, была довольно значительна. Она выражалась в разных формах. Так, несмотря на декрет №61, крестьяне часто принимали решение продолжать сегрегацию париев, ограничивать любые контакты с ними, не брать их на работу и т. д. (см. Приложение № 33). Иногда она принимала и более серьезные формы. Характерно, что основная часть подобных конфликтов имела место в центральных и южных районах страны, там, где в наибольшей степени ощущалась нехватка земли н конкуренция в ее аренде.
Сложно н противоречиво складывались отношения париев и с нарождавшимся рабочим классом Японии. На новых капиталистических предприятиях страны в 70—80-х годах впервые стали появляться н рабочие из числа жителей бураку. Их, естественно, использовали только на самой трудной, грязной и низкооплачиваемой работе, не требующей особой квалификации. Но даже за одинаковый с «обычными» рабочими труд им платили гораздо меньше. Поскольку предпринимателям это было выгодно, они довольно охотно принимали на работу «грязных буракумин». Однако «обычные» рабочие в этом случае, как правило, заявляли протест против неприятной для них необходимости трудиться вместе с париями. Так, одной из причин первых забастовок было недовольство рабочих наймом на заводы и фабрики жителей бураку [63, с. 21]. Бесспорно, это объясняется и тем, что многие «обычные» рабочие —недавние крестьяне — были заражены всеми предрассудками своей среды. Однако такие выступления говорят не только о весьма низком уровне классового сознания рабочих, но и об эффективности политики раскола рабочего класса, проводимой предпринимателями. Ибо, по существу, забастовщики выступали скорее не столько против сэммин, как таковых, сколько, против использования этой дискриминируемой категории рабочих для сохранения или даже ухудшения и без того невыносимых условий жизни и труда всех рабочих.
Таким образом, хотя в период Мэйдзи, когда трудящиеся еще не достигли такого уровня социального и политического развития, который позволил бы им достаточно осознанно и целенаправленно воздействовать на характер отношения к сэммин, решающую роль в процессе усиления отъединенности последних от общества по-прежнему играли воля и интересы правящих кругов. И вместе с тем с течением времени в обществе возникли и новые черты в сословном и классовом стереотипе отношения к париям.
Практически подлинное положение париев в окружавшей их социальной среде в период Мэйдзи не было таким уж безнадежно беспросветным, как это можно представить себе только на основании изложенных выше фактов. Последние, конечно, характеризуют общее положение и тенденции. Но были и исключения-
Среди представителей всех сословий и классов всегда находились люди, которые по-разному относились к париям и к проблеме сегрегации в целом. Причем диапазон оттенков отношения к ним был чрезвычайно широк. Очевидно, большинство японцев в полном соответствии с господствующей системой взглядов воспринимали париев с привычным и бездумным высокомерием и презрением, и не только буржуа и помещики, но также крестьяне и рабочие. Вместе с тем в каждой социальной группе имелись люди, которые относились к париям хотя и отчужденно, но без особого презрения. Имелись также нерассуждающие безразличные и даже пассивно сочувствующие им люди.
Однако особо мы хотим отметить еще одну категорию жителей страны, образ мыслей и действий которых не укладывался в тра-
диционные и привычные рамки их сословий или классов. Эти люди: не могли смириться с устоявшейся практикой унижения каких-то-групп своих сограждан. Они считали своим долгом всеми доступными им средствами помогать жителям бураку, несмотря на реальную угрозу навлечь на себя при этом осуждение и гнев, своей среды. Некоторые из них посвящали этому делу даже всю свою жизнь, полагая, что таким образом они могут и должны как-то искупить огромную вину японского общества перед сэммин.
Чаще всего такие люди встречались среди трудящихся. Об этом говорят, например, многочисленные случаи совместных выступлений париев, крестьян и горожан против общих угнетателей, а-также факты предоставления убежища и помощи бежавшим и обездоленным сэммин со стороны хэймин. Но бывало, что и выходцы из высших слоев общества становились искренними и преданными друзьями буракумин. Именно эта категория японцев — представителей разных сословий и классов,— по существу, была выразителем и хранителем лучших качеств, душевной чистоты и здоровья народа.
До сих пор благодарная память жителей бураку хранит дела н имена многих людей, пришедших им на помощь после переворота Мэйдзи. Так, на кладбище одного из поселков на тщательно* охраняемой могиле стоит надгробный памятник старому учителю, похороненному там в конце XIX в. Надпись на нем гласит, что* этот учитель был из «обычных» японцев. В юности он хотел стать врачом, но жители бураку упросили его немного поработать в их школе. Он согласился, приехал к ним и остался среди них до конца своих дней, «открыв многим буракумин дорогу в жизнь» [7, т. II, с. 72]. Из надписи на памятнике, находящемся на кладбище другого поселка, мы узнаем о жизни еще одного «обычного» японца. Он родился в семье самурая из клана Бинго, в 1875 г. попал в бураку и, потрясенный увиденным, поступил работать в--местную школу и преподавал в ней в течение 40 лет, до самой смерти. Он жил с париями как с равными, как с друзьями: вместе работал, питался и отдыхал, всеми силами стараясь помочь им: добиться лучшей доли [7, т. II, с. 72].
Таких людей, очевидно, имелось не слишком много. Но ошг имелись. И уже одно это могло вселить надежду на то, что при-соответствующих условиях в народе найдется достаточно нравственных сил для решения болезненной и уродливой социальной проблемы — сегрегации париев.
Взаимоотношения властей с разными слоями населения в целом никогда не оставались каким-то застывшим, неизменным феноменом. И их отношение к жителям бураку в последней трети XIX в. менялось вместе с изменениями общества и характера международных контактов Японии. Усилия властей и правящих кругов сохранить париев в качестве изолированного объекта угнетения: были все менее эффективными. Так, в начале 80-х годов жители бураку начали проявлять первые признаки самостоятельной политической активности. Движение за свободу и народные права до-
катилось и до них. Парни стали создавать свои союзы и объединения. В 1881 г. на севере о-ва Кюсю, в префектуре Фукуока, был создан Фуккэн домэй (Союз восстановления прав) [7, т. II, с. 84—85]. В 1882 г. буракумин ряда префектур, в основном молодежь, начали вступать в ряды Дзиюто, создавая ее местные отделения. в значительной мере автономные [7, т. II, с. 85].
Но цели этой политически активной части сэммин были тогда •еще весьма скромными. Они рассчитывали, что возникшие союзы и партии, а также обещанный властями парламент после его созыва достаточно надежно обеспечат защиту их интересов. Власти н буржуазно-помещичьи круги сравнительно терпимо, а иногда даже покровительственно относились к этой умеренной части движения париев, представленной в основном мелкими предпринимателями и интеллигенцией. Их устраивало, что это течение отвлекало сэммин от более радикальных устремлений. Они надеялись, что буракумин ограничатся критикой частностей и не допустят осуждения всей'социальной структуры. Власти даже пытались навязать этому течению в движении париев за эмансипацию свою ■идейную направленность.
И в общем им это удалось. Умеренные деятели движения вслед за властями стали утверждать, что после принятия декрета об освобождении в стране уже исчезли объективные условия, порождавшие дискриминацию. А причины, способствующие ее сохранению, коренятся якобы лишь в самих париях: в низком уровне их культуры, в плохих привычках, в отрицательных свойствах характера и особенностях поведения. Следовательно, суть всей проблемы, по их мнению, переместилась теперь в сферу быта, культуры и психологии. И поэтому они считали, что для уничтожения дискриминации вовсе не обязательно что-либо менять в характере социальных отношений. Для этого якобы вполне достаточно, если сами парии избавятся от своих нравственных и бытовых пороков. Ибо только это может обеспечить им уважение общества и, следовательно, подлинное равноправие.
Все эти идеи были сформулированы в программе созданной позднее, в 1902 г., общественной организации париев префектуры ’Окаяма, общества «Бисаку хэймин кай». «Мы намерены,— говорилось в этой программе,— уничтожить накопившееся в нас зло и пороки и довести до сведения широкой общественности все наши заботы. Объединив всех наших братьев из префектуры, мы общими усилиями преобразуем нравственность, внедрим принципы высокой морали, стимулируем развитие промышленности и образования, укрепим нашу независимость и самостоятельность. Если мы •сможем совладать с собой, мы обязательно добьемся наших целей» [71, с. 226]. Основной лозунг общества звучал так: «Объединить всех братьев на то, чтобы исправить нравы, мораль, стиму-.лировать производство и формирование личности» [63, с. 64].
Такой подход к проблеме предполагал, что главное для жителей бураку — это не вызывать гнев и осуждение окружающей среды, в первую очередь властей. Руководители общества утверждали ли, что, если буракумин всегда будут проявлять терпимость и скромность, в которых они видели основные и обязательные добродетели, и изживут все свои действительные и мнимые пороки,, только тогда парии смогут в конце концов добиться равенства с другими как благодарность и снисходительную милость за усердие* и безграничную преданность.
Такая раболепная оценка сущности проблемы и перспектив ее разрешения предполагала какую-то нравственную ущербность париев и, следовательно, естественную моральную обоснованность-дискриминации сэммин. Она, по существу, снимала с правящих кругов всякую ответственность за сохранение сегрегации, чта вполне устраивало власти.
Трудно было ожидать, что подобное идейное течение могло» стать основой каких-либо значительных перемен в жизни париев. И действительно, реальные результаты его оказались весьма скромными. По инициативе умеренных в конце 80-х годов в некоторых бураку были созданы союзы и объединения для решения каких-то частных экономических или воспитательных задач. Так,, например, в 1887 г. в одном из бураку префектуры Окаяма был образован союз нескольких десятков семей для накопления сбережений и оказания взаимной помощи. Вскоре там же было создано и молодежное объединение морального самовоспитания, которое поставило своей целью борьбу с пьянством, мотовством, грубостью, пристрастием к азартным играм и т. д. [71, с. 225]. Весьма типичным для подобного рода союзов являлись следующие цели, изложенные в программном документе одного из них: создавать сбережения (за счет ежемесячных взносов по три иены); исправлять речь и привычки, не допускать безделья; учиться всему хорошему; содействовать созданию своих школ, которые будут посещать все мальчики и девочки бураку /[7, т. II, с. 91].
По инициативе представителей этого течения кое-где в бураку были построены свои школы, бани, читальни, проведены работы по ирригации и озеленению, созданы союзы совместных сбережений, самообразования и т. д.
Все это, конечно, имело определенное положительное значение не только для некоторого улучшения условий жизни, но и для самоутверждения, поскольку удовлетворяло естественное стремление «выглядеть не хуже других». Однако надежды руководителей умеренных, что повсеместное распространение такой деятельности постепенно приведет к окончательному уничтожению сегрегации париев, были совершенно несостоятельны. Их проповедь-«малых» дел была не только не верна, но и вредна для дела подлинного освобождения сэммин, ибо, по существу, отвергала необходимость такого социального переустройства всего общества, которое могло бы по-настоящему эффективно решить эту проблему. И эту принципиальную несостоятельность движения умеренных вскоре поняли некоторые общественные и политические деятели Японии, которые выдвинули новые идеи, способствовавшие* дальнейшему продвижению на трудном пути к уничтожению явления дискриминации париев. Одной из наиболее ярких фигур такого радикального, практически более действенного идейного течения в движении париев был Наказ Тёмин.
Наказ Тёмин (1847—1901) родился в дворянской семье. За время учебы в Нагасаки, Эдо и особенно во Франции он стал убежденным противником феодальной системы социальных отношений. Он перевел на японский язык «Общественный договор» Ж. Ж. Руссо и пропагандировал в Японии идеи французских просветителей и буржуазных демократов.
В 1889 г. на страницах издававшейся им в г. Осака газете «Сннономэ симбун» («Утренняя заря») Наказ Тёмин опубликовал серию статей, в которых была изложена точка зрения наиболее последовательных представителей Движения за свободу и народные права на проблему дискриминации (см. Приложение 38). Эти страстные и острые статьи выгодно отличались от всех других, появлявшихся тогда в печати материалов на эту тему.
В них автор показал всю безнравственность и безосновательность дискриминации париев, отметив, что если и есть в Японии .люди, достойные презрения и изоляции, то это уж, конечно, не парии, а многочисленные подхалимы, мошенники и эгоисты из высших буржуазно-помещичьих кругов. Он правильно отметил основную слабость движения умеренных, указав, что истинные причины дискриминации кроются вовсе не в плохих манерах или привычках сэммин, не в их низком культурном уровне, а в реальных пороках социально-политической структуры нового режима, и лодчеркнул, что подлинная борьба с дискриминацией должна предполагать уничтожение причин, порождающих ее, а не сглаживание ее последствий. И хотя он не смог наметить действенные пути необходимой для этого трансформации общества, его уровень оценки ситуации был несравненно выше, чем у сторонников лишь нравственного самосовершенствования париев.
Искренняя демократичность и высокая значимость идей Наказ Тёмина для реального решения проблемы дискриминации была по достоинству оценена жителями бураку. Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что в 1890 г. он был избран, в первую очередь голосами париев, депутатом парламента. В парламенте он продолжал выступать в защиту демократических прав для всех, в том числе и для буракумин. Однако он не получил там никакой поддержки: он оказался слишком радикальным даже для представителей левого крыла Дзиюто, которые в конце концов выступили против него. Вскоре Накаэ Тёмин вышел из состава парламента, который он характеризовал как «сборище бескровных насекомых» [78, с. 82—83]. Таким образом, он сам и поддерживавшие его радикальные круги довольно быстро убедились, что парламент в том виде, в каком он был создан, вряд ли сможет стать чем-либо по-настоящему полезным для народных масс, в частности для париев.
Накаэ Тёмин был, бесспорно, честным и последовательным демократом. Но в своих воззрениях он все же не выходил за рамки
буржуазной демократии, и его анализ явления сегрегации ценен главным образом своей критикой японской действительности, так как позитивной программы в этой области он предложить так и не смог.
В общетеоретическом плане проблема дискриминации была всесторонне рассмотрена в то время в трудах лишь некоторых западных социалистов, в первую очередь в работах К. Маркса и ф. Энгельса. Но в Японии элементы социалистической идеологии тогда только зарождались. И поэтому японский вариант дискриминации париев с этих позиций еще не мог быть рассмотрен. Однако в связи с нарастанием необратимых социальных перемен и дальнейшим развитием политического движения необходимость выполнения этой задачи к началу XX в. становилась все более актуальной.
Другие аспекты положения париев
В первые годы после переворота Мэйдзи положение японских париев оставалось почти неизменным. Они по-прежнему были закрытым, презираемым сословием, правда все еще сохранявшим элементы самоуправления.
И все же кое-какие перемены происходили. Начавшийся в стране процесс общих преобразований не мог не сказаться и на положении сэммин. В первую очередь были резко ограничены административные функции главы париев Дандзаэмона, который теперь стал именоваться Дан Наоки. Этот акт властей находился в русле их действий, -направленных на усиление централизации страны. Были предприняты также первые попытки привлечь париев на новые промышленные предприятия капиталистического типа, правда, в основном еще в рамках своего сословия. Так, в 1870 г. Дан Наоки добился разрешения военного ведомства на создание своей специализированной обувной компании. По его инициативе в Токио были построены мастерские по производству обуви для армии. Из-за границы для них ввезли новое оборудование, пригласили зарубежных инструкторов-специалистов и наняли рабочих из числа жителей бураку. По примеру Дан Наоки подобные же предприятия, но по производству японской обуви (гэта, сэтта и дзори)* дельцы-буракумин построили также в Осака и Киото [71, с. 207—208].
Однако «обычные» капиталисты не дали развернуться предпринимателям из бураку. На базе капитала дома Мицуи в Японии вскоре были построены крупные обувные предприятия, в конкурентной борьбе с которыми мастерские Дан Наоки и других предпринимателей-сэммин потерпели полный крах. Сам Дан Наоки—последний представитель административной автономии сэммин — умер в 1889 г. [76, с. 205].
После принятия декрета № 61 жители бураку на какое-то время поверили в свое подлинное освобождение. Они решили, что с
унизительной сегрегацией будет вскоре полностью покончено. Волна надежд и небывалой радости прокатилась по их поселкам. Повсеместно устраивались торжества, стихийно возникали праздничные шествия. Газеты сообщали о широком выражении чувств преданности и благодарности со стороны сэммин императору за его «безграничное великодушие». Например, в уезде Арима префектуры Хёго после оповещения о введении декрета № 61 в течение двух дней на улицах происходили массовые манифестации ликующих буракумин; на многочисленных собраниях они неоднократно заявляли о своей безграничной любви к императору [7, т. II, с. 23]. Старики со слезами на глазах благодарили Сына Неба, а молодые пели недавно сочиненную песню:
Всходит солнце, озаряет наши дома.
Уходит с мраком все плохое,
Приходит, наконец, и наша радость!
[71, с. 201].
Но шло время, а в жизни париев почти ничего не менялось. Энтузиазм постепенно угасал. Ему на смену пришли разочарование, горечь и какая-то безысходность.
Практически декрет № 61 все же оказал большое воздействие на жизнь париев, по далеко не всегда положительное.
Прежде всего, в соответствии с ним была полностью ликвидирована традиционная система самоуправления, которая в прошлом иногда содействовала соблюдению каких-то традиционных прав сэммин. В новых условиях парии были подчинены общей администрации, которая всегда стремилась в максимальной степени ущемить их права. Даже формальное провозглашение буржуазного принципа свободы выбора занятий практически обернулось для них лишением некоторых старых монопольных прав на определенные виды деятельности, которые прежде обычно гарантировали им хотя бы минимальный доход. И при этом, как известно, официальное утверждение равенства фактически не изменило отношение к ним других слоев населения и не обеспечило реальных возможностей достижения этого равенства. Сегрегация париев фактически продолжала сохраняться в полном объеме.
Таким образом, декрет № 61, не решив проблему дискриминации, превратил ее только в проблему буржуазного общества, что придало ей еще большее общественное значение.
Прежде всего, это выразилось в значительном ускорении темпов роста численности жителей бураку. Собственно, для бураку всегда был характерен более быстрый количественный рост населения. Но теперь он оказался просто исключительным по темпам.
Проследить эту тенденцию мы можем лишь на основе приблизительных сведений, так как в специальной литературе, к сожалению, отсутствуют достаточно точные и надежные данные общего количества нарнев п для этого периода.
Но официальным отчетам, в 1871 г. в Японии насчитывалось около 400 тыс. сэммин [86, с. 115; 77, № 1, с. 154]. Можно счи-
тать, что в целом они составили около 1—1,5% всего населения страны.
Через 11 лет численность эта (бывших) достигла уже 443 тыс., а хинин (так, очевидно, были официально обозначены все остальные парии) — 77,5 тыс. Следовательно, общее количество сэммин в это время уже превысило 520 тыс., что составило 1,73% всего населения [77, № 1, с. 154; 71, с. 189—190]. Наконец, по явно заниженным данным за 1920 г., в Японии насчитывалось уже более 830 тыс. париев, т. е. за полстолетия их численность выросла более чем в 2 раза [86, с. 115].
Таким образом, мы видим, что и в это время становления и развития буржуазной Японии, когда происходил неуклонный количественный рост населения страны, рост дискриминируемого меньшинства (не только естественный, но и за счет разорявшихся крестьян и горожан) происходил наиболее быстрыми темпами и парии составляли все более значительную часть японского общества.
Однако главная причина неуклонного возрастания общественного значения проблемы сегрегации париев заключалась в том, что это явление наполнялось в значительной мере новым содержанием.
Так, в частности, уже в 70—80-х годах XIX в. заметно изменился профессиональный состав париев. Как мы уже упоминали, они лишились монопольных прав на такие традиционно «грязные», но «свои» виды работ, как убой скота, дубление и выделка кожи, производство кожаных изделий, обуви и т. д. К концу века все эти виды работ без боязни «осквернения» осуществляли в основном крупные капиталистические компании и «обычные» японцы. Идея «оскверненности», по существу, уже полностью изжила себя. Жителей бураку перестали также привлекать к выполнению старых унизительных обязанностей шпиков, охранников, тюремщиков и палачей, что было в целом, конечно, положительным явлением. Однако при этом следует учесть, что в прошлом за выполнение этих функций париев обычно вознаграждали разовыми выплатами и регулярными пайками. Теперь же, когда эти виды деятельности стали государственной монополией, жители бураку лишились одного из источников своего существования.
Значительная часть сэммин оказалась вынужденной в более широких масштабах обратиться к мелкому ремесленному производству, имевшему в основном второстепенное, вспомогательное значение в хозяйственной жизни страны: к производству корзин, вееров, искусственных цветов и венчиков для чая [86, с. 120]. Многие занялись заготовкой удобрений, фуража, транспортировкой овощей и мяса, торговлей вразнос фруктами, обувью, рисом, лепешками. И вместе с тем какая-то часть париев по-прежнему была связана с захоронением трупов, уходом за больными, перелицовкой старья, пошивом обуви, работала грузчиками и сторожами [55, с. 315—316].
Все более настойчиво в жизнь буракумин врывалась капиталистическая экономика, неуклонно втягивая их в свою орбиту. Этот
процесс был для париев более трудным и мучительным, чем для других слоев населения. Они не могли попасть на заводы и фабрики, оборудованные новой техникой, на работы, требующие квалификации н, следовательно, лучше оплачиваемые. Обычно их принимали лишь на мелкие, второразрядные предприятия, например на спичечные и прядильные фабрики, причем на самые тяжелые и низкооплачиваемые виды работ. Значительную часть рабочнх-буракумин на этих предприятиях составили дети 6—7 лет. Немало париев, мужчин и женщин, было привлечено на прокладку железных дорог, на строительство заводов и портов, на тяжелые дорожные, земляные и транспортные работы [71, с. 223]. В ряде районов страны, в основном на севере о-ва Кюсю, жители бураку работали н в добывающей промышленности, на шахтах и рудниках. Весьма характерным для их приниженного положения в капиталистической промышленности было, например, то, что при оборудовании заводов, фабрик и шахт новой техникой, когда возникала необходимость в квалифицированных кадрах, почти всех рабочих-буракумин увольняли с этих предприятий, и заменяли их «обычными» рабочими.
Таким образом, привлечение жителей бураку в капиталистическую промышленность практически служило целям осуществления политики низкой заработной платы и бесправия для всех рабочих, обеспечения высоких прибылей японским предпринимателям.
Профессиональные н социальные перемены в среде сэммин после переворота Мэйдзн выразились и в том, что резко усилилось их внедрение в сельскохозяйственное производство. Но и в эту сферу экономики они входили не равноправными членами деревенского общества, а, скорее, жалкими просителями. Собственниками земли смогла стать крайне незначительная часть жителей деревенских бураку, да и тем при этом доставались худшие, неприемлемые для других крестьян участки земли. В большинстве же случаев они могли претендовать в деревне лишь на роль батрака или арендатора.
Некоторые данные, которыми мы располагаем, могут в самых общих чертах характеризовать положение сельских поселений париев. Так, в одном бураку префектуры Нара в 1875 г. насчитывалось 128 семей, занимавшихся земледелием. Из них только два хозяина владели участками земли несколько более 1 тё (участками таких размеров владело подавляющее большинство «обычных» крестьян), участки от 5 до 10 тан имели четыре семьи, от 3 до 5 тан — 9 семей, от 1 до 3 тан— 13 и до 1 тана — 7 семей. Таким образом, землевладельцами в этом бураку было только 35 хозяев, что составляло 27% всех земледельцев деревни. При этом по меньшей мере 29 семей из них должны были еще приарендовывать себе землю или искать побочные (или основные) заработки. Таким образом, только 6 из 128 семей бураку могли покрывать свои минимальные потребности главным образом за счет обработки своей земли. Все остальные (т. е. 95,4% всех семей) зависели от помещиков и предпринимателей [71, с. 209].
А
И все же жители деревенских бураку обычно соглашались терпеть любые тяготы, лишь бы добиться права на обработку какого-либо участка земли. Он мог быть расположен в 10—15 км от дома (и сэммин должны были совершать ежедневно 20—30-километровые изнурительные путешествия), на склоне горы или в болотистой местности (что создавало дополнительные трудности в работе и требовало новых расходов), за его аренду помещик мог запросить полуторную от обычной плату, но парии соглашались на все, так как возможности выбора у них были значительно более ограниченными, чем у других. Но и при этом, оказывается, далеко не все желающие из них могли добиться для себя «привилегии» обрабатывать землю. Так, например, в одном из бураку префектуры Миэ только 157 семьям из 280, проживавших там, удалось приобщиться к земледелию. В поселке имелось много безработных и нищих, которые «боролись с голодом и холодом, кутаясь в тряпье и питаясь разными отбросами» [71, с. 209]. В другом сельском бураку лишь 36 семей из 71 смогли заняться земледелием [73, с. 205—206].
Такое положение, при котором парии соглашались на любые условия аренды, было весьма выгодно помещикам, всей системе помещичьего землевладения, поскольку определяло возможность более жесткого угнетения и «обычных» крестьян. В этом, как и в случае с париями-рабочими, заключалась новая черта проблемы сегрегации после переворота Мэйдзи.
К концу XIX в. внутри сэммин сложилось следующее соотношение по видам занятий: более 49%, правда в разной степени, были связаны с земледелием, около 8% работали в промышленности, почти 12% занимались по преимуществу мелкой торговлей, более 2%—рыболовством, 15% стали разнорабочими, для остальных же ие была зафиксирована какая-то основная специальность или вид деятельности [54, с. 79].
Таким образом, жесткие профессиональные рамки эпохи Токугава были окончательно сломаны, и в деловой сфере произошло значительное сближение париев с остальными социальными группами страны: крестьянами, рабочими, торговцами, рыбаками и т. д. Однако в любой из этих социально-профессиональных групп они заняли лишь самую низшую ступеньку. Подняться выше у них не было ни прав, ни возможностей. Сохранявшаяся фактическая сегрегация париев, по существу, служила необходимым для правящих кругов средством упрочения всей социальной иерархии режима Мэйдзи. Она постепенно превратилась в важный компонент капиталистической структуры организации общества. Явление дискриминации в значительной степени стало проблемой нищеты, трущоб и безработицы. В бураку оказался более высокий, чем в среднем по стране, уровень неграмотности, правонарушений и заболеваемости, что, в свою очередь, стимулировало усиление дискриминации. Следовательно, в цепи сегрегации париев возникала дополнительная причинно-следственная связь. Еще более укреплялся ее порочный круг, разорвать который власти Мэйдзи н не
пытались: нужды и трудности париев их волновали мало, а само явление дискриминации им, несомненно, было выгодно.
Относительное и абсолютное обнищание париев после переворота Мэйдзи сказалось и на внешнем виде их поселений, По описаниям очевидцев, старые бураку производили, как правило, крайне гнетущее впечатление своей бедностью. Кроме того, вблизи многих из них по-прежнему производили хранение и обработку мусора, павшего скота, сбор экскрементов на удобрение, кремацию трупов, выделку кожи, что делало их особенно отталкивающими в глазах «обычных» японцев. Но и новые бураку выглядели жалкими трущобами: они создавались у шахт, карьеров и дорог, в самых неуютных, загрязненных и неудобных местах. Для большинства бураку были характерны покоробившиеся, стоящие впритык дома (по преимуществу крытые соломой хижины с земляным полом), плохая система дренажа, отсутствие канализационных каналов. В домах царила крайняя скученность: под одной крышей часто проживали и родители и взрослые дети со своими семьями f55, с. 316].
В этих условиях заболеваемость в бураку (в первую очередь туберкулезом и трахомой) была теперь гораздо выше, чем в других местах. Средняя продолжительность жизни сэммин была короче, чем у «обычных» японцев, а детская смертность намного выше: если в среднем по стране она составляла 26%, то, например, в бураку префектуры Осака достигала 40% [70, с. 13].
Факт обнищания сэммин вынуждены были официально признать даже сами власти. Так, например, в одном официальном документе, содержащем результаты специального обследования, приводятся такие сведения о крупнейшем в префектуре Киото поселении париев Янагибара. В 1876 г. в нем насчитывалось 1111 семей. Из них 349 даже властями были определены как нищие, а 749 — в разной степени нуждающиеся, хотя члены 841 семьи и были заняты в какой-либо сфере производства [71, с. 209].'Отсюда можно сделать по крайней мере два вывода. В относительном достатке в бураку жили единицы. Даже наличие работы не избавляло париев не только от нужды, но нередко и от нищеты.
Факт обнищания бураку власти признавали и косвенно, вынужденным развертыванием там благотворительной деятельности: раздачей бесплатных обедов, предоставлением льготных субсидий, организацией общественных работ для нищих и безработных и т. д. С 1872 по 1885 г. наиболее значительной такая деятельность была в префектуре Киото [73, с. 203].
Характерно, что приобщение париев к условиям капитализма оказалось крайне болезненным процессом не только для низших, по и для средних и более состоятельных категорий сэммин, примером чего может служить, в частности, судьба Дандзаэмона, провал его попытки создать собственные обувные предприятия. Многие средние и мелкие дельцы из бураку также не выдержали конкуренции зарубежных и отечественных капиталистических фирм и полностью разорились. Таким образом, по существу, все
•слон сэммин в начале эпохи Мэйдзи были поставлены перед необходимостью искать новые пути обеспечения своего дальнейшего существования.
Практически любой поворот в жизни общества в последней трети XIX в. создавал для париев особые трудности и проявлялся в их среде самым мучительным образом. Причем это касалось не только процесса приобщения к промышленному и сельскохозяйственному производству. Так, нараставшая тенденция выталкивания «лишних» людей из деревни в город обернулась наибольшими страданиями именно для париев, так как в новой среде они попадали в условия не только страшной нищеты и неустроенности, но и враждебного окружения. Приказ о всеобщей воинской повинности поставил мужскую часть молодежи бураку перед печальной необходимостью подвергнуться дополнительным унижениям и издевательствам в армии. Даже система всеобщего образования внесла в жизнь детей париев множество новых нюансов дискриминации.
Сегрегация париев стала в известном смысле олицетворением, наиболее выразительным воплощением всех труднейших проблем нового времени. Такая ситуация не могла не стимулировать их движение за улучшение условий жизни и равноправие.
Новый подъем движения сэммин в эпоху Мэйдзи был вызван их разочарованием в результатах декрета № 61, недовольством его неэффективностью и неблагоприятными последствиями. Вначале жители бураку возмущались по преимуществу лишь злокозненностью местной администрации, наивно полагая, что. только ее недобросовестность и недоброжелательность лишает их «благородной милости» императора. Поэтому в своих выступлениях они прежде всего настаивали на справедливом и последовательном выполнении закона об освобождении (естественно, как они его понимали).
Так, например, через пять лет после издания декрета жители одного из бураку префектуры Сига обратились в местное управление с требованием отменить в соответствии с декретом статус особого поселения, запретить всяческие оскорбительные наименования и предоставить им равные с крестьянами права во всех сферах жизни [77, № 2, с. 153]. В петиции буракумин района Ха-рима содержалась жалоба на то, что «дискриминация все еще сохраняется. А ведь это противоречит декрету императора» [7, т. II, с. 26]. В ряде своих заявлений властям сэммин, ссылаясь на правительственный указ, добивались административной независимости своих бураку от основных населенных пунктов, в которые они входили, предоставления им самоуправления, равных прав на ирригацию, на участие в общих собраниях и праздниках и т. п.
Это по преимуществу петиционное движение охватило довольно значительную часть бураку. Так, в 1873—1879 гг. за полное отделение от основных деревень выступили жители более трети всех бураку района Хёго [7, т. II, с. 26]. И несмотря на ограниченность обычно выдвигавшихся тогда требований (отмены оскорбительных названий, кличек, особых правил), движение, по существу, было направлено против всей системы сегрегации.
Но с течением времени парии все более убеждались в том, что и высшие органы власти и само правительство относятся к ним ничуть не лучше, чем местная администрация. Их усилия с помощью петиций добиться желанной справедливости не давали результатов. Поэтому в 70—80-х годах они стали прибегать к другим методам. В условиях, когда у них еще не было каких-то своих радикальных политических организаций, способных возглавить борьбу, а их выступления, как всегда, получали отпор не только со стороны властей, но и со стороны всей окружавшей их социальной среды, их попытки избавиться от пут сегрегации стали часто носить индивидуальный характер. Другими словами, все более распространенной формой отпора становилось бегство париев из бураку, попытки смешаться с «обычными» японцами. К сожалению, надежных цифровых данных по этому вопросу у нас нет. Известно лишь, что, как неоднократно указывала правительственная администрация, число беглецов из бураку неуклонно росло*. Началась и эмиграция париев за границу. Об этом процессе можно судить более определенно. В числе японцев, выезжавших тогда на постоянное жительство за границу (в основном в США) 8, жители бураку в отдельные годы составляли до 15—20% [86, с. 204— 205], в то время как их доля от всего населения страны не превышала 2%. Один этот факт может косвенно свидетельствовать о том, что условия их жизни в Японии были наихудшими.
Однако бегство и эмиграция не могли стать достаточно массовым явлением, тем более решить проблему дискриминации в Японии. Ведь уход из бураку обычно означал полный разрыв всех родственных связей, отказ от хотя и плохой, но привычной жизни. Кроме того, пытаясь смешаться с «обычными» японцами, парии жили в постоянном страхе разоблачения и новых унижений и трудностей (см. Приложение 36). И наконец, мощным сдерживающим началом было чувство корпоративности, сословной солидарности, которое формировало отрицательное отношение к беглецам из бураку в среде самих париев.
Таким образом бежали и уезжали сотни, возможно, тысячи. Но сотни тысяч оставались, и общая численность париев неуклонно увеличивалась. И поскольку тайная ассимиляция и эмиграция париев явно не могли не только решить, но и ослабить остроту проблемы сегрегации, более важным и эффективным в этом отношении могли стать только те попытки ее решения, которые предпринимались в рамках самого сословия сэммин, в самих бураку-
Как уже отмечалось, в 70—80-х годах лишь крайне небольшая часть париев могла в какой-то мере организованно выступать на общенациональной политической арене. Это была в основном их верхушка: предприниматели (мелкие дельцы, владельцы лавок, магазинов, ресторанчиков, гостиниц) и интеллигенция, тогда еше крайне малочисленная. Их политическая деятельность развернулась в рамках одобренного властями движения Дзию минкзн ундо, которое обещало решить проблему париев в основном при помощи методов 'нравственного самосовершенствования. Мы знаем, что идеология этого течения была вполне верноподданнической и в известном смысле рабской, а его практические результаты весьма ограниченными. Оно, по существу, и не ставило своей целью решение проблемы сегрегации для всех париев. Ведь предпринимательская верхушка сэммин практически стремилась лишь к укреплению своих позиций в эксплуатации париев и к большему доверию и терпимости к себе со стороны «обычных» буржуа и помещиков, на равное партнерство с которыми они претендовали.
Поэтому вполне естественно, что широкие массы париев не могли стать достаточно верными сторонниками этого течения. В своих идеях и действиях они никогда не оставались в тесных рамках этого «приличного» движения. Они и в то время, правда чаще всего стихийно, весьма «дерзко» и настойчиво выступали против всех форм дискриминации. Так, они отказывались выполнять старый, унизительный ритуал социальной приниженности:: падать ниц перед «обычными» японцами, ходить только по обочинам дорог и т. д. Возросшее чувство человеческого достоинства заставляло их настаивать на том, чтобы им разрешали входить в: дома хэймин, как нормальным и равным людям, чтобы с ними здоровались [7, т. II, с. 28—29]. Растущее число сэммин поддерживало более радикальное демократическое направление Движения за свободу и народные права, представленное, в частности, Накаэ Тёмин.
Таким образом, происшедшее после переворота Мэйдзи становление капитализма в экономической, политической и социальной сферах общественной жизни Японии не принесло париям сословного освобождения. Дискриминация сохранилась в полном объеме, а реальные условия жизни большинства сэммин даже ухудшились. В стране еще не было условий для создания ими собственных, подлинно демократических организаций, способных определить действенные способы и важнейшие цели борьбы париев.
Однако в то же время к концу XIX в. массы сэммин приобрели необходимый и важный политический опыт,, отказались от некоторых старых иллюзий, получили представление о подлинной роли и характере отношения к ним новых социальных групп и политических организаций. Убедились они и в том, что путь к решению их проблем будет гораздо более трудным и долгим, чем можно было представить сразу после переворота Мэйдзи. Этот опыт, идейная и психологическая эволюция в среде сэммин были крайне необходимы и полезны для подготовки базы более эффективной борьбы с дискриминацией. Они формировали необходимые условия для дальнейшего продвижения по пути общественного познания и подлинного социального прогресса.
Глава седьмая
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИДЕЙНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЯПОНИИ В 70—80-х ГОДАХ XIX в.
На любые исторические явления, в том числе и социальные, можно смотреть с различных точек зрения, с разного расстояния. Чаще всего исследователь рассматривает их с достаточно большой дистанции. Для анализа общих исторических процессов такая точка, бесспорно, самая удобная, поскольку дает возможность охватить более значительную часть событий и явлений и установить какие-то их общие черты, особенности и закономерности развития.
Однако с такого расстояния мелкие детали, отдельные люди, тем более их чувства и настроения просто не видны. А история — это наука о человеке, как социальном явлении,, наука о людях во всей сложности их общественных взаимоотношений. В связи с этим общий анализ может быть и недостаточным. Иногда у историка возникает необходимость посмотреть на человека, на представителей определенной общности вблизи, чтобы более полно выявить подлинную суть рассматриваемого явления или процесса.
Такая необходимость возникла и в нашей работе. Тем более •что сегрегация париев в значительной мере явление психологическое. И без выяснения чувств, настроений, социальных представлений и оценок на уровне индивидуумов или отдельных групп париев и представителей других слоев общества понять суть и механизм действия этого явления просто невозможно.
Но изучать этот, пожалуй наиболее яркий и интересный его аспект, к сожалению, и наиболее трудно. Социальные оценки, настроения, предрассудки, особенно представителей низших классов и сословий, фиксировались крайне редко. И почти никогда не систематизировались и не анализировались. А в том случае, когда что-либо из этой сферы попадало в официальные материалы и литературу, то обычно выражало какую-то заранее заданную политическую схему правящих кругов, а не подлинные чувства и суждения представителей низших слоев общества.
Поэтому на основе некоторых разрозненных, чаще всего косвенных, сведений мы можем дать, скорее, фрагментарные представления об этой стороне явления сегрегации. Но и они кажутся нам весьма важными и необходимыми, поскольку делают наши общие представления о рассматриваемой проблеме более полны-
ми и конкретными, дают возможность взглянуть на явление как бы изнутри. А это делает более понятными некоторые «тайные» пружины механизма дискриминации париев.
Рост идейного многообразия
Какие идеи воздействовали на формирование мыслей и чувств японцев в их социальных взаимоотношениях после переворота Мэйдзи? Как изменилось в это время психологическое взаимовос-приятие разных слоев японского общества? Эти вопросы сложны, многогранны и мало разработаны. Мы здесь коснемся лишь некоторых их аспектов, связанных главным образом с отношением общества к дискриминируемому меньшинству.
В период Токугава все в этой сфере было относительно просто и четко. Характер социальных взаимоотношений в любом плане, в том числе идеологическом н психологическом, определяла господствующая феодальная структура, воля и оценки правящей знати. У крестьян, ремесленников, купцов и тем более париев не было какой-то особой системы взглядов на свою роль в жизни общества. Для всех неоспоримыми и естественными казались, например, такого рода предписания властей, которые воспринимались как вечные истины: самурай не может стать купцом; крестьяне и горожане при встрече с даймё падают перед ним ниц; крестьяне выращивают рис, но едят просо; крестьянам нельзя носить хаори, а из обуви они могут использовать только дзори; эта может вступить в брак только с эта [58, с. 233].
Однако после «переворота Мэйдзи» старая система регламентаций и представлений быстро теряла свое значение и ценность. Возникла необходимость в новой системе социальных ценностей, которая определила бы характер взаимоотношений сословий и классов в данном обществе. Ясно, что определяющими здесь могли стать только отношения и ценности, порожденные буржуазной структурой общества.
При этом следует учесть по крайней мере два новых обстоятельства. Во-первых, многие особенности рассматриваемой сферы могли сложиться лишь на основе синтеза европейской и традиционно японской идеологии и психологии. И, во-вторых, в условиях буржуазной Японии эпохи Мэйдзи в разных слоях населения усилились попытки самоосмысления, определения своей подлинной роли в жизни общества, а также и возможных перспектив своего развития в будущем. Возникли политические организации, которые пытались установить и выразить интересы разных социальных групп, даже сэммин. Это привело к тому, что одни и те же социальные явления оценивались неодинаково. Например, по-разному оценивали общественную роль крестьян помещики, буржуа, рабочие, по-особому относились к ним и буракумин. Конечно, буржуазно-помещичий блок имел больше возможностей навязать другим слоям населения свою систему суждений и правил. Но в любом случае она уже не была единственной. В «обществе сво-
бодного предпринимательства» неизбежно возникала и какая-то конкуренция идей.
В целом в эпоху Мэйдзи веками внедрявшиеся в сознание народа идеи сословных разграничений несколько потускнели. Все большее значение приобретали перегородки, проходившие уже и внутри сословий.
Однако все это не означало, что дело шло к полному уничтожению сословного деления, основанного на наследственных преимуществах и ограничениях. Старая знать сохранила многие свои привилегии. Формировалась и новая буржуазно-помещичья и бюрократическая знать. Продолжали существовать и многие старые регламентации, относившиеся к париям. В какой-то мере это' определялось тем, что буржуазная революция в Японии, в основном осуществлявшаяся сверху, носила явно не завершенный характер. Но вместе с тем и само буржуазное общество практически оказалось заинтересованным в сохранении некоторых выгодных ему элементов прошлого, в частности элементов старого сословного деления, в том числе и сегрегации париев.
Идейная жизнь в новой Японии являла собой весьма пеструю и противоречивую картину. Одной из главнейших основ всей официальной идеологии эпохи Мэйдзи стали принципы монархизма. Всем слоям населения предлагалось свято верить в императора, который якобы один мог определить, в чем они все нуждаются и что и когда следует изменять в стране. Например, в одном правительственном документе начала 70-х годов говорилось: «Неразумно было бы считать, что все у нас может измениться в мгновение ока, подобно вспышке света во мгле. Надо помнить, что император — родной отец всего народа и его следует почитать как бога. Вся земля и любой человек в стране принадлежат ему. И как это печально, что у нас все еще изредка происходят крестьянские выступления!» [78, с. 69].
На этой основе распространялись идеи о «неоспоримой мудрости» правителей Мэйдзи, выполняющих волю императора, святости частной собственности, необходимости подчинения буржуазно-помещичьим кругам и честного участия в предпринимательстве.
Однако практически эти идеи удовлетворяли запросы и интересы лишь правящих кругов. Поэтому вполне естественно, что в стране получили широкое распространение и другие идеи, в частности предполагавшие дальнейшие социальные перемены и направленные против сохранения сословной замкнутости. По поводу растущего в стране нового социального неравенства крайне критически выступали даже некоторые видные политические деятели того времени. Так, уже известный нам Като Хироюки писал еще в 1869 г.: «Все мы люди: и монарх и народ. И все же только немногие добиваются у нас человеческих прав. Поэтому между людьми у нас сохраняются такие же различия, как между небом и землей. И очень многие родившиеся в стране с такими подлыми порядками остаются по-прежнему несчастными» [71, с. 192].
Совершенно исключительную роль в процессе общественного самопознания, происходившего в разных слоях населения, стала играть литература, отечественная и особенно западная. Японцы жадно знакомились с огромным многообразием новых для них социальных, моральных и психологических проблем, поражавших и увлекавших необычностью постановки вопросов. В конце XIX — начале XX в. на японский язык были переведены основные произведения многих европейских классиков (в частности, Гюго, Бальзака, Флобера, Золя, Мопассана, Мора, Дизраэли, Чехова, Толстого, Достоевского, Ибсена, Гауптмана) и ряд общественно-политических трудов. На важнейшие для нового общества темы писали и японские авторы. Многие переведенные произведения звучали для японцев как откровение. В первую очередь это относилось к тем, в которых говорилось об аморальности угнетения и социальной разобщенности, о пороках и бесчеловечности феодального и капиталистического общества, об общественной ценности ■человеческой личности, о необходимости с уважением, сочувствием л пониманием относиться ко всем людям независимо от их национальности, религии и места в социальной иерархии. Естественно, такая литература стимулировала в широких слоях народа стремление к более справедливому переустройству общества, порождала надежды на то, что это может осуществиться. Она участвовала в создании нового нравственного и психологического климата — важнейшего элемента социального прогресса.
Тема необходимости новых перемен в социальном и политическом плане стала звучать и в отечественной публицистической литературе. Так, в 70-х годах появились такие работы, как «Прекрасные беседы об управлении государством» Яно Рюкэй и «Будущее Японии» Фудзисава и Усияма, в которых рисовалась картина преображенной на основах справедливости Японии [29, с. 311].
Определенное воздействие на формирование новых социальных представлений оказало и христианство, запрет на распространение которого был снят в 1873 г., после двух с половиной веков духовной изоляции. Европейские и американские миссионеры в это время довольно широко развернули свою деятельность. Они бывали даже в бураку, где выступали с проповедями необходимости уничтожения дискриминации и обеспечения равенства [86, с. 93— 94]. Однако они, естественно, не могли в чем-то изменить характер существующих социальных отношений, да к этому, собственно, и не стремились. Поэтому воздействие христианства выразилось преимущественно лишь в новых образах и фразеологии многих японских интеллектуалов, выступавших за дальнейшие социальные преобразования.
Все основные идейные течения, связанные с определением перспектив развития Японии, складывались на базе значительной европеизации всех сторон жизни общества и одновременного развития национализма, двух, казалось бы, взаимоисключающих процессов. Однако японское западничество и почвенничество по своему существу не были слишком враждебными друг другу идейными направлениями. Они не только не взаимоисключали, а, скорее, дополняли друг друга. Поэтому в данном случае трудно говорить о прогрессивности или реакционности кого-либо из них, хотя позиции западников все же в какой-то мере были предпочтительней.
Идейные сторонники европеизации исходили из того, что более полное н быстрое восприятие западной культуры, науки и техники, идеологии, государственной и социальной организации обязательно ускорит капиталистическую трансформацию Японии. Но это-отнюдь не означало, что они стремились к рабскому подражанию н подчинению Западу. Наоборот, они полагали, что быстрая европеизация— это единственный надежный способ сохранить государственную н национальную независимость и успешно противостоять напору Запада на основе собственной военной и промышленной мощи.
Видным представителем этого направления был Фукудзава Юкити (1835—1901), который в основных своих произведениях («Положение дел на Западе», «Призыв к знаниям») пропагандировал новые для Японии идеи утилитаризма и индивидуализма,, независимости и самоуважения личности, а также парламентарной формы правления.
Идеи западников получили распространение в основном в среде буржуазии и либеральной интеллигенции. Стремление этих слоев к развитию принципов индивидуализма, личной инициативы,, новых парламентарных форм правления и осуществлению определенных социальных перемен имело своей главной целью укрепление позиций буржуазии, более последовательные буржуазные преобразования в разных сферах жизни общества. Именно это направление стало важнейшей идейной основой Движения за свободу и народные права.
Однако постепенно в конце 80-х — 90-х годах XIX в. в общественной жизни Японии усилилось иное идейное направление, по преимуществу националистическое. Его представители выступали против восприятия образцов западной культуры, политической и социальной организации общества, за сохранение своих традиционных форм жизни и образа мысли. Это были преимущественно обуржуазившаяся знать, помещики и военщина. А с течением-времени их поддержали и более широкие предпринимательские круги.
Но, по существу, они не отвергали западников, а, скорее, дополняли, развивали их идеи, также выражая интересы правящих кругов, но на более высоком этапе эволюции буржуазной Японии, Они вовсе не выступали против капиталистических преобразований. Они лишь считали, что, после того как задача обеспечения независимости была выполнена, Японии необходимо по возможности быстрее использовать возросший потенциал для реализации их агрессивных планов. Таким образом, усиление националистической идеологии в основном было связано не с разногласиями по проблемам культуры, а, скорее, со стремлением верхушки общества по-новому решать политические задачи, которые-вставали перед капиталистической Японией в период перехода ее-в империалистическую стадию развития. Во внутренней политике, в сфере общественных отношений усиление этих националистических тенденций предполагало, кроме всего прочего, более жестокое подавление либерального и демократического движения в. стране и более строгое фиксирование существующих социальных отношений, в частности усиление дискриминации париев К
Постепенно воздействие национализма усиливалось и во внешнеполитической сфере. Оно базировалось на широкой пропаганде идей «братской исторической общности всех азиатских, народов», необходимости паназиатского единства представителей монголоидной, желтой расы, естественно во главе с японским народом, перед лицом враждебного ей европейского и американского империализма. Этот тезис, как само собой разумеющееся, предполагал культурное, экономическое и даже нравственное превосходство японцев над корейцами и китайцами, которым отводилась унизительная роль несмышленых, но послушных и терпеливых: младших братьев [29, с. 327—328]. Вся эта демагогическая фразеология выражала (или, вернее, скрывала) стремление буржуазно-помещичьих кругов Японии к утверждению своего монопольного права на подготавливаемые ими тогда захваты территорий в Корее и Китае.
Одним из результатов всемерного усиления национализма явилось ужесточение дискриминации многих тысяч корейцев, издавна проживавших в самой Японии. В конце XIX в. их поставили, по-существу, в условия, сходные с положением сэммин: селили изолированно от остального населения, использовали на самых трудных и низкооплачиваемых работах и т. д. В этом, в частности,, выразилась общность явления традиционной дискриминации и' дискриминации по национальному признаку. Кстати, именно в это время в официальной науке стал особенно настойчиво подчеркиваться тезис о якобы корейском происхождении японских париев, что, очевидно, многие политические деятели считали вполне достаточным основанием для объяснения и оправдания их дискриминации ;[62, с. 9].
Отрицательные стороны обоих этих идейных направлений становились все более очевидными. Они подверглись критике со стороны созданного в конце 80-х годов нового объединения — Общества друзей народа (Минъюся), которое на страницах издававшегося с 1887 г. журнала «Кокумин-но томо» («Друг народа») выступило и против беспорядочной европеизации и против узкого национализма.
Однако идейная жизнь общества не ограничивалась рамками лишь этих двух течений, выражавших в основном интересы правящих кругов. Уже в конце XIX в. известное распространение получили взгляды и настроения революционных демократов, которые выступали от имени и во имя более широких слоев населения, в том числе и угнетаемых низов. Основная цель их усилий
-была направлена на более справедливое социальное переустройство общества. Так, самый яркий представитель этого идейного течения, Накаэ Тёмин, решительно выступил против системы сословной разъединенности и наследственных привилегий: «Нужно уничтожить титулы и пожалованные награды в пользу наград совести. Следует удалить за тысячи ри живых соломенных чучел, именуемых благородными джентльменами. Все необходимо отдать настоящим людям без титулов и званий» [37, с. 250].
В страну начали проникать и социалистические идеи. В 1882 г. даже была создана первая социалистическая партия, которая вскоре была запрещена [20, с. 761—762]. Однако социалистические идеи, распространявшиеся в Японии в это время, были таковыми больше по названию, нежели по существу. «Без фальсификаций, извращений, реформистской и анархо-синдикалистской шелухи марксизм в Японии прозвучал сравнительно поздно»,— отмечает один автор [20, с. 761—762]. С подлинно марксистским социализмом японцы по-настоящему познакомились лишь в XX в.
Такое идейное многообразие свидетельствовало о том, что в этот переломный период в Японии происходил процесс широкого осмысления возможной трансформации общества, определения путей его дальнейшей социальной и политической эволюции. На этой базе возникала новая система ценностей во взаимоотношениях разных слоев общества, которые проявили растущую активность на политической арене. Следовательно, общество заметно менялось не только в экономической и политической, но и в идейной и психологической сферах. Однако позиции господствующего буржуазно-помещичьего блока по-прежнему оставались лрочными и определяющими во всех областях.
О психологии сегрегации париев
После переворота Мэйдзи за короткий срок существенно изменился характер взаимоотношений и взаимовосприятия всех слоев населения — старой знати и буржуа, купцов и крестьян, ремесленников и рабочих, помещиков и буржуа и т. д. Одно оставалось относительно стабильным — явление дискриминации сэммин, восприятие всеми этими группами населения париев как низших существ.
Конечно, это не означало, что все оставалось совершенно неизменным. И в этой социальной сфере произошли большие сдвиги. Уже в начале эпохи Мэйдзи, когда официально была отменена изоляция париев, стали рушиться старые привычные рамки дискриминации. В частности, были отменены многочисленные и разнообразные ограничения и регламентации, действовавшие в феодальных владениях.
Вместе с тем после переворота Мэйдзи быстро потеряла прежний смысл и традиционная идейная основа сегрегации париев, предполагавшая их «оскверненность» различными «грязными» видами занятий и употреблением в пищу мяса. Это было вызвано развитием в стране капиталистической экономики и развертыванием после более чем 200-летнего перерыва широких контактов -с Западом. Ведь европейцы и американцы совершенно «безболезненно» употребляли в пищу мясо, занимались убоем скота, выделкой кожи, продажей изделий из кожи, и никто их за это не презирал и не изолировал. Это весьма наглядно показало, насколько искусственной и логически не оправданной была столь долго и широко господствовавшая в Японии буддийская догма об «осквернении» людей смертью и кровью.
Довольно быстро значительное количество «обычных» японцев оказалось втянутым в мясную и кожевенную отрасли промышленности, стали работать мясниками, скорняками, дубильщиками, обувщиками на вновь создававшихся крупных капиталистических предприятиях. Более широко распространился обычай употребления в пищу мяса, причем сами буракумин теперь использовали преимущественно более дешевые части мясной туши (печень, почки, мозги). Растущее число жителей бураку приобщалось к вполне «чистым» занятиям: сельскохозяйственному производству, рыбной ловле и промышленной деятельности.
Таким образом, в эпоху Мэйдзи постепенно исчезали многие старые барьеры отчуждения — официальные, бытовые, профессиональные и идейные. Теряли смысл и действительность те жесткие рамки, которые, казалось, только и отделяли дискриминируемое меньшинство от остального населения.
Однако, несмотря на это, сегрегация париев все же сохранялась. Она даже не становилась мягче. Оказывается, у нее были более глубокие и прочные корни, чем некоторые отмеченные нами выше внешние показатели дискриминации.
Что же способствовало ее сохранению? Чем это социальное явление поддерживалось в новых условиях?
Как мы уже неоднократно отмечали, это явление сохранялось, в частности, потому, что господствующий буржуазно-помещичий блок страны был незаинтересован в его уничтожении. Поэтому, уничтожив старые сословные ограничения де-юре, он приложил все усилия к сохранению явления дискриминации де-факто, ибо группы париев были необходимы ему как надежное средство смягчения социальных противоречий (всегда можно было отвести возмущение той или иной части населения на париев), а также в качестве важной составной части резервной армии труда.
Но главное все же заключалось не в этом. Об отношении некоторых влиятельных общественных кругов к возможности подлинного освобождения париев, а следовательно, и к декрету № 61 можно судить по следующему отрывку из опубликованной в 1874 г. популярной работы «Цивилизация. В вопросах и ответах» некоего Огава Тамэдзи: «Ранее так называемые эта... не могли общаться с остальными людьми. Но после реставрации власти монарха их провозгласили хэймин... И те, которые еще вчера назывались хинин н не имели возможности разговаривать с хэймин, сегодня упорно настаивают на реализации своих прав* Воистину тот, кто» забрался в повозку, уже не хочет идти пешком!
А хорошо ли это? Не уничтожаем ли мы тем самым старые,, истинно японские обычаи и порядки? Не исчезнут ли в результате' этого всякие различия между верхами и низами?» [73, с. 197].
Вот что, оказывается, волновало многих представителей власти и знатн в новой ситуации больше всего: угроза того, что с уничтожением сегрегации будет подорвана законность принципа привилегий для немногих и скомпрометирована идея естественности и обязательности социального неравенства.
Но каким же образом круги, заинтересованные в сегрегации париев, могли ее сохранять? Ведь старые ее юридические и идей^-ные опоры в эпоху Мэйдзи, по существу, исчезли.
Мощным средством ее сохранения явились сформировавшиеся* на протяжении веков социальные предрассудки, которые вовсе не были каким-то эфемерным, малозначимым элементом обществен^-ной жизни, как это могло бы показаться на первый взгляд. В руках верхов, заинтересованных в поддержании дискриминации, он» оказались весьма действенным инструментом изоляции париев, даже в условиях отсутствия мер их юридической и особой идейной, отчужденности.
Незадолго до переворота Мэйдзи в официальных печатных из^-даниях о жителях бураку могли писать в таком духе: «Эта неспособны отличить хорошее от плохого. Они во всем совершенно» особые люди. Поэтому им следует сделать на лице. татуировку, ввести обязательную особую прическу, а имена обозначать знаками каны (японская слоговая азбука.— 3. X.), а не иероглифами, чтобы они походили на голландские имена» [71, с. 178].. Автор, по-видимому искренне разделявший широко распространенный предрассудок, исходил из предпосылки, что париев нельзя считать нормальными людьми и обычными японцами. Он даже предлагал закрепить их необычность самым выразительным и унизительным образом, чтобы ни у кого и никогда не возникали сомнения в «естественной» неполноценности сэммин.
После переворота Мэйдзи, даже после издания декрета № 61, психологическое восприятие париев в социальных верхах, по существу, мало в чем изменилось. Правящая элита целенаправленно и регулярно через все средства массовой информации способствовала сохранению и усилению изоляции сэммин. Даже в некоторых официальных правительственных изданиях и публичных заявлениях отдельных представителей новой власти о париях по-прежнему отзывались как о чуждых и вредных для Японии и японцев элементах. В этих отзывах они нередко выглядели представителями какого-то особого, экзотического племени: они храбры, но дики,, сварливы и неосмотрительны, склонны к правонарушениям и агрессивности, сплочены, расточительны, жестоки [55, с. 316—317]. При этом утверждалось, что якобы подлинной причиной ухудшения условий жизни париев являлись лишь их лень и распущенность [71, с. 209]. Совершенно очевидно, что. высказывания подобного рода, питавшиеся старыми предрассудками, поддерживали в народе тот отрицательный стереотип жителей бураку, который складывался на основе этих предрассудков. Практически они раздували недоверие и вражду к париям.
Если в газетах или журналах освещались какие-то отрицательные общественные явления или рассказывалось о неприятных событиях, аморальных поступках, то в качестве основных действующих лиц или примеров часто выступали жители бураку, фигурировали их имена. Положительно о буракумин в официальных изданиях почти никогда не писали. Это был весьма ловкий способ разжигания ненависти к ним [68, с. 243—246].
При этом в печати не допускалось широкого, подлинно научного рассмотрения проблемы сегрегации. Даже сами термины, связанные с этим явлением, были изъяты из официального употребления. И все это, естественно, не могло не стать мощным и эффективным средством стимулирования дискриминации.
В связи с тем, что сегрегацию париев после переворота Мэйдзи питали главным образом старые предрассудки и традиции, возникают по крайней мере такие вопросы: Почему же социальные предрассудки оказались столь живучими? И почему они были столь действенными в определении характера поведения людей, в формировании их отношения к объекту предрассудка?
Жизненность многим социальным предрассудкам в какой-то мере придавала политическая заинтересованность в них господствующих кругов, которые практически всей мощью своего авторитета и материальных средств способствовали их сохранению и распространению. Но вместе с тем и сами предрассудки обладают определенной внутренней устойчивостью.
Дело в том, что они — явление не только социальное или политическое, но и психологическое. Поэтому корни их устойчивости следует искать также и в особенностях психологии отдельных людей и групп населения. И тут, в частности, выясняется, что, как это ни парадоксально, именно их несоответствие реальности и оторванность от действительности и придают им дополнительную прочность.
Человек может осмысливать и оценивать различные явления окружающего его мира на основе их объективного рассмотрения, научного анализа или же через призму устоявшихся предрассудков. В первом случае более глубокое познание фактов может вести к значительному изменению суждений о них. Во втором же случае реальность, оказывается, мало воздействует на предубежденное суждение о ней. Ведь предрассудки формируются вовсе не на основе знания объективной реальности, а в результате слепой веры в заданную схему, априорного восприятия определенных реалий. Именно это и делает их малоуязвимыми перед лицом воздействия логического мышления и выводов объективного анализа. Поскольку отсутствие логичности и фактической обоснованности мало вредит им, постольку любые сомнения в их истинности воспринимаются не как попытка осмыслить их, а как свято-
татет-во, кощунство. В этом их несомненная внутренняя сила, придающая им огромную жизнестойкость.
Но если предрассудки не отражают действительности, то возникает еще один весьма существенный вопрос: почему же тогда очень многие люди воспринимают их как свои личные суждения, лишая тем самым себя возможности прийти к объективным выводам об определенных социальных реальностях? Что это, результат их ограниченности, порочности или каких-то психологических закономерностей?
В целом большинство социальных предрассудков зарождалось н сохранялось в значительной мере благодаря особой заинтересованности в них определенных слоев общества. Например, презрение к японским париям возникло не в среде крестьян или тру-жеников-горожан, а на основе политики социального разобщения еще в период древности. Неоспоримо также и то, что люди ограниченные, в чем-то ущербные и порочные гораздо легче и охотнее воспринимают унижающие других предрассудки. Ибо, например,, даже самому недостойному из числа хэймин они давали хоть какую-то основу для самоутверждения и самоуважения. Ведь как бы ни поступал, кем бы он ни был в моральном плане, он при наличии подобных предрассудков всегда мог вполне «обоснованно» чувствовать и подчеркивать свое «неоспоримое» (с точки зрения этих предрассудков) превосходство над любым жителем бураку. Для своей неполноценности, несостоятельности и неудовлетворенности такие люди всегда находили какое-то оправдание и утешение в софизме: «Как бы там ни было, но я, к счастью, все же не какой-то там эта!».
Однако сфера действия социальных предрассудков, к сожалению, не ограничивается лишь кругом в чем-то ущербных и пороч-ных людей. Если бы это было так, то их общественная значимость была бы сравнительно невелика. Практически эта сфера гораздо шире. Она включает в себя и значительную часть вполне «достойных» и, казалось бы, самостоятельно мыслящих людей. Это определяется тем, что распространенность и жизненность социальных предрассудков обеспечивается действием всего механизма общественного сознания. Ни один человек, в том числе умственно и нравственно достаточно полноценный, не способен самостоятельно проанализировать огромное множество социальных явлений и связей, с которыми ему приходится сталкиваться, объективно оценить их и выработать какое-то свое индивидуальное отношение к ним, не зависимое от той среды, к которой он принадлежит. Кроме того, обычно он в этом и не бывает лично заинтересован. А для эгоистичных людей этого вполне достаточно, чтобы не только терпимо, но часто и заинтересованно относиться к предрассудкам. И наконец, следует учесть, что предубежденное восприятие социальных реалий не является вполне добровольным актом, который возможен при наличии свободного выбора. Ибо только безоговорочное, бездумное следование суждениям, предрассудкам и стилю поведения своей общности (сословной, расовой, религиозной, классовой, национальной и т. д.) всегда считалось нормальным, правильным и нравственным. Отклонение же от этой линии мышления и поведения воспринималось как отступничество, предательство. В этом проявлялось действие одного из важнейших элементов сплочения любой общности, обеспечивающих ее нормальное функционирование и развитие. Именно поэтому большинство вполне «достойных» людей, как правило, также некритически и с готовностью воспринимает в качестве готовых выводов предлагаемые их средой устоявшиеся социальные суждения, оценки и предрассудки. И именно это заставляет большинство людей следовать социальным традициям и предрассудкам, по крайней мере так же строго и скрупулезно, как и правовым нормам, регулирующим общественные отношения.
Однако было бы явным преувеличением считать, чтсэтот механизм внедрения и восприятия предрассудка всегда действовал одинаково эффективно и безотказно. По степени его воздействия все население (представителей разных слоев общества) можно было бы разбить, как мы уже отмечали в другой связи, по крайней мере на три неравные части.
Весьма значительной была часть тех, кто в своих оценках и характере отношения к париям, не раздумывая, руководствовался господствующими предрассудками и нормами, которые для них казались естественными и непоколебимыми.
Какую-то часть населения составляли люди, объективно честные и способные на критическое восприятие действительности. В принципе они даже были против дискриминации. Но эгоизм и стремление к душевному равновесию заглушали в них способность по достоинству оценить все зло дискриминации и бороться с ней.
Наконец, имелись и люди, способные не только думать, но и действовать вопреки антигуманным идеям и нормам своей общности. Таких людей всегда было сравнительно мало, но именно они в первую очередь и содействовали ее прогрессивному социальному развитию.
Но все же по преимуществу оценка японских париев обществом и характер отношения к ним индивидуумов определялись господствующими в стране предрассудками. Они формировали весьма непривлекательный стереотип ленивого, нечистоплотного, аморального, асоциального и преступного по своим истинным наклонностям жителя бураку. Париям приписывались такие часто взаимоисключающие друг друга черты, как расточительность н жадность, агрессивность и трусость, злобность, склонность к алкоголизму и воровству. Многие японцы были уверены, что сэммин связаны с какой-то нечистой силой, что в них есть что-то загадочное и чудовищное.
Все эти качества считались неотъемлемыми для всех париев. И если они сразу не были заметны, то только потому, что сэммин их коварно и ловко скрывали. Но при случае они якобы неизбежно должны были раскрыться. Так, среди «обычных» японцев было широко распространено мнение, что париев можно выявить
но пронзительному «нечеловеческому» взгляду, который характерен для всех жителей бураку, когда они не контролируют себя. Или же но якобы врожденным, передающимся по наследству, меткам их сословия —по родинкам синего цвета [86, с. 239], Считали, что подлинная низкая сущность буракумин может выявиться и опосредованно. Например, в такой ситуации, рассказ о которой должен был стать предостережением от смешанных браков: «Один молодой человек женился на девушке, с которой случайно познакомился и которую страстно полюбил. Но все родившиеся у них дети, когда они подросли, оказались идиотами и уродами. Вот тогда-то и выяснилось наконец, что его жена была из бураку» [86, с. 139].
Подобные предрассудки создавали такой психологический климат, при котором становилось невозможным увидеть любую очевидность, связанную с сэммин. Например, «обычные» японцы могли судить о париях на таком уровне: «А разве они выглядят по-разному?», «Неужели среди них имеются красивые девушки?» [86, с. 138], «Поскольку они скорее животные, чем люди, постольку грязь к их босым ногам не пристает» i[86, с. 11]. Матери пугали ими своих непослушных детей. И не было для японца более страшного оскорбления, чем сравнить его по каким-то качествам с сэммин. К париям питали отвращение как к «грязным», низким существам. В то же время их боялись как людей, способных на любое насилие, преступление и предательство. Такой страшный и отталкивающий образ жителя бураку входил в подсознательную сферу большинства японцев еще в детстве, усваивался так же естественно, как родной язык, и сохранялся на всю жизнь2.
Рамки сегрегации закреплялись множеством общих пренебрежительных названий-символов, кличек, которые должны были выразить всю меру презрения к сэммин. Наряду со старыми терминами эта и хинин большое распространение получили и такие, например, прозвища, как коконоцу (девять) и ёцу (четыре). Слово «девять» в данном случае предполагало намек на якобы меньшее число ребер, имевшихся у париев (считалось, что у «обычных» японцев имеется десять ребер). А слово «четыре» — на сходство с животными [55, с. 307]. По этой же причине в конце XIX в. их часто называли не син (новые) хэймин, а си (четвероногие) хэймин. А к презрительной кличке эта прибавляли еще унижающее определение до —до эта (до — раб, деревенщина) [68, с. 217—218].
Таким образом, предубежденное восприятие действительности было далеко не малозначимым явлением, которое в худшем случае может лишь обидеть человека, нанести ему моральный урон. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на отмену в последней трети XIX в. юридических ограничений и резкое ослабление роли идеи «осквернения», практика сегрегации париев достаточно эффективно продолжалась на основе системы психологического отчуждения. У Лафкадио Хёрна по этому поводу имеется такое вполне справедливое замечание: «Никогда в европейских городах гетто не были отделены от внешнего мира стенами и воротами больше, чем поселения эта от остальных японских городов социальными предрассудками» [93, с. 98].
Следовательно, ведущей силой, основным инструментом сегрегации стали предрассудки, наделявшие всех париев обширным комплексом личных недостатков. Создалась ситуация, при которой эти предрассудки казались уже совершенно оторванными от их старой социальной, политической и юридической основы и производили впечатление независимо существующей и произвольно действующей, определяющей силы. Психологическую парадоксальность такого положения весьма остроумно и точно охарактеризовал А. Сент-Экзюпери, который писал: «Достаточно объявить войну горбунам — и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, также есть преступники» [31, с. 427].
Но в действительности дискриминация японских париев, как мы знаем, не была произвольным явлением. И не предрассудки ее породили и формировали. Но именно они делали сегрегацию-возможной и юридически оправданной, создавали ее психологическую основу и определяли характер отношения к дискриминируемому меньшинству.
Хорошо отлаженный общественный механизм отчуждения париев и после переворота Мэйдзи вполне эффективно формировал из жителя бураку члена дискриминируемого меньшинсгва, т. е. сохранял явление сегрегации. Процесс отчуждения начинался для сэммин с раннего детства. Он имел своей целью, в частности, приучить париев к мысли, что они являются людьми и гражданами второго сорта и поэтому не могут и не должны претендовать на очень многое, вполне доступное остальным японцам. На протяжении всей своей жизни жители бураку весьма болезненно ощущали эти рамки, которые поддерживались самыми строгими и унизительными мерами. В обществе «свободной инициативы и предприимчивости» сотни тысяч японцев по-прежнему были лишены не только прав на выход за очень тесный для них круг, но даже и надежды на эту возможность.
Попытаемся представить себе ту психологическую и нравственную атмосферу японского общества, в которой находился любой «средний» житель особого поселка с момента рождения и до смерти.
Едва выучившись ходить и говорить, ребенок из бураку начинал чувствовать и понимать, что к нему часто относятся хуже, чем к другим детям. Оскорбления, унижения и насмешки делали свое дело— довольно быстро они знакомили его с весьма печальной для него действительностью. От родителей, соседей и главным образом от «обычных» японцев дети сэммин с горечью узнавали, что они какие-то особые люди и что поэтому для них в будущем уготована худшая, чем для других, судьба. И все это только потому, что они имели несчастье родиться в семье жителей бураку.
Переступая порог школы, особенно общей, такой ребенок уже хорошо представлял, что не должен по наивности рассчитывать на равное и справедливое к себе отношение ни со стороны соучеников, ни со стороны учителей. Так, один из видных деятелей движения сэммин конца XIX — начала XX в., Миёси Ихэйдзи, в своих воспоминаниях о своем поступлении в 1883 г. в школу писал: «Когда меня ввели в класс, учитель сказал: „У нас теперь будет учиться этот мальчик из Сакамото (название поселка париев.—
3. Х.)“. Взоры всех пораженных этим сообщением учеников обратились на меня. Все сидели за партами по двое, только меня посадили отдельно за последнюю парту. На переменах и занятиях по физкультуре все избегали меня. Единственный вид общения — это насмешки и издевательские вопросы, например, о том, как же жители бураку справляют большую и малую нужду. Даже учитель истории с презрением допытывался у меня, откуда же мы взялись, кто мы такие — когурё3 или эдзо?
Но все же я учился хорошо. И однажды я случайно услышал, как наш учитель в связи с этим стыдил школьников: „Разве вам всем не стыдно, что какой-то ничтожный эта — лучший ученик вашего класса?11» [73, с. 204].
В смешанных школах детям сэммин не продавали завтраки, они-не имели права пользоваться общими умывальниками и туалетами.
Обучаясь в учебных заведениях, дети из бураку иногда пытались скрыть свое «позорящее» происхождение, что было в какой-то степени возможно лишь с согласия и при поддержке родителей. Ибо в этом случае даже посылки и деньги своим детям последние должны были посылать через каких-либо более терпимых к ним «обычных» японцев, чтобы ученики по обратному адресу не могли догадаться о социальном происхождении их товарища. Не удивительно, что в такой ситуации дети сэммин привыкали стыдиться своих родителей, что делало нравственную цену за подобную попытку «выбиться в люди» очень высокой для всей семьи сэммин.
Школа буржуазной Японии стала дополнительным этапом обязательных для париев унижений, новым жизненным курсом сегрегации, но далеко не последним. Следующим этапом становилась армия. Когда наступала пора призываться, выяснялось, что в мобилизационных списках «заботливой» рукой представителей военной администрации уже было особо отмечено их происхождение буракумин. А эти значки должны были предопределить и их место в армии и характер отношения к ним. Их обычно привлекали к самым трудным и малопривлекательным видам службы-, лишали любой возможности продвижения по служебной лестнице, и они неизбежно становились объектом придирок, оскорблений и даже побоев со стороны солдат и офицеров. Военнослужащих-бу-ракумин повсеместно издевательски называли дайтайтё (воинское звание — майор, командир батальона), потому что офицеры в этом звании имели на погонах четыре нашивки [68, с. 218]. Это оскорбительное название стало армейским вариантом прозвища ёцу. О жестокости сегрегации в армии говорит тот факт, что не имевшие возможности добиться какой-либо моральной и физической защиты и доведенные до отчаяния солдаты-сэммин, случалось, кончали жизнь самоубийством [68, с. 238].
Отслужив в армии, житель бураку был уже преисполнен чувством пессимизма, недоверия, ненависти и отчаяния. Однако на этом его страдания не кончались. Любые новые жизненные задачи оказывались для него более сложными, чем для «обычного» крестьянина, ремесленника или рабочего. Ему гораздо труднее было освоить специальность, устроиться на работу и даже жениться. Занятия, требующие высокой квалификации, были для него недоступны. В бураку имелось мало возможностей получить работу, а за ее пределами ему всегда давали почувствовать, что он чужой и лишний. Повсеместно он официально определялся особым термином син хэймин, что, по существу, означало признание правомерности дискриминации.
Но даже если преодолев все трудности, житель бураку и овладевал какой-либо престижной профессией, в условиях господства идей и норм дискриминации он все равно не мог нормально жить и работать. Клеймо гонимого оставалось на нем всю жизнь. Така-хаси Садакити, например, изложил историю одного учителя, который честно и ревностно трудился в школе и пользовался там большим уважением. Но только до тех пор, пока родители его учеников случайно узнали о его «грязном» происхождении. Узнав об этом, они начали протестовать против его работы в школе. Дети стали бойкотировать его уроки и всячески издеваться над ним. Естественно, он оказался вынужденным уйти из школы [68, с. 235]. Все его усилия и жертвы, принесенные ради получения высокой квалификации, достойной профессии, оказались напрасными.
В этих условиях сэммин часто были вынуждены по-прежнему заниматься традиционными видами работ. А тут практика дискриминации уже никак не маскировалась, сохранялись все ее старые унизительные формы. Достаточно отметить лишь один такой факт: нередко «обычный» японец, как и раньше, покупая у буракумин обувь, передавал ему деньги за нее привязанными к палке, чтобы не «осквернить» себя случайным прикосновением к жителю бураку.
В полном объеме сохранялась сегрегация н в сфере брачных отношений. Правда, среди париев в эпоху Мэйдзи появилась определенная категория людей, которые пытались решить свои сословные проблемы путем смешанных браков. Они надеялись, что таким образом они смогут добиться освобождения и равноправия, если не для себя, то хотя бы для своих детей или внуков, о которых, наконец, не будут знать, что одним из их предков был житель бураку. Однако практически такие браки и теперь были почти невозможны. Во-первых, потому, что даже те сравнительно либерально настроенные люди, которые готовы были в принципе
поддержать отмену дискриминации, обычно выступали против подобных браков. Во всяком случае, для себя и своих детей. Кроме того, смешанные браки, если они все же имели место, не могли быть счастливыми при существующем положении вещей. Таких супругов осуждали и третировали родственники и друзья с обеих сторон. Они, по существу, превращались в изгоев для всех. Поэтому такой брак имел мало шансов на выживание. А если кто-либо из сэммин, вступая в брак, скрывал свое происхождение, то это могло привести к личной мести со стороны родственников «обманутого» партнера или даже к привлечению к уголовной ответственности.
Но и в пределах бураку. проблема брака для париев была более сложной, чем для других групп населения.
Таков общий психологический фон условий жизни буракумин. Рассмотрение его, как мы думаем, может облегчить понимание еще одной, весьма существенной особенности их положения. В целом отталкивающий стереотип париев, сформированный предрассудками, конечно же, не отражал действительности. В психологическом смысле жители бураку генетически ничем не отличались от остальных японцев. И все же для условий их жизни и поведения действительно были в большей степени характерны некоторые отрицательные черты и явления. Мы имеем в виду, естественно, не такие якобы врожденные, непривлекательные черты их характера, как зависть, жадность, трусость, злобность. Ибо ни одну социальную или религиозную группу, народ или нацию нельзя, невозможно определять подобным образом (само собой разумеется, как и положительно,— добрый, смелый, великодушный, умный), поскольку все эти черты в одинаковой мере имеются в любой общности. Но такие особенности — не характера, а, скорее, образа жизни,— как безделие, нечистоплотность, алкоголизм и преступность в бураку, были действительно распространены в значительно большей степени, чем в любой другой социальной среде. Так, например, некий христианский миссионер (его звали Тамэока Косукэ), назначенный в 90-х годах XIX в. капелланом в одну из тюрем о-ва Хоккайдо, установил, что относительная доля преступников из числа сэммин была в 4—5 раз выше, чем из других слоев населения [86, с. 94]. Такие показатели, несомненно, использовались как дополнительное обоснование сегрегации японских париев.
Однако совершенно очевидно, что все эти пороки и недостатки были не показателями каких-то якобы врожденных мерзких черт характера сэммин, а вполне естественным и объяснимым результатом несправедливости социальной системы, не причиной, а следствием дискриминации, не виной, а бедой жителей бураку. Так, их поселки были грязнее, поскольку были значительно беднее. Безделие, алкоголизм и преступность являлись следствием не лени или особой порочности, а нищеты и хронической безработицы.
И все же самооценка париев была в основном положительной. Они считали себя гораздо нравственней и человечней, чем вся окружавшая их жестокая и бездушная, с их точки зрения, социальная среда. Системе унизительной дискриминации со стороны общества жители бураку противопоставляли традиционно’ сложившуюся практику самоизоляции. Внутренняя организационная и психологическая сплоченность им была необходима для взаимопомощи, поддержки наиболее нуждавшихся и какого-то самоутверждения и самоуважения. И хотя в бураку всегда встречались люди, которые, следуя господствующим о них суждениям, были невысокого мнения о буракумин, т. е. о самих себе, преобладающим все же был вполне положительный автостереотип, который являлся одним из важных элементов их психологического сплочения. Они считали неотъемлемыми качествами сэммин такие черты, как отзывчивость, усердие, почтение к старшим, добросовестность и честность [86, с. 236].
Такие суждения, в свою очередь, свидетельствовали о предубежденном отношении к самим себе. Практически они также были предрассудками, только обращенными на себя. Но такой' подход характерен для любой общности, обычно наделяющей себя набором во многом схожих положительных черт. Объективно он-содействует сохранению социальной отъединенности и нормальному функционированию каждой данной общности.
Традиционно взращиваемое таким образом чувство сословного единства предполагало одобрение многих навязанных и вынужденных ограничений и самоограничений, например, таких, как • обязательные внутрисословные браки, отдельные богослужения в. своих храмах, профессиональная специфика. Оно стимулировало безграничную верность своим бураку и недоверие и вражду к внешней социальной среде. Именно поэтому жители бураку обычно отрицательно относились к тем сэммин, которые пытались, скрыв свое происхождение, смешаться с «обычными» японцами или же добиться для себя освобождения при помощи смешанного брака. Они не без основания полагали, что эти «отступники» неизбежно разделят унижающие париев предрассудки большинства? и даже будут с особым рвением содействовать их распространению [68, с. 220; 86, с. 25]. Ведь нередко именно бывшие или тайные буракумин первыми из толпы кричали на замешкавшегося-сэммин: «Эта, ёцу!» Лишь бы никто не подумал, что они тоже из париев. Отсюда понятно, почему в конце XIX в. проявилось стремление индивидуально решать проблему дискриминации скорее непутем тайного смешения с хэймин, а при помощи эмиграции: на о-в Тайвань, в Маньчжурию, а чаще всего в Америку.
Объединяла отверженных не только вражда к внешней социальной среде, но и к господствующим в стране нормам, правилам и законам, к социальным и политическим идеям. Если последние допускали и санкционировали сегрегацию и унижение, то вполне естественным и оправданным было особое недоверие н неуважение к ним со стороны париев. Жители бураку всегда с большой дозой скептицизма относились ко всем формам полпти-
ческой пропаганды в школе, в печати и т. д. [86, с. 258]. И это делало их весьма восприимчивыми к идеям и настроениям левых, наиболее радикальных кругов общества.
Сплоченность париев проявлялась и в их обычном, каждодневном восприятии явления дискриминации. Если для большинства населения страны оно было малозначимым, второстепенным элементом жизни общества, то для жителей бураку оно всегда оставалось главнейшей, всепоглощающей проблемой. Оно было одной из основных тем всех разговоров, шуток, намеков и споров.
Однако все это вовсе не говорит о том, что парии представляли собой совершенно единую сословную массу. Среди них не было абсолютного единства ни в социальном, ни в психологическом отношениях. Конечно, большую роль все еще играли объединявшие их идеи и настроения сословного характера. Но наряду с ними возрастающее значение приобретали также и классовые по своей сути суждения и оценки, что выражало усиление внутри-сословных поотиворечий. Парии — крестьяне и рабочие — выступали против «собственных» помещиков и предпринимателей/ против всей- новой системы угнетения. Между представителями разных классов внутри этого сословия не могло быть достаточной идейной и психологической общности, единства в отношении возможных способов уничтожения сегрегации и обеспечения подлинного равенства. Трудящиеся-буракумин склонялись к более радикальной идеологии и методам действий. В конце XIX в. их уже не могли удовлетворить те верноподданнические идеи самовоспитания, которые в течение нескольких десятилетий выдавались привилегированными слоями (в том числе и среди сэммин) за панацею от всех их бед.
* * *
Таким образом, в Японии после переворота Мэйдзи наряду с огромными переменами буржуазного характера все еще сохранялись некоторые тщательно оберегаемые социальные элементы прошлого. И пожалуй, наиболее бесчеловечным и унижающим из них была сегрегация париев, которая с наиболее впечатляющей силой проявлялась в идейном и психологическом плане.
Однако и в этих сферах, как и в экономической, и в политической, явление дискриминации не оставалось неизменным. Нара-■ ставшие в них перемены создавали необходимые предпосылки к более решительной и эффективной борьбе с этим крайне болезненным пороком социальной системы Японии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I
I
На протяжении трех веков истории Японии время, казалось, текло с разной скоростью. Насыщенный многими яркими событиями тревожный и неустойчивый XVI век и беспокойное начало
XVII века сменились внешне более монотонным и тягучим периодом второй половины XVII—XVIII вв. Однако уже с конца
XVIII в. время опять как будто ускорило свой ход. События стали разворачиваться в нараставшем темпе, все более потрясая основы традиционного общества. Усиливался процесс неотвратимого поворота от феодального строя к буржуазному.
Этот поворот неизбежно вел к изменению образа жизни и даже социальной сути разных слоев населения. Он был трудным и сложным для всех этих слоев. Но наиболее мучительным он стал для японских париев. Ибо все трудности и противоречия трансформации общества сказались на их положении в самой болезненной форме.
Началом этого поворота можно считать вторую половину XVIII в., когда в сословной системе — социальной основе всей феодальной структуры — стали проявляться все более заметные признаки упадка. Именно поэтому главные усилия режима Токугава с этого времени были обращены на ее укрепление. При этом существенным элементом всей социальной политики властей стало всемерное усиление сегрегации париев. Принципы дискриминации были закреплены юридически, и на протяжении всей эпохи она поощрялась официально.
Сегрегация сэммин, в частности, служила идейному и политическому обоснованию сословной структуры организации общества, в сохранении которой была кровно заинтересована старая правящая элита. Знать хорошо понимала, что только полное сохранение сословной системы может обеспечить ей обширный комплекс привилегий и право на безраздельное господство над народом, на беззастенчивое ограбление его.
Но с XVIII в. в японском обществе довольно отчетливо проявилась и другая линия отношения к проблеме сэммин, представленная главным образом оппозиционными кругами, которая предполагала какие-то изменения париев к лучшему. Такие радикально настроенные политические деятели эпохи, как, например, Осио Хэйхатнро, Такасуги Синсаку и др., впервые попытались установить в какой-то форме контакт с низшими слоями населения, не посягая на основы структуры общества. Они верили в возмож-
ноеть значительных перемен в области социальных отношений при сохранении этих основ.
Ужесточение социальной политики правителями Токугава не спасло сословную систему. По мере укрепления в стране элементов буржуазности и новых социальных ценностей она пришла в полный упадок и в основном была уничтожена переворотом Мэй-дзн.
Однако ее пережитки продолжали сохраняться в японском обществе. В первую очередь это касалось париев. Наивысшей точкой буржуазных реформ в отношении групп париев после переворота Мэйдзи был декрет № 61, который не только не уничтожил дискриминацию, но практически еще более обострил ее.
Сэммин и в условиях становления буржуазного общества по-прежнему жестко и жестоко отъединялись от остального народа. На базе старых традиций и предрассудков в новой Японии поддерживалась строгая изоляция париев, осуществлялась их унизительная дискриминация во всех сферах жизни. Хотя за рассматриваемый нами период содержание феномена сегрегации в экономическом, идейном, социальном и политическом отношениях весьма основательно изменилось, формы его проявления в основном остались старые. Как и прежде, парии подвергались дискриминации при выборе места поселения, при вступлении в брак, при поступлении на работу и в учебные заведения, при любом контакте с «обычными» японцами.
В связи с этим возникает вопрос: сохранилось ли это явление дискриминации после переворота Мэйдзи лишь как досадный пережиток прошлой исторической эпохи? Можно ли считать, что оно, как утверждают некоторые исследователи проблемы, потеряв всякий социальный и экономический смысл, осталось только в эмоциональной сфере индивидуального японца и с конца XIX в. превратилось в чисто моральную проблему? (см. [86; 96, с. 2— Ю]).
Это далеко не так. Явление дискриминации не могло сохраниться в буржуазном обществе лишь как парадоксальный, малообъяснимый пережиток прошлого только благодаря силе социальной инерции. Ибо если бы это было так, то оно, затухая, вскоре постепенно сошло бы на нет. Однако на деле после переворота Мэйдзи оно не только не уменьшилось, но получило дальнейшее развитие, новый импульс.
В общем, в какой-то степени сохранение дискриминации обеспечивалось и силой инерции. Американские авторы Де Вое и Вага-цума совершенно правы, утверждая, что дискриминация сэммин — это в известной мере самовоспроизводящаяся система [86, с. XX]. Но только в известной мере. Ибо практически механизм ее воспроизводства в буржуазном обществе гораздо сложнее и приводился он в действие не только за счет внутренних импульсов. Имелся и даже в наши дни имеется довольно мощный комплекс внешних сил, способствующий сохранению и развитию этого явления.
• Прежде всего, сохранение дискриминации париев определялось объективными потребностями складывавшегося в Японии буржуазного общества. Оно нуждалось в поддержании такого социально-психологического климата, при котором новое социальное неравенство воспринималось бы как естественное, необходимое и вечное. А сегрегация париев и была уже готовым элементом •общественной жизни Японии, который можно было весьма успешно использовать для его закрепления.
В сохранении сегрегации париев были заинтересованы вполне конкретные социальные силы. Прежде всего, представители старой знати, стремившиеся как можно надежнее гарантировать свои позиции в управлении новой Японии. Их определенная социальная двойственность приводила к тому, что, даже содействуя буржуазному переустройству общества, они неизменно заботились и о неприкосновенности многих элементов старой сословной системы, которая обеспечивала им огромные привилегии. Кроме того, и усиливавшаяся буржуазия Японии также не имела ничего против •сохранения сегрегации, поскольку довольно быстро убедилась, насколько она выгодна и удобна для всей новой системы эксплуатации. И наконец, дискриминацию париев активно поддерживали и помещики, которые усмотрели в этом явлении надежную базу своего господства в деревне и получения максимальных доходов.
Таким образом, в Японии после переворота Мэйдзи сохранились старые и возникли некоторые новые объективные и субъективные условия, которые исключили возможность полной и последовательной отмены сословной системы, уничтожения сегрегации париев. И, следовательно, капиталистическая структура организации общества в том виде, в каком она утвердилась в Японии, сама воспроизводила явление дискриминации, будучи органически заинтересованной в нем. Поэтому дискриминация париев осталась неотъемлемым и существенным элементом всей социальной и политической жизни буржуазной Японии. Она использовалась в ней не только для оправдания новых принципов социального неравенства, но н для самых различных конкретных нужд господствующих кругов. Например, для утверждения жесточайшего экономического угнетения и политического бесправия народных масс, для оправдания просчетов властей, любых трудностей и неурядиц всего буржуазного общества.
Проблемы дискриминации, как мы думаем, находятся в числе труднейших объектов исследования. Мы убедились, насколько •сложны и глубоко скрыты от наблюдателя многие подлинные, действенные рычаги, приводящие в движение механизм сегрегации. А кроме того, исследование данного явления затрудняется и тем, что в эксплуататорском обществе долгое время просто отсутствовали какие-то минимально приемлемые условия для серьезного всестороннего анализа истории париев. Это и не удивительно. Ведь установление подлинных истоков сохранения сегрегации париев в буржуазном обществе имеет не только чисто научное, но и огромное практическое значение, в частности, для стабильности судеб самой капиталистической системы.
Правящие круги, очевидно, вполне устраивал бы подход к данному историческому феномену как к фатальной и неизбежной заданности в психологии отдельного человека и любого общества в целом. Ибо такой подход избавлял бы их от ответственности за сохранение сегрегации, исключил бы саму возможность и необходимость определения эффективных способов борьбы с ней.
Однако сама реальность и неизбежное ее осмысление учат многому. Так, практика и путь познания, пройденный японским обществом за первые десятилетия эпохи Мэйдзи, привел париев к концу XIX в. к выводу о том, что в стране имеются вполне конкретные силы, которые содействуют сохранению сегрегации и при буржуазном строе. Жители бураку убедились, что каким-то одним формальным законодательным актом уничтожить явление дискриминации невозможно. Оно слишком многогранно и слишком прочно укоренилось в обществе, чтобы его можно было устранить одним махом. Нужны настойчивые, постоянные и, главное, искренние усилия в самых разных сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной, идейной и психологической.
В связи с этим возникает вполне естественный и важный вопрос о принципиальной возможности решения сложнейшей проблемы сегрегации в условиях буржуазной структуры. Опыт Японии убеждает в том, что это практически невозможно или, во всяком случае, крайне трудно. Ибо наличие социально антагонистических интересов неизбежно препятствует подлинному прогрессу в решении данного вопроса. Понимание этого обстоятельства уже в конце XIX в. породило в среде париев идею о необходимости их включения в общедемократическое движение за коренные социальные преобразования. Становилось все более очевидным, что решение проблемы сегрегации явно не может быть изолированным от общего процесса либерализации и гуманизации общества.
На протяжении рассмотренных нами трех веков дискриминация париев неизменно оставалась весьма существенным компонентом всего общественного организма, японской цивилизации в целом. В этом явлении с наибольшей выразительностью воплотились все особенности и противоречия феодальной и буржуазной структуры в этой стране. Оно в значительной мере определило специфику культуры, социальной психологии японского народа.
Несмотря на то что внешне формы его проявления оставались почти неизменными, суть его все время менялась. В современной Японии оно уже в какой-то мере утрачивает свои экономические, идейные и политические аспекты и становится по преимуществу социально-нравственной, моральной проблемой. Однако это вовсе не сделало ее менее острой и болезненной; Ибо с течением времени, по мере решения основных социальных и политических задач, именно нравственные, моральные, общественные проблемы неизбежно и становятся наиболее значительными, ощутимыми и актуальными.
№ 1. Указ 1649 года, регламентирующий труд и жизнь крестьян.
Сельскохозяйственные работы следует производить с наибольшим прилежанием. Необходимо тщательно высаживать рис, удаляя все сорняки. По границам заливных и сухих полей нужно выращивать бобы или другие зерновые культуры, занимая ими, однако, не слишком много места.
Крестьянам с раннего утра следует перед обработкой полей срезать траву. А вечерами старательно и тщательно изготовлять соломенные веревки и мешки.
Земледельцам нельзя использовать чай и сакэ.
Чтобы избежать лишних расходов, вокруг жилого дома необходимо насаждать бамбук или деревья, опавшие листья которых можно использовать в качестве топлива.
Крестьяне, к сожалению, как правило, не обладают предусмотрительностью. Поэтому в период сбора урожая они не должны давать риса детям и женам, чтобы можно было создать запас пищи на будущее. В это время все они могут вместо риса есть просо, овощи и другую грубую пищу. А на случай голода необходимо сберегать даже опавшие листья. В период посадки риса и сбора урожая, когда работа наиболее трудная, можно принимать несколько лучшую, чем обычно, пищу.
Муж обязан трудиться в поле, а жена — за ткацким станком. Оба должны работать до ночи. И как бы жена ни была хороша собой, но если она пренебрегает домашними делами, часто попивает чай, бесцельно тратя время, или проста гуляет по окрестностям, с ней следует развестись.
Крестьяне могут носить одежду из хлопка или конопли, но не из шелка. Им нельзя курить табак, поскольку это вредно для здоровья и требует лишних затрат, а кроме того, грозит пожаром.
[89, с. 64—65; 7, т. I, с. 39—40].
№ 2. Из инструкции 1680 года (раздел о крестьянах).
Крестьяне — главный фактор всей национальной структуры. Поэтому чиновникам следует обращать особое внимание на защиту их интересов, чтобы он» не страдали от -недостатка средств.
В период мира люди склонны вести более свободную жизнь и не работают так упорно, как в трудные времена. Поэтому правительственным органам необходимо следить, чтобы люди не предавались роскоши.
Народ никогда -не вступает в прямой контакт с властями и, естественно, не понимает их должным образом. То же самое — и наоборот. В связи с этим власти должны прилагать усилия для укрепления контактов с народом для взаимопонимания и уничтожения подозрений.
Дайканы1 и представители правительства в деревнях должны воздерживаться от роскоши и внимательно следить, чтобы крестьяне усердно работали н выращивали хороший урожай. Нельзя перепоручать этих обязанностей подчиненным...
Дайканы и их подчиненные ни в коем случае не должны брать взаймы у людей из народа...
»N* 3. Предписания крестьянам об экономии (обнародованы в 5 месяце 1704 года во владении Саяма)
U Запретить любые излишества. Провести тщательное расследование, с тем чтобы выяснить, отдаст ли крестьянин всю энергию сельскому хозяйству или же он ленив. В зависимости от результатов этого обследования установить размеры обложения.
2) Архитектурные особенности крестьянских домов должны определяться сословными регламентациями. Мэйсю2, их жены и дети могут использовать для одежды шелк, чесучу и хлопчатобумажные ткани, а все остальные крестьяне — только хлопчатобумажные ткани.
3) Нельзя употреблоть в пищу рис и соевые бобы до того, как будут внесены все налоги.
4) Запрещается продавать и покупать поля и леса...
5) Ритуал женитьбы также определяется соображениями сословности.
[7, т. I, с. 70).
№ 4. Предписания об экономии (обнародованы в 1729 г.)
1. Деление на четыре сословия является естественным. По в последнее время крестьяне и купцы все чаще нарушают их границы: навещают буси на дому, а при встречах не уступают им дорогу. Поэтому мы впредь обязываем купцов и крестьян, если они сдут верхом, при встрече с буси, в том числе и с аенгару, обязательно слезть с коня, а пешеходу — сойти с дороги, снять головной убор и низКо Поклониться.
2. Представителям низших сословий запрещается применение дощатых потолков, татами, сёдзи 3, а также и строительство прихожих, конструктивно напоминающих соответствующие сооружения буен. Но главное для них — это внесение податей и выполнение всех повинностей.
3. Крайне аморально и незаконно то, что крестьяне, случается, не отдают всю свою энергию сельскохозяйственному производству, не выполняют своего долга по повинностям и податям, небрежно обрабатывают поля и вместе с тем роскошествуют, предаются развлечениям, попусту тратят время.
4. Совершенно обязательно воздерживаться от больших сборищ и пирушек...
[7, т. I, с. 71).
№ 5. Отчет о казни предводителей крестьянского восстания, совершенной в
Киото в 1738 г. париями местных бураку.
(В этом документе говорится о казни шестерых из 26 зачинщиков крупного крестьянского восстания, арестованных военным отрядом, который охранял здание управления дайкана. Аресты были произведены в то время, когда к зданию управления стали стекаться толпы недовольных непомерными податями кре-егьнн).
1. Собравшиеся в 5 часов утра у внешних ворот крестьяне настойчиво стучали в них, добиваясь встречи с. чиновниками...
2. ...Арестованных доставили к внутренним воротам, а остальные крестьяне вернулись на постоялые дворы. Арестованные были заключены п тюрьму, н охранять се 'поручили эта из местной деревни, которые исполняли обязанности младших надзирателей...
3. ...Шестеро осужденных на смертную казнь были отправлены на западный берег реки, где один из них — староста деревин—был .убит, а остальные не только убиты, но и обезглавлены,..причем‘их-.'головы были выставлены у ворот тюрьмы. Затем сорок человек эта, находившихся под руководством двух своих начальников, положили головы казнещшх и ящики, завернули их в бумагу, обвязали и привезли в свой поселок Такэда к тюрьме, как нм и было предписано. Там все пять голов были выставлены на одной доске, где они оставались в течение пяти дней. Днем и ночью их охраняли эта., ih
[101. с. 390].
№ 6. Петиция крестьян-париев в связи с предъявлением им требования вносить подати деньгами.
Обращаемся с почтением. <.
Нас считают слишком грязными и поэтому нам предписали производить поставки не рисом, а деньгами. В связи с этим у нас возникли большие .трудности. Поэтому мы с почтением просим облегчить нашу участь,
\. Прежний владелец разрешал нам осуществлять поставки рисом, ■ за что мы были ему благодарны. Однако теперь нас впервые заставили делать взносы деньгами. В связи с этим мы не можем обрабатывать нормально поля и, не имея других источников существования, испытываем большие трудности. Мы крайне .нуждаемся в снисхождении и поэтому просим Вас разрешить нам впредь делать взносы рисом.
[7. т. /, с. 95].
№ 7. Приказ хинин (1764 г.).
1. Все нищие, мужчины и женщины, впредь должны носить одежду из одноцветной ткани без узоров, такой же пояс. Ткань должна быть хлопчатобумаж-ная, низкого качества.
2. Запрещается носить хаори и сэтта.
3. Во время дождя запрещается использовать что-либо иное,' кроме широкополой шляпы и накидки.
4. Чтобы женщин-хинин сразу можно было отличить от представительниц других сословий, они должны волосы собирать в пучок на затылке, а в качестве украшений для волос им разрешается использовать только деревянные гребни.
5. Забывать о своих сословных рамках и вносить в свою одежду такие исправления, которые делают ее обладателя похожим на представителей других сословий, является огромной наглостью.' Такие нарушители будут обязательно наказаны.
[7, т. I, с. 116].
Я* 8. Указ бакуфу 1778 г.
В последнее время нравы эта и хинин значительно ухудшились. Они стали допускать в отношении крестьян и горожан наглые выходки: одеваются как благородные, без зазрения совести останавливаются в гостиницах и харчевнях. А когда им делают по этому поводу замечания, позволяют себе грубо отвечать. Кроме того, и сами крестьяне и горожане, поссорившиеся с ними, довольно часто приобретают плохую репутацию. В связи с этим впредь всем эта категог рически запрещается одеваться так, как крестьяне н горожане.
[54, с. 58—59]. . ’ -
Я* 9. Указ 1780 г. по княжеству Тоса
1. Поведение эта в последнее время вновь резко ухудшилось. Они одеваются и ведут себя как крестьяне, что уже само по себе большая наглость. Они совершенно свободно направляются в деревни, посещают крестьянские дома и ведут себя крайне- вызывающе. Отправляясь в обход с новогодними поздравлениями, они получают угощение н закуску4. Но при этом они позволяют себе назойливо домогаться дополнительных подачек, без разрешения вступают в разговоры и т. д.
Мы предупреждаем, что если впредь будут обнаружены такие наглецы, то по приказу местного сёя5 их следует связать; доставить в .местное управление н строго .наказать.
2. Следует также строго наказывать тех эта, которые пытаются затесаться в общество-крестьян, горожан и других порядочных люден..- л
3. Сёя необходимо применять самые суровые меры к тем парням, которые, нарушая правила, болтаются по городу до захода солнца.
4. Посещение домов порядочных людей необходимо сократить для эта до минимума.
5. Необходимо последовательно осуществлять все меры, касающиеся одежды, которые дали бы возможность отличать эта от остальных порядочных люден во время религиозных праздников в местах скопления населения.
Настоящий указ должен быть доведен до сведения всех эта владения.
[55, с. 293-294].
Л* 10. Отрывок из одного личного письма, посланного из северных районов страны во время голода конца 80-х годов XVII в.
...Зима была очень теплая, почти как лето. Но весной начался холод и проливные дожди. Оказалось невозможным проводить необходимые полевые работы, н рис по преимуществу не взошел, а проросший был очень плохого качества.
Люди стали есть все, что можно было жевать, а это часто приводило к страшным желудочным болям, отравлениям и смерти. В сентябре нищие начали есть собак, кошек, обезьян и других животных, нередко отвратительных, а в последний месяц стали убивать и есть не только кошек и собак, но и лошадей и быков. Нищие и сэммин прямо на улице хватают и убивают собак и кошек и едят их на глазах у всех без соли, напоминая демонов. И эту картину невозможно передать словами.
Повсеместно распространяется грабеж. Грабители связывают людей и, взяв все съедобное и ценное, поджигают дома...
Уже наверное около половины населения этих районов вымерла, и никто из оставшихся в живых не представляет, что будет с ним с января до марта— апреля.
Везде шныряют нищие и сэммин. И в обычное-то время они похожи на пугала Намбу6. Но как они выглядят теперь, это я не могу тебе описать. Бледные, с всклокоченными волосами и горящими глазами. Скулы и челюсти торчат, а тела настолько истощены, что они кажутся облаченными в грубые циновки. Их даже трудно назвать человеческими существами.
Торговцы боятся открывать свои лавки. Ибо если их открыть, то нищие без конца будут туда пробираться и не уйдут, пока им не дадут что-нибудь съестное.
Если человек бывает вынужден обратиться к соседу по делу, то ему даже днем не разрешают войти в дом. А если кто-либо решается дать подаяние, то потом он даже с помощью всей своей семьи не может при распределении кусков предотвратить драки, в которой старые и слабые обычно лишаются своей доли. Такая картина поражает в самое сердце! Бывает, что в схватке за кусок некоторые падают в рвы с водой. Но и там они продолжают драку. Все это напоминает ад.
Каждую ночь происходят пожары, во время которых сгорают люди, а также лошади, быки, куры и собаки.
Прошло более 2800 лет после смерти нашего любимого Будды, и нам говорили, что последний день наступит еще не скоро. Но теперь я чувствую, что •он уже близок... И в таких условиях все, что может быть сделано для спасения нищих и сэммин, не больше капли в море.
Закон строго запрещает выбрасывать павший скот — лошадей. и быков. Но в настоящее время нужда заставляет поступать именно так. И нищие сразу набрасываются и срезают с павшего скота куски мяса и продают их как оленину. И люди, хорошо понимая, что их обманывают, все же покупают это мясо, так как оно дешево.
...Близ стен замка и в его окрестностях случается, что родители топят своих детей в море и реках... Те, кто стыдился людей, уходили в лес и кончали там жизнь самоубийством. А многие навязывали на себя камни и бросались с утесов
ъ море. _ „ ' 1,
В последнее время участились пожары, их бывает до 5—6 за ночь. Пользуясь пожарами, в горящие дома врываются толпы людей, часто по 50—70 человек и грабят имущество и зерно. Поскольку это бывает очень часто, никто не может быть спокоен ни на минуту.
Ничто не уродилось на территории Сэндай, Цугару и Мориока...
Вам, наверное, трудно представить, что нищие пожирают мясо кошек, собак, лошадей и быков. Но еще более ужасно, что и человеческое мясо оказалось достаточно аппетитным. Омерзительно!
[101, с. 129—131].
№ 11. Инструкция крестьянам, обязывающая их принять участие в восстании. Выработана инициативным комитетом (конец XVIII в.).
...Теперь от урожая риса уже ничего не осталось, и опять начался голод. Он распространился по многим районам Каи и угрожает нашей жизни. Поэтому необходимо, чтобы:
1. Все достали свое оружие.
2. Всем участникам восстания одеться в такую одежду, которая способна надежно защитить тело.
3. Все деревни должны выставить по две группы, и каждой необходима иметь свой гонг и барабан.
4. Иметь на вооружении металлические топоры и серпы с ручкой в 3 сяку7.
5. Каждой группе иметь флаг, на котором изобразить заглавный иероглиф, названия деревни.
6. Выступать и двигаться только ночью.
7. Переправляться через реки сразу в нескольких местах.
8. Переправляться только с помощью лодочников.
9. Действовать лишь по указанию руководства.
10. Согласованные действия будут достигаться в результате совещаний.
11. Недопустимо любое воровство.
12. Нельзя наносить никакого физического ущерба людям.
13. Следует строго соблюдать меры предосторожности в обращении с огнем.
[79, с. 31—32].
№ 12. О положении буси в начале XIX века. (Из анонимного произведения, изданного в 1816 г.).
Многие букэ самого разного ранга часто попадают в крайне затруднительное положение из-за недостаточности доходов. Случается, что свои военные доспехи, доставшиеся им от дедов и отцов, и оружие, которое их предки добыли на поле брани, они несут в чужие дома и продают как товар. Они также иногда не берегут дары своих господ и закладывают их в ломбард или продают.
Теперь, отправляясь к своему господину, или в иных важных случаях, они это делают не верхом, а пешком, без копья и без эскорта из вассалов и пажей. Бывает, что, отправляясь к господину, они получают из милости, на время, заложенные в ломбарде доспехи и оружие, а потом возвращают все обратно. Это приводит к тому, что к ним в народе стали относиться с презрением, насмешливо, пародируя подобные путешествия в замок и обратно.
Самураи, особенно мелкорентные — кати, асигару и иные,— уже бывают иногда вынужденными идти в услужение и обращаться к самым разным видам заработков: они клеят зонты и фонарики, изготовляют части гэта и асида 8 и т. д. Вынуждены прирабатывать и их жены и дети. А некоторые даже под видом горожан просят милостыню.
Вот так и получается, что бусидо и добропорядочность становятся для самураев недосягаемой роскошью.
[7, т. I, с. 110].
flt 13. Приказ 1808 г. о сэммин (предписание дайканам).
1. В последнее время распространился обычай щегольства, которому стали
следовать и эта, начисто забывая о своем статусе. В связи с этим все эта старше 7 лет, независимо от пола, должны впредь носить на груди четырехугольный (каждая сторона в 5 суй9) кусок шкуры.
2. Над входом в свои дома они также должны прикреплять куски шкуры.
3. Женщинам запрещается использовать украшения для волос...
4. Гэта и зонтики нм запрещается использовать в любую погоду.
5. На любые представления им не следует собираться в большом количестве. Присутствуя же на представлениях, они могут располагаться лишь на открытом, не защищенном от дождей месте, пс смешиваясь с крестьянами н горожанами.
6. Им можно пользоваться фонариками только со специальными значками.
7. В сельской местности им нельзя торговать ничем, кроме кожи.
8. Они не смеют допускать бестактности при обращении к гокэнин 10, крестьянам и горожанам.
158, с. 241].
№ 14. Запись о голоде в районах Тэмбо после 1833 года, сделанная очевидцем
в 1837 году.
Начиная с осени прошлого года люди оказались вынужденными использовать в пищу высушенную и истолченную в порошок солому, водоросли, полевые травы п листья, рами и, дикое просо, подорожник, омежник, кору сосны, брюхоногих моллюсков. И все же многие продолжали умирать с голоду. К тому же опять началась непогода...
...Что же касается эта из Тадзима, то в одной из их деревень умерло от голода 20 человек, а в другой — 70—80 человек, и осталось в живых лишь 15—16. Еще в одном поселке эта в 40 домах умерло 90 человек, а осталось в живых только 17—18.
[7, т. I. с. 176—177].
№ 15. Обращение к властям крестьян, восставших в 1837 г. во владениях
Этиго.
1. Уже много лет цены на рис неуклонно растут, повсеместно свирепствует эпидемия. Люди умирают от голода. С весны этого года двадцать из каждой сотни крестьян превратились в нищих или же погибли от голода. А оставшиеся продолжают прилагать все усилия, чтобы спасти себя. Уже теперь, приблизительно за 90 дней до сбора осеннего урожая, всем стало ясно, чть при таком голоде из каждой сотни крестьян обязательно погибнут около пятидесяти и хозяйство повсеместно придет в упадок.
Исходя из сказанного, мы обращаемся с убедительной просьбой установить точное количество имеющегося в стране риса и распределить его приблизительно одинаково между нуждающимися в каждом уезде и области. Только это может спасти людей и дать ям возможность дотянуть до осеннего урожая.
2. ...Мы опасаемся, что слабые крестьянские хозяйства разорятся и очень многие земледельцы не выживут. Только поэтому мы обращаемся к Вам. уповая на безграничную доброту императора, с просьбой, чтобы Вы приказали дайме относиться к нам милостиво. 7-я луна 1837 г.
[7, т. I, с. 152].
№ 16. Приказ бугё 12 Китамати артистам города.
В последнее время артисты стали селиться вокруг театров, в районах, где живут обычные горожане. В связи с этим нравы в нашем городе ухудшились.
В первую очередь это вызывается неприличным поведением артистов театра кё-гэн. Их плохие нравы стали отрицательно влиять на поведение всех жителей города, определяя недопустимую моду в одежде, манеру поведения и т. д. К свободному расселению артистов среди горожан и к забвению ими своих Обязательных рамок привела полная бесконтрольность. В связи с этим мы указываем, что все артисты впредь не могут проживать в пределах города и должны срочно покинуть его. 18-й день 12-й луны 1841 г. j
[61, с. 113).
№ 17. Приказ эта от 1843 года.
1. ...При встрече не только с самураем, но и с любым официальным лицом или другим достойным человеком вы должны сразу же снять головной убор, сойти с его пути и упасть перед ними ниц.
За исключением случая, когда вы несете на плечах какой-либо груз. >■
2. Если у вас имеется дело, по поводу которого вы вынуждены посетить, крестьянина или горожанина на дому, вам надлежит при входе в дом снять обувь и с порога коленопреклоненно сообщить о своем деле. Докладывать о-нем только полусогнувшись совершенно недопустимо...
[7, т. I, с. 156—157].
№18. Число случаев неповиновения крестьян феодальным властям по годам правления императоров в период Токугава |3.
Годыправления Числовыступлений Годы правления Числовыступлений 1603—1614 64 1748—1750 64 1615—1623 56 1751—1763 141 1624—1643 89 1764—1771 102 1644—1647 4 1772—1780 66 1648—1651 15 1781—1788 208 1652—1654 10 1789—1800 143 1655—1657 12 1801—1803 34 1658—1660 11 1804—1817 197 1661—1672 59 1818—1829 152 1673—1680 36 1830—1843 359 1681—1683 19 1844—1847 46 1684—1688 15 1848—1853 78 1688—1703 73 1854—1859 100 1704—1710 36 1860 32 1711—1715 23 1861—1863 44 1716—1735 177 1864 17 1736—1740 42 1865—1867 13 1741—1743 30 В конце эпохи Эдо 5 1744—1747 36 Всего 2726[7, т. I, с. 151].
№ 19. Обращение к властям жителей сельского бураку с просьбой отменить регламентации в одежде.
С почтением и с прискорбием заявляем о наших.невзгодах: •
1. Нам предписали одежду определенного цвета. Мы просим отменить это указание. Это принесет нам огромное облегчение й мы будем признательны за возможность жить крестьянами. - * ■ •
2. В пределах всего владения мы, кавата, трудимся наравне с крестьянами... Но в связи с регламентациями в одежде рассматриваемся не как крестьяне, а как эта. Это обстоятельство изменяет всю нашу жизнь...
Если вы учтете наше обращение, все кавата будут вам благодарны н счастливы...
1 !-я луна 1840 г.
[7, т. II, с. 188).
•Ns 20. Указ 1843 года по княжеству Тёсю о недостойном поведении сэммин.
В последнее время поведение эта, химии, кюбан 14 и других еще более испортилось. Они ведут себя совершенно неподобающим образом. Не только по •отношению к крестьянам и горожанам, но и в общении со всеми представителями хэймин. Их дома и одежда стали слишком роскошными. Они теперь во всем подражают горожанам и торговцам, т. е. ведут себя несоответственно своему сословному статусу. Даже позволяют себе торговать, ходить по рынкам, заходить в любые лавки, в том числе и в те, где продают предметы роскоши. Дошло до того, что манерой изъясняться они подделываются под хэймин...
Все это недопустимо и подлежит запрету.
[71, с. 169; 69, с. 183).
Jb 21. Ответ жителей деревни Ватанабэ на предложение бакуфу сделать внеочередной взнос в казну (май 1867 г.).
Мы используем в пищу мясо животных, за что нас считают грязными существами. А вот европейцы, хотя и питаются мясом, однако к ним у нас относятся вполне достойно. Более того, после открытия портов для внешней торговли и многие весьма уважаемые у нас в стране люди сами уже привыкли к употреблению в пищу мяса.
Поэтому мы считаем теперь необходимым отменить дискриминацию и употребление крайне оскорбительного слова эта. В ответ на это мы будем готовы отдать все наше состояние в государственную казну.
[7, т. I, с. 178].
№ 22. Обращение жителей одного бураку с просьбой уравнять их в правах
с крестьянами основной деревни.
...1. Мы ежегодно выполняем все общинные работы, обычно по два дня в году. А если, случалось, наводнение ломало дамбу, то по одному человеку от семьи работало еще три-четыре дня в году. Мы трудились вместе с крестьянами основной деревни, причем их обычно поили и кормили, а нас никогда.
Жители основной деревни в случае -необходимости даже не нуждаются в специальном подтверждении факта землевладения. А среди нас нет землевладельцев, поэтому мы не можем оформить кредит или залог.
2. Крестьяне основной деревни, если хотят, могут теперь свободно расширять свои постройки. Мы же полностью лишены такого права.
Улицы у нас такие узкие, что выйдешь из своего дома и упрешься в дом напротив. В случае пожара, если даже все от мала до велика ухитрятся выбежать из домов, все равно будет плохо. А при большом снегопаде двери так заваливает, что и не открыть.
Убедительно просим Вас учесть все это.
5-я луна 1868 г.
[7, т. I. с. 181].
№ 23. Проект перевода эта в разряд хэймин при условии обязательной отправки их на земли Эдзо, представленный Хоаси Банри.
К настоящему времени мятежники Эдзо -наконец умиротворены, что сделало возможным колонизировать эти районы. Однако население тех мест крайне ма-
лочисленно, и «ему не под силу выполнить такую большую и сложную задачу. Но у нас имеется категория людей так называемых эта. Вот именно их и следует поселить в районах прежнего Оу 1S. Ведь они сами являются потомками какой-то части жителей Эдзо. Взятые в плен еще в древнем Эдэо, они были, приставлены в качестве слуг к могильникам в Исэ 16. Они использовали в пищу мясо быков и лошадей, поставляли кожу и мясо, рубили деревья на священных горах...
Впоследствии, после того как эти территории были покорены, все жители Эдзо стали, по существу, японцами. И теперь практически люди Эдзо от остальных жителей Японии ничем не отличаются...
Следует организовать их паломничество, совершить обряд очищения, после чего их можно будет признать хэймин и отправить в районы Эдзо. Там они будут зарабатывать себе на жизнь, работая на шахтах, лесозаготовках, рыбных промыслах, а также в сельскохозяйственном производстве и животноводстве. Тем самым мы обеспечим переход эта в разряд хэймин и решим поставленную задачу колонизации Эдзо.
[5, с. 2—3].
№ 24. Проект освобождения париев, представленный в когисё Като Хироюки.
Хотя нам неизвестно подлинное происхождение эта и хинин, однако ясно, что они ничем не отличаются от всех остальных людей, и поэтому бесчеловечное отношение к ним полностью противоречит естественным законам.
Если теперь, когда у нас устанавливаются контакты с зарубежными странами, мы оставим положение дел в этой сфере неизменным, то это вызовет презрение к нашей стране. Поэтому будет гораздо лучше, если мы в полном соответствии с проводимыми у нас Высочайшими реформами отменим категорию эта-хинин, а ее представителей включим в состав «простого народа».
Еще весной прошлого года (1867 года.— 3. X.) бакуфу пыталось освободить эта и хинин, находившихся в подчинении Даннай 17. Тем более мы должны это сделать теперь. Ибо иначе это будет противоречить идеям правления нашего монарха. Именно поэтому мы срочно должны изменить положение эта-хинин и перевести их в состав народа.
\7, т. 11, с. 14—15].
№ 25. Отрывок из статьи политического деятеля из владения Kara Сэнсю
Фудзиацу «Принципы управления эта».
...Эта происходят или от плененных в далеком прошлом корейцев или же «от потомственных охранников древних гробниц. Но кто бы ни были их предки, они все теперь являются вполне достойными японцами и их не следует отделять от нас. Нельзя их также дискриминировать и презирать только за то, что они якобы лишь по внешности люди, а по своим душевным свойствам—звери.
Нам всем следует учесть, что если даже лишь какая-то часть эта сама придет к такому же выводу и выступит против дискриминации, то ее неизбежно сразу поддержат эта всей страны, что вызовет в конце концов большие беспорядки. И тогда малыми военными силами с ними уже не справиться. И вот именно поэтому нам самим следует как можно скорее отменить сословную дискриминацию и объявить их всех хэймин...
176’, с. 64].
№ 26. Проект Высочайшего повышения социального статуса эта-хинин, предложенный представителем княжества Мацумото Утияма Соносукэ.
Следует отменить названия эта и хинин... ввести такое же отношение к ним как к крестьянам и горожанам и постепенно отменить ограничения на свободное бракосочетание.
Но всем нам необходимо учесть, что если их поставить под контроль двора, то потребуются большие государственные средства. А если их потом переселить иа земли Эдзо, то расходы окажутся просто непомерно огромными...
№ 27. Указ 1870 года, изданный в княжестве Вакаяма.
1. В последнее время нравы эта испортились и они стали позволять себе нг.глые выходки. Поэтому мы этим декретом извещаем их о следующем.
2. В городах и в деревнях, когда эта движутся по дорогам, они обязатедь-но должны держаться ее края, не позволяя себе ни малейшей грубости по отношению к прохожим.
3. С захода и до восхода солнца им запрещается слоняться в городах и» деревнях по улицам.
4. Они не имеют права питаться в пределах города.
5. Шляпами и накидками они могут пользоваться только в дождливую погоду.
а, Им запрещается использовать любую обувь, кроме дзори.
[58. с. 233].
№ 28. Предложения о переводе эта, хинин и онбо в хэймин.
Главному советнику Народного ведомства Оги Такато.
...Будет вполне естественным, если мы на основе общих принципов предоставим им одинаковые с хэймин права и будем руководствоваться единым
гражданским кодексом. Правда, древние традиции и дурные обычаи легко н
вдруг не изменить, но если и не пытаться их изменить, то вообще ничего практически не удастся сделать...
Как же нам добиться намеченного?
Прежде всего следует отменить названия эта-хинии-онбо и другие, а вместо-них внести какое-то более подходящее название. Затем следует освободить их от 1фежних повинностей и создать орган, контролирующий соблюдение их прав. Необходимо стимулировать их предпринимательскую деятельность и предоставить нрана на свободную торговлю, а также привлечь к развитию животноводства. В соответствии с возможностями нужно выделить денежные средства в фонд поощрения деловой активности. В первую очередь создать управления развития предпринимательской деятельности в префектурах Токио и Осака. Важно пригласить зарубежных специалистов для профессионального обучения сэммин... С течением времени мы сможем обеспечит!, их и всеми другими правами-и в конце концов ввести в состав хэймин.
Ниже мы приводим некоторые наши конкретные предложения:
...5. В Токио н Осака создать префсктурные ведомства поощрения производ-С1 венной деятельности и предложить им нанять иностранных специалистов для обучения современным методам производства кожевенных и молочных изделий-.
6. Тем людям, кто согласится внести средства в фонд развития промышленности в бураку, обеспечить пятипроцентную прибыль.
7. Освободить их от повинностей по захоронению.
8. Отобрать наиболее крепких из них в пожарные команды и полицию, выплачивая нм соответствующее жалованье.
9. Местным властям выявить людей без постоянных занятий и направить-их на Эдзо и в другие необжитые места, где, передав опыт колонизации, приобщить к производительной деятельности.
Пояснения к нашему проекту преобразований.
...Часть людей все еще не освободилась от старых обычаев и привычек, И хотя мы и стремимся включить сэммин в списки хэймин, это одно еще не может уничтожить прежние представления о них... Поэтому мы должны вводить их в состав хэймин только по мере распространения знаний и просвещения... И лишь когда взойдут зерна подлинного образования и культуры и будет создана финансовая база для развития различных отраслей производства париев, только тогда к ним уже не смогут относиться с презрением и пренебрежением.
С почтением О.а Таку.. Январь 1871 eodai
\5, с. 6-8].
№ 29. Декрет правительства № 61 от 28 августа 1871 года.
Наименования эта, хинин и другие отменить.
Впредь всех одинаково включать в общие списки.
Все сословные занятия сделать равными и одинаково оценивать.
Налоги, в частности на землю, ранее отмененные, восстановить после соответствующего расследования министерства финансов.
{73, с. 195].
№ 30. Пояснительная инструкция к декрету № 61, разосланная в префектур-ные управления.
...Эта, хинин и другие названия сэммин впредь отменяются и все они заносятся в общие списки хэймин. В социальном и профессиональном отношениях все люди будут пользоваться одинаковыми правами и ко всем будут относиться как к равным.
Однако в ряде районов все еще сохраняется обычай освобождения жителей бураку от поземельного и других налогов. Для устранения такого положения местным властям следует произвести соответствующие обследования и срочно доложить о его результатах в министерство финансов.
[7. т. 11. с. 21].
№ 31. Прошение жителей бураку уезда Така в Харима 18 об отмене старого названия их поселка.
Наша деревня прежде называлась деревней кавата. Но теперь она стала налогооблагаемой и формально чистой.
В течение жизни многих поколений мы, ее жители, будучи крестьянами, занимаемся обработкой земли. Однако равными с другими крестьянами правами все еще не пользуемся.
Нас называли кавата потому, что в свободное от сельскохозяйственного производства время мы занимались выделкой различных изделий из кожи для военных нужд владетеля и для торговли. Для многих земледелие было даже побочным занятием.
Но теперь мы Вас покорнейше просим: в соответствии со всеми реформами я из сострадания к нам исключите в названии нашей деревни это определение из двух иероглифов — кавата, чтобы с нами впредь обращались как с хэймин. Это сделает нас счастливыми и благодарными.
1871 г. Харнма. Староста и крестьяне.
[7, т. II, с. 17].
№ 32. Крестьянские выступления, во время которых выдвигались требования отменить декрет об освобождении париев или же совершались нападения на их поселения.
Дата Провинция Входит в состав Причины и требования Формавыступления Жертвы н ущерб Числоучастников октябрь 1871 г. Харима Хи-мэд-зи-Икуно Отмена декрета об освобождении париев, сокращение налогов, недовольство старостами Бунт Нет Около 5 тыс. декабрь 1871 г. Тоса преф.Коти Против феодальных князей, иностранцев и воинской повинности Бунт Неизвестно Несколькотыс. январь 1872 г. Бнтю Фука-цу Против декрета об освобождении париев Бунт Убито три человека Болееоднойтыс. январь 1872 г. Бидзэн преф.Окаяма Против декрета об освобождении париев Бунт Сожжено 24 дома, 51 разрушен Неизвестно май— июнь 1873 г. Б Исаку преф.Окаяма Против воинской повинности, законов о школах н об освобождении париев Бунт Сожжено 263 дома Около 26 тыс. июль 1873 г. Тику-дзэн преф.Фукуока Против роста цен, против администрации и бураку Бунт Сожжены дома Около 10 тыс. июль — август 1873 г. Биго преф.Хиросима Против буракумин Бунт Неизвестно Около500 июль 1873 г. Тамба преф.Киото Против воинской повинности, законов о школах и об освобождении париев Петиция Нет Около 2 тыс. июль 1873 г. Биго префХиросима Против буракумин Бунт Разрушеныдома Около300 август 1873 г. Биго » J » » Бунт » ... [7, т. II, с. 61].№ 32а. Решение крестьянской сходки о неподчинении декрету об освобождении париев.
...В ответ на опубликование данного декрета старосты уезда обращаются со следующим прошением.
Поскольку эта своим посещением оскверняет дома крестьян, мы просим запретить им навещать нас. А пока крестьяне ряда деревень собрались и договорились между собой о следующем:
1. Не нанимать эта ни на какие работы.
2. Не платить им за перевозки грузов.
3. Не покупать у них скота, а также новой или отремонтированной обувиг дзори, сэтта, гэта и т. д.
4. Избавиться от всяких работ, связанных со скотом.
о. Запретить эта посещать деревни по любому поводу.
6. Запретить им ношение паланкина.
7. Запретить посещение домов по любому поводу.
8. Если же кто-либо из них все же зайдет в дом крестьянина, то хозяину следует сразу же выяснить его имя и из какой он деревни и заявить об этом жалобу администрации.
9. Не покупать у них мясо диких животных.
Сентябрь 1874 г.
[7, т. II, с. 58].
№ 33. Выписка из судебного протокола (об осуждении участников крестьянского выступления).
...Кроме того, они оставили без внимания императорский эдикт, отменивший в августе 1871 г. объединения эта-хинин, и с крайним неудовольствием отнеслись к предписанию равных контактов с жителями бураку. Они договорились между собой о подаче совместной петиции с просьбой отменить указанный декрет. Для того чтобы возбудить общественное мнение и объединить крестьян для подачи петиции, они стали распускать самые разные устрашающие слухи о жителях бураку, а также о прибытии иностранцев и т. д. Это н привело к отмеченным волнениям, во время которых были сожжены многие дома. За эти деяния их и следует сурово наказать.
[7, т. II, с. 64\
№ 34. Документ об аренде земли у помещика.
...Мы арендуем данный участок земли и независимо от размеров урожая в течение пяти лет, с 1879 до 1883 г., >в срок до 10 ноября каждого года будем вносить в качестве арендной платы 4 коку 2 то 1 сё19 риса.
В случае же любой задержки с ее выплатой мы за хаждый месяц опоздания должны будем вносить в виде штрафа дополнительно 1 се 6 го 7 сяку20, риса. Если же и до конца указанного срока мы не сможем произвести полной уплаты, то это обязан будет сделать поручитель.
Вместе с тем, если в течение указанного срока аренды землевладелец захочет отобрать у нас землю, чтобы обрабатывать ее самому или же передать ее в аренду другому лицу, мы не будем чинить этому каких-либо препятствий.
Подписи — Представителя администрации,
Землевладельца,
Арендатора,
Поручителя.
28 марта 1879 г. Л реф. Хёго, пров. Сасима.
[7, т. II, с. 56—57].
№ 35. Отрывок из произведения Сугиура Дзюго21 «Хан Кай юмэ моногатари»
(Повесть о снах Хан Кая) 22, написанного в 1886 г.
Более 1100 лет назад их изолировали от общества, назвав эта. Откуда же они происходят? — От пленных, захваченных при покорении трех китайских кня* жеств, а также от тех людей, которые были ввезены в страну при покорении Эдзо. Презрительное отношение к пленным перешло « на их потомков, сделав их изолированной частью населения... Кроме того, и по буддийским представлениям они также оказались достойными презрения, и их презирают больше, чем евреев в Польше и России. Но теперь это несчастье не только их, но н всей Великой Японии...
Сила закона слабее силы традиции, которая сохраняет их изоляцию в вопросах брака, общения и торговли. Как же решить эту проблему? Переселить их в Америку, или же снова в Китай, или в Африку, в Сенегал?
Нет, все эти проекты неприемлемы.
Их насчитывается более 450 тыс. человек, приблизительно около 90 тыс. семей. И если от каждой семьи взять по одному крепкому мужчине, то у нас будет около 90 тыс. человек. А с такой силой можно и горы свернуть... Куда же ее направить? В Корею, Китай или в Южные моря? Нет, самым лучшим объектом колонизации является о-в Тайвань. В случае его освоения устраняются многие наши трудности, и при этом ие роняется престиж Японии... Земля там плодородная и вполне пригодна для производства сахарного тростника н листьев табака в размерах, обеспечивающих значительный экспорт. Возможно и развитие животноводства.
■ Именно это нам следует сделать, причем быстрее, пока этого не сделал Запад.
...Переселившись на остров, буракумин, привычные к употреблению в пищу мяса, сблизятся в религиозном отношении с европейцамн-христианами и ассимилируются местным населением...
15, с. 10-19].
№ 36. Отрывок из статьи, помещенной в газете «Кобэ юсин ниппо» в феврале
1SS6 года.
Принципы гарантии прав бывших эта и хинин.
...После отмены старых наименований их включили в состав хэймин. Но в связи с этим их положение изменилось только в том, что они, как и все остальные хэймин, стали платить налоги правительству, и кроме того, им также вменили в обязанность служить в армии, т. е. политически с ними стали обращаться как и с остальными гражданами. Ни на йоту иначе...
Однако и теперь, если рассмотреть их подлинное положение в обществе, то мы видим, что оно практически почти ничем не изменилось по сравнению с периодом до отмены их старых наименований. Мы считаем, что сохранение та-.кого положения может иметь очень печальные последствия для всей страны.,.
Действительно, теперь случается, что способные, смелые и состоятельные люди из числа бывших эта иногда тайно переселяются в города, где, в частности, начинают заниматься торговлей. Однако если кто-либо случайно устанавливает их прежнее место жительства,, а значит, и их происхождение, отношение к ним резко меняется... В связи с этим сразу блекнет их репутация, контакты с людьми становятся невозможными и они теряют своих клиентов.
Таким образом, формально бывшие эта пользуются одинаковыми с другими политическими, правами. А на деле они в обществе не равны хэймин. Поэтому борьба против такого ненормального положения должна стать сегодня нашей наиболее актуальной задачей.
TJ, т. II, с. 98].
№ 37. Сословный состав населения Японии в конце XIX в.
Сословие Численность % Хэймин ........ 31 106514 93,43 :Кадзоку ........ 2829 .Сидзоку ....... 1 548568 5.7 Соцудзоку ...... 343 881 Духовенство.....Религиозная админи 66995 страция ....... 79 499 0,87 Всего . . . 33298826 100(7, т. II, с. 43].
№ 38. 'Отрывок из статьи Накаэ Тёмин «Мир настоящих людей («Симмин сэ-кай»), опубликованной в 1889 г. в газете «Синономэ симбун» («Утренняя заря»).
Мы, син хэймин29, как и остальные японцы, живем на земле Японии и дышим ее воздухом. И как бы ни было нам плохо, никто не может запретить нам
жить на этой земле и дышать этим воздухом. А если кто-то считает необходимым выслать нас отсюда, то мы хотели бы знать: почему и зачем?
Власти назвали нас син хэймин, противопоставив тем самым нас всем осталь-ным — хэймин и кидзоку 24...
В народе нас все еще презирают — то ли за то, что мы снимаем одежду с трупов, которые хороним, то ли за то, что мы просим милостыню. А разве среди всех остальных нет таких, кто раздевает живых, кто выклянчивает себе содержание, кто бьет по рукам своих близких, равных или более низких по общественному статусу, и подхалимски гладит бородки своим начальникам, кто мошенничеством наживает себе богатство, покрывает воров, берет взятки... создает компании, с которыми занимается тайными махинациями, кто, прикрываясь авторитетом общества, печется только о собственной выгоде? Разве среди «обычного» народа мало людей, достойных самых резких определений и презрения?
А официально и традиционно подлыми и низкими, какими-то существами второго сорта, почему-то считают только нас.
[75, с. 81-82].
№ 39. Обращение к син хэймин преф. Фукуока (опубликовано в газете «Фу*
куре симпо» в 1890 году).
Общество Хэймин кай.
Неужели должно все еще сохраняться деление на уважаемых и презираемых? Ведь все люди созданы по одному образцу: обладают способностями к: семи чувствам — радоваться, возмущаться, сожалеть, бояться, любить, злиться и желать, к трем действиям — видеть, слышать и говорить. И все же одни от рождения имеют почетные титулы, а другие подвергаются презрению.
Несмотря на то что основные причины такого положения заключаются в человеческих обычаях, вместе с тем оно в значительной мере определяется также-и наличием или отсутствием в характере людей духа благородства и энергии, чувства собственного достоинства и самоуважения.
Мы всегда с признательностью помним, что наш великодушный император-уже давно осудил дурные обычаи и благодаря его милости 400 тыс. наших братьев получили наконец достойное место в обществе и естественное благо — свободу. Еще в начале эпохи Мэйдзи вы были уравнены в правах с остальным народом.
Общество, в котором уже нет знатных дворян и презираемых сэммин... обеспечило всем одинаковые условия для развития чувства собственного достоинства и для самоуважения. И энергичные и настойчивые люди теперь воспряли,, носят парчу и едят самое дорогое. А >не обладающие этими качествами, даже если они и выросли в роскоши, в условиях конкуренции в конце концов разоряются и, жалкие, обращаются к состраданию других.
Волей императора определено, что у нас любой человек, опираясь на свою энергию и деятельность и благодаря своим способностям и состоянию, может в условиях справедливой конкуренции всемерно добиваться своего счастья. И если вы, син хэймин, хорошо поразмыслите над подлинными причинами вашего положения, то не станете в гневе все смешивать.
Теперь... укрепляется местное самоуправление. С опубликованием имперской конституции упрочились права народа. Не говоря уже о том, что с нынешнего года создается еще небывалый в истории страны орган власти — парламент. Таким образом, мы видим более значительное распространение свободы народа. И при этом вы, син хэймин, по-прежнему пребывая во власти своих вредных привычек, не посвящаете себя служению столь цивилизованному обществу д не помышляете о реализации своих врожденных свобод и прав...
Но вы же выполняете свои обязанности по внесению налогов, в том числе-и «налога кровью». И вместе с тем вы без малейшего стыда все еще следуете за низкими людьми и, похоже, пассивно смирились со старыми обычаями... А именно это и затрудняет подлинное введение вас в наше общество...
В связи с этим, испытывая большую ответственность перед вами, мы пришли к выводу, что если бы у вас самих не было недостатка в настойчивости и ■предприимчивости, то общество, бесспорно, не смело бы. относиться к вам с
трезрением. Исходя из этого, мы и хотим впредь действовать в ваших интересах. Вместе с вами мы развернем широкое движение и не прекратим наших усилий,, пока с Кюсю оно не распространится на всю страну.
Хотите ли вы смыть позор долгих унижений и тем самым успокоить дух сроих предков? Если хотите, приходите к нам?
Желаете ли вы добиться прав и свобод и тем самым навечно обеспечить •своим потомкам общее со всем народом счастье? Если желаете, приходите к нам!
Кюсю хэймин кай.
[5, с. 24—26].
№ 40. Редакционная статья газеты «Фукурё сим по» от 4—5 апреля 1891 г.
(с сокращениями).
Син хэймин.
Так называемые син хэймин вместе со всеми нами составляют одно государство, один народ. У нас с ними одинаковы тело, кожа, волосы, ум, память, дух, язык, культура, работа и жизнь. Но даже и в наши дни они все еще находятся в особо несчастных условиях. В чем же причина этого положения?
До событий реставрации Мэйдзи они назывались эта и были изолированы от «обычных людей». Но, несмотря на это, они обладали рядом монополий на некоторые виды деятельности и, следовательно, какими-то преимуществами... Их положение вполне определялось выражением: «Слава не соответствует реальной выгоде»... В обмен на эти монополии и реальные выгоды они смирились с наименованием эта, что стало их традицией...
Но после реставрации они, с одной стороны, были освобождены от клейма эта, а с другой,— лишились своих монопольных прав. И таким образом, они не добились счастья... Удовлетворив свое тщеславие, они остались без прежних выгод... И даже звание хэймин, полученное ими, ни на волосок не прибавило им славы. Перед этим определением поставили иероглиф син (новый.— 3. X.), и с названием син хэймин они воспринимаются теперь так же, как и со своим старым наименованием эта, и, по существу, как и прежде, лишены возможности яа получение равного с хэймин обращения.
По конституции и по законам они имеют одинаковые со всеми права и обязанности. Но из-за сохраняющихся у нас в стране условий они продолжают игнорироваться «обычными людьми». И их несчастья еще не вызывают сочувствия остальных...
Мы считаем, что решения проблемы они могут добиться лишь собственными усилиями. Если они сами проявят дух предприимчивости и выйдут, соревнуясь, за пределы своей старой сферы,' то они обязательно добьются и славы и вы. тоды.
Неужели же им так трудно выйти за нынешние их несчастливые « невыгодные пределы? В следующем номере газеты мы попытаемся рассмотреть этот вопрос...
Имеются люди, которые постоянно твердят, что необходимо расширить права син хэймин. Однако мы совершенно не представляем, какие еще их права нам следует расширить. Они и так уже стали равными со всеми нами. В соответствии со второй статьей конституции им предоставлены все права и свободы личности и имущества. И в этом отношении они ни на волосок не отличаются от нас. В законодательстве всей Японской империи вы не найдете и следа ущемления их прав и свобод.
И все же такие разговоры не столь уже странные, как может показаться. Но неравенство сохраняется лишь потому, что жители бураку сами не пользуются своими правами и свободами в полной мере... Действительно, если они сами бедны, то как может быть реализовано их право «а собственность? Если по своим привычкам они все еще остались на уровне периода Эдо, то даже самая мощная в мире власть ничего не сможет дать им.
Поэтому прежде всего им следует по мере прогресса изменять свои плохие привычки...
В общении с другими они действительно часто подвергаются унижениям и
нападкам, не воспринимаются равными другим. Это так. Но ведь если они сами не обратят самого серьезного внимания на свой образ жизни и обычаи и не попытаются решительно переделать их, то практически вообще ничего не удастся сделать для них. В процессе перестройки их образа жизни и привычек следует обратить особое внимание на улучшение их знаний, морали, на значительное расширение круга их занятий...
Однако среди них могут найтись люди, которые сочтут наши слова уклончивыми и не имеющими особого смысла... Таким нетерпеливым людям мы хотим предложить иное. Пусть люди с капиталом направятся за границу для организации своего дела. А те, кто не имеет своего капитала, пускай отправятся за рубеж на заработки. Там ведь нет различий между хэймин и син хэймин. Там все японцы в одинаковой степени являются подданными нашей страны. А после того как они, терпеливые и прилежные, скопят там достаточно большие средства и вернутся на родину, уже никто не отнесется к ним без достаточного почтения.
Мы надеемся, что среди них найдется достаточное количество людей, которые решатся на проведение наших проектов в жизнь.
[6, с. 26-29].
ПРИМЕЧАНИЯ
Предисловие
1 Сегун —титул военно-политических правителей Японии.
2 Сэммин (буквально — «подлый народ»)—общее название всех низших, дискриминируемых групп Японии, противопоставленных основной части населения страны — рёмин («благородный народ»).
3 Эта (буквально — «много грязи»), хинин («нечеловек», «нелюди») —названия основных дискриминируемых групп японских париев.
4 Сёэны — владения, которые с VIII—IX вв. жаловались императором своим приближенным. Их владельцы назывались сёдзи. Они получали право только на продукты, производимые в этих владениях. Земля же оставалась собственностью императора и налогами не облагалась. Но с течением времени сёдзи стали независимыми хозяевами этих владений.
5 Даймиат — владения крупных, независимых феодалов-даймё (князей). Эта система владений к началу эпохи Токугава стала преобладающей.
6 Автор любезно предоставил мне эту работу в рукописи, разрешив использовать и цитировать ее, за что я ему чрезвычайно признателен.
7 Эти расхождения во взглядах нашли отражение также и на страницах специальных журналов — «Бураку» и «Бураку кайхо».
8 Жизни и деятельности Китахара Тайсаку посвятил свой интересный очерк советский писатель Борис Горбатов, который после второй мировой войны побывал в Японии и встречался с ним (см. [17]).
Глава первая
1 Период Эдо — так, по названию столицы часто определяют период правления сёгунской династии Токугава (1603—1868).
2 Так, например, европейские миссионеры в Японии выучились ежедневно умываться. (Японцы, очень чистоплотные, были весьма поражены пренебрежением европейцев, и в частности духовных лиц, своим туалетом.)
Глава вторая
1 Тё — единица площади, равна приблизительно 1 га. 1 тё равно 10 тан.
2 Существует мнение, что в целом уровень мастерства японских ремесленников того периода по точности и изяществу исполнения, по разнообразию производимых ими -изделий был выше европейского (см. [89, с. 96]).
3 Практически деление между всеми сословиями по профессиональному признаку всегда носило довольно условный характер. Например, многие ремесленники обычно занимались и торговлей. Основная часть крестьян была вынуждена заниматься ремеслом и торговлей. В то же время купцы нередко сами обрабатывали свои участки земли. И запрещать эту практику было бессмысленно и невозможно. Только границы между самурайством и остальными сословиями в этом плане всегда оставались более прочными: самураи иногда переходили в другие сословия, но, оставаясь дворянами, они по юридическим и престижным соображениям крайне редко могли позволить себе заняться сельскохозяйственным производством, ремеслом или торговлей.
4 Кото — японский музыкальный инструмент.
5 Икэбана — искусство составления букетов.
6 Крупные князья с доходом около 100 тыс. коку риса (коку риса — около 150 кг) имели право на содержание своего воинского соединения в 2155 зои-ков, средние феодалы с доходом до 19 тыс. коку располагали отрядами не более 235 воинов, и т. д. (см. [92, с. 371]).
7 Некоторые японские авторы именно этот период считают хронологическим началом истории бураку и явления дискриминации (см. (65, с, ШТ}).
8 В частности, в некоторых отчетах приводилось описание самого ритуала казни: к месту казни кожевники (парии) вели осужденного, обвязанного веревками. Сзади шел житель бураку и нес шест с плакатом, извещавшим толпу* о характере преступления и о приговоре. Весь необходимый для казни инвентарь и материалы также заранее готовили парии (см. [75, с. 440—441]).
9 Каварамоно — название одной из групп париев в .средневековой Японии, проживавших вдоль рек в специально отведенных для них бесплодных участках прибрежной полосы.
1а Сандзё-но моно — название одной из основных групп сэммин в средневековой Японии.
11 В Нагоя, например, улица хинин располагалась даже в центре города (см. [71, с. 95]).
12 Именно в таком качестве оно впервые было зафиксировано в официальных материалах середины XVII в. (см. [71, с, 100]).
13 Коку —мера емкости, равная 180,4 л, коку риса — около 150 кг.
Глава третья
1 В начале XVIII в. в стране имелось около 70 купцов, обладавших капиталом более 1 млн. рё каждый. Рё — японская денежная единица того времени (см. [40, с. 167]).
2 Сами же крестьяне считали, что при их нищете они таким образом избавляют новорожденных от неизбежных для них жизненных страданий, т. е., по существу, совершают акт милосердия,
3 Она так называлась потому, что в Японии в основном ввозилась литература, изданная на голландском языке.
* Дзёдо синею — одна из буддийских сект. Была основана проповедником Оинраном в 1242 г.
5 Кстати, знать была уверена, что между «ею и хэймин (крестьянами и горожанами) существуют такие же огромные психологические и даже физические различия, как между хэймин и париями.
6 Например, имеются сведения о росте числа жителей одного из бураку за 1692—1713 гг. с 840 до 2311 человек, т. е. почти в три раза (71, с. 131]. В одном из крупнейших поселений париев, Ватанабэ мура (расположенном возле Осака), за 1713—1756 гг. число жителей выросло с 2341 до 3372 (т. е. на 68%). В отдельные периоды быстро росло количество хинин в столице [71, с. 151].
7 Таким образом, сэммин, которых презирали за «осквернение» кровью и ■смертью в связи с их занятием убоем скота, на практике объективно выглядели •более привлекательными в нравственном отношении, чем представители других слоев населения, считавшие иногда допустимым и даже необходимым убийство своих «лишних» детей. Не осуждая нищих крестьян и горожан, совершавших мабики (это было скорее социальное, чем нравственное явление), мы хотели бы лишь отметить, насколько -извращенными оказались в феодальном обществе некоторые его социальные оценки.
* Кёгэн — театральное представление преимущественно комического или сатирического плана.
9 Дэнгаку — театральное представление, основанное на сельских ритуальных праздниках.
10 Саругаку — представление в основном комического и пародийного характера.
" Кабуки — театральиый жанр. Значительное место в кабукн занимают танцы и песни.
12 Дзёрури — театральное представление, основу которого составлял устный рассказ (чаще всего на историческую тему), сопровождавшийся кукольным представлением и игрой «а сямисэне (японский музыкальный инструмент).
13 Сирабёси — исполнение ритмических песен с танцами.
14 Как это было, например, во время «ародного восстания в 1781 г., когда власти привлекли эта и хинин к защите г. Такадзаки от наступавших на него отрядов крестьян {75, с. 475].
Глава четвертая
1 О масштабах коррупции чиновничества красноречиво свидетельствует тот факт, что в то время почти открыто распространялись сведения о стоимости разных должностей и незаконных услуг государственных служащих.
2 Это название происходит от рефрена песни, распевавшейся восставшими горожанами и крестьянами, и означает: «Не так ли?»
3 Тории — священные ворота, ведущие в синтоистский храм.
4 В Японии каждый год из двенадцатилетнего цикла обозначается названием какого-либо животного — собаки, обезьяны, быка, лошади и т. д.
5 Бугё — префект, крупный правительственный чиновник.
8 Как это уже было три века назад во время первых контактов с Западом.
Глава пятая
1 Политический переворот и происшедшие вслед за ним значительные перемены в обществе в специальной японской, а также в зарубежной литературе чаще всего определяются устоявшимися терминами «переворот (или реставрация) Мэйдзи» или «незавершенная буржуазная революция Мэйдзи». Тем самым историки, в первую очередь японские, подчеркивают особую роль монархии во всех этих событиях или же просто отмечают наступление нового хронологического периода. Мы также используем эти термины как уже давно устоявшиеся и понятные для читателя.
2 Собственно, буквальное значение этого термина (дзинуси) в японском языке несколько иное — землевладелец. Однако постепенно он приобрел н значение «помещик». В данной работе этот термин в основном используется именно в таком смысле, как социально более точном.
3 Среди «их были и такие крупные восстания, как восстание крестьян в провинции Ивасиро в 1868 г. (см. (22, с. 134—185]).
4 Хаори — накидка, принадлежность японского парадного костюма.
Глава шестая
1 В то время в Японии имелось несколько вариантов ри, значительно различавшихся по своей длине в разных районах страны.
2 Еще в 40-х годах XIX в. один путешественник с крайним удивлением описывал положение, возникавшее в связи с сегрегацией париев: «Весьма поразительно, что их деревни (париев.— 3. X.), расположенные на дороге, не включаются в длину этой дороги, вычитаются из нее как пустое место. Так что, уплачивая за расстояние между городами, путешественник проезжает их деревни практически бесплатно» (см. [96, с. 3)).
3 «Сэн фу рон», по-китайски «Цянь фу лунь»,— политический трактат критического содержания, изданный во II в. н. э. в Китаем
4 Эдзо (древнее название племен айну) — старое название северо-восточной части о-ва Хонсю, о-ва Хоккайдо и близлежащих островов.
s Примечательно, что этот высокомерный и экспансивный ответ высокопоставленного бюрократа оказался в какой-то мере пророческим. Прошло уже более ста лет после издания декрета об освобождении париев, а сегрегация буракумин остается крайне острой и болезненной социальной проблемой Японии и в наши дни.
6 Так он называл всех париев.
7 По другим сведениям, было разрушено 88 административных зданий,. 18 школ, 314 домов буракумин и 4311 другое строение (см. [71, с. 206'}).
8 Большинство париев, переехавших в США, занималось там огородничеством.
Глава седьмая
1 Основные положения и задачи сторонников этого направления обсуждались на страницах издававшегося с 1883 г. журнала «Ниппондзин» («Японцы»), впоследствии переименованного в «Ниппон то «иппондзин» («Япония и японцы») [29, с. 238].
2 Собственно, предрассудки играли большую роль во взаимоотношениях всех
слоев населения. По-разному воспринимали крестьяне и рабочие предпринимателей, различно оценивали крестьян помещики и парии и т. д. Но образ жителей бураку в глазах всех других слоев населения был сравнительно единым.
3 Когурё-—название древнего корейского княжества и его жителей.
Приложения
1 Дайкан — наместник сёгуна в провинции.
2 Мэйсю — представитель знатной, влиятельной семьи.
3 Татами — соломенные маты стандартных размеров; сёдзи — раздвижные перегородки в японских домах.
4 Это было их монопольным правом, которое обеспечивало им какой-то дополнительный доход деньгами и продуктами.
8 Сёя — сельский староста.
6 Намбу — название района, особенно страдавшего тогда от голода.
7 Около 91 см.
8 Тэта — японская деревянная обувь; асида — японские башмаки на высоких подставках.
9 Сун — 3,03 см. Таким образом, каждая сторона метки должна была составлять 15,15 см.
10 Гокэнин — мелкие феодалы.
п Рами — название растения.
12 Бугё — см. Примечание 5 к главе четвертой.
13 Ряд выступлений крестьян оказался не учтенным этой таблицей.
14 Кюбан — название одной из групп париев.
15 Оу — старое название провинций северной части .о-ва Хонсю.
16 Исэ — одна из провинций центральной части Японии. В настоящее время пров. Миэ.
17 Даннай — новое имя Дандзаэмона после переворота Мэйдзи.
18 Харима —старое название одной из провинций близ г. Киото.
19 То и сё — меры емкости, равные соответственно 18 и 1,8 л.
20 Го — мера емкостц=0,18 л, а также мера поверхности=0,33 кв. м. Сяку — мера емкости=0,018 л, а также мера площади=0,03 кв. м и мера длины= =30,3 см.
21 Сугиура Дзюго (1855—1924)—ученый и общественный деятель. Окончил университет в Токио. В 1876 г. был послан в Англию для изучения химии. Работал в министерстве просвещения. С 1890 г. депутат палаты представителей. Участвовал в издании журнала «Ниппондзин» и газеты «Нихон». С 1914 г. был ьоспитателем кронпринца (нынешнего императора).
22 Хаи Кай — имя китайского военачальника периода Хань. Данная часть сочинения изложена в виде беседы автора с жителем бураку.
23 Син хэймин — новые хэймин.
24 Кидзоку — титулованная знать.
Основоположники марксизма-ленинизма 1
1. Маркс К. Критика политической экономии (Формы, предшествующие капиталистическому производству).— Т. 46, ч. 1.
2. Ленин В. И. Национальное равноправие.— Т. 25.
3. Ленин В. И. О праве наций на самоопределение.— Т. 25.
4. ЛенНн В. И. Крах 11 Интернационала.— Т. 26.
Источники
На японском языке
5. Бураку мондай сэмина (Семинар по проблемам бураку). Т. IV. Киото, 1969.
6. Бураку сн-нн каи-суру соготэки кэнкю (Комплексное исследование истории бураку). Т. IV. Токио, 1965.
7. Дзинкэн-но рэкиси (История прав человека).— Дова кёику хирё (Материалы по воспитанию гармонии). Кобэ. Т. I, 1972; т. II, 1973.
8. К и т а х а р а Тайсаку. Сэммин-но коэй (Потомок сэммин). Токио, 1974.
9. Нихон си дзитэн (Словарь по истории Японии). Токио, 1966.
На русском языке
10. Документы по истории японской деревни. Ч. I. М., 1966.
11. Современная Япония. Справочник. М., 1973.
На английском языке
12. Papinot Е. History and Geography of Japan, Tokyo — Yokohama, 1909.
Литература
На русском языке
13. Арутюнов С, А., Светлов Г. С. Старые и новые боги Японии. М., 1968.
14. Гальперин А. Л. Очерки социально-политической истории Японии. М., 1963.
15. Гальперин А. Л. Очерки истории Японии в 1640—1700 гг.— «Ученые записки И. В.». Т. XV (Японский сборник). М., 1956.
16. Гальперин А. Л. Социально-экономические предпосылки буржуазной революции в Японии.— Япония (Вопросы истории). М., 1959.
17. Г о р б а т о в Б. Л. Человек из сословия эта. М., 1953.
18. Жуков Е. М. Земельный кадастр Хидэёси как мера реставрации крепост
ничества в Японии в конце XVI столетия.— Доклады советской делегации на XVIII конгрессе востоковедов. М., 1954.
19. Жуков Е. М. История Японии. М., 1939.
20. Ж у к о в Е. М. Первый этап социалистического движения в Японии и марксизм.— Памяти К. Маркса. М., 1933.
21 Жуков Е- М. История японского либерализма.— «Известия АН СССР».
' Т. И, № 1. М., 1944.
22. Иофан Н. А. Крестьянское движение после 1868 г.— «Ученые записки И. В». Т. XV (Японский сборник). М., '1956.
23. И с к а н д е р о в А. А. Феодальный город Японии. М., 1961.
24. Катаяма Сэн. Движение эта — мощный фактор революционной борьбы
японского пролетариата. — «Коммунистический Интернационал», 1923,
№ 28/29.
.25. Козловский Ю. Б. «Европеизация» культуры Японии и её осмысление.—«Народы Азии и Африки». 1974, № 5.
26. Конрад Н. И. Япония, народ и государство. Петроград, 192,3,.
27.,Конрад Н. И. Японский театр.— «Восточный театр». Л., 1929.
28. Конрад Н. И. Избранные труды. М., 1974.
29. К о н р а д Н. И. Очерки японской литературы. М., 1973.
30. Лонге Ж. Общественное движение в Японии. Одесса, 1906.
31. М о р у а А. Литературные портреты. М., 1974.
32. Норман Г. Возникновение современного государства в Японии. М., 1962.
33. Норман Г. Солдат и крестьянин в Японии. М., 1962.
34. Очерки новой истории Японии (1640—1917 гг.). М., 1958.
35. Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Японии (во второй половине XVII — начале XVIII вв.). М., 1960.
36. Поздняков. Роль кэнти в закрепощении японского крестьянства. — Япония (Вопросы истории). М., 1959.
37. Радуль-Затуловский Я- Б. Материалистическая философия Накаэ Тёмин.— «Советское Востоковедение». Вып. VI. М.—Л., 1949.
•38. Радуль-Затуловский Я- Б. Андо Сёэки, философ-материалист XVIII в. М., 1961:
39. Р а д у л ь - 3 а т у л о в с к и й Я. Б. Материалистическая философия Ито Дзинсай.— «Советское Востоковедение». Вып. II. Л., 1941.
40. Старосельцев Н. Д. Япония в XVIII веке.—«Ученые записки МГУ». Вып. 42 (История). Т. I. М., 1940.
41. Топеха П. Падение сёгуната.— Япония (Вопросы истории). М., 1959.
42. Фукуда Токудзо. Общественное и экономическое развитие Японии. Пер. с нем. Л., 1926.
43. Хани Гор о. История японского народа. М., 1957.
44. Ха-ни и 3. Я- Из истории происхождения дискриминации в Японии.— «Страны и народы Востока». Вып. II. М., 1968.
45. Ха нин 3. Я. Проблема сэммин и ее изучение.— История, культура, языки народов Востока. М., 1970.
46. Ха нин 3. Я. Японские парии.— «Вопросы истории». 1973, № 7.
47. X а н и н 3. Я. Социальные группы японских париев. М., 1973.
На японском языке
48. А р а и К о д з и р о. Кэгарэ-но табу то кинсэй Нихон сэммин тицудзё (Табу грязн и система сэммин в Японии в период кннсэй). — «Сюкё кэнкю», 1966, июнь .(№ 188),
49. Бураку мондай сэмина (Семинар по проблемам бураку). Т. 1, Киото, 1967; т. II, Киото, 1969.
50. Бураку-но рэкисн (История бураку), Киото, 1960.
51. Ватанабэ Хироси. Микайхо бураку-но снтэки кэнкю (Исследование истории неосвобожденных поселков). Токио, 1963.
52. Гото Я су си. Дзию мннкэи ундо (Движение за свободу н народные права) чОсака, 1958.
53. Иноуэ Киесн. Бураку мондай-но кэнкю (Исследование проблем неосвобожденных поселков), Киото, 1965.
54. Иноуэ. К и ес и, Кита ха р а Тайсаку. Бураку-но рэкнсн (История бураку). Токио, 1960.
55. К н т а Т э й к и т и. Токусю бураку-но рэкнси (История особых поселков).— «Мнндзоку то рэкнси». Т. 2, № 1, 1919.
56. Китахара Тайсаку, С а к а к и Тосио. Бураку кайхо-но мити (Путь к освобождению бураку). Токио, 1975.
57. К и т а я м а Мофу. Нарамото Тацуя, Фудзитани Тосио, Хаясия Тацусабуро, Иноуэ Киеси. Бураку-но рэкиси то кайхо ундо (История бураку и освободительное движение). Киото, 1956.
58. «М а с с и м а Вэн. Токусю бураку нисэн нэн си (Две тысячи лет истории особых поселков). Токио, 1949.
59. Ми «эй в а Кэнтаро. Бакухан сэйтэки сэммин мибун но сэйрицу (Формирование сословия сэммин при системе бакухан).— «Рэкиси хёрон», 1976, № 309 (№ 1).
60. Миура Кэйнти. Кинсэй микайхо бураку сэйрицу кн-но кихон мондай (Основные проблемы неосвобожденных поселков в период кинсэй).— «Рэкиси хёрон». 1972, № 261.
61. Морита Есин ори. Кавара-но моно.— «Дэнто то гэндай». Т. IV, 1969.
62. М о р н т а Е с и н о р и. Бураку-но хадзимари (Истоки бураку). Нэягава кёику иинкай, 1970.
63. Муракоси Суэо. Бураку мондай то кайхо кёику (Воспитание по проблемам бураку и освобождения)..Осака, 1971.
64. Нарамото Тацуя. Микайхо бураку-но рэкиси то сякай (История неосвобожденных поселков и общество). Токио, 1958.
65. Нингэн мина кёдай (Все люди братья). Киото, 1965.
66. Нихон си гайрон (Очерк истории Японии). Токио, 1968.
67. С а ко та Есикадзу. Дзинкэн-но рэкиси (История прав человека). Киото, 1965.
68. Та к а ха си Садакити. Токусю бураку иссэн нэн си (Тысячелетняя история особых поселков). Киото, 1926.
69. Т а н а к а Акира. Тёсю хан бураку кайхоси обоэгаку (Заметки по истории освобождения бураку в кн. Тёсю).— Бураку мондай сэмииа. Т. II. Киото, 1969.
70. Тодзё Такаси. Бураку мондай нюмон (Введение в проблему бураку).— «Бураку», 1969, спец. выпуск.
71. Уэда Масааки, Харада Томохико, Фудзитани Тосио, Наканиси Есио. Бураку-но рэкиси то кайхо ундо (История бураку и освободительное движение). Киото, 1965.
72. Уэда Масааки, Харада Томохико. Бураку-но рэкиси (История бураку). Т. I, Киото, 1960.
73. Фудзитани Тосио. Мэйдзи кайхо рэй-но хонсицу (Суть приказа Мэй-дзи об освобождении).— Бураку мондай сэмина. Т. II, Киото, 1969.
74. Фудзитани Тосио. Бураку рэкиси гайсэцу (Очерк истории бураку).— «Бураку», 1969, спец. выпуск.
75. Харада Томохико. Нихон хокэн тоси кэнкю (Исследование феодального города Японии). Токио, 1957.
76. Харада Томохико. Хисабэцу бураку-но рэкиси (История дискриминируемых поселков). Токио, 1975.
77. Харада Томохико. Бураку рэкиси (История бураку).— «Бураку кайхо», № 22(1), № 22(2), 1972.
78. Хигасиками Такаси, Махара Тэцудан. Ясасий бураку-но рэкиси (Элементарный курс истории бураку). Киото, 1966.
79. Цукахара Мимура. Микайхо бураку (Неосвобожденные поселки). Токио, 1967.
На английском языке
80. Ashly Montagu. Man’s most dangerous Myth. The Fallasy of Race. N.-Y., 1946.
81. Boxer C. R. The Christian Century in Japan, 1549—1650. N. Y.—L., 1951.
82. Buck J. H. The Satsuma rebellion of 1877.— «Monuments Nipponica». Vol. XXVIII, № 4, N. Y.—Tokyo, 1973.
83. Cornell J. В. «Caste» in Japanese Social Stratification: A Theory and’ Case— «Monumenta Nipponica». Vol. XXV, 1970, c. 107—135.
84. Cornell J. B. From Caste Patron to Entrepreneur and Political Ideologue.— «Modern Japanese Leadership. Transition and change», 1963, c. 51—77.
85. Сох О. C. Caste, Class and Rase. N. Y., 1959^
86. De Vos, G. Wagatsuma H. Japan’s Invisible Rase, Berkeley and Los-
Angeles, 1967.
87. D i n g v a 11 E. I. Racial Pride and Prejudise, L., 1946.
88. Donoghue J. An Eta Community in Northern Japan. Chicago, 1956.
89. Dunn C. J. Everyday life in traditional Japan, L., 1969.
90. Embree J. F. Japanese nation, a social survey. N. Y., 1945.
91. Nakamura Hajime. A history of the development of japanese thought..
Vol. I, Tokyo, 1969.
92. H a 11 J. W. Government and Local Power in Japan, 500—1700. Prinston,. 1966.
93. N i n о m i у a S h i g e a к i. An Inquiry concerning the origin, development and present situation of the Eta in the relation to the history of social classes in Japan.— «The Transactions of the Asiatic Society of Japan. Second series». Vol. X. Tokyo, /ШЗЗ'.
94. Pass in H. Untouchability in the Far East. — «Monumenta Nipponica». Vol. 2, № 3.
95. R e i s с h a u e r E. O. Japan, past and present. N. Y„ 1950.
96. Ruyle E. Capitalism and caste in Japan. University of Virginia (diss.).
97. Sheldon Ch. The rise of the merchant class in Tokugawa Japan, 1600— 1868. N. Y., 1558.
98. Shimabara Nobuo. Burakumin, a Japan’s minority and education. Hague, 1971.
99. S p e a r A. H. Black Chicago, Chicago — L., 1967.
100. Takekoshi Yosoburo. The Economic Aspects of the Civilisation ot Japan. Vol. Ill, L., 1930,
101. Yanaga Chitoshi. Transition from military to bourgeois (chonin) society in Japan, Leiden, 1955.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.................
Глава первая. Об истоках режима Токугава........
О предпосылках объединения страны .........
Формирование основ политики централизованного государства Глава вторая. Укрепление режима Токугава и социальные проблемы
Некоторые меры по упрочению режима ......
Социально-экономическая эволюция режима Токугава к концу XVII в.
Проблема сегрегации париев в XVI—XVII вв.......
Глава третья. Трудности режима Токугава и проблема париев (конец
XVII —конец XVIII в.).............
Обострение социально-экономических противоречий.....
Проблема париев ..............
Глава четвертая. Крах режима Токугава и проблема сегрегации (конец
XVIII в,—60-е годы XIX в.)............
О социальных и политических предпосылках переворота Мэйдзи
Крах режима Токугава.............
30—60-е годы XIX в.— поворот в истории париев......
Идейная эволюция общества в эпоху Токугава......
Глава пятая. Становление капитализма в Японии (70—80-е годы XIX в.) Начало буржуазных преобразований. Социальная эволюция Японии
Политическая и идейная эволюция Японии.......
Предпосылки дальнейшей’эволюции японского общества .
Глава шестая. Парии в период становления буржуазного общества (70—
80-е годы XIX в.)...............
Правители Мэйдзи и проблема дискриминации......
Парии и «обычное» общество...........
Другие аспекты положения париев..........
Глава седьмая. Некоторые черты идейно-психологической ситуации в Японии в 70—80-х годах XIX в.............
Рост идейного многообразия ...........
О психологии сегрегации париев..........
Заключение.................
Приложения.................
Примечания : :
Библиография.................
Основоположники марксизма-ленинизма........
Источники................
.Литература ................
ПАРИИ в ЯПОНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(Очерк социальной истории XVII—XIX вв.)
Утверждено к печати Институтом востоковедения Академии наук СССР
Редактор Б. Е. Косолапое Младший редактор Н. В. Бершивили Художник Д. Станкович
Художественный редактор Б. Л. Резников Технический редактор В. П. Стуковнина Корректор Г. В. Стругова
ИБ № 13960
Сдано в набор 06.12.79. Подписано к печати 15.04.80. А-01785. Формат 60X90'/i6. Бумага типограф
ская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. п. л. 15,75. Уч.-изд. л. 18,14 Тираж 3350 экз. Изд. № 4655. Зак. М> 851. Цена 1 р. 80 к.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва К-45, ул. Жданова, 12/1
3-я типография издательства «Наука»
Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
1
Произведения К. Маркса даны по 2-му изданию Сочинений, В. И. Ленина — по Полному собранию сочинений.
(обратно)





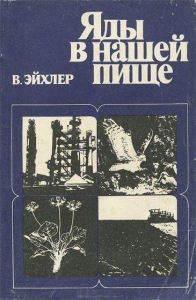
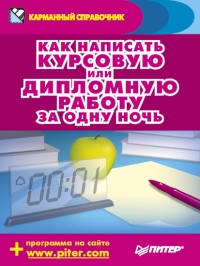

Комментарии к книге «Парии в японском обществе», Зиновий Яковлевич Ханин
Всего 0 комментариев