О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ КНИГА ВВЕДЕНИЕ
Я советую читателю начать чтение этой книги не с первых ее страниц — я знаю, какое ничтожное впечатление производят все заверения автора о том, что он предлагает вниманию читателей чрезвычайно интересный материал. Тем более если книга озаглавлена "романом археологии" и, следовательно, посвящена истории древности, которая, как убежден чуть ли не каждый, является одной из самых сухих и скучных отраслей знания.
Я рекомендую в первую очередь прочитать "Книгу пирамид". Тогда, я надеюсь, даже самый недоверчивый читатель более благосклонно отнесется к затронутой нами теме и подойдет к книге без предвзятого мнения. После этого, чтобы лучше разобраться даже в самых волнующих событиях, можно продолжать чтение книги подряд.
Автор не задавался целью написать научный трактат. В гораздо большей степени речь идет о попытке представить развитие определенной отрасли науки таким образом, чтобы работа исследователей и ученых была видна прежде всего в ее внутреннем напряжении, ее драматических переплетениях, ее человеческих отношениях. При ЭTOM, разумеется, нельзя было отказаться от авторских отступлений, точно так же как от размышлений и сопоставлений.
Так была написана книга, которая специалисту-ученому может показаться "ненаучной". Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, — это то, что именно таковы были мои намерения. Я исходил из того, что археология наука, в которой переплелись приключения и трудолюбие, романтические открытия и духовное самоотречение, наука, которая не ограничена ни рамками той или иной эпохи, ни рамками той или иной страны, — была погребена в специальной литературе: в научных монографиях и журналах. Как бы высока ни была научная ценность этих публикаций, они ни в коем случае не пригодны для чтения. Да, как ни странно это звучит, до сих пор было сделано всего лишь три-четыре попытки рассказать об исследованиях прошлого, как об увлекательных приключениях; это странно потому, что вряд ли на свете существуют приключения более захватывающие, разумеется, если считать, что всякое приключение — это одновременно и подвиг духа.
Несмотря на то что в этой книге я был далек от сугубо научного описательства, я тем не менее чрезвычайно обязан археологии как науке. Да и может ли быть иначе? Ведь моя книга является, по сути дела, хвалебным гимном этой науке, ее достижениям, ее остроумию и проницательности и прежде всего археологам, которые в большинстве случаев лишь из скромности (качество, достойное подражания) не сообщали о том, что заслуживало широкой огласки. Имея это в виду, я старался избежать излишних обобщений или акцентов. Романом же археологии эта книга называется потому, что в ней идет речь прежде всего о романтических, но не противоречащих действительности событиях и биографиях.
Это роман, основанный на фактах, "фактологический роман", в данном случае в самом строгом значении этого слова: все то, о чем рассказывается в этой книге, не просто основано на фактах и разукрашено фантазией автора, но составлено, скомпилировано из фактических данных, к которым фантазией автора не добавлено ни одной даже мельчайшей подробности, ни одного, если так можно выразиться, завитка, которого бы не было в документах, относящихся к тому или иному периоду времени.
Тем не менее я убежден, что специалист, которому попадет в руки эта книга, обнаружит в ней те или иные ошибки. Весьма вероятно, что кое-где в текст вкрались отдельные фактические ошибки; мне кажется, этого невозможно избежать, если предпринимаешь первую попытку спрессовать в одном обзоре материал, относящийся по меньшей мере к четырем специальным областям знания, и я буду только благодарен всем, кто меня поправит.
Однако я чувствую себя обязанным не только науке, но и определенному виду литературы, точнее говоря, творцу того направления в литературе, к которому принадлежит и моя книга. Я имею в виду Поля де Крюи (Крайфа) американского врача, который первым предпринял попытку изложить историю развития специальной отрасли науки так, чтобы она читалась с таким же захватывающим интересом и волнением, которые в нас вызывает разве только детективный роман. В 1927 году Поль де Крюи сделал то выдающееся открытие, что история бактериологии, если к ней приглядеться внимательно и соответствующим образом осмыслить важнейшие вехи ее развития, содержит немало романтического. Он открыл далее, что самые сложные, запутанные научные проблемы можно изложить просто н понятно, если описывать их как рабочие процессы, то есть если вести читателя по тому же самому пути, по которому шел сам исследователь с того момента, как он приступил к осуществлению своей идеи, и до конечных результатов исследования. Он открыл также, что обходные пути, тупики и закоулки, которыми шел или в которые попадал тот или иной ученый из-за своих недостатков, переутомления, болезни, из-за мешавших ему случайностей и тормозивших его работу влияний извне, иными словами, история любого научного открытия столь полна динамики и драматизма, что этого с избытком хватает, чтобы держать в напряжении читателя. Так возникла его книга "Охотники за микробами", и одно ее заглавие определило программу для нового направления в литературе, программу фактологического романа.
После первой попытки создания такого рода романа, осуществленной Полем де Крюи, вряд ли осталась хоть какая-нибудь отрасль науки, в которой тот или иной автор, а иногда и несколько сразу не попытались бы применить новый литературный метод. И само собой разумеющимся кажется то обстоятельство, что в большинстве своем эти попытки предпринимались писателями, которые в лучшем случае были лишь дилетантами в избранных ими отраслях наук.
Основным вопросом критического разбора, который еще предстоит сделать, является, как мне кажется, следующий: в каком взаимоотношении в этих книгах находятся наука и литература; что перевешивает — "факт" или "роман"? Мне представляется, что лучшими книгами этого типа будут те, которые черпают романтические элементы из самой "группировки" фактов и тем самым всегда отдают предпочтение фактам. Именно это я и имел в виду, когда писал свою книгу, и надеюсь, что я принес пользу тем читателям, которые хотят быть уверенными в фактах и желали бы использовать книгу, несмотря на то что она написана в форме романа, в качестве учебного или справочного пособия. Они могут это делать со спокойной совестью.
Я упорно стремился к этому еще и потому, что у меня по части общей тематики есть предшественница, хотя ее книга принадлежит к другой категории. Я имею в виду Энн Терри Уайт и ее книгу "Потерянные миры", попавшуюся мне на глаза тогда, когда я почти закончил работу над книгой "Боги, гробницы, ученые". Мне бы хотелось выразить глубокое почтение своей американской коллеге за проделанную ею работу, но тем не менее я считаю, что принцип, согласно которому "роман" следует подчинять "фактам", является более правильным. Именно этим объясняется то, что в отличие от госпожи Уайт я решил при помощи ясных и безупречных в научном отношении справок и ссылок помочь тем читателям, которые пожелали бы и в дальнейшем интересоваться наукой о прошедших веках. Я не боялся прерывать в тех или иных местах свой рассказ, чтобы привести даты и дать соответствующие исторические обзоры.
В заключение мне хочется выразить благодарность всем, кто помогал мне в работе. Немецкие профессора — д-р Эуген фон Мерклин, д-р Карл Ратьено и д-р Франц Термер — были столь любезны, что просмотрели рукопись — каждый по тому разделу, который относится к его специальности. Проф. Курт Эрдман, проф. Хартмут Шмекель и шлимановед д-р Эрнст Мейер внесли несколько важных исправлений. Все они дали мне немало ценных советов, оказали мне большую поддержку во всех отношениях, прежде всего в подборе литературы (за что я должен поблагодарить и проф. Вальтера Хагемана из Мюнстера), обратили мое внимание на несколько ошибок, которые мне еще удалось исправить. Я выражаю им всем благодарность не только за помощь, но прежде всего за то, что они, специалисты-ученые, проявили интерес к книге, которая совершенно не укладывается в рамки той или иной специальной отрасли науки. Мне бы хотелось поблагодарить Э. Рэнкендорф и Эрвина Дункера за то, что они освободили меня от части нередко весьма кропотливой работы по переводу.
КНИГА СТАТУЙ
Мы у тебя, земля, — что же нам шлешь из глубин?
Или есть жизнь под землей? Иль живет под лавою тайно
Новое племя? Иль нам прошлое возвращено?
Римляне, греки, глядите: открыта снова Помпея,
Город Геракла воскрес в древней своей красоте!
Шиллер
Глава 1 УВЕРТЮРА НА КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ
В 1738 году Мария Амалия Христина, дочь Августа III Саксонского, покинула Дрезденский двор и вышла замуж за Карла Бурбонского, короля обеих Сицилий. Осматривая обширные залы неаполитанских дворцов и огромные дворцовые парки, живая и влюбленная в искусство королева обратила внимание на статуи и скульптуры, которые были найдены незадолго до последнего извержения Везувия: одни — случайно, другие — по инициативе некоего генерала д'Эльбефа. Красота статуй привела королеву в восторг, и она попросила своего венценосного супруга разыскать для нее новые.
Со времени последнего сильного извержения Везувия 1737 года, во время которого склон горы обнажился, а часть вершины взлетела на воздух, вулкан вот уже полтора года молчал, спокойно возвышаясь под голубым небом Неаполя, и король согласился. Проще всего было начать раскопки там, где кончил д'Эльбеф. Король посоветовался с кавалером Рокко Хоаккино де Алькубиерре, испанцем по происхождению, который был начальником его технических отрядов, и тот предоставил рабочих, орудия и порох. Трудностей было много. Нужно было преодолеть пятнадцатиметровый слой твердой, как камень, лавы. Из колодца шахты, проложенной еще д'Эльбефом, прорубили ходы, а затем пробурили отверстия для взрывчатки. И вот наступил момент, когда заступ наткнулся на металл, зазвучавший под его ударами, как колокол. Первой находкой были три обломка гигантских бронзовых коней. И только теперь было сделано самое разумное из того, что можно было сделать и с чего, собственно, нужно было начинать: пригласили специалиста. Надзор за раскопками взял на себя маркиз дон Марчелло Венути — гуманист, хранитель королевской библиотеки. За первыми находками последовали другие: три мраморные статуи одетых в тоги римлян, расписные колонны и бронзовое туловище коня. К месту раскопок прибыли король с супругой. Маркиз, спустившись по веревке в раскоп, обнаружил лестницу, архитектура которой позволила ему прийти к определенному выводу о характере всей постройки; 11 декабря 1738 года подтвердилась правильность сделанного им заключения: в этот день была обнаружена надпись, из которой следовало, что некий Руфус выстроил на свои собственные средства театр — "Theatrum Herculanense".
Так началось открытие погребенного под землей города, ибо там, где был театр, должно было быть и поселение. В свое время д'Эльбеф, сам того не подозревая — ведь перед ним в окаменевшей лаве было множество других ходов, — попал прямо на сцену театра, буквально заваленную статуями. В том, что такое количество статуй оказалось именно здесь, не было ничего удивительного: бурлящий поток лавы, сметающий все на своем пути, обрушил на просцениум заднюю стену театра, украшенную множеством скульптур. Так обрели здесь семнадцативековый покой эти каменные тела.
Надпись сообщала и имя города: Геркуланум.
Лава, огненно-жидкая масса, поток расплавленных минералов и горных пород, постепенно охлаждаясь, застывает и вновь превращается в камень. Под двадцатиметровой толщей такой застывшей лавы и лежал Геркуланум.
Во время извержения вулкана вместе с пеплом выбрасываются лапилли небольшие куски пористой лавы — и шлак; они градом падают на землю, покрывая ее рыхлым слоем, который нетрудно удалить с помощью самых простейших орудий. Под слоем лапилли на значительно меньшей глубине, чем их собрат по несчастью Геркуланум, были погребены Помпеи.
Как нередко бывает в истории, да, впрочем, и в жизни, наибольшие трудности приходятся на начало пути, а самый длинный путь частенько принимают за самый короткий. После раскопок, предпринятых д'Эль-бефом, прошло еще тридцать пять лет, прежде чем первый удар лопаты положил начало освобождению Помпеи.
Кавалер Алькубиерре, который по-прежнему возглавлял раскопки, был неудовлетворен своими находками, хотя они и позволили Карлу Бурбонскому организовать музей, равного которому не было на свете. И вот король и инженер пришли к единому решению: перенести раскопки в другое место, начав на этот раз не вслепую, а там, где, по словам ученых, лежали Помпеи, засыпанные, согласно античным источникам, в тот же день, что и город Геркулеса.
Дальнейшее напоминало игру, которую дети называют "огонь и вода", но с участием еще одного партнера — плута, который в тот момент, когда рука приближается к запрятанному предмету, кричит вместо "огонь" — "вода". В роли таких путаников выступали алчность, нетерпение, а порой и мстительность.
Раскопки начались 1 апреля 1748 года, и уже 6 апреля была найдена великолепная большая стенная роспись. 19 апреля наткнулись на первого мертвеца, вернее на скелет; он лежал вытянувшись, а из его рук, застывших в судорожной хватке, выкатилось несколько золотых и серебряных монет. Но вместо того чтобы продолжать рыть дальше, систематизировав все найденное и сделав выводы, которые позволили бы сэкономить время при дальнейших работах, раскоп был засыпан — о том, что удалось наткнуться на центр Помпеи, никто даже не подозревал; были начаты новые раскопки в других местах.
Удивляться этому не приходится. Могло ли быть иначе? Ведь в основе интереса королевской четы к этим раскопкам лежал всего-навсего восторг образованных невежд, да, кстати говоря, у короля и с образованием дела обстояли далеко не блестяще. Алькубиерре интересовала лишь техника дела (Винкельман впоследствии гневно заметил, что Алькубиерре имел такое же отношение к древности, "какое луна может иметь к ракам"), все же остальные участники раскопок были озабочены лишь одной тайной мыслью: не упустить счастливой возможности быстро разбогатеть — вдруг в один прекрасный день под заступом вновь заблестит золото или серебро? Заметим, что из 24 рабочих, занятых 6 апреля на раскопках, двенадцать были арестантами, а остальные получали нищенскую плату.
Раскопки привели к амфитеатру, но, поскольку здесь не нашли ни статуй, ни золота, ни украшений, перешли опять в другое место. Между тем терпение привело бы к цели. В районе Геркулесовых ворот наткнулись на виллу, которую совершенно неправомерно — теперь уже никто не помнит, как возникло это мнение, — стали считать домом Цицерона. Подобным взятым, как говорится, с потолка утверждениям еще не раз будет суждено сыграть свою роль в истории археологии, и, надо сказать, не всегда бесплодную.
Стены этой виллы были украшены великолепными фресками: их вырезали, с них сняли копии, но саму виллу сразу же засыпали. Более того! В течение четырех лет весь район близ Чивита (бывшие Помпеи) оставался забытым; все внимание привлекли к себе более богатые раскопки в Геркулануме, в результате которых там был найден один из наиболее выдающихся памятников античности: вилла с библиотекой, которой пользовался философ Филодемос, известная ныне под названием "Вилла деи Папири". Наконец в 1754 году вновь обратились к южной части Помпеи, где нашли остатки нескольких могил и развалины античной стены. С этого времени и вплоть до сегодняшнего дня в обоих городах почти непрерывно ведутся раскопки и на свет извлекается одно чудо за другим.
Лишь составив себе точное представление о характере катастрофы, жертвами которой стали эти два города, можно понять и в полной мере представить себе, какое воздействие оказало открытие этих городов на век предклассицизма.
В середине августа 79 года н. э. появились первые признаки предстоящего извержения Везувия; впрочем, извержения бывали и раньше, однако в предобеденные часы 24 августа стало ясно, что на сей раз дело оборачивается настоящей катастрофой.
Со страшным грохотом, подобным сильному раскату грома, разверзлась вершина вулкана. К заоблачным высям поднялся столб дыма, напоминавший по своим очертаниям гигантский кедр. С неба, исчерченного молниями, с шумом и треском обрушился настоящий ливень из камней и пепла, затмивший солнце. Замертво падали на землю птицы, с воплем разбегались во все стороны люди, забивались в норы звери; по улицам неслись потоки воды, неизвестно откуда взявшейся — с неба или из недр земли.
Катастрофа застала города в ранние часы обычного солнечного дня. Им суждено было погибнуть по-разному. Лавина грязи, образовавшейся из пепла, воды и лавы, залила Геркуланум, затопила его улицы и переулки. Поднимаясь, она достигала крыш, затекала в окна и двери, наполняя собой весь город, как вода губку, и в конце концов наглухо замуровала его вместе со всем, что не успело спастись в отчаянном бегстве.
Судьба Помпеи сложилась по-иному. Здесь не было потока грязи, единственным спасением от которого было, по-видимому, бегство; здесь все началось с вулканического пепла, который можно было легко стряхнуть. Однако вскоре стали падать лапилли, потом — куски пемзы, по нескольку килограммов каждый. Вся опасность становилась ясной лишь постепенно. И когда наконец люди поняли, что им угрожает, было уже слишком поздно. На город опустились серные пары; они заползали во все щели, проникали под повязки и платки, которыми люди прикрывали лица, — дышать становилось все труднее… Пытаясь вырваться на волю, глотнуть свежего воздуха, горожане выбегали на улицу здесь они попадали под град лапилли и в ужасе возвращались назад, но едва переступали порог дома, как на них обваливался потолок, погребая их под своими обломками. Некоторым удавалось отсрочить свою гибель: они забивались под лестничные клетки и в галереи, проводя там в предсмертном страхе последние полчаса своей жизни. Потом и туда проникали серные пары.
Сорок восемь часов спустя вновь засияло солнце, однако и Помпеи и Геркуланум к тому времени уже перестали существовать. В радиусе восемнадцати километров все было разрушено, поля покрылись лавой и пеплом. Пепел занесло даже в Сирию и Египет. Теперь над Везувием был виден только тонкий столб дыма и снова голубело небо.
Прошло почти семнадцать столетий.
Люди другой культуры, других обычаев, но связанные с теми, кто оказался жертвами катастрофы, кровными узами родства всего человечества, взялись за заступы и откопали то, что так долго покоилось под землей. Это можно сравнить только с чудом воскрешения.
Ушедшему с головой в свою науку и поэтому свободному от всякого пиетета исследователю подобная катастрофа может представиться удивительной "удачей". "Я затрудняюсь назвать какое-либо явление, которое было бы более интересным…" — простодушно говорит Гете о гибели Помпеи. И в самом деле, что может лучше, чем пепел, сохранить, нет, законсервировать — это будет точнее — для последующих поколений исследователей целый город в том виде, каким он был в своих трудовых буднях? Город умер не обычной смертью — он не успел отцвести и увять. Словно по мановению волшебной палочки, застыл он в расцвете своих сил, и законы времени, законы жизни и смерти утратили свою власть над ним.
До того как начались раскопки, был известен только сам факт гибели двух городов во время извержения Везувия. Теперь это трагическое происшествие постепенно вырисовывалось все яснее и сообщения о нем античных писателей облекались в плоть и кровь. Все более зримым становился ужасающий размах этой катастрофы и ее внезапность: будничная жизнь была прервана настолько стремительно, что поросята остались в духовках, а хлеб в печах.
Какую историю могли, например, поведать останки двух скелетов, на ногах которых еще сохранились рабские цепи? Что пережили эти люди — закованные, беспомощные, в те часы, когда кругом все гибло? Какие муки должна была испытать эта собака, прежде чем околела? Ее нашли под потолком одной из комнат: прикованная цепью, она поднималась вместе с растущим слоем лапилли, проникавших в комнату сквозь окна и двери, до тех пор, пока наконец не наткнулась на непреодолимую преграду — потолок, тявкнула в последний раз и задохнулась.
Под ударами заступа открывались картины гибели семей, ужасающие людские драмы; последнюю главу известного романа Бульвер-Литтона "Последние дни Помпеи" отнюдь нельзя назвать неправдоподобной. Некоторых матерей нашли с детьми на руках; пытаясь спасти детей, они укрывали их последним куском ткани, но так и погибли вместе. Некоторые мужчины и женщины успели схватить свои сокровища и добежать до ворот, однако здесь их настиг град лапилли, и они погибли, зажав в руках свои драгоценности и деньги. "Cave Canem" "Остерегайся собаки" гласит надпись из мозаики перед дверью того дома, в котором Бульвер поселил своего Главка. На пороге этого дома погибли две девушки: они медлили с бегством, пытаясь собрать свои вещи, а потом бежать было уже поздно. У Геркулесовых ворот тела погибших лежали чуть ли не вповалку; груз домашнего скарба, который они тащили, оказался для них непосильным. В одной из комнат были найдены скелеты женщины и собаки. Внимательное исследование позволило восстановить разыгравшуюся здесь трагедию. В самом деле, почему скелет собаки сохранился полностью, а останки женщины были раскиданы по всей комнате? Кто мог их раскидать? Может быть, их растащила собака, в которой под влиянием голода проснулась волчья природа? Возможно, она отсрочила день своей гибели, напав на собственную хозяйку и разодрав ее на куски. Неподалеку, в другом доме, события рокового дня прервали поминки. Участники тризны возлежали вокруг стола; так их нашли семнадцать столетий спустя — они оказались участниками собственных похорон.
В одном месте смерть настигла семерых детей, игравших, ничего не подозревая, в комнате. В другом — тридцать четырех человек и с ними козу, которая, очевидно, пыталась, отчаянно звеня своим колокольчиком, найти спасение в мнимой прочности людского жилища. Тому, кто слишком медлил с бегством, не могли помочь ни мужество, ни осмотрительность, ни сила. Был найден скелет человека поистине геркулесовского сложения; он также оказался не в силах защитить жену и четырнадцатилетнюю дочь, которые бежали впереди него: все трое так и остались лежать на дороге. Правда, в последнем усилии мужчина, очевидно, сделал еще одну попытку подняться, но, одурманенный ядовитыми парами, медленно опустился на землю, перевернулся на спину и застыл. Засыпавший его пепел как бы снял слепок с его тела; ученые залили в эту форму гипс и получили скульптурное изображение погибшего помпеянина.
Можно себе представить, какой шум, какой грохот раздавался в засыпанном доме, когда оставленный в нем или отставший от других человек вдруг обнаруживал, что через окна и двери выйти уже нельзя; он пытался прорубить топором проход в стене; не найдя здесь пути к спасению, он принимался за вторую стену, когда же и из этой стены ему навстречу устремлялся поток, он, обессилев, опускался на пол.
Дома, храм Изиды, амфитеатр — все сохранилось в неприкосновенном виде. В канцеляриях лежали восковые таблички, в библиотеках — свитки папируса, в мастерских — инструменты, в банях — стригалы (скребки). На столах в тавернах еще стояла посуда и лежали деньги, брошенные в спешке последними посетителями. На стенах харчевен сохранились любовные стишки; фрески, которые были, по словам Венути, "прекраснее творений Рафаэля", украшали стены вилл.
Перед этим богатством открытий очутился теперь образованный человек XVIII столетия; как человек, родившийся после Ренессанса, он был подготовлен к восприятию всех красот античности, но как сын того века, в который уже угадывалась грядущая сила точных наук, он предпочитал эстетической созерцательности изучение фактов.
Объединить оба эти воззрения мог только человек, знающий и любящий античное искусство и в то же время владеющий методами научного исследования и научной критики. Когда в Помпеях раздались первые удары заступа, человек, для которого эта задача станет делом жизни, проживал вблизи Дрездена и занимал пост графского библиотекаря. Ему было тридцать лет, и он не совершил еще ничего значительного. Двадцать один год спустя не кто иной, как Готтхольд Эфраим Лессинг, получив известие о его смерти, писал: "За последнее время это уже второй писатель, которому я охотно подарил бы несколько лет моей жизни".
Глава 2 ВИНКЕЛЬМАН, ИЛИ РОЖДЕНИЕ ОДНОЙ НАУКИ
Анжелика Кауфман написала в 1764 году в Риме портрет своего учителя Винкельмана. Он сидит перед открытой книгой с пером в руке. У него огромные темные глаза и лоб мыслителя, большой нос, придающий ему сходство с Бурбонами, мягкие, округлые очертания рта и подбородка. Он похож скорее на художника или артиста, чем на ученого. "Природа дала ему все, что необходимо мужчине, и все, что может его украсить", — сказал Гете.
Он родился в 1717 году в Стендале в семье бедного башмачника. В детстве он излазил все окрестные курганы, и с его легкой руки поисками древних могил занялись все местные мальчишки. В 1743 году он стал помощником директора школы в Зеегаузене. "С величайшей тщательностью выполнял я обязанности учителя и заставлял ребятишек, головы которых были покрыты паршой, затверживать азбуку, сам же я в то время всей душой стремился к познанию красоты и восхищался гомеровскими метафорами". В 1748 году он стал библиотекарем у графа фон Бюнау и поселился близ Дрездена. Пруссию Фридриха II он покинул без всякого сожаления: он имел возможность убедиться в том, что это "деспотическая страна". Вспоминал он о ней с содроганием: "Во всяком случае, я чувствовал рабство больше, чем другие". Перемена местожительства определила его дальнейшую судьбу: он попал в круг выдающихся художников. Сыграло роль и то, что в Дрездене находилась самая большая в Германии коллекция древностей; это заставило его изменить свои прежние планы (он был одержим идеей отправиться в Египет). Первые же его работы, появившиеся в печати, получили отклик во всей Европе. Духовно независимый, отнюдь не догматик в своих религиозных воззрениях, он переходит в католичество, чтобы получить работу в Италии — для него Рим стоил мессы. В 1758 году он становится библиотекарем и хранителем коллекций кардинала Аль-бани, в 1763 году — верховным хранителем всех древностей Рима и его окрестностей, посещает Помпеи и Геркуланум.
В 1768 году Винкельман был убит.
Три произведения Винкельмана положили основание научному исследованию истории древности: "Донесения о раскопках в Геркулануме" ("Sendschreiben"), его основной труд "История искусства древности" ("Geschichte der Kunst des Altertums") и "Неизвестные античные памятники" ("Monumenti antichi inediti").
Мы уже говорили о том, что раскопки в Помпеях и Геркулануме пелись без всякого плана, но еще большим злом, чем отсутствие плана, была та таинственность, которой эти раскопки окружались по приказу эгоистичных властителей. Всем посторонним — будь то путешественники или ученые, то есть всем людям, которые могли бы поведать о раскопках миру, — доступ к ним был запрещен, и лишь некий книжный червь, по имени Баярди, получил от короля разрешение составить первый каталог находок. Он начал с предисловия, не дав себе труда даже осмотреть раскопки. Он писал, писал и, так и не приступив к основному труду, заполнил к 1752 году своими писаниями пять пухлых томов общим счетом в 2677 страниц! Завистливый и злобный, он сумел к тому же добиться распоряжения министра о запрещении публикации сообщения двух других авторов, которые, вместо того чтобы заниматься предисловиями, взяли, что называется, быка за рога и сразу перешли к делу.
Если же какому-либо исследователю и удавалось получить доступ к находкам и ознакомиться с ними, то полная неразработанность вопроса и отсутствие основополагающих данных вели к столь же далеким от истины теориям, как, например, теория Марторелли: ссылаясь на то, что при раскопках была найдена чернильница, Марторелли доказывал на 652 страницах своего двухтомного труда, что в древности были распространены не книги-свитки, а обычные в нашем понимании книги, хотя свитки папируса из библиотеки Филодемоса лежали перед его глазами. Только в 1757 году наконец появился первый фолиант о древностях, изданный Валеттой. Средства для издания — 12 тысяч дукатов — были предоставлены королем.
И вот в эту затхлую атмосферу зависти, интриг, учености пудреных париков попал Винкельман. Преодолевая неслыханные трудности — в нем заподозрили шпиона, — Винкельман все же добился разрешения посетить королевский музей, однако ему было строжайше запрещено зарисовывать находящиеся там скульптуры и статуи. Винкельман был разозлен этим запретом и, как оказалось, не был в своем озлоблении одинок. В августинском монастыре, где Винкельман остановился, он познакомился с патером Пьяджи, которого застал за весьма странным занятием.
В свое время, когда была найдена библиотека Виллы деи Папири, всех привела в восхищение ее богатая коллекция старинных рукописей. Но стоило взять в руки тот или иной папирус, чтобы рассмотреть или прочитать его, как он тут же превращался в пыль.
Спасти папирусы пробовали самыми разными способами. Все попытки были тщетны. Но вот однажды невесть откуда появился патер с "почти такой же рамкой, какой пользуются для завивки волос при изготовлении париков"; он утверждал, что с помощью этого приспособления ему удастся развернуть свитки, не повредив их. Ему предоставили свободу действий. К тому времени, когда Винкельман очутился в келье патера, тот уже несколько лет занимался своей работой. Его успехам в развертывании папирусов сопутствовал его явный неуспех у короля и Алькубиерре, которые ничего не смыслили в этой работе и не понимали всей ее сложности. Все время, пока Винкельман сидел у него в келье, озлобленный монах честил всех и вся. С величайшей осторожностью, словно перебирая пух, он буквально по миллиметру прокручивал на своей машинке обуглившийся папирус, браня при этом короля за равнодушие, а чиновников и рабочих за их неспособность к работе. Гордясь одержанной победой, он показывал Винкельману очередную спасенную им страницу из трактата Филодемоса о музыке, но вдруг снова вспоминал о нетерпеливых и завистливых невеждах и опять принимался браниться.
Винкельман слушал речи патера с большим сочувствием: ведь и ему все еще было запрещено посещать раскопки; как и прежде, он вынужден был довольствоваться посещениями музея, как и прежде, ему запрещалось снимать копии. Благодаря тому, что он подкупил смотрителей, ему удалось увидеть некоторые находки, но через некоторое время к ним добавились новые, имеющие немаловажное значение для общей оценки античной культуры. Эти фрески и скульптуры были несколько необычны по своему содержанию. Король, человек чрезвычайно ограниченный, был шокирован, когда ему показали скульптуру сатира, сжимающего в страстных объятиях козу. Он приказал немедленно отправить все подобного рода скульптуры в Рим и держать их там под замком. Так Винкельману и не удалось увидеть эти произведения.
И все-таки, несмотря на все трудности, он в 1762 году опубликовал первое донесение об открытиях в Геркулануме. Двумя годами позже он вновь посетил город и музей и опубликовал второе донесение. В обоих донесениях он ссылался на сведения, почерпнутые им из рассказов патера; и то и другое содержало резкую критику. Когда второе его донесение дошло во французском переводе до неаполитанского двора, там поднялась целая буря возмущения: этот немец, которому была оказана редкая милость — ведь ему позволили осмотреть музей, — отплатил за нее такой монетой! Разумеется, нападки Винкельмана были справедливы, а его гнев — не беспричинным. Впрочем, для нас это уже не имеет никакого значения. Основная ценность донесений заключалась в том, что в них впервые ясно и по-деловому были описаны начатые у подножия Везувия раскопки.
В это же время появился и другой, по существу главный, труд Винкельмана — "История искусства древности". В нем он выступил как классификатор античных памятников, число которых непрерывно росло. Не имея перед собой никакого образца для подражания, как он сам об этом с гордостью говорил, он изложил впервые историю развития античного искусства. Он создал свою систему, опираясь на скудные и отрывочные сведения, почерпнутые им из трудов древних авторов, и с величайшей проницательностью истолковав все имевшиеся в его распоряжении новые данные; блестящее изложение, образные и яркие выводы произвели необыкновенное впечатление на весь образованный мир, всех охватило то горячее сочувствие античным идеалам и увлечение ими, которое породило век классицизма.
Эта книга оказала решающее влияние на развитие археологии; она побуждала заняться поисками прекрасного, где бы оно ни таилось, она указывала путь, давала ключ к открытию древних цивилизаций с помощью изучения памятников их культуры; она пробуждала надежду найти с помощью заступа еще что-либо, столь же неизвестное, удивительное и прекрасное, как погребенные под землей Помпеи.
Но только в своем труде "Неизвестные античные памятники", вышедшем в 1767 году, Винкельман дал в руки юной археологии в полном смысле научное оружие. Винкельман, который не имел перед собой образца для подражания, сам стал таким образцом. Изучив для определения и интерпретации памятников всю греческую мифологию и сумев использовать в своих обобщениях даже самые мелкие подробности, он освободил ранее существовавший метод от филологических пут и от опеки древних историков, свидетельства которых возводились до сих пор в канон.
Многие утверждения Винкельмана были неверными, многие его выводы слишком поспешными. Созданная им картина древности страдала идеализацией: в Элладе жили не только "люди, равные богам". Его знание греческих произведений искусства, несмотря на обилие материала, было весьма ограниченным. Он увидел лишь копии, сделанные в римскую эпоху и отбеленные миллионами капель воды и миллиардами песчинок. Между тем мир древности вовсе не был столь строг и столь белоснежен. Он был пестрым, настолько пестрым, что, несмотря на все тому подтверждения, нам сегодня трудно это себе представить. Подлинная греческая пластика и скульптура были многоцветны. Так, мраморная статуя женщины из Афинского акрополя окрашена в красный, зеленый, голубой и желтый цвета. Нередко находили статуи не только с красными губами, но и со сделанными из драгоценных камней сверкающими глазами и даже с искусственными ресницами, — что особенно непривычно для нас.
Непреходящей заслугой Винкельмана является то, что он установил порядок там, где до него был только хаос, привнес знание туда, где до тех пор господствовали лишь догадки и легенды. Еще большей его заслугой является все то, что он сделал своим открытием античного мира для немецкой классики Шиллера и Гете; кроме того, Винкельман дал будущим исследователям оружие, с помощью которого они сумели впоследствии вырвать из тьмы времен другие, еще более древние цивилизации.
В 1768 году, возвращаясь в Италию из поездки на родину, Винкельман познакомился в одной из гостиниц Триеста с неким итальянцем, не подозревая, что перед ним неоднократно привлекавшийся к суду преступник. Мы можем лишь гадать, почему Винкельман искал общества этого экс-кока и даже ел вместе с ним в своей комнате. Винкельман был заметным клиентом в отеле. Он был богато одет, его манеры обличали в нем светского человека, при случае можно было увидеть, что у него есть и золотые монеты — память об аудиенции у Марии Терезии. Итальянец, откликавшийся на мало подходившее ему имя Арканджело ("Арканджело" значит по-итальянски "архангел"), запасся веревкой и ножом.
Вечером 8 июня 1768 года ученый решил написать еще пару страниц и, сняв верхнюю одежду, присел к письменному столу. В этот момент в комнату вошел итальянец. Он накинул Винкельману на шею петлю и в разыгравшейся вслед за этим короткой схватке нанес ученому шесть тяжелых ножевых ранений. Смертельно раненный Винкельман, человек очень крепкого телосложения, нашел в себе силы спуститься по лестнице вниз. Появление его, окровавленного и бледного, вызвало настоящий переполох среди кельнеров и горничных, а когда они пришли в себя, всякая помощь оказалась уже ненужной. Через несколько часов Винкельман скончался; на его письменном столе нашли листок бумаги с последними написанными его рукой словами: "Следует…"
Он не успел закончить свою мысль: убийца выбил перо из рук великого ученого, основателя новой науки. Но труд Винкельмана не остался бесплодным. Во всем мире живут его ученики. Со дня его гибели минуло уже чуть ли не два столетия, но по-прежнему в Риме и Афинах, во всех ныне существующих крупных центрах археологической науки ежегодно 9 декабря археологи отмечают День Винкельмана — день рождения великого ученого.
Глава 3 СЛЕДОПЫТЫ ИСТОРИИ
Если мы откроем сегодня какую-нибудь книгу, посвященную античному искусству, нас, если мы над этим задумаемся, должно поразить одно обстоятельство: без затруднения авторы в подписях к рисункам сообщают совершенно точные сведения о том, каким событиям они посвящены, кто на них изображен. Вот эта голова, найденная одним крестьянином из Кампаньи, голова Августа, а вот та конная статуя — статуя Марка Аврелия, а это банкир Люций Цецилий Юкунда; или, еще точнее, — это Аполлон Сауроктон, изваянный Праксителем, это амазонка Поликлета; а вот эта роспись вазы Дуриса изображает Зевса, похищающего спящую девушку.
Кто из нас задумывается над тем, откуда почерпнуты эти сведения, каким образом люди сумели разобраться в том, кому принадлежит та или иная скульптура, кого она изображает, тем более что чуть ли не все эти скульптуры безымянные?
Мы видим в музеях пожелтевшие от времени, полуистлевшие свитки папируса, черепки ваз, фрагменты рельефов, колонн, испещренных какими-то рисунками и знаками, иероглифами и клинописью. Мы знаем, есть люди, для которых разобраться в этих знаках, прочесть их так же просто, как для нас прочитать газету или книгу. Отдаем ли мы себе отчет в том, какой остротой ума нужно было обладать, чтобы суметь раскрыть тайну языков, которые были мертвыми уже в те времена, когда Северная Европа еще находилась на стадии варварства? Задумываемся ли мы над тем, что помогло нам проникнуть в тайну этих мертвых знаков?
Мы перелистываем труды современных историков — перед нами проходит история древних народов, следы культуры которых обнаруживаются еще и сегодня в тех или иных элементах языка, во многих наших обычаях и нравах, в наших произведениях искусства, несмотря на то что жизнь этих народов протекала в далеких от нас землях и следы ее теряются во тьме веков. Мы читаем их историю и знаем, что это не легенда, не сказка — перед нами цифры, даты, имена правителей и королей; мы узнаем, как они жили в дни войны и в дни мира, какими были их дома, их храмы. Мы узнаем о периодах величия и падения государства с точностью до года, месяца и даже дня, хотя все события происходили задолго до нашей эры, когда нашего летосчисления не было еще и в помине, когда не родились еще наши календари. Откуда же все эти сведения, откуда эта точность и определенность хронологических таблиц?
Мы хотим рассказать о становлении науки археологии, представить ее в развитии, не утаив ничего. Большинство вопросов, которые мы только что задали, отпадут по мере изложения. Дабы не утомлять читателя повторениями, мы позволим себе, однако, уже сейчас сделать несколько общих, предварительных замечаний о методах археологии, рассказать о тех трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться.
Римский антиквар Аугусто Яндоло рассказывает в своих воспоминаниях о том, как ему еще мальчишкой довелось вместе с отцом присутствовать при вскрытии этрусского саркофага: "Нелегко было сдвинуть крышку; наконец она поднялась, стала вертикально и потом тяжело упала на другую сторону. И тогда произошло то, чего я никогда не забуду, что до самой смерти будет стоять у меня перед главами: я увидел молодого воина в полном вооружении — в шлеме, с копьем, щитом и в поножах. Я подчеркиваю: не скелет воина, а самого воина. Казалось, смерть не коснулась его. Он лежал вытянувшись, и можно было подумать, что его только что положили в могилу. Это видение продолжалось какую-то долю секунды. Потом оно исчезло, словно развеянное ярким светом факелов. Шлем скатился направо, круглый щит вдавился в латы, покрывавшие грудь, поножи, лишившись опоры, оказались на земле. От соприкосновения с воздухом тело, столетиями лежавшее непотревоженным, неожиданно превратилось в прах, и только пылинки, казавшиеся в свете факелов золотистыми, еще плясали в воздухе".
Воин был представителем того загадочного народа, происхождение и родословная которого неизвестны и поныне. Один-единственный взгляд успели бросить на него, на его лицо исследователи, и он рассыпался, превратился в пыль. Почему? Виной тому была неосторожность исследователей.
Когда в странах классической древности еще задолго до открытия Помпеи стали находить в земле первые статуи (к тому времени люди были уже достаточно просвещенными, чтобы не только видеть в этих обнаженных фигурах языческих идолов, но и смутно догадываться об их эстетической ценности), когда эти статуи стали выставлять в эпоху Ренессанса во дворцах тиранов и кардиналов, их все-таки еще рассматривали всего лишь как курьезные раритеты, коллекционирование которых стало модой; порой в таких частных музеях какая-либо античная статуя мирно соседствовала с засушенным эмбрионом двухголового ребенка, а античный рельеф уживался рядом с чучелом птицы, которую якобы держал в руках святой Франциск, покровитель птиц.
Вплоть до прошлого столетия ничто не мешало людям жадным и невежественным обогащаться за счет находок, а если это обещало доход, то и разрушать найденное.
В XVI веке на Forum Romanum — площади, на которой в Древнем Риме происходили народные собрания (здесь вокруг Капитолия сгруппировались великолепнейшие постройки), пылали печи для обжига извести, а в древних храмах были устроены каменоломни. Папы употребляли мраморные плиты для облицовки фонтанов в своих дворцах. С помощью пороха был взорван Серапеум; это сделали лишь для того, чтобы украсить конюшню одного из Иннокентиев. Камни из терм Каракаллы превратились в ходкий товар. Более четырех веков подряд Колизей служил каменоломней. Еще в 1860 году папа Пий IX продолжил это разрушение, чтобы за счет языческого наследства раздобыть дешевый материал для христианской постройки. Там, где сохранившиеся памятники могли бы дать ценнейшие сведения, археологи XIX и XX веков находили лишь руины.
Но там, где ничего подобного не было, где ничья злоумышленная рука не занималась разрушениями, ни один вор не искал запрятанных сокровищ и перед глазами археолога вставало никем не потревоженное прошлое (как это редко случалось!), — там исследователя подстерегали другие трудности, связанные с определением и истолкованием находки.
В 1856 году неподалеку от Дюссельдорфа были найдены остатки скелета. Когда мы сегодня говорим об этой находке, мы называем ее останками неандертальского человека, но в те времена их приняли за останки животного, и только доктор Фульрот, преподаватель гимназии из Эльберфельде, сумел правильно определить принадлежность найденного скелета. Профессор Майер из Бонна считал его скелетом погибшего в 1814 году казака, Вагнер из Геттингенского университета думал, что это скелет древнего голландца, парижский ученый Прюнер-Бей утверждал, что это скелет древнего кельта, а знаменитый врач Вирхов, чьи слишком поспешные суждения не раз тормозили научную мысль, авторитетно заявил, что этот скелет принадлежит современному человеку, однако носит следы старческой деформации. Науке понадобилось ровно пятьдесят лет для того, чтобы установить: учитель гимназии из Эльберфельде был прав.
Правда, данный пример относится скорее в области первобытной истории и антропологии, чем к археологии, но можно вспомнить и другое, скажем, попытки определить, когда была изваяна знаменитая группа Лаокоона — одна из наиболее известных скульптур Древней Греции. Винкельман относил ее к эпохе Александра Македонского, минувший век видел в ней шедевр родосской художественной школы, относя группу примерно к 150 году до н. э., некоторые считали, что она изваяна во времена первых императоров. Мы же сегодня знаем, что авторами Лаокоона были родосские скульпторы Агесандр, Полидор и Атенодор, изваявшие эту группу в пятидесятых годах первого столетия до н. э.
Итак, давность и содержание изображения трудно определить даже тогда, когда тот или иной древний памятник сохранился в своем первоначальном виде. А как быть в тех случаях, когда возникают сомнения в аутентичности самого памятника?
Здесь к месту вспомнить о каверзной, чисто уленшпигелевской проделке, жертвой которой стал профессор Берингер из Вюрцбурга. В 1726 году он опубликовал книгу; ее название, написанное по-латыни, не может здесь быть воспроизведено, ибо оно занимает целых полторы страницы. Речь в этой книге шла об окаменелостях, которые были найдены Берингером и его учениками неподалеку от Вюрцбурга. Берингер повествует о цветах, лягушке, о пауке, который окаменел вместе с пойманной им мухой, о табличках с еврейскими письменами и о других самых диковинных вещах. Автор не поскупился на рисунки: сделанные с натуры, великолепно переданные в гравюрах, они прекрасно дополняли текст, раскрывая и обогащая его. Книга была объемистой, содержательной, в ней было немало полемических выпадов против научных противников профессора; она имела успех, ее хвалили… до тех пор, пока не выяснилась страшная истина: все было лишь проделкой школяров, которые решили позабавиться над своим профессором. Они сами изготовили все "окаменелости" и позаботились о том, чтобы они очутились именно там, где профессор занимался своими поисками.
Коль скоро мы вспомнили Берингера, не следует забывать и французского аббата Доменека. В Арсенальной библиотеке Парижа хранится великолепное издание его книги с 228 таблицами и факсимиле, вышедшей в свет в I860 году под названием "Manuscript pictographique americain". Как выяснилось позднее, эти "индейские рисунки" были всего лишь черновыми эскизами из рисовальной тетради одного американского мальчика, немца по происхождению.
Могут возразить, что подобная история могла приключиться только с каким-нибудь Берингером или Доменеком. Ну а великий Винкельман? Ведь он тоже стал жертвой мистификации со стороны художника Казановы (брата известного мемуариста), иллюстрировавшего его "Античные памятники". Казанова изготовил в Неаполе три картины; на одной из них были изображены Юпитер и Ганимед, а на двух остальных — танцовщицы. Затем он послал их Винкельману, уверив его, что картины были сняты прямо со стен в Помпеях, а для пущей убедительности своих слов придумал совершенно невероятную романтическую историю о некоем офицере, который якобы тайком, по одной, выкрал эти картины. Смертельная опасность… темная ночь… тени гробниц… Казанова знал цену красочным деталям! И Винкельман попался на его удочку: он не только поверил в подлинность картин, он поверил всем россказням Казановы. В пятой главе своей книги "Неизвестные античные памятники" он дал точное описание этих "находок", отметив, в частности, что Ганимед — это картина, "равной которой еще никому не приходилось видеть". В этом он был прав: если не считать Казановы, он действительно был первым из тех, кто ее увидел. "Любимец Юпитера, несомненно, принадлежит к числу самых ярких фигур, доставшихся нам от искусства античности. Я не знаю, с чем можно сравнить его лицо: оно буквально дышит сладострастием, кажется, для Ганимеда в поцелуях — вся жизнь".
Уж коль такой человек, как Винкельман, наделенный острейшим критическим чутьем, мог стать жертвой обмана, то кто может поручиться, что и с ним не произойдет что-либо подобное?
Искусство определения памятников, овладев которым исследователь уже не так легко поддается мистификации, метод, с помощью которого устанавливают по соответствующим признакам подлинность того или иного произведения, определяют его происхождение и историю, — все это составляет содержание науки, которая называется герменевтикой.
Книги, посвященные определению одних только известных классических находок, составляют целые библиотеки. Историю некоторых определений мы можем проследить, начиная с первой попытки интерпретации, принадлежащей еще Винкельману, и вплоть до дискуссий на те же темы, ведущихся современными учеными.
Археологи — это следопыты. С проницательностью, присущей детективам, подбирают они камешек к камешку (и часто не только фигурально) до тех пор, пока постепенно не придут к логически напрашивающимся выводам. Легче ли им, чем криминалистам? Ведь они имеют дело с мертвыми предметами — с противником, не способным к сознательному противодействию, лишенным возможности запутывать следы, наводить на ложный путь. Это верно: мертвые камни не могут оказать сопротивления тем, кто их созерцает. Но сколько фальсификаций они таят! Сколько ошибок допустили те, кто опубликовал первые известия о той или иной находке! Ведь ни один археолог не в состоянии изучить в подлиннике все находки — они рассеяны по всей Европе, по музеям всего мира. Ныне, правда, фотография дает совершенно точное их изображение, но далеко не все еще сфотографировано; до сих пор еще приходится часто довольствоваться рисунками, субъективно раскрашенными, субъективно исполненными. Эти рисунки, зачастую сделанные людьми, ничего не смыслящими ни в мифологии, ни в античной истории, неточны, изобилуют ошибками.
На одном саркофаге, хранящемся ныне в Лувре, изображены Психея и Амур. У Амура отбита правая рука, но кисть руки сохранилась: она лежит на щеке Психеи. Эту кисть два французских археолога превратили на своем рисунке… в бороду. Подумать только, бородатая Психея! Несмотря на явную нелепость этого рисунка, третий француз, издавший каталог Лувра, пишет: "Скульптор, создавший саркофаг, не разобрался в сюжете — он наделил Психею, одетую в женское платье, бородой!" А вот еще один случай, показывающий, как далеко можно уйти по ложному следу, настолько порой запутанному, что и нарочно не придумаешь. В Венеции есть один рельеф — серия сцен, изображающая двух мальчиков: впрягшись вместо быков в повозку, они везут женщину. Этот рельеф был дополнен и реставрирован примерно полтораста лет назад. Интерпретаторы того времени видели в нем иллюстрацию к одному из рассказов Геродота: Геродот сообщает о некой Кидиппе, жрице Геры, которую однажды за отсутствием быков привезли к храму ее собственные сыновья. Растроганная мать обратилась с мольбой к богам даровать ее сыновьям наивысшее блаженство, доступное смертным. И Гера, по совету богов, дала им возможность умереть во сне, ибо безмятежная смерть в ранней юности и есть наивысшее блаженство.
Основываясь на таком толковании, рельеф дополнили и реставрировали. Решетка у ног женщины превратилась в повозку на колесах, конец веревки в руке одного из мальчиков — в дышло. Орнаменты стали богаче, контуры более определенными, сам рельеф более глубоким. Так были созданы предпосылки для новых толкований. На основании произведенных дополнений рельеф был датирован, причем неверно; орнамент был принят за рисунки, храм объявлен усыпальницей — это тоже было неверно: рассказ Геродота приукрашен — и тоже неправомерно, ибо вся реставрация была совершенно ошибочной. Рельеф вовсе не был иллюстрацией к Геродоту. Геродота вообще никогда во времена античности не иллюстрировали. Повозка — чистейшая выдумка реставратора, он зашел в этом так далеко, что даже снабдил ее колеса спицами, которые в таком орнаментированном виде вообще никогда не встречались в античных памятниках. Плодом воображения является и ярмо, и ошейники у быков. Разве не свидетельствует данный пример о том, на какой ложный путь может завести неверное описание?
Мы упомянули Геродота — автора, чьи произведения и поныне служат неиссякаемым источником сведений о датах, о произведениях искусства и их авторах. Труды античных авторов, к какому бы нрсмени они ни относились, основа герменевтики, но как часто они вводят в заблуждение археологов! Ведь писатель говорит о высшей правде — что ему банальная действительность! Для него история, а тем более мифы, — лишь материал для творчества.
Человек, чуждый музам, может сказать: "Писатели лгут". Если поэтическая вольность в обращении с фактами — это ложь, то действительно древние авторы лгали не менее, чем современные. Немало труда приходится затратить археологу, чтобы выбраться сквозь чащу их свидетельств на верную дорогу. Так, например, чтобы установить, к какому времени относится статуя Зевса-олимпийца из золота и слоновой кости — знаменитое творение Фидия, необходимо знать, когда и где Фидий умер. Об этом мы находим у Эфора, Диодора, Плутарха и Филохора противоречивые и взаимоисключающие друг друга данные: он умер в темнице; ему удалось из нее бежать; он был казнен в Элиде; он спокойно дожил там свой век… И только в сравнительно недавно найденном опубликованном в Женеве папирусе мы находим сведения, подтверждающие сообщение Филохора.
Все это дает некоторое представление о тех кознях, которые поджидают археолога, когда он остается один на один с тем или иным памятником. В этом единоборстве он может рассчитывать только на заступ и собственную сообразительность.
Рассказать обо всех методах, применяемых в научной критике, о том, как делаются зарисовки и описания, о том, как помогают определению находок мифология, литература, эпиграфический материал, изучение монет и утвари, о комбинированных методах определения находок путем сравнения, изучения места находки, ее залегания и находок, сопутствующих ей, рассказать обо всем этом — означало бы выйти за пределы той темы, которой посвящена наша книга. К тому же это сказалось бы и на ее занимательности.
Глава 4 СКАЗКА О БЕДНОМ МАЛЬЧИКЕ, КОТОРЫЙ НАШЕЛ СОКРОВИЩЕ
Это начиналось так: маленький мальчик стоял около могилы на кладбище в своей родной деревушке, расположенной высоко в горах, на немецкой земле Мекленбург. В этой могиле был похоронен злодей Хенниг, по прозвищу Бранденкирль. Рассказывали, что он заживо сжег одного пастуха, а потом ударил его, уже обуглившегося, мертвого, ногой. Это не прошло Бранденкирлю даром: как говорили, каждый год его левая нога в шелковом чулке и башмаке вылезала из могилы.
Мальчик стоял и ждал — нога не показывалась. Тогда он попросил отца раскопать могилу, чтобы узнать, куда она в этом году запропастилась.
Недалеко от этого места был холм. Под ним была закопана золотая колыбель; так, во всяком случае, утверждали пономарь и няня. Как-то мальчик сказал своему отцу, промотавшему все свое состояние пастору: "У тебя нет денег? Почему бы нам не выкопать колыбель?"
Отец рассказывал сыну сказки и легенды. Старый гуманист, он рассказывал о борьбе героев Гомера, о Парисе и Елене, об Ахилле и Гекторе, о могущественной Трое, сожженной и разрушенной. В 1829 году на Рождество он подарил сыну иллюстрированную "Всемирную историю для детей" Еррера. Там была картинка: Эней, держа сына за руку и посадив старика отца на спину, покидает охваченный пламенем город. Мальчик смотрел на изображение, на крепкие стены, на огромные Скайские ворота. "Так выглядела Троя?" — спросил он. Отец утвердительно кивнул. "И все это разрушено, совершенно разрушено, и никто не знает, где стоял этот город?" — "Разумеется", — ответил отец.
"Я не верю этому, — сказал маленький Генрих Шлиман. — Когда я вырасту большой, я найду Трою и сокровища царя".
Отец рассмеялся.
Это не выдумка, это даже не окрашенные в сентиментальные тона воспоминания детства, которым нередко предаются в старости люди, добившиеся успеха в жизни. Задача, которую поставил перед собой семилетний мальчик, была проведена в жизнь. А в шестьдесят один год уже всемирно известный исследователь, очутившись случайно на родине, раскопал могилу злого Хеннига.
В предисловии к его книге об Итаке сказано: "Когда я в 1832 году в десятилетнем возрасте преподнес отцу в качестве рождественского подарка изложение основных событий Троянской войны и приключений Одиссея и Агамемнона, я не предполагал, что тридцать шесть лет спустя, после того как мне посчастливится собственными глазами увидеть места, где развертывались военные действия, и посетить отчизну героев, чьи имена благодаря Гомеру стали бессмертными, я предложу вниманию публики целый труд, посвященный этой теме".
Первые впечатления ребенка остаются на всю жизнь. Но недолго было суждено этим впечатлениям питаться рассказами о классических деяниях. В четырнадцать лет Шлиману пришлось оставить школу и поступить учеником в лавку в маленьком городке Фюрстенберге. Долгие пять с половиной лет он продавал селедку и шнапс, молоко и соль, крошил картошку для перегонного куба и подметал лавку. И так с пяти часов утра до одиннадцати часов вечера.
Он забыл то, что учил, то, что слышал когда-то от отца. Но однажды в лавку ввалился подвыпивший рабочий, помощник мельника, уселся на прилавок и громовым голосом, с тем пафосом", который проявляют люди, чему-то учившиеся, к своим более бедным но духу собратьям, принялся декламировать стихи. Шлиман был как в чаду, хотя и не понимал ни одного слова. Но, когда он узнал, что это стихи из гомеровской "Илиады", он собрал все свои жалкие сбережения и стал покупать пьянице стаканчик водки каждый раз, как тот повторял свою декламацию.
Дальнейшая его жизнь похожа на приключенческий роман. В 1841 году он отправился в Гамбург и завербовался юнгой на корабль, уходивший в Венесуэлу. Через четырнадцать дней корабль попал в жесточайший шторм и затонул возле острова Тексель, а Шлиман, который был гол как сокол, очутился в госпитале. По рекомендации друга семьи ему удается устроиться на службу в одну контору в Амстердаме. И если его вылазка на поприще географии оказалась неудачной, то на поприще духовной жизни ему повезло.
В жалкой нетопленой мансарде он приступает к изучению языков. Применяя совершенно необычный, им самим созданный метод, он за два с половиной года овладевает английским, французским, голландским, испанским, португальским и итальянским языками. "Эти напряженные и чрезмерные занятия настолько укрепили за год мою память, что изучение голландского, испанского, итальянского и португальского языков показалось мне очень легким: мне понадобилось не более шести недель, чтобы научиться свободно говорить и писать!"
Став корреспондентом и бухгалтером одной фирмы, которая имела торговые связи с Россией, он приступил в 1844 году, двадцати двух лет от роду, к изучению русского языка. Но никто во всем Амстердаме не владел этим труднейшим языком, и единственными учебными пособиями, которые ему удалось разыскать, были старая грамматика, словарь да плохой перевод "Похождений Телемака". С этим он и начал свои занятия. Он так громко декламировал выученного им наизусть "Телемака", а голос его так звонко раздавался в пустых стенах комнаты, что это вызывало недовольство соседей: дважды ему пришлось переезжать на новую квартиру. Наконец он решил, что ему будет полезен слушатель, и нанял за четыре франка в неделю одного бедняка еврея, который должен был терпеливо сидеть и слушать "Телемака", не понимая ни единого слова из того, что Шлиман ему декламировал. После шести недель напряженных занятий Шлиман бегло изъяснялся с русскими купцами, которые прибыли в Амстердам для закупок индиго, на их родном языке.
Его успехам в учебе сопутствовали успехи в делах. Бесспорно, ему везло. Следует, правда, отметить, что он принадлежал к числу людей, которые, как говорится, своего не упустят и умеют ковать железо, пока оно горячо. Сын бедняка пастора, ученик в лавке, служащий в конторе (но одновременно и знаток восьми языков), он стал торговцем, а затем в головокружительном взлете достиг должности королевского купца. В деньгах и богатстве он видел кратчайший путь к успеху. В 1846 году двадцатичетырехлетний Шлиман едет в качестве агента своей фирмы в Петербург. Годом позже он основывает собственный торговый дом. Все это отнимает у него немало времени и стоит немалого труда. "Только в 1854 году мне удалось изучить шведский и польский языки". Он много ездил. В 1850 году он побывал в Северной Америке. Присоединение калифорнийского побережья к Соединенным Штатам давало ему право на американское гражданство*. Не миновала его, как многих других, золотая лихорадка: он основал банк для операций с золотом. Его удостаивает приема президент. "В семь часов я отправился к президенту Соединенных Штатов; я сказал ему, что желание увидеть эту великолепную страну и познакомиться с ее великими руководителями побудило меня предпринять эту далекую поездку из России и что я считаю своим первейшим долгом засвидетельствовать ему свое почтение. Он принял меня очень сердечно, представил жене и дочери. Я беседовал с ним полтора часа". (* Четвертого августа 1850 года Калифорния была включена в состав США; каждый находившийся в этот день на территории штата Калифорния автоматически становился гражданином США).
Однако вскоре Шлиман заболел малярией, к тому же он давно тяготился своей буйной клиентурой; все это снова привело его в Петербург. Да, в эти годы он был настоящим золотоискателем, во всяком случае, именно таким его описывает один из биографов (Людвиг). Но его письма, относящиеся к этому периоду, и обе автобиографии свидетельствуют в то же время о том, что и в эти годы, как, впрочем, и всегда, его не покидает юношеская мечта — посетить когда-нибудь те далекие места, где жили и совершали свои великие подвиги герои Гомера, заняться изучением и исследованием этих мест. Его увлечение настолько серьезно, что он, этот, наверное, самый способный к языкам человек своего времени, испытывает своеобразный страх перед греческим языком и не приступает к его изучению, так как боится, что оставит ради него свои дела раньше, чем сможет обеспечить себе необходимую базу для свободных занятий наукой. Только в 1856 году он взялся за изучение новогреческого языка и, верный своей привычке, овладел им все в те же шесть недель. В последующие три месяца он успешно справляется со всеми трудностями гомеровского гекзаметра, что требует от него колоссальной траты сил. "Я штудирую Платона с таким расчетом, что, если бы в течение ближайших шести недель он смог бы получить от меня письмо, он должен был бы его понять".
В последующие годы он дважды чуть было не попал в те места, где жили герои Гомера. Только случайная болезнь помешала ему во время путешествия ко второму Нильскому порогу — через Палестину, Сирию и Грецию — съездить на остров Итаку (кстати говоря, во время этого путешествия он изучил латинский и арабский языки. ЕГО дневники способен прочесть только полиглот: он всегда писал на языке той страны, в которой в это время находился).
В 1864 году он уже было совсем собрался посетить Троянскую равнину, но, изменив своему решению, отправился в двухлетнее путешествие вокруг света, плодом которого явилась его первая книга, написанная на французском языке. К этому времени он уже был свободным человеком. Пасторский сынок из Мекленбурга обладал великолепным деловым чутьем и принадлежал к той же породе людей, что и американские selfmademan'ы. Вспоминая в одном из своих писем о том, как он использовал для своих торговых операций Крымскую войну 1853 года, как нажился во время гражданской войны в США и годом позже на торговле чаем, он сам говорит о себе как о человеке с "жестоким сердцем". Ему всегда чертовски везло. Во время Крымской войны он однажды отправил в Мемель большой груз. Случилось так, что на мемельских складах вспыхнул пожар. Все товары были уничтожены, за исключением груза, принадлежавшего Генриху Шлиману: по чистой случайности его разместили не в общем складском помещении, а в сарайчике, который находился несколько в стороне. Тогда он мог записать (какая гордость скрывается за этими словами!): "Небо чудесным образом благословило мои торговые дела, и к концу 1863 года я увидел себя владельцем такого состояния, о котором не отваживался мечтать в самых честолюбивых своих замыслах". И после этих строк следует прелестная в своей непосредственности фраза — констатация поступка, казалось бы, абсолютно неправдоподобного, но для Генриха Шлимана совершенно закономерного. "В силу этого я отошел от торговли, — скромно замечает он, — решив целиком посвятить себя научным занятиям, которые всегда меня чрезвычайно привлекали".
В 1868 году он совершил через Пелопоннес и Трою поездку в Итаку. Предисловие к его книге "Итака" датировано 31 декабря 1868 года; подзаголовок книги: "Археологические изыскания Генриха Шлимана".
Сохранилась его фотография петербургских времен: перед нами представительный господин в тяжелой меховой шубе. Эту фотографию он подарил жене одного лесничего, которую знал еще маленькой девочкой. На оборотной стороне гордая подпись: "фотография Генриха Шлимана, ранее ученика у господина Гюкштедта в Фюрстенберге, ныне оптового купца первой гильдии, русского потомственного почетного гражданина, судьи в Санкт-петербургском торговом суде и директора Императорского государственного банка в С.-Петербурге".
Разве не похоже на сказку то, что крупнейший коммерсант, которому сопутствует в делах необыкновенная удача, находясь на вершине своих успехов, внезапно бросает все, сжигает за собой все корабли лишь для того, чтобы пойти дорогой мечты своего детства? Что этот человек, опираясь только на поэмы Гомера — здесь начинается новая глава его удивительной жизни, — посмел послать вызов всему ученому миру и, открыто сделав Гомера своим знаменем, отвергнув все прежние труды филологов, с лопатой в руках отправился распутывать то, что до этого было запутано и перезапутано сотней трактатов?
Во времена Шлимана Гомера считали певцом давно исчезнувшего мира. Сомнения в реальном существовании Гомера переносились и на сообщаемые им сведения. Ученые того времени были далеки от смелых утверждений своих позднейших коллег, называвших Гомера первым военным корреспондентом. В достоверность его сведений о той борьбе, которая разыгралась за город Приама, верили ничуть не больше, чем в достоверность сведений, содержащихся в древних сказаниях о героях, а некоторые вообще относили их к области мифов.
Разве "Илиада" не начинается с того, что Аполлон посылает смертельную болезнь на ахейцев? Разве Зевс не вмешивается непосредственно в борьбу, точно так же как и "лилейнорукая Гера"? Разве не превращаются там боги в людей, подверженных ранениям — ведь даже богиня Афродита почувствовала железо копья.
Мифы, сказки, легенды, полные божественного огня, — создание одного из величайших писателей, но всего лишь писателя. К этому следует добавить еще следующее: согласно "Илиаде", Греция того периода была страной высокой культуры. Между тем во времена, когда греки попали в поле зрения современной истории, они ничем особенно не выделялись среди других народов — ни роскошью дворцов, ни могуществом царей, ни большим флотом. Приписать содержащиеся в поэмах Гомера сведения фантазии писателя было, несомненно, гораздо проще, чем согласиться с тем, что за эпохой высокой цивилизации последовала эпоха упадка с его варварством, а затем новый подъем эллинской культуры. Но подобного рода взгляды не могли сбить с пути Шлимана: он жил в мире Гомера, и для него все, что сообщал Гомер, было подлинной реальностью — в этом он в свои сорок шесть лет недалеко ушел от того мальчика, который когда-то рассматривал рисунок, изображающий бегство Энея. Когда он перечитывал описание щита Агамемнона или те места, где во всех деталях описывались боевые колесницы, оружие, утварь, он нисколько не сомневался, что перед ним реально существовавший греческий мир.
Все эти герои — Ахилл и Патрокл, Гектор и Эней, все их деяния, их дружба, ненависть и любовь — все это лишь плод фантазии? Нет. Он верил в их существование, и он знал: его веру разделяли великие историки древности Геродот и Фукидид, которые везде говорили о Троянской войне как об истинном происшествии, а о ее героях — как о реально существовавших людях.
С этой верой миллионер Генрих Шлиман и отправился на сорок шестом году жизни в свое путешествие в царство ахейцев. Можно себе представить, насколько возрос его энтузиазм, когда он узнал, что жену кузнеца — первого из жителей, с которым он познакомился на Итаке, — звали Пенелопа, а ее сыновей — Одиссей и Телемак?
Это звучит неправдоподобно, но тем не менее так было: вечером на деревенской площади сидел богатый чудаковатый иностранец и читал потомкам тех, кто умер три тысячи лет назад, XXIII песню "Одиссеи", при этом его охватило такое волнение, что он заплакал, и вместе с ним плакали местные жители — и мужчины и женщины.
Все, что произошло затем, похоже на чудо. Где и когда в истории один лишь энтузиазм приводил к успеху? Поговорка о том, что успех решают знания, в данном случае не вполне применима хотя бы потому, что утверждение, будто Шлиман уже в первые годы своей научной деятельности был знатоком в области археологии, по меньшей мере спорно. И все-таки удача сопутствовала ему, как никому.
В те времена большинство ученых считали, что Троя могла находиться, если она действительно когда-либо существовала, на том месте, где стояла теперь маленькая деревушка Бунарбаши, примечательная и по сегодняшний день лишь тем, что на крышах ее домов красуется чуть ли не по дюжине гнезд аистов. Здесь протекали два ручья — это обстоятельство и навело наиболее смелых археологов на мысль, что именно на этом месте и была расположена древняя Троя.
До родников добежали, прекрасно струящихся. Два их
Бьет здесь ключа, образуя истоки пучинного Ксанфа.
Первый источник струится горячей водой. Постоянно
Паром густым он окутан, как будто бы дымом пожарным.
Что до второго, то даже и летом вода его схожа
Или со льдом водяным, иль со снегом холодным, иль с градом…
Так говорится в XXII песне "Илиады" Гомера.
Наняв за сорок пять пиастров проводника с неоседланной лошадью, Шлиман вскоре очутился в стране своих мальчишеских грез.
"Сознаюсь, я с трудом справился с охватившим меня волнением, когда увидел прямо перед собой огромную Троянскую равнину, какой она часто являлась мне в грезах и сновидениях".
Но уже с первого взгляда Шлиману стало ясно, что Троя не могла быть расположена здесь, в трех часах езды от моря: ведь герои Гомера по нескольку раз в день сходили с кораблей в город. И потом, неужели город Приама со своими шестьюдесятью двумя зданиями, с циклопическими стенами и воротами, через которые в город был внесен деревянный конь хитроумного Одиссея, мог разместиться на этом холме?
Шлиман осмотрел источники и покачал головой. На площади всего лишь в пятьсот метров он насчитал не два, как об этом говорил Гомер, а тридцать четыре источника; более того, проводник еще принялся уверять его, что он обсчитался: их не тридцать четыре, а сорок, недаром эта местность называется Кырк гез, то есть "сорок глаз".
Но разве Гомер не говорил об одном теплом и одном холодном источнике? Шлиман, который так же свято верил каждому слову Гомера, как теологи прежних времен — Библии, вытащил термометр и измерил температуру во всех тридцати четырех источниках — она везде была одинаковой: семнадцать с половиной градусов.
Но и на этом он не успокоился. Он открыл "Илиаду" и перечитал то место, где Гомер рассказывает об ужасном сражении Ахилла и Гектора, о том, как Гектор бежал от "страшного воина", и они "трижды обошли вокруг Приамовой крепости" и "все боги взирали на это".
Он решил проделать тот же путь. В одном месте он натолкнулся на такой крутой спуск, что ему пришлось его преодолевать чуть ли не на четвереньках. Сомнения его все возрастали. Разве мог Гомер — а его описания местности были для Шлимана равносильны топографической карте — заставить своих героев трижды "спускаться бегом" по такому спуску?
С часами в одной руке и томиком Гомера в другой Шлиман шагал по дороге между холмом, который должен был прикрывать Трою, и мысом, у которого должны были стоять корабли ахейцев. В точном соответствии с содержащимся в "Илиаде" описанием (II–VII песни) он восстановил весь ход сражения, разыгравшегося в первый день Троянской войны, и пришел к выводу, что, если бы Троя действительно находилась на месте Бунарбаши, ахейцы должны были бы за девять часов проделать путь по меньшей мере в 84 километра.
Но окончательно убедило его в своей правоте полнейшее отсутствие каких-либо руин: также черепков нигде не было видно, тех самых черепков, о которых кто-то весьма метко заметил: "Судя по находкам археологов, древние народы только тем и занимались, что изготовляли вазы, а прежде чем погибнуть, они, проявляя низменные стороны своего характера, всегда их уничтожали, оставляя последующим поколениям лишь изуродованные осколки самых лучших своих творений".
"Микены и Тиринф, — писал Шлиман, — были разрушены 2335 лет назад (он писал это в 1868 году), и, несмотря на это, их руины находятся в таком состоянии, что, наверное, простоят еще 20 000 лет". Троя была разрушена всего на 722 года ранее; циклопические стены не могли исчезнуть бесследно, и тем не менее нигде не было видно ни малейших их следов. В то же время даже при поверхностном, беглом осмотре следы этих стен обнаруживались среди развалин Нового Илиона (ныне известного под названием Гиссарлык, что означает "крепость, дворец"), расположенного в двух с половиной часах езды к северу от Бунарбаши и всего лишь в часе езды от моря.
Шлиман дважды осмотрел вершину одного холма, представлявшую собой четырехугольное плоское плато, каждая сторона которого имела в длину 233 метра, и пришел к убеждению: под этим холмом лежит Троя.
Он стал наводить справки и выяснил, что является не единственным сторонником этой гипотезы, хотя разделяли ее немногие. Франк Кальверт американский вице-консул, англичанин по происхождению, которому принадлежала часть холма Гиссарлык (там была его вилла), — произведя небольшие раскопки, пришел к тому же убеждению, что и Шлиман, но не сделал никаких окончательных выводов. Того же мнения придерживался шотландский ученый Мак-Ларен и немец Эккенбрехер, но к их голосам никто не прислушивался.
Ну а как обстояло здесь дело с источниками, о которых упоминал Гомер? Ведь именно они послужили основным доказательством известной нам уже теории, утверждающей, что Троя была расположена на месте Бунарбаши. Неуверенность в своей правоте, охватившая Шлимана, когда выяснилось, что здесь в отличие от Бунарбаши, где он обнаружил сорок источников, нет вообще ни одного, длилась, однако, недолго. Ему на помощь пришли наблюдения Кальверта, который обратил внимание на то, что в вулканической почве Гиссарлыка за сравнительно небольшой период исчезло и появилось несколько горячих источников. Это случайное наблюдение помогло Шлиману отвести как несущественное то, что до сих пор казалось ученым столь важным. Наконец, то, что в Бунарбаши служило опровержением, здесь стало доказательством: бой Гектора и Ахилла вовсе не казался таким неправдоподобным, если он происходил здесь, где склоны холма были отлогими. Для того чтобы в пылу жестокой схватки трижды обойти вокруг стен Трои, им нужно было проделать путь всего лишь в пятнадцать километров. Учитывая ожесточенный характер поединка, Шлиман не находил это невероятным.
Таким образом, вновь решающую роль сыграли свидетельства античных авторов, а не теории современных Шлиману ученых. Разве Геродот не сообщал, что Ксеркс посетил Новый Илион, осмотрел руины Пергама Приама, и принес в жертву илийской Минерве тысячу быков? То же самое, как об этом свидетельствует Ксенофонт, сделал полководец лакадемонян Миндар и, согласно Арриану, Александр Великий, который к тому же забрал из Трои оружие, приказав своей личной охране носить его во время сражений перед ним как талисман. Разве не сделал для Нового Илиона много и Цезарь, во-первых, из чувства восхищения перед Александром, а во-вторых, и потому, что он, как ему казалось, располагал достоверными сведениями о своем родстве с илийцами.
И что же, все они лишь фантазировали? Или, быть может, они были сбиты с толку неверными сообщениями современников?
В конце той главы, где Шлиман приводит одно за другим все эти доказательства, он отбрасывает всю свою ученость и, словно очарованный развернувшимся перед его глазами пейзажем, восклицает, как, наверное, воскликнул бы в свои мальчишеские годы: "…мне хочется добавить: когда попадаешь в долину Трои, первое, что бросается в глаза, — красивый холм Гиссарлык, самой природой, кажется, предназначенный для того, чтобы на нем возвышался большой город со своей цитаделью. И в самом деле: если его как следует укрепить, этот пункт господствовал бы над всей Троянской равниной. Во всей округе нет ни одного пункта, который мог бы с ним сравниться… С холма Гиссарлык видна и Ида — гора, с вершины которой Зевс взирал на Трою".
Теперь он как одержимый принялся за работу. Всю свою неукротимую энергию этот человек, проделавший путь от ученика в лавке до миллионера, посвятил теперь осуществлению свой мечты; этому он без колебаний отдал и душу и состояние.
В 1869 году Шлиман женился на гречанке Софье Энгастроменос, прекрасной, как Елена; вскоре она, так же как и он, с головой ушла в поиски страны Гомера — она делила с супругом и тягостный труд, и невзгоды. Раскопки начались в апреле 1870 года; в 1871 году Шлиман посвятил им два месяца, а в последующие за этим два года — по четыре с половиной месяца. В его распоряжении была примерно сотня рабочих. Он трудился, не зная ни сна, ни отдыха, и ничто не могло задержать его в работе — ни коварная и опасная малярия, ни острая нехватка хорошей питьевой воды, ни несговорчивость рабочих, ни медлительность властей, ни неверие ученых всего мира, которые просто считали его дураком, ни многое другое, еще худшее.
В самой высокой части города стоял храм Афины, вокруг него Посейдон и Аполлон построили стену Пергама — так говорил Гомер. Следовательно, храм нужно было искать посредине холма; там же должна была находиться возведенная богами стена. Разрыв вершину холма, Шлиман обнаружил стену. Здесь он нашел оружие и домашнюю утварь, украшения и вазы — неоспоримое доказательство того, что на этом месте был богатый город. Но он нашел и кое-что другое, и тогда впервые имя Генриха Шлимана прогремело по всему свету: под развалинами Нового Илиона он обнаружил другие развалины, под этими — еще одни: холм походил на какую-то чудовищную луковицу, с которой нужно было снимать слой за слоем. Как можно было предположить, каждый из слоев относился к определенной эпохе. Жили и умирали целые народы, расцветали и гибли города, неистовствовал меч и бушевал огонь, одна цивилизация сменяла другую — и каждый раз на месте города мертвых вырастал город живых.
Каждый день раскопок приносил новую неожиданность. Шлиман предпринял свои раскопки для того, чтобы разыскать гомеровскую Трою, но за сравнительно небольшой период он и его помощники нашли не менее семи исчезнувших городов, а позднее еще два — девять окон в прошлое, о котором до того времени ничего не знали и даже не подозревали!
Но какой из этих девяти городов был Троей Гомера, городом героев, городом героической борьбы? Было ясно, что нижний слой относится к отдаленнейшим временам, что это самый древний слой, настолько древний, что людям той эпохи было еще неизвестно употребление металлов, а верхний слой, очевидно, самый молодой; здесь и должны были сохраниться остатки того Нового Илиона, в котором Ксеркс и Александр совершали свои жертвоприношения.
Шлиман продолжал свои раскопки. Во втором и третьем слоях снизу он обнаружил следы пожара, остатки гигантских валов и огромных ворот. Без колебаний он решил: эти валы опоясывали дворец Приама, эти ворота были Скайскими воротами.
Он открыл бесценные сокровища с точки зрения науки. Из всего того, что он отсылал на родину и передавал на отзыв специалистам постепенно все яснее вырисовывалась картина жизни далекой эпохи во всех ее проявлениях, представало лицо целого народа.
Это был триумф Генриха Шлимана, но одновременно и триумф Гомера. То, что считалось сказками и мифами, то, что приписывалось фантазии поэта, на самом деле когда-то было действительностью — это было доказано. Волна воодушевления прокатилась по всему миру. Теперь Шлиман, который переворотил во время раскопок более 250 000 кубометров земли, почувствовал, что имеет право сделать передышку. Он уже начал задумываться о новых исследованиях. Пятнадцатое июня 1873 года было ориентировочно назначено последним днем раскопок. И вот тогда-то, всего за сутки до этого срока, Шлиман нашел то, что увенчало всю его работу, то, что привело в восторг весь мир… Это событие было поистине драматическим. Даже сегодня о нем нельзя читать без волнения.
Дело было утром жаркого дня. Шлиман вместе со своей супругой наблюдал за обычным ходом раскопок, не слишком рассчитывая найти что-либо новое, но все же, как всегда, полный внимания. На глубине около 28 футов была обнаружена та самая стена, которую Шлиман принимал за стену, опоясывавшую дворец Приама. Внезапно взгляд Шлимана привлек какой-то предмет; он всмотрелся и пришел в такое возбуждение, что дальше действовал уже словно под влиянием какой-то потусторонней силы. Кто знает, что предприняли бы рабочие, если бы они увидели то, что увидел Шлиман? "Золото…" — прошептал он, схватив жену за руку. Она удивленно уставилась на него. "Быстро, продолжал он, — отошли рабочих домой, сейчас же!" — "Но…" — попробовала было возразить красавица гречанка. "Никаких но, — перебил он ее, — скажи им все, что хочешь, скажи, что у меня сегодня день рождения и я только что об этом вспомнил, пусть идут празднуют. Только быстрее, быстрее!.."
Рабочие удалились. "Принеси твою красную шаль!" — крикнул Шлиман и прыгнул в раскоп. Он работал ножом, словно одержимый, не обращая внимания на огромные каменные глыбы, грозно нависшие над его головой. "В величайшей спешке, напрягая все силы, рискуя жизнью, ибо большая крепостная стена, которую я подкапывал, могла в любую минуту похоронить меня под собой, я с помощью большого ножа раскапывал клад. Вид всех этих предметов, каждый из которых обладал колоссальной ценностью, придавал мне смелость, и я не думал об опасности".
Матово поблескивала слоновая кость, звенело золото…
Жена Шлимана держала шаль, наполняя ее постепенно сокровищами необычайной ценности. Сокровища царя Приама! Золотой клад одного из самых могущественных царей седой древности, окропленный кровью и слезами: украшения, принадлежавшие людям, подобным богам, сокровища, пролежавшие три тысячи лет в земле и извлеченные из-под стен семи исчезнувших царств на свет нового дня! Шлиман ни минуты не сомневался в том, что он нашел именно этот клад. И лишь незадолго до его смерти было доказано, что в пылу увлечения он допустил ошибку. Что Троя находилась вовсе не во втором и не в третьем слое снизу, а в шестом и что найденный Шлиманом клад принадлежал царю, жившему за тысячу лет до Приама.
Таясь, словно воры, Шлиман и его жена осторожно перенесли сокровища в стоявшую неподалеку хижину. На грубый деревянный стол легла груда сокровищ: диадемы и застежки, цепи и блюда, пуговицы, украшения, филигрань. "Можно предположить, что кто-либо из семьи Приама в спешке уложил сокровища в ларь, так и не успев вынуть из него ключ, и попытался их унести, но погиб на крепостной стене от руки врага или был настигнут пожаром. Брошенный им ларь был сразу же погребен под обломками стоявшей неподалеку дворцовой постройки и пеплом, образовавшими слой в пять-шесть футов". И вот фантазер Шлиман берет пару серег, ожерелье и надевает эти старинные тясячелетние украшения двадцатилетней гречанке — своей красавице жене. "Елена…" — шепчет он.
Но как поступить с кладом? Шлиман не сможет сохранить находку в тайне, слухи о ней все равно просочатся. С помощью родственников жены он весьма авантюристическим образом переправляет сокровища в Афины, а оттуда на родину. И когда по требованию турецкого посла его дом опечатывают, чиновники не находят ничего — золота и след простыл.
Можно ли назвать его вором? Законодательство Турции допускает различные толкования вопроса о принадлежности античных находок, здесь царит произвол. Стоит ли удивляться тому, что человек, который ради осуществления своей мечты перевернул всю свою жизнь, попытался спасти для себя и тем самым для европейской науки золотой клад? Разве за семьдесят лет до этого Томас Брюс, лорд Эльджин и Конкардин не поступили так же? Афины в те времена еще принадлежали Турции. В фирмане, полученном лордом Эльджином, содержалась следующая фраза: "Никто не должен чинить ему препятствий, если он пожелает вывезти из Акрополя несколько каменных плит с надписями или фигурами". Эльджин очень широко истолковал эту фразу: он отправил в Лондон двести ящиков с архитектурными деталями Парфенона. В течение нескольких лет продолжались споры о праве собственности на эти великолепные памятники греческого искусства. 74 240 фунтов стоила лорду Эльджину его коллекция, а когда в 1816 году декретом парламента она была приобретена для Лондонского музея, ему заплатили 35 000 фунтов, что не составило и половины ее стоимости.
Найдя "сокровища царя Приама", Шлиман почувствовал, что достиг вершины жизни. Можно ли было после такого успеха рассчитывать на что-нибудь большее?
Глава 5 МАСКА АГАМЕМНОНА
В области археологии Шлиман достиг трех вершин. "Сокровища царя Приама", о которых мы рассказали в предыдущей главе, были первой; второй суждено было стать открытию царских погребений в Микенах.
Одной из наиболее мрачных и одновременно одной из самых возвышенных, полной темных страстей глав истории Греции является история Пелопидов из Микен, история возвращения и гибели Агамемнона.
Девять лет стоял Агамемнон перед Троей. Эгист использовал это время:
Тою порою, как билися мы на полях Илионских,
Он в безопасном углу многоконного града Аргоса
Сердце жены Агамемнона лестью опутывал хитрой…
Эгист поставил часового, который должен был предупредить его о возвращении супруга Клитемнестры, и окружил себя вооруженными людьми. Потом он пригласил Агамемнона на пир, но, "преступные козни замыслив", убил его, "подобно тому, как быков убивают за жвачкой". Не спасся и никто из друзей Агамемнона, никто из тех, кто пришел вместе с ним. Прошли долгие восемь лет, прежде чем Орест, сын Агамемнона, отомстил за отца, расправившись с Клитемнестрой, своей матерью, и Эгистом — убийцей.
Эти события вдохновляли многих авторов трагедий: Агамемнону посвящена самая выдающаяся трагедия Эсхила; французский писатель Жан-Поль Сартр написал драму об Оресте. Память о "царе среди мужей", одном из самых могущественных и богатых правителей, владыке Пелопоннеса, никогда не угасала.
Но Микены были не только кровавыми. Троя, судя по описаниям Гомера, была очень богатым городом. Микены же были еще богаче:
Гомер везде называет этот город "златообильным". Околдованный "сокровищами царя Приама", Шлиман принялся за поиски нового клада и, кто бы мог себе это представить, нашел его!
Микены находятся на полпути между Аргосом и Коринфским перешейком. Если взглянуть на эту бывшую царскую резиденцию с запада, прежде всего бросаются в глаза сплошные развалины — это остатки огромных стен, позади которых вначале отлого, а затем все более круто вздымается Эвбея с часовней пророка Ильи.
Примерно около 170 года н. э. здесь побывал Павсаний. Он описал все, что ему довелось увидеть; это было безусловно больше того, что смог увидеть Шлиман. Но в одном задача археолога отличалась здесь от той, которую приходилось решать в Трое: Микены не нужно было искать, их месторасположение было видно совершенно отчетливо. Правда, развалины были покрыты пылью тысячелетий, и там, где, некогда ступали цари, ныне мирно паслись овцы, но эти развалины, эти руины, немые свидетели былого могущества, роскоши и великолепия, все-таки существовали. Главный вход во дворец, так называемые Львиные ворота, перед которыми в изумлении застывали все, кому довелось их увидеть, был открыт всем взорам точно так же, как и сокровищницы (в свое время их принимали за печи для выпечки хлеба), в том числе и самая знаменитая среди них Сокровищница Атрея, первого Пелопида, отца Агамемнона. Это было подземное куполообразное помещение высотой более тринадцати метров, своды которого были сложены из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой собственной тяжести.
Некоторые античные писатели считали, что именно здесь, в этом районе, находится гробница Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним. Местоположение города было ясным, вопрос же местоположения гробницы был по меньшей мере спорным. Найти наперекор всем ученым Трою Шлиману помог Гомер; на этот раз он опирался на одно место из Павсания, которое считал неверно переведенным и неверно интерпретированным. По общепризнанному мнению (два крупнейших авторитета — англичанин Додуэлл и немец Курциус — придерживались именно этой точки зрения), Павсаний относил гробницу Агамемнона за кольцо крепостного вала. Шлиман же доказывал, что она лежит внутри этого кольца. Это мнение, в основе которого лежало опять-таки не столько научно обоснованное убеждение, сколько ортодоксальная вера в письменные свидетельства древних авторов, он высказал впервые еще в своей книге об Итаке. Впрочем, это не столь важно; важно то, что раскопки подтвердили его правоту.
"Я приступил к этой большой работе 7 августа 1876 года вместе с 63 рабочими… Начиная с 19 августа в моем распоряжении находились в среднем 125 человек и четыре телеги, и мне удалось добиться неплохих результатов".
Итак, первое, что он обнаружил, не считая бесчисленного множества различных ваз, был какой-то круг, образованный двойным кольцом вертикально поставленных камней. Ничтоже сумняшеся, Шлиман решил, что он раскопал Микенскую агору: этот странный каменный круг он принял за скамью, на которой восседали отцы города во время совещаний и судебных заседаний, ту самую скамью, на которой стоял вестник, призывавший в "Электре" народ на агору.
И когда он у того же Павсания обнаружил еще одно упоминание об агоре "Здесь собирались они на свои собрания, на том месте, где покоился прах героя", — он уже нисколько не сомневался (та же маниакальная уверенность привела его через шесть городов к "сокровищам царя Приама"), что стоит на могиле Агамемнона.
Затем он обнаружил девять гробниц — пять из них были шахты-могилы и находились внутри крепости, а остальные четыре, на которых еще великолепно сохранился рельеф, относились к следующему веку; они имели куполообразную форму и находились вне крепостных стен. Теперь у Шлимана пропали последние сомнения, ему изменила присущая исследователям осторожность, и он записал: "В самом деле, я нисколько не сомневаюсь, что мне удалось найти те самые гробницы, о которых Павсаний пишет, что в них похоронены Атрей, царь эллинов Агамемнон, его возница Эвримедон, Кассандра и их спутники".
Между тем работа у сокровищницы возле Львиных ворот продвигалась медленно: слой был тверд, как камень. Но и здесь Шлиманом руководила все та же уверенность маньяка. "Я убежден в правильности традиции, согласно которой в этих таинственных постройках хранились сокровища царей". И уже первые находки, сделанные среди мусора, который пришлось отгребать в сторону для того, чтобы отыскать вход, намного превзошли своим изяществом, красотой и качеством материала аналогичные находки Шлимана в Трое. Обломки фризов, расписные вазы, терракотовые статуэтки Геры, формы для отливки украшений ("Эти украшения, вероятно, изготавливались из золота и серебра", — тут же заключил кладоискатель), глазурованные украшения из глины, стеклянные бусы, геммы…
О том, какую работу проделал Шлиман вместе со своими рабочими, можно судить по следующему его замечанию:
"До сих пор мне еще не встретился слой мусора толщиной более чем в 26 футов, да и тот только около самой стены — здесь целый утес, но далее слой мусора не превышает 13–20 футов".
Но игра стоила свеч.
Шестым декабря 1876 года датирована запись Шлимана об открытии первой могилы. Далее надо было действовать с величайшей осторожностью. В течение двадцати пяти дней его жена Софья, верная и неутомимая помощница, работала буквально не разгибая спины; она просеивала руками землю, рыхлила ее ножом. Вместе они нашли еще пять могил, а в могилах — останки пятнадцати человек. Королю Греции была отправлена телеграмма: "С величайшей радостью сообщаю Вашему Величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эвримедон и их друзья, умерщвленные во время трапезы Клитемнестрой и ее любовником Эгистом". Можно себе представить, какое потрясение испытывал Шлиман, когда он отрывал останки тех, кто, как ему казалось, жил в страстях и ненависти более двух тысяч лет тому назад.
Шлиман не сомневался в своей правоте. И в самом деле, разве мало было оснований придерживаться подобной точки зрения, разве не казалось, что факты полностью подтверждают его выводы? "Тела усопших были буквально осыпаны драгоценностями и золотом… Разве обыкновенным смертным положили бы такие драгоценности в могилу?" — спрашивал Шлиман. Было найдено дорогое оружие, которое должно было служить умершему защитой от всяких случайностей в царстве теней. В то же время Шлиман указывал на совершенно явные следы поспешного сожжения тел. Те, кто хоронил их, даже не дали себе труда дождаться, пока огонь полностью сделает свое дело: они забросали полусожженные трупы землей и галькой с поспешностью убийц, которые хотят замести следы. И хотя драгоценные украшения свидетельствовали о каком-то соблюдении обычаев того времени, сами могилы, не говоря уже об усопших, имели такой откровенно неприличный вид, который мог уготовить своей жертве только изощренный в ненависти убийца. Разве покойные не были, "словно падаль, брошены в жалкие ямы"? Шлиман призвал на помощь авторитетных для него древних писателей. Он приводил цитаты из "Агамемнона" Эсхила, из "Электры" Софокла и "Орестеи" Эврипида. У него не было ни малейшего сомнения в своей правоте, и все же — сегодня мы это знаем совершенно точно — его теория была неверной. Да, он нашел под агорой царские погребения, но не Агамемнона и его друзей, а людей совершенно другой эпохи — погребения, которые были по меньшей мере лет на 400 старше погребения Агамемнона.
Но это, в общем, несущественно. Важно было то, что он сделал еще один великий шаг по дороге, которая вела к открытию древнего мира, что он вновь подтвердил правдивость сведений Гомера и что он открыл сокровища — не только в научном смысле этого слова, — которым мы обязаны сведениями о той культуре, что лежит в основе всей европейской цивилизации.
"Я открыл для археологии совершенно новый мир, о котором никто даже и не подозревал".
И этот удивительный человек, который вновь — в какой уж раз — находится на вершине успеха, который посылает телеграммы министрам и королям, человек необычайно гордый, но отнюдь не высокомерный, помнит в тот момент, когда весь мир ожидает от него новых известий, о самых незначительных делах и способен до глубины души возмутиться малейшим проявлением несправедливости.
Однажды здесь в числе многих других посетителей раскопок появляется император Бразилии; осмотрев Микены, он, уезжая, дал полицейскому Леонардосу сорок франков (поистине царские чаевые!). Леонардос всегда дружелюбно и лояльно относился к Шлиману, и Шлиман пришел в негодование, когда узнал о распространяемых завистливыми чиновниками слухах, будто Леонардос на самом деле получил не сорок, а тысячу франков и скрыл это. Когда вслед за этим Леонардоса отстранили от должности, Шлиман начал действовать. Всемирно известный ученый готов ради безвестного полицейского прибегнуть к самым могущественным из своих связей. Он телеграфирует прямо министру: "В награду за те многие сотни миллионов, на которые я сделал Грецию богаче, прошу оказать мне любезность — простить моего друга полицейского Леонардоса из Науплиона и оставить его на своем посту. Сделайте это для меня". Но ответ задерживается, и он посылает вторую телеграмму: "Клянусь, полицейский Леонардос честный и порядочный человек. Все только клевета. Даю гарантию, он получил только 40 франков. Требую справедливости". Более того, он идет на самый невероятный шаг: посылает телеграмму императору Бразилии, который тем временем уже успел прибыть в Каир: "Покидая Науплион, Вы, Ваше Величество, дали полицейскому Леониду Леонардосу 40 франков для раздачи всем полицейским. Бургомистр, стремясь оклеветать этого честного малого, утверждает, будто он получил от Вас 1000 франков. Леонардоса отстранили от должности, и только с величайшим трудом мне удалось спасти его от тюрьмы. Поскольку я уже много лет знаю его как честнейшего на свете человека, прошу Вас, Ваше Величество, во имя святой правды и человечности протелеграфировать мне: сколько получил Леонардос — 40 франков или более?"
И ученый Генрих Шлиман, действуя во имя справедливости, заставляет императора Бразилии перед лицом всего мира признаться в своей скупости. Полицейский Леонардос спасен. Так действует Шлиман — фантазер и мечтатель, когда речь идет о древних мирах, холодный, рассудительный детектив, когда охотится за кладами, Михаель Колхас, когда сражается за правое дело.
Клад, найденный Шлиманом, был огромен. Лишь много позже, уже в нашем столетии, его превзошла знаменитая находка Карнарвона и Картера в Египте. "Все музеи мира, вместе взятые, не обладают и одной пятой частью этих богатств", — писал Шлиман.
В первой могиле Шлиман насчитал пятнадцать золотых диадем — по пять на каждом из трех усопших; кроме того, там были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик.
В другой могиле — в ней лежали останки трех женщин — он собрал более 700 тонких золотых пластинок с великолепным орнаментом из изображений животных, медуз, осьминогов. Золотые украшения в форме львов и других зверей, сражающихся воинов, украшения в форме львов и грифов, лежащих оленей и женщин с голубями… На одном из скелетов была золотая корона с 36 золотыми листками: она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах. Рядом лежала еще одна великолепная диадема с приставшими к ней остатками черепа. Он нашел еще пять золотых диадем с золотой проволокой, при помощи которой они закреплялись на голове, бесчисленное множество золотых украшений со свастиками, розетками и спиралями, головные булавки, украшения из горного хрусталя и обломки изделий из агата, миндалевидные геммы из сардоникса и аметиста. Он нашел секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларчики из золота, изделия из алебастра. Но самое главное, что он нашел те золотые маски и нагрудные дощечки, которые, как утверждала традиция, употреблялись для защиты венценосных усопших от какого-либо постороннего воздействия. Ползая на коленях, он соскребал слой глины (ему и на этот раз помогала жена), под которым были скрыты останки пяти человек из четвертой могилы. Уже через несколько часов головы усопших превратились в пыль. Но золотые мягко поблескивающие маски сохранили форму лиц; черты этих лиц были совершенно индивидуальны, "вне всякого сомнения, каждая из масок должна была являться портретом усопшего".
Он нашел перстни с печатями и великолепными камеями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом, нет, на следующей же странице он упоминает еще о 130 золотых пуговицах, на последующих — о золотой модели храма, о золотом осьминоге… Но, пожалуй, достаточно. Мы не будем продолжать это перечисление; описание находок Шлимана занимает 206 страниц большого формата. И все это золото, золото, золото.
Вечером, когда окончился этот день и ночные тени опустились на Микенский акрополь, Шлиман приказал зажечь здесь костры "впервые после перерыва в 2344 года", напоминающие о тех кострах, которые оповестили в свое время Клитемнестру и ее возлюбленного о грядущем прибытии Агамемнона. На этот раз, однако, костры должны были отпугивать воров от одного из самых богатых кладов, когда-либо изъятых из гробниц умерших царей.
Глава 6 ШЛИМАН И НАУКА
Третьи большие раскопки Шлимана не дали золота, но в результате их он открыл поселение в Тиринфе. Благодаря этим раскопкам и предыдущим открытиям Шлимана в Микенах, а также тем открытиям, которые сделал на Крите десять лет спустя английский археолог Эванс, постепенно начали вырисовываться очертания древней цивилизации, распространенной когда-то на всем Средиземноморье. Но прежде чем рассказывать об этом, мы позволим себе сказать несколько слов о месте Шлимана в науке своего времени. Этот вопрос не потерял своей актуальности: ведь и сегодня еще каждому исследователю приходится вести свою работу под перекрестным огнем критики публики и ученого мира. Донесения Шлимана имели совершенно другую аудиторию, чем "Донесения" Винкельмана. Светский человек XVIII столетия, Винкельман писал для людей образованных, для небольшого круга посвященных, для владельцев музеев или по крайней мере для тех, кто благодаря своей принадлежности к высшему обществу имел доступ к памятникам искусства древности. Этот узкий мирок был потрясен раскопками Помпеи. Известие о каждой находке новой статуи приводило его в восторг, но интересы этого мирка никогда не шли дальше художественно-эстетического любования. Влияние Винкельмана было весьма действенным, но он нуждался в посредниках, в медиумах — поэтах и писателях, которые помогли ему вынести его идеи за пределы узкого круга просвещенных людей.
Шлиман действовал без посредников. Он сам сообщал о всех своих находках и сам был их первым почитателем. Его письма распространялись по всему свету, его статьи печатались во всех газетах. Если бы в те времена существовали радио, кино, телевидение, Шлиман был бы первым, кто воспользовался ими. Его открытия в Трое вызвали бурю не в узком кругу образованных людей, но в душе каждого человека. Винкельмановские описания статуй были близки сердцу эстетов, приводили в восхищение знатоков. Шлимановские золотые клады потрясли умы людей, принадлежавших к эпохе, которая получила название "века грюндерства", — людей, живших во время хозяйственного подъема, ценивших так называемых selfmademan'oв и обладавших здравым смыслом, людей, которые стали на сторону Шлимана тогда, когда "чистая наука" отвернулась от "профана и дилетанта".
Через два-три года после шлимановских газетных сообщений 1873 года один директор музея вспоминал: "Когда появились эти сообщения, волнение охватило и публику и ученых. Повсюду: в домах, на улицах, в почтовых каретах и железнодорожных вагонах только и было разговоров, что о Трое. Удивление и любопытство охватило всех".
Если Винкельман показал нам, по выражению Гердера, "тайну греков лишь издали", то Шлиману принадлежит честь открытия всего мира античности. С удивительной смелостью он вывел археологию из освещенных тусклым светом керосиновых ламп кабинетов ученых под залитый солнцем свод эллинских небес и с помощью заступа решил проблему Трои. Он совершил прыжок из сферы классической филологии в живую предысторию и превратил ее в классическую науку.
Темпы, которыми осуществлялась эта революция, неизменный успех Шлимана, сам он — не то купец, не то ученый, достигший, однако, поразительных успехов и на том и на другом поприще, "рекламный характер" его публикаций — все это шокировало весь ученый мир, и в первую очередь немцев. Чтобы представить себе размах вспыхнувшего против него мятежа, достаточно вспомнить, что в годы, когда деятельность Шлимана уже развернулась, вышло в свет 90 работ, посвященных Трое и Гомеру, авторами которых были кабинетные ученые. Основной огонь своих филиппик противники Шлимана обрушили на его дилетантизм. Нам и в дальнейшем на протяжении всей истории археологии встретится мрачная фигура археолога-профессионала, который с тупой цеховой ограниченностью преследует тех, кто отваживается помыслить о новом прыжке в неизвестное. Нападки на Шлимана носили весьма серьезный характер. Именно поэтому здесь следует привести некоторые выдержки и цитаты. Первое слово предоставляем одному весьма озлобленному философу — Артуру Шопенгауэру:
"Дилетанты, дилетанты — так пренебрежительно называют тех, кто занимается какой-либо наукой или искусством из любви, per il loro diletto и испытывает от этого радость, те, кто превратил эти занятия в средство для заработка.
Это пренебрежение основывается на присущем им низком, гнусном убеждении, что ни один человек никогда серьезно не возьмется за то или иное дело, если к этому его не побуждает голод, нужда или еще что-нибудь в этом роде. Публика воспитана в том же духе и поэтому придерживается того же мнения. Она обычно с почтением относится к "специалистам" и с недоверием к дилетантам. В действительности же, наоборот, для дилетанта его дело — цель, а для специалиста оно всегда лишь средство, и лишь тот с полной серьезностью отдается делу, кто интересуется им, кто занимается им con ашоге. Именно такие люди, а не поденщики совершили все великое".
Профессор Вильгельм Дерпфельд, сотрудник Шлимана, его советчик и друг, один из немногих специалистов, которых Германия дала ему в помощь, писал в 1932 году: "Он так и не понял и никогда не мог бы понять, почему некоторые ученые, и в частности немецкие филологи, встретили его работы о Трое и Итаке насмешками и издевательствами. Я также всегда сожалел о том, что некоторые крупные ученые впоследствии встретили насмешками и мои сообщения о раскопках в гомеровских местах, ибо считаю их иронические замечания не только несправедливыми, но и научно несостоятельными".
Недоверие специалиста к удачливому аутсайдеру — это недоверие мещанина к гению. Человек, идущий по колее обеспеченного образа жизни, презирает того, кто бредет по ненадежным зонам, кто "поставил на ничто". Это презрение необоснованно.
Если мы возьмем историю научных открытий за какой угодно период, нам будет не так трудно установить, что многие из выдающихся открытий были сделаны "дилетантами", "аутсайдерами", или вовсе "аутодидактами", людьми, одержимыми одной идеей, людьми, которые не знали тормоза специального образования и шор "специализации" и которые просто перепрыгивали через барьеры академических традиций.
Отто фон Герике, величайший немецкий физик XVII столетия, был по образованию юристом. Дени Папен был медиком. Бенджамин Франклин, сын простого мыловара, не получив ни гимназического, ни университетского образования, стал не только выдающимся политиком (этого достигали люди и с меньшими способностями), но и великим ученым. Гальвани, человек, открывший электричество, был медиком и, как доказывает Вильгельм Оствальд в своей "Истории электрохимии", был обязан своему открытию именно пробелам в своих знаниях. Фраунгофер, автор выдающихся работ о спектре, до четырнадцати лет не умел ни читать, ни писать. Майкл Фарадей, один из самых значительных естествоиспытателей, был сыном кузнеца и начал свою карьеру переплетчиком. Юлиус Роберт Майер, открывший закон сохранения энергии, был врачом. Врачом был и Гельмгольц, когда он в двадцатишестилетнем возрасте опубликовал свою первую работу на ту же тему. Бюффон, математик и физик, свои самые выдающиеся работы посвятил вопросам геологии. Томас Земмеринг, который сконструировал первый электрический телеграф, был профессором анатомии. Сэмюэл Морзе был художником точно так же, как и Дагер. Первый был создателем телеграфной азбуки, второй изобрел фотографию. Одержимые, создавшие управляемый воздушный корабль — граф Цеппелин, Грос и Парсеваль, — были офицерами и не имели о технике ни малейшего понятия.
Этот список бесконечен. Если убрать этих людей и их творения из истории науки, ее здание обрушится. И тем не менее каждого из них преследовали насмешки и издевательства.
Этот список можно продолжить и применительно к истории той науки, которой мы здесь занимаемся. Вильям Джонс, которому мы обязаны первыми серьезными переводами с санскрита, был не ориенталистом, а судьей в Бенгалии. Гротефенд — первый, кто расшифровал клинопись, был по образованию филологом-классиком; его последователь Раулинсон — офицером и дипломатом. Первые шаги на долгом пути расшифровки иероглифов сделал врач Томас Юнг. А Шампольон, который довел эту работу до конца, был профессором истории. Хуман, раскопавший Пергам, был железнодорожным инженером.
Достаточно ли примеров, чтобы стала ясна основная наша мысль? Мы не оспариваем роли специалистов. Но разве судят не по результатам, если, разумеется, средства были чистыми? Разве "аутсайдеры" не достойны особой благодарности?
Да, во время своих первых раскопок Шлиман допустил серьезные ошибки. Он уничтожил ряд древних сооружений, он разрушил стены, а все это представляло определенную ценность. Но Эд. Майер, крупнейший немецкий историк, прощает ему это. "Для науки, — писал он, — методика Шлимана, который начинал свои поиски в самых нижних слоях, оказалась весьма плодотворной; при систематических раскопках было бы очень трудно обнаружить старые слои, скрывавшиеся в толще холма, и тем самым ту культуру, которую мы обозначаем как троянскую".
Трагической неудачей было то, что именно первые его определения и датировки почти все оказались неверными. Но когда Колумб открыл Америку, он считал, что ему удалось достичь берегов Индии, — разве это умаляет хоть сколько-нибудь его заслуги?
Бесспорно одно: если в первый год он вел себя на холме Гиссарлык как мальчик, который, стремясь узнать, как устроена игрушка, разбивает ее молотком, то человеку, открывшему Микены и Тиринф, трудно отказать в признании его настоящим специалистом-археологом. С этим соглашались в Дерпфельд и великий Эванс; последний, однако, с оговорками.
В свое время от "деспотической страны" Пруссии немало натерпелся Винкельман; Шлиман также много пережил из-за того, что его не понимали именно в той стране, откуда он был родом и в которой родились его юношеские мечты. Несмотря на то что результаты его раскопок были известны всему миру, в этой стране еще в 1888 году оказалось возможным появление второго издания книги некоего Форхгаммера под названием "Объяснение Илиады" ("Erklarung der Ilias"), в которой сделана бесславная попытка представить Троянскую войну как борьбу морских и речных течений, а также тумана и дождя на Троянской равнине. Шлиман защищался, как лев. Когда капитан Беттихер, мякинная голова, ворчун, — главный противник Шлимана — додумался до утверждения, будто Шлиман во время своих раскопок специально разрушил городские стены, чтобы уничтожить все, что могло бы противоречить его гипотезам о древней Трое, Шлиман пригласил его в Гиссарлык, взяв на себя все расходы по путешествию. Присутствовавшие на их встрече компетентные лица подтвердили правильность точки зрения Шлимана и Дерпфельда. Капитан внимательно осмотрелся вокруг, скорчил недовольную мину и, вернувшись домой, принялся утверждать, будто "так называемая Троя" есть на самом деле не что иное, как огромный античный некрополь. Тогда Шлиман во время четвертых раскопок 1890 года пригласил на свой холм ученых всего мира. У подножия холма, в долине Скамандра, он соорудил дощатые домики, в которых должны были найти приют четырнадцать ученых. На его приглашение откликнулись англичане, американцы, французы, немцы (в их числе Вирхов). И, потрясенные всем виденным, эти ученые пришли к тем же выводам, что Шлиман и Дерпфельд.
Коллекции Шлимана были уникальными. По его завещанию они должны были перейти в собственность той нации, "которую, — как писал Шлиман, — я люблю и ценю больше всего". В свое время он предлагал их греческому правительству, затем французскому. Одному русскому барону он писал в 1876 году в Петербург: "Когда несколько лет назад меня спросили о цене моей троянской коллекции, я назвал цифру 80 000 фунтов. Но я провел двадцать лет в Петербурге, и все мои симпатии принадлежат России; поскольку я бы очень хотел, чтобы эта коллекция попала именно в эту страну, я прошу у русского правительства 50 000 фунтов и в случае необходимости готов даже снизить эту цену до 40 000 фунтов".
Однако самые искренние его привязанности — он неоднократно об этом говорил — принадлежали Англии, стране, в которой его деятельность нашла самый широкий отклик, стране, где газета "Таймс" предоставляла ему свои полосы еще в те времена, когда все немецкие газеты были для него закрыты; премьер-министр Англии Гладстон написал предисловие к его книге о Микенах, а еще ранее знаменитый А.Г.Сайс из Оксфорда — к книге о Трое. Тем, что коллекции все же в конце концов попали "на вечное владение и сохранение" в Берлин, мы опять-таки обязаны (какая ирония судьбы!) человеку, который увлекался археологией лишь как любитель, — великому врачу Вирхову, которому удалось добиться избрания Шлимана почетным членом антропологического общества, а несколько позже и почетным гражданином Берлина наряду с Бисмарком и Мольтке.
Глава 7 МИКЕНЫ, ТИРИНФ, ОСТРОВ ЗАГАДОК
В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступил к раскопкам в Микенах. В 1878–1879 годах при поддержке Вирхова он вторично раскапывает Трою; в 1880 году он открывает в Орхомене, третьем городе, который Гомер наделяет эпитетом "златообильный", сокровищницу царя Минии; в 1882 году совместно с Дерпфельдом вновь, в третий раз, раскапывает Трою, а двумя годами позже начинает раскопки в Тиринфе.
И снова знакомая картина: крепостная стена Тиринфа находится прямо на поверхности, она не скрыта под слоем земли; пожар превратил ее камни в известку, а скреплявшую их глину — в настоящий кирпич: археологи принимали ее за остатки средневековой стены, и в греческих путеводителях было написано, что в Тиринфе нет никаких особых достопримечательностей.
Шлиман опять доверился древним авторам. Он начал копать с таким рвением, что даже разрушил тминную плантацию одного крестьянина из Кофиниона и вынужден был уплатить штраф в 275 франков.
Тиринф считался родиной Геракла. Циклопические стены вызывали во времена античности восхищение. Павсаний сравнивает их с пирамидами. Рассказывали, что Проитос, легендарный правитель Тиринфа, призвал семь циклопов, которые и выстроили ему эти стены. Впоследствии такие же стены были сооружены в других местах, прежде всего в Микенах, что дало основание Эврипиду называть Арголиду "циклопической страной".
Во время раскопок Шлиман наткнулся на стены дворца, превосходящего своими размерами все когда-либо до этого виденное и дающего великолепное представление о древнем народе, который его построил, и о его царях, которые здесь жили.
Город возвышался на известняковой скале, словно форт: стены его были выложены из каменных блоков длиной в два-три метра, а высотой и толщиной в метр. В нижней части города, там, где находились хозяйственные постройки и конюшни, толщина стен составляла семь-восемь метров. Наверху, там, где жил владелец дворца, стены достигали одиннадцати метров в толщину, высота их равнялась шестнадцати метрам.
Какое зрелище должны были представлять собой внутренние помещения дворца, когда их заполняли толпы вооруженных воинов! До сих пор о планировке гомеровских дворцов ничего не было известно, ибо ни от дворца Менелая, ни от дворца Одиссея, ни от дворцов других властителей не осталось никаких следов; остатки Трои — города Приама — также не давали возможности разобраться в плане построек.
Здесь же явился свету настоящий гомеровский дворец с залами и колоннадами, с красивым мегароном (залом с очагом), с атриумом и пропилеями. Здесь еще можно было увидеть остатки банного помещения (пол в нем заменяла цельная известняковая плита весом в 20 тонн), того, в котором герои Гомера мылись и умащивали себя мазями. Здесь перед заступом исследователя открывались картины, напоминающие сцены из "Одиссеи", в которых повествуется о возвращении хитроумного, о пире женихов, о кровавой бойне в большом зале.
Но еще больший интерес представляли керамика и стенная роспись. Уже с самого начала Шлиману стало ясно, что найденная им в Тиринфе керамика — все эти вазы и глиняная посуда — родственна той керамике, которую он нашел в Микенах. Более того, она, несомненно, родственна тем изделиям из глины, которые были найдены другими археологами в Азине, Науплионе, Элевсе и на различных островах, прежде всего на острове Крит. Разве найденное им в Микенах страусовое яйцо (сначала он принял его за алебастровую вазу) не свидетельствовало о связях Микен с Египтом? А разве он не нашел здесь ваз с так называемым геометрическим орнаментом, таких же, какие еще за полторы тысячи лет до н. э. финикийцы привозили ко дворцу Тутмеса III?
И он подбирает один аргумент за другим, чтобы доказать, что ему удалось напасть на след культурных связей азиатского или африканского происхождения, на след той цивилизации, которая была распространена на всем восточном берегу Греции и на островах Эгейского моря, центр которой, вероятно, находился на острове Крит. Сегодня мы называем эту культуру крито-микенской. Шлиман обнаружил ее первые следы, но открыть ее было суждено другому исследователю.
Все помещения дворца были побелены, а стены украшали расписные фризы, протянувшиеся желто-голубым поясом на высоте человеческого роста. Одна из росписей представляла особый интерес: на голубом фоне был изображен могучий бык; круглые от бешенства глаза, вытянутый хвост свидетельствуют о состоянии дикой ярости животного. А на быке, держась за его рог, то ли подпрыгивает, то ли танцует всадник.
По этому поводу Шлиман приводит в своей книге о Тиринфе слова некоего доктора Фабрициуса: "Можно предположить, что всадник — это искусный наездник или укротитель быков, который показывает свое мастерство, свою готовность в любую минуту вспрыгнуть на спину разъяренного животного, так же как это делает упомянутый в известном месте "Илиады" укротитель лошадей, который, управляя четверкой коней, перепрыгивает на всем скаку со спины одной лошади на другую". Это объяснение, к которому, очевидно, Шлиман в то время ничего не мог добавить, было, однако, недостаточно точным. Но если бы Шлиман претворил в жизнь то, к чему он так часто возвращался в мыслях, и поехал на остров Крит, он нашел бы там нечто такое, что, дополнив эту картину, многое бы пояснило и послужило бы венцом делу его жизни.
Мысль осуществить раскопки на Крите, в частности у Кносса, не оставляла Шлимана до его последнего часа. За год до смерти он писал: "Мне бы хотелось достойно увенчать дело моей жизни, завершив ее большой работой: откопать древний дворец кносских царей на Крите, который, как мне кажется, я открыл три года назад".
Но препятствия были велики. Правда, Шлиман сумел раздобыть письменное разрешение губернатора Крита, однако владелец холма запросил сумасшедшие деньги. Он пожелал ни более ни менее, как 100 000 франков, и только за эту сумму соглашался продать свой участок. Шлиман долго торговался и в конце концов сбил цену до 40 000 франков. Однако, возвратившись на Крит с тем, чтобы подписать договор, он пересчитал число оливковых деревьев в своем новом имении и, к своему удивлению, обнаружил, что участок отрезан совершенно не так, как это было сказано в договоре: вместо 2500 оливковых деревьев на участке оказалось всего лишь 888. И тогда Шлиман отказался от сделки: торговец взял в нем верх над археологом. Пожертвовав ради науки целым состоянием, он из-за 1612 оливковых деревьев лишил себя возможности разыскать ключ к тем проблемам, которые он сам же выдвинул в ходе своих открытий, но далеко не все из которых сумел разрешить.
Стоит ли об этом сожалеть? Нет. Смерть, вырвав в 1890 году из его рук заступ, уложила в могилу великого исследователя, жизнь которого была богата и содержательна.
Рождественские праздники 1890 года он хотел провести вместе с женой и детьми. Его очень мучило разболевшееся ухо. Занятый новыми проектами, он ограничился тем, что при проезде через Италию проконсультировался о своей болезни с двумя-тремя врачами. Они успокоили его. Но в первый день Рождества он упал прямо на улице, на Пьяцца дель Санта Карита в Неаполе, не потеряв, правда, сознания, но лишившись речи. Добрые люди доставили миллионера в больницу, однако там его отказались принять. Тогда его отправили в полицию. Здесь при нем обнаружили адрес одного из врачей. Врача вызвали. Когда тот прибыл, он опознал пациента и послал за дрожками. Глядя на лежащего на полу человека в простой одежде, которая казалась даже бедной, кучер поинтересовался, кто, собственно, будет платить. "Он богач", — ответил врач и в доказательство вытащил из кармана больного кошелек, туго набитый золотом.
Шлиман промучился всю ночь; он был все время в сознании. К утру он умер.
Тело его было привезено в Афины. У его гроба стояли король и наследный принц, дипломатические представители, греческие министры, руководители всех греческих научных институтов. Перед бюстом Гомера благодарили они друга эллинов, человека, который сделал историю Греции богаче на тысячу лет. У гроба его стояли жена и дети — Андромаха и Агамемнон.
Человека, которому было суждено почти полностью замкнуть тот круг, смутные очертания которого скорее угадал, чем увидел Шлиман, звали Артур Эванс. Он родился в 1851 году, и, следовательно, в год смерти Шлимана ему было 39 лет.
Англичанин с головы до пят, он был полной противоположностью Шлиману. Эванс получил образование в Харроу, Оксфорде и Гет-тингене; увлекшись расшифровкой иероглифов, он нашел неизвестные ему знаки, которые привели его на Крит, где в 1900 году он приступил к раскопкам; в 1909 году он был назначен профессором археологии в Оксфорде. Медленно, но верно поднимаясь по лестнице рангов в науке, он наконец сумел добавить к своему имени "сэр". Артур Эванс был отмечен многими наградами, в частности в 1936 году Королевское общество наградило его медалью Коплея; короче говоря, по всему складу своего характера и развитию он был полной противоположностью вечно мятущемуся, необузданному Шлиману. Однако результаты его исследований были не менее интересными. Эванс прибыл на Крит для того, чтобы убедиться в правильности своей теории, касающейся заинтересовавших его письменных знаков, и не рассчитывал задержаться здесь надолго. Во время поездок по острову он обратил внимание на огромные кучи щебня и руины — те самые, которые в свое время увлекли и околдовали Шлимана. И вот в один прекрасный день Эванс оставил свою теорию письменности и взялся за лопату. Это было в 1900 году. Годом позже он объявил, что ему понадобится по меньшей мере еще один год для того, чтобы раскопать все, что может представить интерес для науки. Но он ошибался. На самом деле четверть века спустя он все еще продолжал свои раскопки на том же месте.
Он шел по следам легенд и мифов — точно так же, как Шлиман. Он раскапывал дворцы и клады — так же, как и Шлиман. Он завершил работу над той картиной, которую в общих чертах обрисовал Шлиман, но одновременно набросал эскизы ко многим другим картинам — к тем, для которых у нас пока еще не хватает красок.
Воткнув заступ в землю Крита, он встретился с островом загадок.
Глава 8 НИТЬ АРИАДНЫ
Остров Крит расположен в самой крайней точке огромной горной дуги, протянувшейся из Греции через Эгейское море к Малой Азии.
Эгейское море никогда не было непреодолимым барьером между континентами. Это доказал еще Шлиман, когда он обнаружил в Микенах и Тиринфе предметы из различных отдаленных стран;
Эвансу же было суждено найти на Крите африканскую слоновую кость и египетские статуи. Хозяйственное и экономическое единство связывало острова Эгейского моря и обе метрополии. Метрополия в данном случае не означала материк, континент, ибо очень скоро было установлено, что настоящим материком (в том смысле, что творческое начало исходило именно отсюда) был один из островов — Крит.
И даже сам Зевс, согласно легенде, родился на этом острове, в пещере Дикты, от "великой матери" Реи, жены Кроноса. Пчелы приносили ему мед, коза Амалфея кормила его своим молоком, нимфы охраняли его. Юные куреты стояли у входа в пещеру, готовые защитить маленького Зевса от собственного отца, Кроноса, пожиравшего своих детей.
Легендарный царь Минос, сын Зевса, один из могущественнейших и прославленнейших властителей, жил и царствовал на этом острове.
Артур Эванс начал с раскопок близ Кносса. Античная стена была покрыта здесь лишь тонким слоем почвы. Уже через два-три часа можно было говорить о первых результатах. Двумя неделями позже изумленный Эванс стоял перед остатками строений, покрывавших восемь аров, а с годами из-под земли появились развалины дворца, занимавшего площадь в два с половиной гектара.
Своей общей планировкой Кносский дворец напоминал дворцы в Тиринфе и Микенах, более того, находился с ними в явном родстве, несмотря на то что внешне он весьма от них отличался. В то же время его гигантские размеры, роскошь и простота лишний раз подчеркивали, что Тиринф и Микены могли быть только второстепенными городами, столицами колоний, далекой провинцией.
Вокруг центрального двора — огромного прямоугольника — были расположены здания со стенами из полых кирпичей и с плоскими крышами, которые поддерживались колоннами. Но покои, коридоры и залы были расположены в таком причудливом порядке, предоставляли посетителю так много возможностей заблудиться и запутаться, что всякому, кто попадал во дворец, должна была поневоле прийти в голову мысль о лабиринте; она должна была появиться даже у того, кто никогда в жизни не слыхал легенду о царе Миносе и построенном Дедалом лабиринте — прообразе всех будущих лабиринтов.
Эванс, не колеблясь, объявил миру, что нашел дворец Миноса, сына Зевса, отца Ариадны и Федры, владельца лабиринта и хозяина ужасного быкочеловека или человекобыка — Минотавра.
Он открыл здесь настоящие чудеса. Народ, населявший эти места (Шлиман нашел лишь следы его колоний), о котором до сих пор ничего не было известно — если не считать того, что рассказывалось в легендах, — оказывается, утопал в роскоши и сладострастии и, вероятно, на вершине своего развития дошел до того сибаритствующего декаданса, который таил уже в себе зародыш упадка и регресса культуры. Только высочайший экономический расцвет мог привести к подобному вырождению. Как и ныне, Крит был в те времена страной производства вина и оливкового масла. Он был центром торговли, точнее говоря, морской торговли. И то, что на первых порах во время, когда Эванс еще только приступил к своим раскопкам, поразило весь мир — богатейший дворец древности не имел ни вала, ни укреплений, — в скором времени нашло свое объяснение: торговые склады, коммерческая деятельность нуждалась в более мощной защите, чем крепостные стены — сооружение чисто оборонительное. Такой защитой был могущественный, господствовавший на всем море флот.
Жемчужиной моря, драгоценной геммой, вплавленной в синь небес, должна была казаться эта столица приближающимся к острову морякам; ее иссиня-белые стены, ее колонны из известняка, казалось, излучали блеск роскоши и богатства.
Эванс нашел кладовые. Там стояли богато орнаментированные гигантские сосуды — пифосы, некогда полные масла; их изящный орнамент напоминал тот, который был обнаружен на сосудах в Тиринфе. Эванс не поленился вычислить общую емкость всех находившихся в кладовой пифосов. Она составила 75 000 литров. Таким был дворцовый запас…
Кто же пользовался всем этим богатством?
Прошло немного времени, и Эванс убедился в том, что не все его находки можно отнести к одной и той же эпохе, что не все стены дворца имеют одинаковый возраст и не вся керамика, не весь фаянс, не все рисунки возникли в одно и то же время. Вскоре, пристальнее вглядевшись в даль тысячелетий, он разобрался в эпохах этой цивилизации и разграничил ее (деление это не потеряло своего значения и поныне) на периоды: раннеминойский (3–2 тысячелетия до н. э.), среднеминойский (примерно до 1600 года до н. э.) и позднеминойский — самый короткий, заканчивающийся примерно 1250 годом до н. э.
Он нашел следы деятельности человека, относящиеся к одному из самых ранних периодов, к неолиту, то есть к тому времени, когда металл был еще неизвестен, а все орудия, вся утварь выделывались из камня. Эванс отнес эти следы к десятому тысячелетию до н. э. Другие ученые оспаривают его мнение: они считают эту дату сомнительной и относят находки Эванса к пятому тысячелетию. На чем основаны все эти расчеты, какие данные положил в основу своей периодизации Эванс?
Эванс нашел на Крите множество предметов иностранного происхождения, в частности керамические изделия из Египта, относящиеся к совершенно определенным, твердо датируемым периодам истории этой страны, ко временам господства той или иной династии. Период расцвета этой культуры от отнес ко времени перехода от среднеминойской к позднеминойской эпохе, то есть примерно к 1600 году до н. э. — предположительному времени жизни и царствования Миноса, предводителя флота, властелина моря. Это было время, когда всеобщее благосостояние уже начало перерастать в роскошь, а красота была возведена в культ. На фресках изображали юношей, собиравших на лугах крокусы и наполнявших ими вазы, девушек среди лилий.
Цивилизация была накануне вырождения; ей на смену шла неуемная роскошь. В живописи, которая раньше была подчинена определенным формам, теперь господствовало буйное сверкание красок, жилище должно было служить не только обителью — оно должно было услаждать глаз; даже в одежде видели лишь средство для проявления утонченности и индивидуальности вкуса.
Приходится ли удивляться тому, что Эванс употребляет термин "модерн" для характеристики своих находок? В самом деле, в этом дворце, который не уступал по своим размерам Букингемскому, были водоотводные каналы, великолепные банные помещения, вентиляция, сточные ямы. Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить о их манерах, их одежде, их модах. Еще в начале среднеминойского периода женщины носили высокие остроконечные головные уборы и длинные пестрые платья с поясом, с глубоким декольте и высоким корсажем.
Теперь эта старинная одежда приобрела утонченный и изысканный вид. Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегавший фигуру, подчеркивавший формы и обнажавший грудь — теперь, однако, уже из чувственного кокетства. Платья были длинные, с оборками, богатой и пестрой расцветки, некоторые узоры изображали крокусы, вырастающие из волнистой линии — условного изображения горного пейзажа; поверх платья надевался пестрый передник. На голове дамы носили высокий чепец. И если сейчас у женщин в подражание мужчинам модны короткие волосы, то критские женщины были с нынешней точки зрения сверхмодницами, ибо они причесывались точно так же, как мужчины!
Такими они и предстают перед нами на рисунках: вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах на садовой скамейке, в их взорах и выражениях лиц — истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад! Вспоминаешь об этом лишь тогда, когда бросишь взгляд на мужчин: всю их одежду составляет облегающий бедра передник.
Среди всех этих замечательных рисунков, найденных Эвансом ("Даже наши рабочие чувствовали их волшебное очарование", — писал он), вновь мелькает один, уже знакомый нам: изображение плясуна на быке.
Плясун? Артист? Таково было мнение Шлимана, когда он обнаружил этот рисунок в Тиринфе, в этом городе-форпосте, в котором не было ничего, что могло заставить его вспомнить о старых легендах, о быках и жертвах, о дымящейся крови в храмах.
Иное дело Эванс. Разве не стоял он на земле, на которой царствовал Минос, повелитель Минотавра — чудовища с туловищем человека и головой быка? Что говорит об этом легенда?
Минос, царь Кносса, Крита и всех эллинских морей, послал своего сына, по имени Андрогей, в Афины принять участие в играх. Более сильный, чем его соперники греки, Андрогей одержал над ними победу, но был из зависти убит Эгеем, царем Афин. Разгневанный Минос послал в Афины свой флот, завладел городом и наложил на него ужасную контрибуцию: через каждые девять лет афиняне должны были посылать ему семь юношей и семь девушек — цвет своей молодежи — в качестве жертв Минотавру. Когда подошел третий срок, Тесей, сын Эгея, возвратившийся к тому времени домой из длительного, полного героических деяний похода, вызвался поехать на Крит, чтобы убить чудовище:
Через Критское море помчался корабль…
Вез он Тесея, и семь девушек, и семь юношей.
Черные паруса развевались на мачтах корабля; под белыми парусами должен был Тесей вернуться домой, если замысел его удастся. Ариадна, дочь Миноса, увидев идущего на смерть героя, потеряла покой и сердце. Она вручила Тесею меч и клубок нитей, чтобы он не запутался в лабиринте; конец нити она держала в руках, когда отправился он к Минотавру. В ужасной схватке Тесей одолел чудовище, благодаря нити нашел обратную дорогу и вместе с Ариадной и друзьями поспешил домой. Но так взволнован был он неожиданным спасением, что позабыл сменить паруса. Эгей, отец его, увидев черные паруса, принял их за символ смерти и, решив, что сын его погиб, бросился с высокой скалы в море.
Могла ли эта легенда объяснить содержание рисунков? На одном из них были изображены две девушки и юноша, играющие с быком. Но действительно ли это была игра? Может быть, здесь речь шла о чем-то более серьезном? Быть может, даже о жизни и смерти? Может быть, на картине было изображено жертвоприношение Минотавру, чье имя в свою очередь, возможно, означало "бык Миноса"?
Чем чаще обращались к легенде, тем больше возникало вопросов; однако то, что в легенде содержалось зерно истины, было неоспоримо: лабиринт лежал у всех перед глазами. Можно было принять и то предположение, что легендарная победа Тесея была слишком символическим изображением победы, одержанной прибывшим с материка завоевателем, который разрушил дворец Миноса. Но то, что акт личной мести Миноса, потребовавшего за своего убитого сына неслыханные жертвоприношения, мог послужить причиной гибели его царства, представлялось совершенно невероятным.
И тем не менее царство было разрушено, разрушено так внезапно и так основательно, что у нападавших не нашлось даже времени что-либо увидеть, что-нибудь услышать, чему-нибудь научиться; оно было разрушено так же основательно, как три тысячелетия спустя царство Монтесумы, которое уничтожила кучка пришлых испанцев, не оставив от него ничего, кроме руин и мертвых камней.
Проблема происхождения и гибели богатого народа, населявшего в свое время Крит, и поныне остается главной проблемой для всех археологов, для всех ученых, занимающихся древнейшим периодом античной истории.
Согласно Гомеру, остров населяли пять различных народов. Геродот утверждает, что Минос не был греком, Фукидид же свидетельствует об обратном. Эванс, который главным образом занимался именно этим вопросом, склоняется к гипотезе об африканско-ливийском происхождении населения Крита. Эдуард Маейр, крупнейший знаток античной истории, пишет, что они, вероятно, пришли не из Малой Азии. Дерпфельд, старый сотрудник Шлимана, выступил в 1932 году — в возрасте восьмидесяти лет — против Эванса, утверждая, что крито-микенское искусство зародилось в Финикии.
Где та нить Ариадны, которая поможет выбраться из этого лабиринта "за" и "против"?
Такой спасительной нитью могла бы стать письменность. Из-за нее, собственно, Эванс и приехал в свое время на Крит. Уже в 1894 году он дал первое описание критских письмен; он нашел бесчисленное множество идеографических надписей, а вблизи Кносса — около двух тысяч глиняных табличек со знаками линейного письма. И все же Ганс Иенсен в своем появившемся в 1935 году солидном труде "Письмо" весьма трезво заключил, что "расшифровка критской письменности еще только начинается и у нас нет пока еще никакой ясности в вопросе о том, что она собой представляла".
Столь же неясным, как происхождение народа, населявшего Крит, и его письменности, предстает конец критского царства. Смелых теорий здесь хоть отбавляй. Эванс различал три ясные стадии разрушения;
дважды дворец отстраивался заново, в третий раз от него остались одни развалины.
Если мы бросим ретроспективный взгляд на историю тех дней, мы увидим кочующие орды пришельцев с Севера, из Дунайских стран, а возможно, и из южной России, которые вторгаются в пределы Греции, нападают на ее города, разрушают Микены и Тиринф. Это вторжение варварских народов все ширится и в конце концов приводит к гибели цивилизации. Немного позже мы видим новые орды, на этот раз дорийцев; они изгоняют ахейцев, но сами в еще меньшей степени, чем ахейцы, способны принести какую-нибудь культуру; и если ахейцы были грабителями, которые все награбленное обращали в свою собственность, если они все-таки были достойны упоминания в гомеровских песнях, то дорийцы были просто-напросто разбойниками, которые умели лишь разрушать; и все-таки с их приходом начинается новая глава в истории Греции.
Так обстояло дело по словам одних, а что говорят об этом другие?
Эванс считал, что разрушение минойского дворца должно было быть следствием какого-то природного катаклизма. Классический пример подобного происшествия — Помпеи. При раскопке Кносского дворца Эванс наткнулся на те же признаки внезапной и насильственной гибели и разрушения, что и д'Эльбеф и Венути у подножия Везувия: брошенные орудия труда, оставшиеся незавершенными различные изделия и произведения искусства, внезапно прерванная домашняя работа. У него сложилась своя теория, которую ему было суждено проверить на собственном опыте. 26 июня 1926 года в 21 час 45 мин. Эванс, лежа в постели, читал книгу; внезапно он ощутил сильный подземный толчок. Его кровать сдвинулась с места, стены дома дрожали. Кругом падали какие-то предметы, из опрокинувшегося ведра лилась вода. Земля сначала вздыхала и стонала, а потом взревела так, словно ожил легендарный Минотавр. Но толчок был непродолжителен, и, когда все успокоилось, Эванс соскочил с кровати выбежал на улицу. Он мчался к дворцу. Но, как оказалось, его реконструкции с честью выдержали экзамен: везде, где только было можно, он с самого начала употреблял стальные подпорки и балки. Однако во всех окрестных деревнях и в столице Кандли землетрясение произвело ужасные разрушения.
Таковы были личные впечатления Эванса, которые подкрепили его гипотезу: он исходил из того, что Крит — один из наиболее подверженных землетрясениям районов Европы, и поэтому его гипотеза сводилась к тому, что только сильное и внезапное землетрясение, способное расколоть землю и поглотить все созданное человеком, только сильнейший подземный толчок был в состоянии до такой степени разрушить дворец Миноса, что на его месте нельзя было построить уже ничего, кроме двух-трех жалких хижин.
Вот, собственно, и все об Эвансе. Некоторые не разделяют его воззрений. Будущее внесет ясность в этот вопрос. Несомненно одно; Эванс сумел замкнуть круг, первые очертания которого фанатик Шлиман увидел в Микенах. Оба они — и Шлиман и Эванс — были первооткрывателями. Теперь дело за исследователями: они должны найти нить Ариадны. Где зажжена лампа, при свете которой трудится будущий расшифровщик критской письменности? Лампа, которая способна осветить прошлое, более трех тысяч лет остававшееся в темноте?
Этим вопросом я в 1949 году и закончил главу. Но уже в середине 1950 года на него был получен первый ответ: Эрнст Зиттиг, профессор из Тюбингена, разрешил ту самую проблему, над которой сорок лет трудился финский ученый Сундвелл, а кроме него, немец Боссерт, итальянец Мериджи, чешский ученый Грозный (он расшифровал хеттские клинописные тексты из Богазкея) и Алиса Кобер из Нью-Йорка, которая в 1948 году, разочаровавшись, объявила: "Не зная ни языка, ни письменности, эти надписи нельзя расшифровать".
Казалось, Зиттиг достиг большого успеха: ему первому удалось последовательно применить в работе над расшифровкой критских письмен выработанную в ходе двух мировых войн методику дешифровки военных шифрованных сообщений — своего рода искусство или даже науку, в основе которой лежит статистически-математический метод подсчета. Для разрешения проблем античной филологии он расшифровал 11, а позднее 30 знаков так называемого Критского линейного письма В.
В середине 1953 года пришел второй ответ: англичанину Майклу Вентрису попала в руки найденная не так давно в Пилосе глиняная табличка с группой знаков, не исследованных Зиттигом. Вентрису удалось свободно прочитать ее, ибо оказалось, что текст написан по-гречески, хотя не на основе греческого алфавита. Таким образом, отпала часть толкований Зиттига и в то же время началась новая борьба, которая окончится еще не скоро.
Античная филология находится накануне окончательного разрешения интересующей ее проблемы, однако ее разрешение ставит сразу же еще одну, гораздо более широкую проблему перед всей наукой о древности: почему, из каких побуждений на Крите — центре самостоятельной высокоразвитой культуры за шестьсот лет до Гомера писали по-гречески местными письменами, на языке народа, который в те времена отнюдь еще не был высокоразвитым? Может быть, эти два языка существовали параллельно? А может быть, неверна вся наша древнегреческая хронология? Не возникает ли снова "проблема Гомера"?
КНИГА ПИРАМИД
"Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!"
Наполеон
"Те, кто строил из гранита, кто замуровывал камеру в пирамиду, создавая прекрасные творения…
их жертвенные камни так же пусты, как и тех уставших, которые покоятся на берегу,
не оставив после себя наследников".
Из древнеегипетского папируса
"О мать Нейт! Простри надо мной свои крылья, извечные звезды…"
Надпись на саркофаге Тутанхамона
Глава 9 ПОРАЖЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ПОБЕДОЙ
У истоков археологического открытия Египта стоят Наполеон I и Виван Денон — император и барон, полководец и человек искусства. Часть пути они прошли вместе; они были хорошо знакомы, хотя были совершенно разными людьми. Оба они умели держать перо в руках, но из-под пера одного выходили приказы, декреты и своды законов, а другого — легкомысленные, безнравственные, даже порнографические новеллы и рисунки, которые принадлежат к числу "раритетов для любителей"; тот факт, что именно Денон принял участие как специалист-искусствовед в египетской экспедиции Наполеона, явился одной из тех счастливых случайностей, значение которых в полной мере выявляет лишь будущее.
17 октября 1797 года был подписан мир в Кампо-Формио. Итальянский поход окончился, и Наполеон возвратился в Париж.
"Героические дни Наполеона позади!" — писал Стендаль. Он ошибался. Героические дни еще только начинались. Но еще до того, как Наполеон, подобно комете, осветил, а потом опалил всю Европу, он отдался "безумному замыслу, порожденному больной фантазией". Беспокойно расхаживая из угла в угол в узкой комнатушке, пожираемый честолюбием, сравнивая себя с Великим Александром, отчаявшись в несвершенном, он писал: "Париж давит на меня так, словно на мне свинцовые одежды. Ваша Европа — это кротовая нора. Только на Востоке, где живут шестьсот миллионов человек, могут быть основаны великие империи и осуществлены великие революции". (Впрочем, высокая оценка Египта как двери на Восток значительно старше: Гете предсказал и политически верно оценил значение строительства Суэцкого канала, а еще ранее Лейбниц, в 1672 году, составил доклад Людовику XIV, в котором он совершенно правильно — в смысле последующего политического развития — изложил значение Египта в политике создания французской империи.)
19 мая 1798 года с флотом в триста двадцать восемь кораблей, имея на борту тридцать восемь тысяч солдат и офицеров (почти столько же, сколько было у Александра, когда он отправился на завоевание Индии), Наполеон вышел из Тулона в открытое море. Цель: через Мальту на Египет.
План Александра! Для Наполеона Египет тоже не был самоцелью: его взгляд проникал дальше, в Индию. Поход за море был попыткой нанести Англии, неуязвимой в своем центре — Европе, смертельный удар на периферии. Нельсон, командующий английским флотом, тщетно крейсировал целый месяц в Средиземном море: дважды он был от Бонапарта чуть ли не на расстоянии пушечного выстрела и оба раза упускал его.
2 июля Наполеон вступил на египетскую землю. После изнурительного перехода по пустыне солдаты купались в Ниле, а затем перед ними возник Каир, словно видение из "Тысячи и одной ночи", с тонкими башнями своих четырехсот минаретов, с куполом мечети Джали аль-Ашар. Но рядом с множеством изумительных по своему изяществу и филигранной орнаментике зданий, вырисовывавшихся в туманной дымке рассвета, рядом с великолепием этого утопающего в роскоши волшебного мира ислама были видны силуэты гигантских сооружений. Расположенные напротив серо-фиолетовой стены гор Маккатама, они вздымались прямо из желтой суши пустыни; это были пирамиды Гизэ, холодные, огромные, отчужденные — окаменевшая геометрия, немая вечность, свидетели того мира, который был мертв уже тогда, когда ислам еще не родился.
Солдатам было не до восхищения и удивления; перед ними лежало мертвое прошлое, Каир был волшебным будущим, а сейчас им противостояло воинственное настоящее — армия мамелюков: десять тысяч великолепно обученных всадников, танцующие от нетерпения кони, сверкающие ятаганы, и впереди — владыка Египта Мурад в окружении двадцати трех беев, на белоснежном коне, в зеленом тюрбане, усыпанном бриллиантами. Указав на пирамиды, Наполеон воскликнул: "Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!" Это было не только обращение полководца к солдатам, психолога к массам — это был вызов человека Запада мировой истории.
Сражение было жестоким, и победил не фанатизм мусульман, а европейская выучка, победили европейские штыки. Бой превратился в бойню. 25 июля Бонапарт вошел в Каир. Казалось бы, половина пути в Индию уже пройдена, но 7 августа произошло морское сражение при Абукире. Нельсону удалось наконец обнаружить французский флот, и он обрушился на него, словно карающий ангел. Наполеон попал в западню. Египетская авантюра была обречена. Операция тянулась еще год; еще были победы: победа генерала Дезэ в Верхнем Египте, а в самом конце — победа Наполеона в битве у Абукира, у того самого Абукира, который оказался свидетелем разгрома и уничтожения его флота. Но еще больше этот год был знаменателен нуждой, голодом, холерой, а многим он принес и слепоту — следствие египетской глазной болезни, которая превратилась в постоянного спутника всех походов и даже получила у ученых специальное название "Ophthalmia militaris".
19 августа 1799 года Бонапарт бежал, бросив свою армию. А 23 августа он стоял на борту фрегата "Муирон" и смотрел, как погружались в море берега страны фараонов. Отвернувшись, он обратил свой взор к Европе.
Последствием этой неудавшейся в военном отношении экспедиции Наполеона было политическое открытие современного Египта и научное открытие древнего. На кораблях французского флота находились не только две тысячи пушек, но и сто семьдесят пять "ученых штатских", а кроме того, библиотека с едва ли не всеми, какие только возможно было отыскать во Франции, книгами о стране на Ниле и несколько десятков ящиков с научной аппаратурой и измерительными приборами.
Весной 1798 года Наполеон впервые ознакомил ученых в большом зале заседаний Institut de France со своими планами. Держа в руках двухтомное "Путешествие по Аравии" Нибура, твердо постукивая по кожаному переплету указательным пальцем в подтверждение своих слов, он говорил о задачах науки в Египте. Несколько дней спустя на борту его кораблей стояли астрономы и геометры, химики и минералоги, специалисты в области техники и ориенталисты, художники и писатели. Среди них — своеобразный человек, рекомендованный Наполеону в качестве рисовальщика легкомысленной Жозефиной.
Его полное имя было Доминик Виван Денон. При Людовике XV он был хранителем коллекции древностей и слыл любимцем Помпадур. Будучи секретарем посольства в Петербурге, он пользовался расположением Екатерины. Светский человек, ценитель прекрасного пола, дилетант во всех областях изящных искусств, всегда полный сарказма, насмешливый и остроумный, он умел быть в дружеских отношениях со всем светом. Находясь на дипломатической службе в Швейцарии, он частенько навещал Вольтера и написал знаменитый "Завтрак в Ферне". Другой рисунок — "Молитва пастухов", исполненный в манере Рембрандта, — помог ему даже стать членом Академии. Наконец, во Флоренции, в насыщенной искусством атмосфере тосканских салонов, его настигла весть о начале Великой французской революции. Он поспешил в Париж. Еще недавно посланник, gentilhomme ordinaire, богатый, независимый человек, он нашел свое имя в эмигрантском списке и узнал, что его поместья отобраны в казну, а состояние конфисковано.
Обедневший, одинокий, многими преданный, он влачил убогое существование, скитался по жалким углам, жил на деньги, вырученные от продажи того или иного рисунка, бродил возле рынка, видел, как на Гревской площади падали головы многих из его бывших друзей, и так до тех пор, пока не нашел неожиданного покровителя — Жака-Луи Давида, великого художника революции. Он получил возможность гравировать давидовские эскизы костюмов, те самые эскизы, которые должны были революционизировать и моду. Этим он завоевал расположение Неподкупного; едва ступив на паркет после грязи Монмартра, по которой ему пришлось бродить, он, найдя применение своему дипломатическому таланту, получил от Робеспьера обратно свои имения, был вычеркнут из эмигрантского списка. Он познакомился с красавицей Жозефиной де Богарнэ, был представлен Наполеону, понравился ему и таким образом стал участником египетского похода. Вернувшись из страны на Ниле, теперь уже испытанный, признанный, пользующийся всеобщим уважением, он был назначен генеральным директором всех музеев. Следуя по пятам за Наполеоном, победителем на полях сражений всей Европы, он организовывал художественные трофеи (называя это собиранием) и в результате положил основание одной из величайших коллекций Франции.
Коль скоро его дилетантские занятия живописью и рисованием принесли ему такой большой' успех, он имел все основания надеяться добиться не меньшего успеха и на литературном поприще. Невозможно, доказывали в одном обществе, написать настоящую любовную историю, сохраняя благопристойность. Денон заключил пари и через двадцать четыре часа положил на стол "Le Point de lendemain" — новеллу, которая завоевала ему особое место в литературе, которая известна среди знатоков как наиболее деликатная в своем жанре и о которой Бальзак сказал: "…это великолепное руководство для мужей, а для людей холостых — бесценная картина нравов последнего столетия".
Ему принадлежит также и "Oeuvre Priapique" — впервые появившийся в 1793 году сборник гравюр, который содержит в себе все, что обещает заглавие, и в своей фаллической ясности не оставляет желать ничего лучшего. Любопытно, что публицисты-археологи, основательно занимавшиеся Деноном, кажется, даже не подозревали об этой стороне его деятельности. Не менее забавно и то, что такой добросовестный историк культуры, как Эдуард Фукс, посвятивший как исследователь нравов целый раздел своей книги Денону-порнографу, в свою очередь, кажется, ничего не знал о той важной роли, которую сыграл Денон в годы становления египтологии.
Между тем этот разносторонний, во многих отношениях удивительный человек совершил дело, о котором нельзя забыть. Если Наполеон, завоевав Египет с помощью оружия, все-таки не смог удержать его в своих руках более года, то Денон, завоевав страну фараонов с помощью карандаша, сохранил ее для вечности и открыл ее нашему сознанию.
Когда он, до этого лишь салонный завсегдатай, впервые ступил на египетскую землю, почувствовал знойное дыхание пустыни, увидел, полу ослепленный, бесконечную рябь песков, он, должно быть, пришел в восторженное состояние, которое уже не покидало его: огромные руины доносили до него, казалось, дыхание пяти ушедших в прошлое тысячелетий.
Его прикомандировали к Дезэ, который вместе со своей армией устремился по следам предводителя мамелюков Мурада в Верхний Египет. И, несмотря на то что ему уже шел пятьдесят второй год, а генерал, выказывавший ему расположение, годился по возрасту ему в сыновья, Денон не считался ни с лишениями, ни с трудностями, связанными с климатом, вызывая восторг и удивление солдат, многие из которых были еще совсем юными. Его можно было видеть и скачущим во весь опор на своей заморенной лошаденке в авангарде и задумчиво плетущимся в хвосте обоза. Рассвет уже не заставал его в палатке. Он рисует и на остановках и на марше, он не расстается со своей папкой даже во время скудного обеда. "Тревога!" Он ввязывается в перестрелку, воодушевляет солдат, размахивая своей папкой… Вдруг какая-то сцена привлекает его внимание, и он забывает обо всем на свете, забывает, где находится, — он рисует…
Потом он стоит перед иероглифами: он ничего о них не знает, и нет никого рядом, кто мог бы удовлетворить его любознательность. Он срисовывает их на всякий случай и, не будучи специалистом, все же правильно подмечает самое главное, самое важное, различая три вида иероглифов — "углубленные", "выпуклые" и "en creux", — и приходит к правильному заключению, что они относятся к разным эпохам. В Саккара он делает рисунок ступенчатой пирамиды, в Дендера — грандиозных руин строений эпохи Нового царства; он без устали носится по развалинам Стовратных Фив и впадает в отчаяние, если приказ о выступлении приходит раньше, чем он успевает запечатлеть в своих рисунках все, что предстает перед его глазами. Бранясь, он сгоняет двух-трех слоняющихся без дела солдат, и они еще успевают в спешке, второпях очистить от песка голову статуи, привлекшую его внимание. Авантюристический поход продолжается. Войска доходят до Асуана, до Первого порога. В Элефантине Денон зарисовывает очаровательный окруженный колоннами небольшой храм Аменхотепа III, и этот отличный рисунок останется единственным изображением храма, ибо в 1822 году он будет разрушен. И когда войска поворачивают назад, направляясь домой (победа под Седиманом одержана: Мурад-бей разбит наголову), барон Доминик Виван Денон увозит в своих бесчисленных папках добычу более ценную, чем трофеи, которыми поживились солдаты, захватившие украшения мамелюков, ибо, как бы ни воспламенялось его художественное воображение в чужих краях, от этого никогда не страдала точность его рисунков. Он придерживался в своих рисунках того вполне применимого и к научным целям реализма, который характеризовал произведения старых мастеров и граверов на меди, не пренебрегавших ни одной деталью; не имея ни малейшего понятия ни об импрессионизме, ни об экспрессионизме, они позволяли называть себя ремесленниками и не воспринимали это как уничижительную кличку. Поэтому его рисунки стали драгоценнейшим материалом для научных исследований и изысканий. И в основном на его материалах был написан труд, который положил начало египтологии, — "Описание Египта" ("Description de 1'Egypte").
Тем временем в Каире был основан Египетский институт. Пока Денон занимался своими рисунками, остальные ученые и художники обмеривали и считали, изучали и собирали то, что они нашли на поверхности. Материал, никем еще не обработанный и загадочный, лежал прямо сверху и был так богат, что не было никакой необходимости браться за лопату. Кроме отливок, записей, копий, рисунков, различных образцов флоры и фауны, минералов, в это собрание попали двадцать семь скульптур, в большинстве разбитых, и несколько саркофагов. Была здесь и находка совершенно особого рода: черная отполированная базальтовая стела — камень с высеченной тремя различными письменами надписью на трех разных языках; этот камень получил широкую известность как "Трехъязычный камень из Розетты", и ему было суждено стать ключом ко всем тайнам Египта.
Но после капитуляции Александрии в сентябре 1801 года Франции пришлось, как она ни противилась этому, передать Англии захваченные египетские древности. Генерал Хатчинсон доставил транспорт, и Георг III передал драгоценные обломки, являвшиеся в те времена необычайной редкостью, в Британский музей. Казалось, усилия Франции остались втуне, год работы потрачен бессмысленно, а те ученые, которые стали жертвой египетской болезни, совершенно напрасно лишились зрения. И вдруг выяснилось, что и того, что доставлено в Париж, с избытком хватит на целое поколение ученых: оказалось, что со всего материала сняты копии; первым, кто зримо и основательно изложил результаты египетской экспедиции, был Денон, который в 1802 году опубликовал свое "Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту" ("Voyage dans la Haute et la Basse Egypte"). Одновременно Франсуа Жомар, опираясь на материалы научной комиссии, и прежде всего на материалы Денона, приступает к составлению того труда, которому было суждено единственный раз в истории археологии ввести сразу в современный мир совершенно неведомую до тех пор цивилизацию, хотя, правда, и не полностью исчезнувшую, как, например, троянская, но по меньшей мере столь же древнюю, да и не менее загадочную, о существовании которой было до того дня известно лишь некоторым путешественникам.
"Описание Египта" выходило в свет на протяжении четырех лет в 1809–1813 годах. Впечатление, которое произвели эти 24 увесистых тома, было колоссальным; его можно сравнить разве только с сенсацией, вызванной впоследствии первой публикацией Ботта о Ниневии, а еще позднее книгой Шлимана о Трое. В наш век всеобщего распространения ротационных машин трудно себе представить, какое значение имели великолепные содержательные издания тех времен с бесчисленными, нередко красочными гравюрами, в роскошных переплетах, доступные лишь зажиточным людям, которые бережно хранили их, видя в них сокровищницы знания. Ныне, когда любое ценное научное открытие мгновенно становится достоянием всего света, распространяясь и размножаясь в гигантских масштабах посредством фотографии, печати, кино, радио, сталкиваясь с другими публикациями — одной крикливее другой, — которые каждый может приобрести и тут же забыть о них, ибо его внимание всецело поглотит очередная новинка, ныне, когда ничто уже не хранится столь бережно, когда ценное и значительное подчас теряется среди макулатуры, — можно лишь с большим трудом представить себе, какое волнение охватывало людей, когда они получали первые тома "Описания" и видели никогда не виденное, читали о никогда не слышанном, узнавали о жизни, о былом существовании которой они до сих пор и не подозревали. Заглянув в глубь прошедших веков, они пришли в еще более благоговейное волнение, чем мы, ибо культура Египта была значительно более древней, чем любая известная в те времена, а сам Египет был стар уже тогда, когда первые собрания на Капитолии положили основание политике римской державы. Он был древен и занесен песками уже в те времена, когда германцы и кельты охотились в лесах Северной Европы на медведей. Его замечательная культура существовала уже тогда, когда еще только начинала править первая египетская династия, — с этого времени можно говорить о начале достоверной истории Египта; а когда вымерла двадцать шестая династия, до начала нашей эры оставалось еще полтысячелетия. Еще должны были пройти времена господства Ливии, Эфиопии, Ассирии, Персии, Греции, Рима, и лишь тогда взошла звезда над Вифлеемом.
Разумеется, существование каменных чудес на берегах Нила не было тайной, но сведения о них носили полулегендарный характер и были явно недостаточны. Лишь немногие памятники попали в музеи, лишь немногие были доступны широкому обозрению. Римский турист мог любоваться львами на лестнице Капитолия (ныне они исчезли), статуями царей династии Птолемеев, то есть произведениями, относящимися к весьма поздней эпохе и изготовленными в те времена, когда блеск Древнего Египта уже померк, когда ему на смену пришел Александрийский эллинизм; кроме того, были известны несколько обелисков (в Риме их было двенадцать), несколько рельефов в садах кардиналов и скарабеи — изображения навозного жука, которого египтяне считали священным. Загадочные знаки на брюшке скарабея были причиной того, что скарабеи были распространены в Европе как амулеты, а в более позднее время стали использоваться как украшения и печатки. Это было все.
Очень немногое могли предложить и парижские книготорговцы: книги, в которых затрагивались проблемы Древнего Египта, можно было буквально пересчитать по пальцам. Правда, в 1805 году появилось большое пятитомное издание Страбона — великолепный перевод его географических работ (Страбон объездил Египет во времена Августа), и, таким образом, то, что до сих пор было доступно лишь специалистам-ученым, стало всеобщим достоянием. Много ценных научных сведений содержалось и во второй книге Геродота, этого удивительного путешественника древности. Но кто читал сочинения Геродота и кто помнил все остальные, разрозненные сведения античных авторов, содержавшиеся в самых различных сочинениях?
Ранним утром солнце поднимается на голубовато-стальном небе — сначала желтое, затем ослепительно яркое, потом увядающее; оно движется по небосводу, отражаясь в коричневом, желтом, желтовато-коричневом, белом песке. Словно врезанные в песок, лежат глубокие тени — темные силуэты редких здесь строений, деревьев, кустов.
Сквозь эту вечно залитую солнцем, не знающую непогоды пустыню (здесь не бывает ни дождя, ни снега, ни тумана, ни града) — пустыню, которая никогда не слышала раскатов грома и никогда не видела блеска молнии, где воздух сухой, стерильный, консервирующий, а земля бесплодная, крупитчатая, ломкая, крошащаяся, катит свои волны отец всех потомков, "отец всемогущий Нил". Он берет начало в глубинах страны и, вспоенный озерами и дождями в темном, влажном, тропическом Судане, набухает, заливает все берега, затопляет пески, поглощает пустыню и разбрасывает ил — плодородный нильский ил; каждый год на протяжении тысячелетий он поднимается на шестнадцать локтей — шестнадцать детей резвятся около речного бога в символической мраморной группе Нила в Ватикане, — а затем медленно вновь возвращается в свое русло, сытый и умиротворенный, поглотив не только пустыню, но и сушь земли, сушь песка. Там, где стояли его коричневые воды, появляются всходы, произрастают злаки, давая необыкновенно обильные урожаи, принося "жирные" годы, которые могут прокормить "тощие". Так каждый год вновь возрождается Египет, "дар Нила", как его еще две с половиной тысячи лет назад назвал Геродот, житница древнего мира, которая заставляла Рим голодать, если в тот или иной год вода стояла слишком низко или, наоборот, прилив был слишком высок.
Там, в этой местности, с ее сверкающими куполами и хрупкими минаретами, в городах, переполненных людьми с различным цветом кожи, принадлежащими к сотням различных племен и народов — арабами, нубийцами, берберами, коптами, неграми, — в городах, где звучат тысячи разных говоров, возвышались, словно вестники другого мира, развалины храмов, гробниц, остатки колонн и дворцовых залов.
Там вздымались ввысь пирамиды (шестьдесят семь пирамид насчитывается на одном лишь поле близ Каира!), выстроившиеся в сожженной солнцем пустыне на "учебном плацу солнца" — чудовищные склепы царей; на сооружение лишь одного из них ушло два с половиной миллиона каменных плит, сто тысяч рабов на протяжении долгих двадцати лет воздвигали его.
Там разлегся один из сфинксов — получеловек, полузверь с остатками львиной гривы и дырами на месте носа и глаз: в свое время солдаты Наполеона избрали его голову в качестве мишени для своих пушек; он отдыхает вот уже многие тысячелетия и готов пролежать еще многие; он так огромен, что какой-нибудь из Тутмесов мог бы соорудить храм между его лап.
Там стояли тонкие, как иглы, обелиски — часовые храмов, пальцы пустыни, воздвигнутые в честь царей и богов; высота многих из них достигала 28 метров. Там были храмы в гротах и храмы в пещерах, бесчисленные статуи — и деревенских старост, и фараонов, саркофаги, колонны, пилоны, всевозможные скульптуры, рельефы и росписи…
И все на этом грандиознейшем из существующих на свете кладбищ было испещрено иероглифами — таинственными, загадочными знаками, рисунками, контурами, символическими изображениями людей, зверей, легендных существ, растений, плодов, различных орудий, утвари, одежды, оружия, геометрическими фигурами, волнистыми линиями и изображениями пламени. Они были выполнены'на дереве, на камне, на бесчисленных папирусах, их можно было встретить на стенах храмов, в камерах гробниц, на заупокойных плитах, на саркофагах, на стенах, статуях божеств, ларцах и сосудах; даже письменные приборы и трости были испещрены иероглифами. "Тот, кто пожелал бы скопировать надписи на храме Эдфу, даже если бы трудился с утра до вечера, не управился бы с этим и в двадцать лет".
Таким был мир, открывшийся в "Описании" изумленной Европе, той самой ищущей Европе, которая занялась исследованием прошлого, которая по настоянию Каролины, сестры Наполеона, с новым рвением принялась за раскопки в Помпеях и чьи ученые, восприняв у Винкельмана методику археологических исследований и толкования находок, горели желанием проверить эти методы на практике.
Однако после стольких похвал по адресу "Описания Египта" нужно сделать одну оговорку: представленный в нем материал — описания, рисунки, копии был, несомненно, доброкачественным, но там, где речь шла о Древнем Египте, авторы ограничивались лишь регистрацией. В большинстве случаев они ничего не объясняли, да они и не в состоянии были это сделать; там же, где они все-таки пытались что-то объяснить, их объяснения были неверными.
Представленные ими памятники оставались немыми; попытка их систематизации была искусственной: в ее основе лежало не знание, а интуиция. Непонятными оставались иероглифы, неясными — знаки, чужим — язык.
"Описание Египта" открыло совершенно новый мир, но этот новый мир в своих связях и отношениях, по своему устройству и по своей роли в древнем мире был неразрешенной загадкой.
Как много нового можно было бы узнать, если бы только удалось расшифровать иероглифы!
Но возможно ли это?
Де Саси, крупнейший парижский ориенталист, объявил: "Проблема слишком запутана и научно неразрешима". Но, с другой стороны, разве скромный учитель из Геттингена, по фамилии Гротефенд, не опубликовал исследование, которое указало путь к расшифровке клинописи Персеполя, и разве не он поделился в этом исследовании первыми результатами своей дешифровки? А ведь в распоряжении Гротефенда был весьма незначительный материал, здесь же бесчисленное множество иероглифических надписей лежало, так сказать, на поверхности и было доступно всем.
А разве один из солдат Наполеона не обнаружил странную плиту из черного базальта, о которой журнал, поместивший сообщение о ней, писал, что благодаря этой счастливой находке мы имеем ключ к расшифровке иероглифов? Впоследствии это мнение было подтверждено всеми учеными, которым удалось ее увидеть.
Где тот исследователь, который сумеет использовать эту плиту? Вскоре после того, как был найден Розеттский камень, журнал "Courier de 1'Egypte" поместил об этом сообщение. Оно было напечатано в номере от 29 фрюктидора, VII года революции, со ссылкой: "Розетта, 2 фрюктидора, VII года". И надо же было, чтобы благодаря счастливой случайности этот номер издававшегося в Египте журнала попал в дом отца того человека, который двадцать лет спустя, проделав поистине гениальную, беспрецедентную работу, сумел прочесть надпись на черном камне и тем самым разрешил загадку иероглифов.
Глава 10 ШАМПОЛЬОН И ТРЕХЪЯЗЫЧНЫЙ КАМЕНЬ
Когда знаменитый френолог Галль, популяризируя свою теорию, разъезжал по городам и весям, вызывая восхищение и благоговение одних, подвергаясь брани и насмешкам со стороны других, ему как-то в Париже представили в одном обществе совсем юного студента. Едва успев бросить взгляд на череп этого студента, Галль воскликнул: "Ах, какой гениальный лингвист!" Шестнадцатилетний студент, которого представили Галлю — прославленный череповед, разумеется, не мог об этом знать (хотя, может быть, вся эта история была обычным шарлатанским трюком), — владел в то время, не считая латыни и греческого, по меньшей мере полдюжиной восточных языков.
В XIX веке укоренилась странная манера написания биографий. Авторы, составители этих биографий, рьяно выискивали и сообщали своим читателям факты, подобные, например, тому, что трехлетний Декарт, увидев бюст Евклида, воскликнул: "А!"; или же старательнейшим образом собирали и изучали гетевские счета за стирку белья, пытаясь и в группировке жабо и манжет увидеть признаки гения.
Первый пример свидетельствует лишь о грубом методическом просчете, второй — просто нелепость, но и то и другое — источник анекдотов, а что, собственно говоря, можно возразить против анекдотов? Ведь даже история о трехлетнем Декарте достойна сентиментального рассказа, если, разумеется, не рассчитывать на тех, кто все двадцать четыре часа в сутки пребывает в абсолютно серьезном настроении. Итак, откинем сомнения и расскажем об удивительном рождении Шампольона.
В середине 1790 года Жак Шампольон, книготорговец в маленьком местечке Фижак во Франции, позвал к своей полностью парализованной жене — все доктора оказались бессильными — местного колдуна, некоего Жаку.
Фижак расположен в Дофинэ, на юго-востоке Франции, в "провинции семи чудес", одной из самых красивых в этой стране, где, как известно, обитает сам Господь Бог, в провинции, населенной людьми жесткого консервативного склада, которых нелегко вывести из состояния летаргии (хотя однажды они оказались способны на проявление невероятного фанатизма); при всем том они строгие католики и легко верят всему мистически волшебному.
Колдун приказал положить больную на разогретые травы (и этот факт и все последующие подтверждены несколькими свидетелями), заставил ее выпить горячего вина и, объявив, что она скоро выздоровеет, предсказал ей — это более всего потрясло все семейство — рождение мальчика, который со временем завоюет немеркнущую славу. На третий день больная встала на ноги. 23 декабря 1790 года в два часа утра у нее родился сын — Жан Франсуа Шампольон, человек, которому удалось расшифровать египетские иероглифы. Так сбылись оба предсказания.
Если верно, что дети, зачатые дьяволом, рождаются с копытцами, то нет ничего удивительного в том, что вмешательство колдунов приводит к не менее заметным результатам. Врач, осматривавший юного Франсуа, с большим удивлением констатировал, что у него желтая роговая оболочка — особенность, присущая жителям Востока, но крайне редкая для европейцев. Более того, у мальчика был необычайно темный, почти коричневый цвет кожи и восточный тип лица. Двадцать лет спустя его везде называли египтянином.
Он был сыном революции. В сентябре 1792 года в Фижаке была провозглашена республика. С апреля 1793 года начался период "великого страха". Дом Шампольона-отца стоял в тридцати шагах от Place d'armes (Площади оружия, впоследствии названной именем Шампольона), на которой было посажено Дерево Свободы. Первое, что Франсуа услышал уже вполне сознательно, был плач тех, кто искал в доме его отца убежища от разбушевавшейся черни. Среди них был и священник, который стал его первым учителем.
"Пяти лет от роду, — отмечает один растроганный биограф, — он осуществил свою первую расшифровку: сравнивая выученное наизусть с напечатанным, он сам научился читать". В семь лет он впервые услышал волшебное слово "Египет" "в связи с обманчивым блеском фата-морганы" предполагавшимся, но не осуществившимся планом участия его брата Жака-Жозефа, который был старше Франсуа на двенадцать лет, в египетской экспедиции Наполеона.
В Фижаке он учился, по словам очевидцев, плохо. Из-за этого в 1801 году его брат, одаренный филолог, очень интересовавшийся археологией, увозит мальчика к себе в Гренобль и берет на себя заботу о его воспитании.
Когда вскоре одиннадцатилетний Франсуа проявляет удивительные познания в латинском и греческом языках и делает поразительные успехи в изучении древнееврейского, его брат, также человек блестящих способностей, как бы предчувствуя, что младший когда-либо прославит фамильное имя, решает впредь скромно именоваться Шампольоном-Фижак; впоследствии его называли просто Фижак.
В том же году с юным Франсуа беседовал Фурье. Знаменитый физик и математик Жозеф Фурье участвовал в египетском походе, был секретарем Египетского института в Каире, французским комиссаром при египетском правительстве, начальником судебного ведомства и душой Научной комиссии. Теперь он был префектом департамента Изеры и жил в Гренобле, собрав вокруг себя лучшие умы города. Во время одной из инспекций школ он вступил в спор с Франсуа, запомнил его, пригласил к себе и показал ему свою египетскую коллекцию.
Смуглолицый мальчик, словно зачарованный, смотрит на папирусы, рассматривает первые иероглифы на каменных плитах. "Можно это прочесть?" спрашивает он. Фурье отрицательно качает головой. "Я это прочту, — уверенно говорит маленький Шампольон (впоследствии он будет часто рассказывать эту историю), — я прочту это, когда вырасту!"
Не напоминает ли это о другом мальчике, который однажды так же убежденно и с той же маниакальной уверенностью сказал своему отцу: "Я найду Трою!" Но какими различными путями шли они к осуществлению своих детских мечтаний! Как различны были их методы!
Шлиман был самоучкой чистейшей воды. Шампольон ни на шаг не отклонился от намеченного пути в овладении науками (кстати, он прошел этот путь настолько быстро, что обогнал всех товарищей по учебе); Шлиман начинал свои исследования, не имея никакой специальной подготовки. Шампольон — во всеоружии научных знаний своего века. О его образовании заботился брат. Он пытался сдерживать невероятную жажду знания, обуревавшую мальчика. Тщетно! Шампольона интересовали самые отдаленные вопросы, и он протаптывал тропинки ко всем Монбланом наук. В двенадцать лет он опубликовал свою первую книгу, название которой говорит само за себя: "История знаменитых собак". Отсутствие систематического исторического обзора мешало ему в занятиях, и он сам составил хронологическую таблицу, озаглавив ее: "Хронология от Адама до Шампольона-младшего". (Старший брат отказался от своей фамилии, предчувствуя, кому из двух братьев суждено отбрасывать большую тень. Шампольон, называя себя младшим, намекал таким образом на существование Шампольона-старшего.)
В тринадцать лет он начинает изучать арабский, сирийский, халдейский, а затем и коптский языки. Заметим: все, что бы он ни изучал, все, что бы ни делал, чем бы ни занимался, в конечном итоге связано с проблемами египтологии. Он изучает древнекитайский только для того, чтобы попытаться доказать родство этого языка с древнеегипетским. Он изучает тексты, написанные на древнеперсидском, пехлевийском, персидском — отдаленнейшие языки, отдаленнейший материал, который только благодаря Фурье попал в Гренобль, собирает все, что только может собрать, и летом 1807 года, семнадцати лет от роду, составляет первую географическую карту Древнего Египта, первую карту времен царствования фараонов. Смелость этого труда можно оценить по достоинству, лишь зная, что в распоряжении Шампольона не было (да и не могло в то время быть) никаких источников, кроме Библии да отдельных латинских, арабских и еврейских текстов, большей частью фрагментарных и искаженных, которые он сравнивал с коптскими, ибо это был единственный язык, который мог послужить своего рода мостиком к языку Древнего Египта и который был известен потому, что в Верхнем Египте на нем изъяснялись вплоть до XVII века.
Одновременно он собирает материал для книги и принимает решение переехать в Париж, но гренобльская Академия желает получить от него заключительный труд. Господа академики имели при этом в виду обычную чисто формальную речь, Шампольон же представляет целую книгу — "Египет при фараонах" ("L'Egypte sous les Pharaons").
1 сентября 1807 года он зачитывает введение. Стройный, высокий юноша, болезненно красивый, как все рано созревшие люди, — таким он предстал перед Академией. То, что он сообщает, сформулировано в смелых тезисах и излагается с покоряющей силой логики. Результат необычаен! Семнадцатилетнего юношу единогласно избирают членом Академии. Ренольдон, президент Академии, поднимается и заключает его в объятия: "Если Академия, несмотря на Вашу молодость, избирает Вас своим членом, она тем самым отдает дань Вашим заслугам, тому, что Вы уже свершили. Но в еще большей степени она рассчитывает на то, что Вам еще суждено свершить. Она убеждена, что Вы оправдаете возлагаемые на Вас надежды и в тот день, когда Вы своими трудами создадите себе имя, вспомните, что первое поощрение Вы получили от нее". За одни сутки вчерашний школяр превратился в академика.
Выйдя из здания школы, он теряет сознание. Он вообще страдает в это время повышенной чувствительностью; типичный сангвиник, но в основном элегического склада, он был не только необычайно развит духовно — многие уже открыто называли его гением, — но и не по годам развит физически. (Когда он, едва покинув школьную скамью, решил жениться, им руководило нечто большее, чем первое увлечение школьника.)
Он знает: впереди новый этап жизни. И перед его внутренним взором возникает огромный город, центр Европы, средоточие духовной, политической и культурной жизни. Когда после семидесятичасовой тряски тяжелый возок, в котором он вместе с братом совершает это путешествие, наконец приближается к Парижу, он успевает уже многое передумать, не раз переходя от грез к действительности; он видит пожелтевшие от времени папирусы, в его ушах звучат слова на добром десятке языков, ему видятся камни, испещренные иероглифами, а среди них — таинственный камень из черного базальта, тот самый камень из Розетты, копию которого он впервые увидел незадолго до отъезда при прощании с Фурье; надпись на этом камне буквально преследует его. Внезапно он наклоняется к брату и — это не вымысел — говорит вслух о том, о чем постоянно думает, на что всегда надеялся и в чем сейчас вдруг обрел уверенность: "Я расшифрую их, — говорит он, — я расшифрую эти иероглифы, я уверен в этом".
Утверждают, что Розеттский камень нашел некий Дотпуль. Однако на самом деле Дотпуль, командовавший инженерными отрядами, был всего лишь начальником того человека, который его нашел. Другие источники называют Бушара, но Бушар был всего-навсего офицером, который руководил работами по укреплению разрушенного порта Рашида, находившегося в семи с половиной километрах к северо-западу от Розетты, на Ниле, и получившего уже в те времена наименование порта Жюльена. Позднее Бушар возглавил работы по перевозке камня в Каир.
На самом же деле Розеттский камень нашел неизвестный солдат. Мы никогда не узнаем, был ли он человеком образованным и потому сумел сразу же, как только его кирка наткнулась на камень, оценить все значение своей находки, или же он был малограмотным парнем и закричал при виде этой покрытой таинственными письменами плиты от испуга, опасаясь действия ее волшебных чар.
Неожиданно обнаруженная на развалинах крепости, плита эта, величиной с доску стола, была из мелкозернистого, чрезвычайно твердого черного базальта; с одной стороны она была отполирована. На ней были видны три надписи, три колонки знаков, полустертых в результате выветривания и под воздействием миллионов песчинок, царапавших в течение тысячелетий поверхность камня. Из трех надписей первая, в четырнадцать строк, была иероглифической, вторая, в тридцать две строки, — демотической и третья, в пятьдесят четыре строки, была написана по-гречески.
По-гречески! Следовательно, ее можно прочесть, следовательно, ее можно понять!
Один из наполеоновских генералов, страстный любитель-эллинист, тотчас приступает к переводу. Это, констатирует он, постановление верховных жрецов Мемфиса, относящееся к 196 году до н. э., о восхвалении Птолемея V Эпифана за его пожертвование.
Вместе со всеми другими трофеями французов плита попала после капитуляции Александрии в Британский музей в Лондоне. Но Египетской комиссии удалось своевременно снять с нее, как, впрочем, и с других находок, слепки и изготовить отливки. Эти отливки были доставлены в Париж, и ученые занялись изучением и сличением их, в первую очередь сличением, ибо что могло быть важнее заключения об аутентичности текстов — именно эта мысль прежде всего приходила в голову. Впрочем, об этом в свое время еще писал журнал "Courier de 1'Egypt"; еще здесь доказывалось, что найденная плита является ключом к воротам исчезнувшего царства, что благодаря этой плите появилась возможность "объяснить Египет с помощью самих египтян". Вряд ли после перевода греческой надписи будет представлять большую трудность определение того, какие иероглифы соответствуют тем или иным греческим словам, понятиям и именам. И тем не менее лучшие умы того времени оказались не в состоянии справиться с этой задачей. Над ней ломали головы ученые не только во Франции, но и в Англии, где находился сам камень, в Германии, в Италии. Но их усилия были тщетными, ибо все они, без исключения, исходили из ложных предпосылок, все они, без исключения, жили теми представлениями об иероглифах, которые частично восходили еще к Геродоту, и эти представления с присущим им (как и многим другим ошибочным представлениям в области духовной жизни человечества) поистине чудовищным упорством затуманивали ученым головы.
Для того чтобы разгадать тайну иероглифов, нужен был чуть ли не коперниковский поворот, нужно было наитие провидца, смело рвущего с привычными традиционными представлениями, способного, словно молния, озарить тьму.
Когда семнадцатилетний Шампольон был представлен братом своему будущему учителю Сильвестру де Саси — маленькому, незаметному и, однако, широко известному за рубежами Франции человеку, — он не испытал ни смущения, ни робости и так же, как когда-то при встрече с Фурье, очаровал своего собеседника.
Де Саси был недоверчив. Будучи в свои сорок девять лет во всеоружии науки того времени, он вдруг увидел перед собой юношу, который с невероятной смелостью приступил в своей книге "Египет при фараонах" к осуществлению того самого плана, о котором он, де Саси, заявил, что время для его свершения еще не настало. О чем же он находит нужным сказать в своих воспоминаниях? Умудренный жизнью человек, он пишет о "глубоком впечатлении", которое произвела на него эта встреча! Удивляться здесь нечему. Книга — де Саси видел тогда только введение к ней — уже через год была почти полностью готова. Таким образом, де Саси уже признает за семнадцатилетним Шампольоном те заслуги, которые все остальные признали лишь семь лет спустя.
Шампольон с головой уходит в учебу. Презрев все соблазны парижской жизни, он зарывается в библиотеки, бегает из института в институт, выполняет тысячу и одно поручение гренобльских ученых, буквально засыпавших его письмами, изучает санскрит, арабский и персидский — "итальянский язык Востока", как называет его де Саси, — а между делом еще просит в письме к брату прислать ему китайскую грамматику: "Для того, чтобы рассеяться".
Он так проникается духом арабского языка, что у него даже меняется голос, и в одной компании какой-то араб, приняв его за соотечественника, раскланивается с ним и обращается к нему с приветствием на своем родном языке. Его познания о Египте, которые он приобрел только лишь благодаря своим занятиям, настолько глубоки, что поражают известнейшего в то время путешественника по Африке Сомини де Маненкура; после одной из бесед с Шампольоном он удивленно воскликнул: "Он знает те страны, о которых у нас шел разговор, так же хорошо, как я сам". Спустя всего лишь год он настолько хорошо овладел коптским языком ("Я говорю сам с собой по-коптски…") и демотическим письмом, что практики ради транскрибировал демотическими знаками ряд коптских текстов. А через сорок лет (надо же было случиться такой невероятной истории!) некий незадачливый ученый опубликовал один из этих текстов как египетский документ времен императора Антонина, снабдив его своими глубокомысленными комментариями… — вот французский вариант истории Берингера и его книги об окаменелостях.
При всем этом ему приходится туго, отчаянно туго. Если бы не брат, который самоотверженно поддерживал его, он бы умер с голоду. Он снимает за восемнадцать франков жалкую лачугу неподалеку от Лувра, но очень скоро становится должником и обращается к брату, умоляя его помочь; в отчаянии, что не может свести концы с концами, он приходит в полнейшее замешательство, когда получает ответное письмо, в котором Фижак сообщает, что ему придется продать свою библиотеку, если Франсуа не сумеет сократить свои расходы. Сократить расходы? Еще более? Но у него и так рваные подметки, его костюм совершенно обтрепался, он стыдится показаться в обществе! В конце концов он заболевает: необычно холодная и сырая парижская зима дала толчок развитию той болезни, от которой ему было суждено умереть. И все-таки два раза ему повезло. Удача заставила его несколько воспрянуть духом.
Императору нужны солдаты. В 1808 году начинается всеобщая мобилизация: в армию забирают всех, включая шестнадцатилетних. Шампольон приходит в ужас. Все его существо восстает против насилия, он, который свято соблюдает строжайшую дисциплину духа, не может без содрогания видеть марширующих гвардейцев с их глупейшей, нивелирующей дух дисциплиной. Разве еще Винкельман не страдал от угроз милитаризма? "Бывают дни, — в отчаянии пишет Франсуа своему брату, — когда я теряю голову!"
Брат помогает всегда, помогает он и на этот раз. Он пускает в ход свои связи, пишет заявления, рассылает бесчисленные письма, и в результате Шампольон получает возможность продолжать свою учебу, изучать мертвые языки — и это тогда, когда все вопросы времени разрешались силой оружия. Второе, что его занимает, нет, чем он увлекается, забывая даже порой об угрожающей ему мобилизации, это Розеттский камень. И странно: так же, как впоследствии Шлиман, в совершенстве изучивший чуть ли не все европейские языки, никак не мог решиться взяться за изучение древнегреческого, ибо чувствовал, что, начав, должен будет отдаться этому всей душой, так и Шампольон, возвращаясь все время мысленно к трехъязычному камню, приближаясь к интересовавшему его предмету, словно по кругам спирали, подходит к нему все медленнее, все нерешительнее, ибо ему все время кажется, что он еще не в состоянии решить эту проблему, что он еще не вооружен всеми знаниями своего времени.
Однако, получив неожиданно новую, изготовленную в Лондоне копию розеттской надписи, он более не в состоянии сдерживаться. Правда, он и на этот раз еще не приступает к непосредственной расшифровке, довольствуясь лишь сравнением розеттской надписи и одного папируса, однако он пробует — и это ему удается — "самостоятельно найти правильное значение для целого ряда знаков". "Представляю на твой суд мои первые шаги", — пишет он брату в письме от 30 августа 1808 года, и впервые за той скромностью, с которой он говорит о своем методе, чувствуется гордость юного первооткрывателя.
Но именно в этот момент, когда он сделал свой первый шаг, когда почувствовал себя на верном пути к успеху и славе, его, словно гром средь ясного неба, поразило одно сообщение. Между собой и целью он видел всегда только работу, труд, самоотверженные занятия — ко всему этому он был готов. И вдруг неожиданная весть сделала бессмысленным не только то, чем он занимался, во что перил, на что надеялся, но и то, чего он уже достиг: иероглифы расшифрованы!
Вспомним историю, относящуюся к совершенно иной области, к длившейся десятки лет борьбе за Южный полюс — одной из самых волнующих страниц в летописи мировых открытий и исследований. Она чрезвычайно напоминает историю, которая приключилась с Шампольоном, и в своем глубоком драматизме дает великолепное представление о том, что должен был испытать этот человек в тот момент, когда узнал, что его опередили.
С невероятным трудом капитану Скотту вместе с двумя спутниками удается подойти вплотную к полюсу. И вдруг, полумертвый от голода и усталости, но гордый тем, что он первый достиг полюса, Скотт замечает на белоснежном покрове, где, по его расчетам, еще не ступала нога человека, флаг! Флаг Амундсена!
Этот пример, как мы уже говорили, более драматичен, ибо за ним — белая смерть. Но разве юный Шампольон не испытал того же чувства, что и капитан Скотт? И вряд ли могло ему послужить утешением, что в век одновременных открытий то, что случилось с ним, происходило с десятками других, и все они испытали то же самое, что испытал впоследствии Скотт в тот момент, когда увидел флаг Амундсена. Однако норвежский флаг был прочно водружен на полюсе и свидетельствовал о победе Амундсена, с расшифровкой же иероглифов дело обстояло несколько иначе.
О расшифровке Шампольон узнал на улице, по дороге в Коллеж де Франс. Эту новость рассказал ему приятель, даже не подозревая, чем Шампольон занимался на протяжении многих лет, о чем он мечтал, над чем работал дни и ночи напролет, голодая, переходя от надежд к отчаянию. Видя, что Шампольон пошатнулся и тяжело оперся рукой о его плечо, приятель испугался.
"Александр Ленуар! — говорил приятель. — Только что появился его труд, небольшая брошюра "Новое объяснение", — это полная расшифровка иероглифов. Ты можешь себе представить, что это означает?"
Кому он это говорит?
"Ленуар?" — переспрашивает Шампольон. Он пожимает плечами. Внезапно в нем загорается искра надежды. Ведь он всего лишь вчера видел Ленуара. Он знаком с ним вот уже год. Ленуар крупный ученый, но звезд с неба не хватает. "Этого не может быть, — говорит он. — Никто об этом ничего не рассказывал. Даже сам Ленуар никогда не проронил об этом ни полслова". "Тебя это удивляет? — спрашивает приятель. — Кто же раньше времени распространяется о подобных открытиях?"
Шампольон внезапно выходит из оцепенения; "Кто книготорговец?" И вот он в лавке. Дрожащими руками отсчитывает он монеты на пыльный прилавок; распродано еще только несколько экземпляров.
Он спешит домой, бросается на продавленный диван и начинает читать…
А затем на кухне вдова Мекран внезапно оставляет свои горшки — из комнаты ее квартиранта раздаются странные звуки. Она прислушивается, затем бежит, открывает дверь в его комнату… На диване лежит Франсуа Шампольон, все его тело вздрагивает, изо рта вырываются какие-то нечленораздельные выкрики — он смеется, он, несомненно, смеется, весь сотрясаясь в приступе истерического хохота. В руке он держит книгу Ленуара. Расшифровка иероглифов? Нет! Здесь слишком рано водрузили флаг! Знаний Шампольона вполне достаточно, чтобы определить: все то, что здесь утверждает Ленуар, чистейший вздор, голая выдумка, авантюристическое смешение фантазии и ложной учености.
И все же удар был ужасен. Этого он никогда не забудет. Пережитое им потрясение открыло ему глаза на то, до какой степени он внутренне сжился с идеей заставить заговорить мертвые изображения. Когда он в изнеможении засыпает, его преследуют кошмарные сны, ему слышатся голоса египтян. И сон делает совершенно очевидным то, что ускользало от него за превратностями нелегкой повседневности:
он — одержимый, маньяк, околдованный иероглифами. Все его сны завершает успех. Этот успех представляется ему вполне достижимым. Но, беспокойно ворочаясь на постели, восемнадцатилетний ученый не подозревает, что прежде, чем он достигнет цели, пройдет еще добрый десяток лет. Он не ведает, что его подстерегает один удар судьбы за другим и что он, все помыслы которого заняты только иероглифами и страной фараонов, в один прекрасный день отправится в изгнание как государственный преступник.
Глава 11 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК РАСШИФРОВЫВАЕТ ИЕРОГЛИФЫ
В двенадцать лет Шампольон высказался в одном из своих сочинений за республиканскую форму правления как за единственно разумную. Выросший в атмосфере идей, подготовленных веком просвещения и обязанных своим возникновением Великой революции, он страдал от нового деспотизма, прокравшегося в эдиктах и декретах и окончательно сбросившего маску с воцарением Наполеона.
В противоположность своему брату, который поддался обаянию Наполеона, Шампольон критически относился ко всем успехам и достижениям бонапартистского режима и даже в мыслях не следил за победным полетом французского орла.
Здесь не место изучать эволюцию политических взглядов и убеждений. Но следует ли умолчать о том, что некий египтолог, не будучи в силах противиться непреодолимому влечению к свободе, ворвался со знаменем в руках в цитадель Гренобля? Что именно Шампольон, который страдал от сурового режима Наполеона и терпеть не мог Бурбонов, своей собственной рукой сорвал знамя с лилиями, красовавшееся на самой вершине башни, и водрузил на его место трехцветное знамя, то самое знамя, которое в течение полутора десятилетий развевалось впереди маршировавших по всей Европе наполеоновских полков и в котором он в тот момент видел символ новой свободы?
Шампольон вновь возвратился в Гренобль. 10 июля 1809 года он был назначен профессором истории Гренобльского университета. Так в 19 лет он стал профессором там, где некогда сам учился; среди его студентов были и те, с кем он два года назад вместе сидел на школьной скамье. Следует ли удивляться тому, что к нему отнеслись недоброжелательно, что его опутала сеть интриг? Особенно усердствовали старые профессора, которые считали себя обойденными, обделенными, несправедливо обиженными.
А какие идеи развивал этот юный профессор истории! Он объявлял высшей целью исторического исследования стремление к правде, причем под правдой он подразумевал абсолютную правду, а не правду бонапартистскую или бурбонскую. Исходя из этого, он выступал за свободу науки, также понимая под этим абсолютную свободу, а не такую, границы которой определены указами и запретами и от которой требуют благоразумия во всех определяемых властями случаях. Он требовал осуществления тех принципов, которые были провозглашены в первые дни революции, а затем преданы, и год от года требовал этого все более решительно. Подобные убеждения должны были неминуемо привести его к конфликту с действительностью.
Он никогда не изменяет своим идеям, но нередко его охватывает тоска. Тогда он пишет брату (у любого другого это выглядело бы как цитата из вольтеровского "Кандида", но он, ориенталист, вычитал это в священных книгах Востока): "Возделывай свое поле! В Авесте говорится: лучше сделать плодородными шесть четвериков засушливой земли, чем выиграть двадцать четыре сражения, — я с этим вполне согласен". И все более опутываемый сетью интриг, буквально больной от них, получая лишь четверть жалованья (этим он был обязан грязным махинациям своих коллег), он несколько позже напишет:
"Судьба моя решена: бедный, как Диоген, я постараюсь приобрести бочку и мешок для одежды, что же касается вопроса пропитания, то здесь мне придется надеяться на всем известное великодушие афинян".
Он пишет сатиры, направленные против Наполеона. Но, когда Наполеон наконец свергнут, а в Гренобль 19 апреля 1814 года входят союзники, он с горьким скептицизмом задает себе вопрос: можно ли надеяться, что теперь, когда уничтожено господство деспота, настанет время господства идей? В этом он сомневается.
Однако его любовь к свободе народа, к свободе науки не может заглушить в нем страсти к изучению Египта. Как и прежде, он необычайно плодовит. Он занимается далекими от его научных интересов делами: составляет коптский словарь и одновременно пишет пьесы для гренобльских салонов, в том числе драму, посвященную Ифигении, сочиняет песенки политического характера, которые тут же подхватываются местными жителями, — для немецкого ученого это было бы совершенно невероятно, но во Франции, где эту традицию возводят к XII веку и связывают с именем Абеляра, это вполне обычно.
В то же время он занимается и тем, что является главной задачей его жизни: он все более углубляется в изучение тайн Египта, он не может от него оторваться независимо от того, кричат ли на улицах "Vive 1'Empereur!" или "Vive Ie Roi!". Он пишет бесчисленное множество статей, работает над книгами, помогает другим авторам, учит, мучается с нерадивыми студентами. Все это в конце концов отражается на его нервной системе, на его здоровье. В декабре 1816 года он пишет: "Мой коптский словарь с каждым днем становится все толще. Этого нельзя сказать о его составителе, с ним дело обстоит как раз наоборот". Он стонет, когда доходит до 1069 страницы: труд его по-прежнему далек от завершения.
В это время наступают "Сто дней", которые заставляют Европу еще раз претерпеть натиск Наполеона, которые разрушают то, что с таким трудом было создано, которые превращают преследуемых в преследователей, властителей в подданных, короля в беглеца и даже Шампольона вынуждают покинуть свой кабинет ученого. Наполеон возвращается! И в поистине опереточном crescendo меняется с каждой пройденной им милей тон газет: "Чудовище вырвалось на свободу!", "Оборотень в Каннах", "Тиран — в Лионе", "Узурпатор в шестидесяти часах от столицы", "Бонапарт приближается форсированным маршем", "Наполеон завтра будет у наших стен", "Его Величество в Фонтенбло".
7 марта Наполеон подходит на своем пути в столицу к Греноблю. Он вынимает табакерку и стучит ею в городские ворота. Ночь, его освещают факелы — настоящая сцена из спектакля, но только всемирно-исторического значения. Долгую страшную минуту стоит он под наведенными на него пушками, около которых совещаются канониры. Потом раздаются возгласы: "Да здравствует Наполеон!" — и "этот авантюрист, который покинет город императором", вступает в Гренобль, ибо Гренобль — это сердце Дофинэ, важнейшая из оперативных баз, которые нужно было занять. Фижак, брат Шампольона, давний почитатель императора, теперь становится его приверженцем.
Наполеону нужен личный секретарь. Мэр города представляет ему Фижака и умышленно искажает его фамилию — Шамполеон. "Какое хорошее предзнаменование, — восклицает император, — он носит половину моей фамилии!" Шампольон тоже здесь. Наполеон расспрашивает его о работе, узнает о коптской грамматике, о словаре. Шампольон холоден (он с двенадцати лет имеет дело с властителями, гораздо ближе стоящими к богам, чем Наполеон), император же приходит в восторг от юного ученого, долго с ним беседует, обещает ему в знак монаршей милости напечатать его книги в Париже. Не довольствуясь этим. Наполеон на другой день посещает его в библиотеке, вновь возвращается к разговору о его занятиях языками — и все это в те дни и часы, когда он находится на пути к отвоеванию своей мировой империи. Два завоевателя Египта стоят здесь друг против друга. Один, включивший страну фараонов в свои геополитические планы, желавший вновь возродить ее (тысячи шлюзов хотел он тогда построить, чтобы раз и навсегда обеспечить рентабельность земледелия; теперь, услышав более подробные сведения о коптском языке, он вновь загорается и тотчас решает сделать коптский язык новым всенародным языком Египта). И другой — он еще ни разу не побывал в Египте, но мысленно видел этот исчезнувший древний мир, который ему было суждено завоевать силой своего интеллекта и знаний, тысячи раз.
Однако дни Наполеона сочтены. Его вторичное поражение столь же быстро, как и его вторичный успех. Эльба была для него убежищем, остров Святой Елены станет местом его смерти.
И снова в Париж возвращаются Бурбоны. Они чувствуют себя не слишком уверенно, они не очень сильны и поэтому не собираются мстить. И все-таки (могло ли быть иначе?) приговоры выносятся сотнями, "наказания сыплются с такой же щедростью, как некогда сыпалась на евреев манна небесная"; в число преследуемых попадает и Фижак — вольно же ему было сопровождать Наполеона в Париж! И стоит ли удивляться тому, что при быстром разбирательстве политических дел, при наличии большого числа недоброжелателей и завистников, которых юный профессор нажил себе в Гренобле, между ним и братом не делают различия — ведь даже в научных делах их не всегда отличали друг от друга. Кстати, это небезосновательно, ибо и младший Шампольон в последние часы "Ста дней", в то самое время, когда он безуспешно пытался раздобыть тысячу франков для покупки очередного египетского папируса, принял участие в организации так называемого Дельфийского союза, деятельность которого теперь, во время реставрации, кажется весьма предосудительной.
Когда роялисты приблизились к Греноблю, Шампольон встретил их на бастионах, призывая к сопротивлению, не желая разбираться в том, где, собственно, находится большая свобода. Но что происходит дальше? В тот самый момент, когда генерал Латур приступает к бомбардировке внутренней части города, когда плодам труда Шампольона начинает грозить нешуточная опасность, он покидает бастион, оставляя политику и войну, и мчится в библиотеку. Здесь, на втором этаже, он проводит все часы бомбардировки, таская воду и песок, один во всем здании, рискуя жизнью ради своих папирусов.
Вот тогда-то, уволенный из университета, сосланный как государственный преступник, Шампольон приступает к окончательной расшифровке иероглифов. Изгнание длится полтора года. За ним следует дальнейшая неустанная работа в Париже и Гренобле. Шампольону угрожает новый процесс, вновь по обвинению в государственной измене. В июле 1821 года он покидает город, в котором прошел путь от школьника до академика. А годом позже выходит в свет его труд "Письмо к г-ну Дасье относительно алфавита фонетических иероглифов…" ("Lettre a M. Dacier… Relative a 1'alphabet des hieroqlyphes phonetiques…") — книга, в которой изложены основы дешифровки иероглифов; она сделала его имя известным всем, кто обращал свои взоры к стране пирамид и храмов, пытаясь разгадать ее тайны.
Иероглифы были известны всему миру, сообщения о них содержатся у целого ряда античных авторов, их не раз пытались толковать во времена западноевропейского средневековья, а после египетского похода Наполеона они в бесчисленных копиях попали в кабинеты ученых. И, как это ни парадоксально звучит, в том, что иероглифы никак не удавалось расшифровать, был прежде всего повинен один человек и ошибочные рассуждения этого человека, а не отсутствие способностей или недостаток знаний у тех, кто брался за расшифровку. Геродот, Страбон, Диодор Сицилийский, посетившие Египет, говорили об иероглифах как о непонятных рисунках-письменах. И лишь Гораполлон составил в IV веке н. э. подробное описание значений иероглифов (указания, содержащиеся в более ранних работах — Климента Александрийского и Порфирия, — неясны). Вполне понятно, что за отсутствием каких-либо иных материалов труд Гораполлона был положен в основу всех последующих исследований. Гораполлон считал, что иероглифы — это рисуночное письмо, и с его легкой руки все интерпретаторы на протяжении столетий старательно искали символический смысл этих изображений. Профаны благодаря этому могли дать волю своей фантазии, но ученые приходили в отчаяние.
Когда Шампольон расшифровал иероглифы, стало ясно, как много верного содержат рассуждения Гораполлона; стала ясна эволюция иероглифов, исходным пунктом которой была простая символика:
волнистая линия обозначала воду, очертания дома — дом, знамя — бога. Однако эта же символика, применяемая последователями Гораполлона к более поздним надписям, приводила на ложный путь.
Нередко эти пути были и авантюристическими. Так, иезуит Афанасий Кирхер, человек весьма изобретательный (между прочим, он сконструировал волшебный фонарь), опубликовал в Риме в 1653–1654 годах четыре тома переводов иероглифов; ни один из них не был верным, ни один не имел ничего хотя бы сколько-нибудь общего с оригиналом. Группу иероглифов, находящуюся на одном из римских обелисков и передающую греческий титул императора Домициана "автократор" (самодержец), он, например, перевел следующим образом: "Осирис — создатель плодородия и всей растительности, производительную способность которого низводит с неба в свое царство святой Мофта!" И все-таки в противоположность доброй дюжине других ученых Кирхер признавал значение коптского языка — этой позднейшей формы египетского языка.
Сто лет спустя де Гинь объявил перед Французской академией надписей китайцев египетскими колонистами, опираясь в своем утверждении на сравнительный анализ иероглифов. И все же (это "и все же" сопутствует буквально каждому ученому, ведь каждый из них находил хотя бы один правильный след) он, во всяком случае, правильно прочел имя египетского царя Менеса. Один из его противников мгновенно обратил его в "Мантуф", что послужило поводом к выпаду Вольтера — самого ядовитого глоссатора своего времени — против этимологов, "для которых гласные не в счет, а согласные не имеют значения". В то же время английские ученые утверждали, в противоположность де Гиню, что египтяне — выходцы из Китая.
Можно было предположить, что трехъязычный камень из Розетты положит конец всем подобным домыслам. Случилось, однако, обратное. Путь к решению казался теперь таким ясным, что даже профаны отважились им воспользоваться. Некий аноним из Дрездена "восстановил" на основании лишь одного фрагмента иероглифической надписи из Розетты весь греческий текст. Некий араб Ахмед ибн абу Бекр "открыл" один текст, который обычно весьма вдумчивый и серьезный ориенталист Гаммер-Пургсталь даже поспешил перевести. Один безыменный "исследователь" из Парижа увидел в надписи на храме в Дендера сотый псалом, а в Женеве появился перевод текста так называемого обелиска Памфилия; в нем, оказывается, содержалось сообщение "о победе добрых над злыми, составленное за четыре тысячи лет до Рождества Христова".
Фантазия била через край. Граф Пален, который отличался, помимо фантазии, беспредельным невежеством и был глуп как пробка, утверждал, что суть розеттской надписи стала ему ясной с первого взгляда. Опираясь на Гораполлона, на пифагорейские доктрины, на каббалу, он за одну ночь "расшифровал" все тексты, восемь дней спустя передал свой "труд" на суд публики и, по собственному утверждению, именно благодаря быстроте избежал "тех ошибок в систематизации, которые являются следствием долгих раздумий".
Но Шампольону, который продолжал свою работу среди этого вихря, этого фейерверка дешифровок, классифицируя, сравнивая, проверяя, шаг за шагом приближаясь к намеченной цели, суждено было пережить еще одну новость: некий аббат Тандо де Сен Никола опубликовал брошюру, в которой содержатся совершенно точные доказательства того, что иероглифы — это вообще не письменность, а всего лишь один из элементов декоративного искусства древних. Отстаивая свою точку зрения, Шампольон в одном из своих писем еще в 1815 году писал о Гораполлоне: "Этот труд называется "Иероглифика", но в нем речь идет вовсе не о том, что мы подразумеваем под понятием "иероглифы", а об интерпретации, истолковании священных символических изображений, то есть о египетских символах, которые не имеют ничего общего с иероглифами. Это утверждение идет вразрез с общепринятым мнением, но доказательство правильности моей точки зрения находится на египетских надгробных памятниках. На сценах-эмблемах видны те священные изображения, о которых говорит Гораполлон: змея, вонзившая жало в собственный хвост, ястреб в описанной Гораполлоном позе, дождь, человек без головы, голубь с лавровым листком и т. д., но всего этого нет в настоящих иероглифах".
В те годы в иероглифах видели каббалистические, астрологические и гностические тайные учения, сельскохозяйственные, торговые и административно-технические указания для практической жизни; из иероглифических надписей "вычитывали" целые отрывки из Библии и даже из литературы времен, предшествовавших потопу, халдейские, еврейские и даже китайские тексты, "как будто египтяне, — как писал Шампольон, — не имели собственного языка для выражения своих мыслей". Все эти попытки истолковать иероглифы основывались в той или иной степени на Гораполлоне. Существовал только один путь, который мог привести к дешифровке: отказаться от Гораполлона. Шампольон избрал именно этот путь.
Великие открытия духа очень трудно точно зафиксировать во времени. Они являются результатом бесчисленных предварительных размышлений, долголетней тренировки мысли в разрешении одной определенной проблемы, точкой пересечения известного и неизвестного, целенаправленного внимания и фантазии. И лишь редко правильное решение приходит к человеку мгновенно, что называется молниеносно.
Великие открытия несколько теряют в своем величии, когда обращаешься к их предыстории. Поскольку верный путь, который привел к открытию, известен, ложные пути представляются наивными, неверные представления — ослеплением, сама проблема — простой. Сегодня трудно себе представить, что означали для того времени открытия Шампольона, противопоставившего мнению Гораполлона, на которого молился весь ученый мир, свое собственное мнение. Не следует забывать, что ученые и публика цеплялись за Гораполлона не потому, что они видели в нем столь же непоколебимый авторитет, какой их средневековые коллеги видели в Аристотеле, или позднейшие теологи — в отцах церкви, а просто потому, что даже самые убежденные скептики искренне верили, что иероглифы — это письмо-рисунок, и не видели, не могли себе представить, что могут быть какие-либо иные варианты их толкований. К несчастью для науки, авторитетное высказывание здесь соответствовало (точнее говоря, казалось, что оно соответствует) тому мнению, которое мог составить себе о них каждый. В лице Гораполлона говорил не просто человек, который стоял на полтысячелетия ближе к иероглифам, — в том, что он говорил, мог убедиться каждый: здесь были рисунки, рисунки и рисунки.
И лишь в тот момент (мы не можем определить, в какой именно), когда Шампольон решил, что иероглифические рисунки — это буквы (точнее говоря, обозначения слогов; его собственное раннее определение говорит, что они, "не будучи строго алфавитными, тем не менее слоговые"), наступил поворот: в этот момент Шампольон порвал с Гораполлоном, и этот разрыв, этот новый путь должен был привести к дешифровке. Можно ли после всего сказанного говорить о наитии, о том, что Шампольона вдруг осенило, о минуте вдохновения? Когда эта идея впервые пришла Шампольону в голову, он отбросил ее. Когда он однажды пришел к выводу, что знак, изображающий лежащую змею, соответствует звуку f, он отказался от этого утверждения, как ложного. Когда другие — скандинавские ученые Соэга и Окерблад, француз де Саси и прежде всего англичанин Томас Юнг — заключили, что демотический текст розеттской надписи — это буквенный текст, им удалось разрешить лишь некоторые частности; дальше они не пошли; некоторые из них отказались от дальнейших исследований, другие принялись опровергать свои собственные утверждения, а де Саси объявил о своей полной капитуляции перед иероглифическими текстами, "такими же недосягаемыми, как Ковчег Завета Господня". И даже Томас Юнг, который добился выдающихся результатов при дешифровке демотического текста именно благодаря тому, что он читал его фонетически, противореча самому себе, при дешифровке имени Птолемея вновь произвольно разложил знаки на буквы, слоги и двойные слоги.
Здесь ясно видно различие между двумя методами и двумя результатами. Юнг, естествоиспытатель, человек, несомненно, гениальный, но не получивший специального филологического образования, работал по трафарету, методом сравнения, методом остроумной интерполяции и все-таки расшифровал несколько слов; великолепным доказательством его интуиции является тот факт, что, как впоследствии подтвердил сам Шампольон, из интерпретированной им 221 группы символов 76 были расшифрованы правильно. Шампольон же, владевший доброй дюжиной древних языков и благодаря знанию коптского более, чем кто-либо иной, приблизившийся к пониманию самого духа языка древних египтян, не занимался отгадыванием отдельных слов или букв, но разобрался в самой системе. Он не ограничился одной лишь интерпретацией: он стремился сделать эти письмена понятными и для изучения и для чтения. И в тот момент, когда ему в общих чертах стала ясна система, он смог действительно плодотворно приступить к разработке той идеи, проверке той догадки, правильность которой становилась все более очевидной: дешифровка должна начаться с имени царствующей особы.
Почему же именно с него? Сегодня кажется, что эта идея тоже, так сказать, лежала на поверхности, эта мысль тоже представляется элементарно простой. Как мы уже упоминали, розеттская надпись содержала сообщение о том, что жрецы решили оказать царю Птолемею Эпифану особые почести. Греческий текст, который был прочитан, сразу внес в этот вопрос абсолютную ясность. Между тем в иероглифическом тексте в том месте, где, как это было нетрудно предположить, упоминалось имя царя, группа знаков была обведена овальной рамкой, так называемым картушем, как его стали называть впоследствии.
Что могло быть очевиднее предположения, что именно в картуше и выделено единственно достойное быть выделенным слово — имя царя? С другой стороны, не кажется ли, что мысль подписать под каждым знаком, составляющим имя Птолемея, соответствующую букву и тем самым отождествить восемь иероглифических знаков с восемью буквами алфавита доступна любому школьнику?
Рассматриваемые ретроспективно, все великие идеи кажутся простыми. Но то, что сделал Шампольон, означало разрыв с гораполлоновской традицией, которая на протяжении четырнадцати веков вносила величайшую сумятицу в умы исследователей. В то время никто не мог умалить заслуги Шампольона; открытие его тотчас получило блестящее подтверждение. В 1815 году был найден так называемый Обелиск из Филе. Археолог Бенкс в 1821 году доставил его в Англию. На этом обелиске (второй Розеттский камень!) было высечено две надписи: одна греческая, другая иероглифическая. И снова, так же как и в розеттской надписи, здесь было заключено в картуш имя Птолемея.
Однако здесь была еще одна группа знаков, обведенных овалом, и Шампольон, руководствуясь греческим текстом, предположил здесь имя египетской царицы Клеопатры (эта мысль тоже представляется сейчас весьма нехитрой). И вот, когда Шампольон выписал обе группы знаков, расположив их одну под другой, и когда в имени "Клеопатра" знаки 2, 4 и 5 совпали с 4, 3 и 1 в имени "Птолемей", — ключ к дешифровке иероглифов был найден! Только ли ключ к неизвестной письменности? Нет, ключ ко всем тайнам Египта.
Сегодня мы знаем, как бесконечно сложна иероглифическая система. Сегодня студент как само собой разумеющееся принимает то, что в те времена еще было не познано, изучает то, что Шампольон, основываясь на своем первом открытии, добыл тяжелым трудом.
Сегодня мы знаем, какие изменения претерпела иероглифическая письменность в своем развитии от древних иероглифов до курсивных форм так называемого иератического письма, а впоследствии до так называемого демотического письма — еще более сокращенной, еще более отшлифованной формы египетской скорописи; современный Шампольону ученый не видел этого развития. Открытие, которое помогало ему раскрыть смысл одной надписи, оказывалось неприменимым к другой. Кто из нынешних европейцев в состоянии прочитать рукописный текст XII века, даже если этот текст написан на одном из современных языков? А в разукрашенной буквице какого-либо средневекового документа не имеющий специальной подготовки читатель вообще не узнает букву, хотя от этих текстов, принадлежащих знакомой нам цивилизации, нас отделяют не более десяти столетий. Ученый, изучавший иероглифы, имел, однако, дело с чуждой, неизвестной ему цивилизацией и с письменностью, которая развивалась на протяжении трех тысячелетий.
Сегодня не представляет никаких затруднений отличить фонетические знаки от знаков-слов и знаков-определителей; это разграничение положило начало классификации знаков и рисунков во всем их многообразии и различии; сегодня никого не удивляет, если одна надпись читается справа налево, другая — слева направо, а третья — сверху вниз, ибо теперь все знают, что это было присуще определенному языку в определенное, ныне твердо установленное время.
Розеллини в Италии, Лееман в Нидерландах, де Руже во Франции, Лепсиус и Брупп в Германии накопили множество фактов, сделали немало открытий. Десятки тысяч папирусов были доставлены в Европу, расшифровывались все новые и новые надписи на храмах, памятниках, гробницах. Посмертно опубликовали "Египетскую грамматику" Шампольона (Париж, 1836–1841), им же составленный словарь древнеегипетского языка (наряду с дешифровкой письменности Шампольон занимался объяснением языка), а затем "Заметки" и "Памятники Египта и Нубии". Основываясь на этих и позднейших исследованиях, науке удалось сделать шаг от дешифровки к написанию, практически, правда, ненужный, но которым можно было гордиться. В Египетском зале дворца в Сиденхеме написаны иероглифами имена королевы Виктории и принца-консорта Альберта, ее мужа. Иероглифическими знаками начертаны в Берлине годы основания Египетского музея. Лепиус прибил к пирамиде Хеопса в Гизэ табличку, которая увековечила в иероглифах имя Фридриха Вильгельма IV, организовавшего экспедицию. Будет ли это лишним, если мы последуем за Шампольоном (человеком, который до тридцати восьми лет знал Египет лишь по описаниям, но тем не менее заставил заговорить его древние памятники) в его первом путешествии по стране пирамид и если мы расскажем о его первых настоящих приключениях?
Не всегда кабинетному ученому дано лично убедиться в правильности своих теорий путем непосредственных наблюдений. Нередко ему даже не удается побывать в тех местах, где он мысленно пребывает на протяжении десятилетий.
Шампольону не было суждено дополнить свои выдающиеся теоретические изыскания успешными археологическими раскопками. Но увидеть Египет ему удалось, и он смог путем непосредственных наблюдений убедиться в правильности всего, о чем передумал в своем уединении. Еще юношей, далеко выходя в своих знаниях за рамки задачи дешифровки, он занимался хронологией и топографией древнего Египта; поставленный перед необходимостью на основании весьма недостаточных сведений определить во времени и классифицировать ту или иную статую или надпись, он выдвигал одну гипотезу за другой. Теперь, приехав в страну своих исследований, он попал примерно в такое же положение, в каком очутился бы зоолог, сумевший по остаткам костей и окаменелостей восстановить облик динозавра, если бы он внезапно перенесся в меловой период и увидел бы это доисторическое животное в плоти и крови.
Экспедиция Шампольона (она продолжалась с июля 1828 года до декабря 1829 года) была поистине его триумфальным шествием.
Только официальные представители французских властей не могли забыть, что некогда Шампольон считался государственным преступником (дело было прекращено в связи с общим курсом политики монархии Людовика XVIII; точные данные об этом отсутствуют). Местные жители прибывали толпами, стремясь увидеть того, кто "может прочитать надписи на древних камнях". Шампольону пришлось ввести железную дисциплину, чтобы заставить участников своей экспедиции каждый вечер возвращаться на нильские корабли "Хатор" и "Исида" под защиту "двух дружелюбных египетских богинь". Энтузиазм местных жителей до такой степени воодушевил участников экспедиции, что они даже исполнили перед египетским пашой Мухаммедом-беем "Марсельезу" и песни о свободе из "Немой из Портичи". Но экспедиция не только развлекается, она работает. Шампольон делает открытие за открытием. Он находит все новые и новые доказательства, подтверждающие его теории. Одного взгляда ему достаточно, чтобы разграничить по эпохам и классифицировать карьеры в каменоломнях Мемфиса. В Мит-Рахине он открывает два храма и мертвый город. В Саккара, где через многие годы сделает великие открытия Мариэтт, он находит упоминание о некоем царе — Унасе — и безошибочно относит его царствование к ранней эпохе. В Телль-Амарне он приходит к убеждению, что громадное сооружение, которое, по мнению Жомара, служило для хранения зерна, на самом деле было не чем иным, как большим храмом этого города.
А затем ему было суждено испытать чувство полного торжества: одно из его утверждений, за которое шесть лет тому назад его наградили дружным хохотом члены Египетской комиссии, как оказалось, полностью соответствовало истине.
Корабли останавливаются в Дендера. Перед ними храм, один из самых больших египетских храмов, тот, который — ныне это уже известно — начали строить еще цари двенадцатой династии, могущественнейшие правители Нового царства: Тутмес III, Рамсес Великий и его преемник. Сооружение этого храма продолжалось при Птолемеях, а затем и при римлянах — Августе и Нерве; ворота и внешняя сторона достраивались при Домициане и Траяне. Сюда после труднейшего пешего перехода по пустыне пришли войска Наполеона, которых буквально ошеломила представшая перед ними картина. Здесь приостановил движение своей дивизии, мчавшейся по следам мамелюков, генерал Дезэ, очарованный мощью и величием угаснувшего царства (какие сантименты с точки зрения генерала XX века!).
Теперь здесь стоял Франсуа Шампольон, которому до мельчайших деталей были знакомы все сообщения об этом храме, все его зарисовки и копии надписей на нем — он столько раз беседовал о них с Деноном, сопровождавшим в свое время генерала Дезэ. Была ночь, светлая, лунная египетская ночь, все кругом было озарено каким-то необыкновенным сиянием; спутники Шампольона настаивали, и он в конце концов сдался: пятнадцать исследователей во главе с самим Шампольоном, словно одержимые, устремились к храму; "египтянин мог бы принять их со стороны за бедуинов, европеец — за группу хорошо вооруженных монахов-картезианцев".
Вот как описывается это в проникнутом еле сдерживаемым волнением рассказе Лота — одного из участников экспедиции: "Мы мчимся наудачу сквозь пальмовую рощицу, возникшую перед нами при свете луны, словно волшебное видение. За ней — высокая трава, колючки, сплошная стена кустарника. Вернуться? Нет, этого мы не хотим. Идти вперед? Но мы не знаем, как пройти. Мы пробуем кричать, но в ответ доносится лишь отдаленный лай собак. И тут "друг мы замечаем оборванного феллаха, который спит, приткнувшись к дереву. В черных лохмотьях, едва прикрывающих тело, с палкой, он похож на демона (ходячей мумией назовет его Шампольон). Он поднимается, дрожа от страха, неровен час, убьют… Дальше — еще один двухчасовой переход, и наконец мы у цели — перед нами залитый светом храм. При виде этой картины мы пьянеем от восторга. Дорогой мы пели, чтобы заглушить нетерпение, но здесь, перед залитыми лунным светом пропилеями, чувства переполняют нас — под этим портиком, опирающимся на гигантские колонны, царит глубокая тишина… Таинственное очарование усугубляют глубокие тени; а снаружи — пленительный, сверкающий лунный свет! Незабываемый контраст! Потом мы разжигаем в храме костер из сухой травы. Новое волшебство, и вновь всеобщий взрыв восторга, доходящий до исступления. Это было похоже на лихорадку, на сумасшествие. Мы все были в экстазе. Однако все это было не волшебством, не фантазией, а реальностью — мы находились под портиком храма в Дендера".
Но что же пишет об этом сам Шампольон? Участники экспедиции называют его учителем, и в полном соответствии со своим положением он более сдержан. Но и за его нарочито рассудительными словами чувствуется волнение: "Я не буду пытаться описывать впечатление, которое, в частности, произвел на нас портик большого храма. Можно рассказать о его размерах, но дать представление о нем невозможно. Это — максимально возможное сочетание грации и величия. Мы провели там в полном упоении два часа. Вместе с горсткой наших феллахов бродили мы по залам, пытаясь при свете луны разобрать высеченные на стенах надписи".
Это был первый большой, хорошо сохранившийся египетский храм, который увидел Шампольон. Записи, сделанные им в эту ночь и в последующие дни, свидетельствуют о том, какой интенсивной была жизнь этого человека в Египте; он был настолько подготовлен ко всему — в мыслях, мечтах, помыслах, — что ничто не казалось ему новым: везде он видел подтверждение своих взглядов, своих теорий.
Большинство спутников Шампольона видели в храме, воротах, колоннах и надписях всего-навсего камни и мертвые памятники. Необычные костюмы, в которые они облачились, были для них лишь забавой, а для Шампольона — самой жизнью. Все они остриглись наголо и повязали головы огромными тюрбанами. На них были тканные золотом шерстяные куртки и желтые сапоги. "Мы носим их ловко и с достоинством", — писал один из участников экспедиции, однако в его словах чувствуется еле уловимая ирония. Шампольон же, которого и в Гренобле, и в Париже называли египтянином, чувствовал себя в этом костюме — это подтверждают все его друзья — совершенно свободно.
Он занят не только дешифровкой и интерпретацией. Ему приходят в голову новые мысли, новые идеи. И, торжествуя, он доказывает Комиссии: этот храм вовсе не храм Исиды, как это утверждают, а храм Хатор, богини любви. Больше того — он вовсе не древний. Свой настоящий вид он приобрел лишь при Птолемеях, а окончательно был достроен римлянами. Восемнадцать столетий это сравнительно небольшой срок, ведь им предшествовали тридцать столетий истории Египта. Неизгладимое впечатление, которое храм произвел на Шампольона в ту памятную лунную ночь, не помешало ученому отметить, что, хотя этот памятник и представляет собой мастерское произведение зодчества, "скульптуры, служащие ему украшением, — самого худшего стиля". "Пусть Комиссия не обижается на мои слова, но барельефы храма в Дендера ужасны, это и не может быть иначе, ибо они принадлежат периоду упадка. Искусство скульптуры в те времена уже деградировало, что же касается зодчества — формы искусства, менее подверженной изменениям, — то оно еще сохранилось во вполне достойном египетских богов и восхищения последующих столетий виде".
Шампольон скончался три года спустя. Смерть его была преждевременной утратой для молодой науки египтологии. Он умер слишком рано и не увидел полного признания своих заслуг. Тотчас после его смерти появился ряд позорных, оскорбительных для наших чувств работ, в частности английских и немецких, в которых его система дешифровки, несмотря на совершенно очевидные положительные результаты, объявлялась продуктом чистой фантазии. Однако он был блестяще реабилитирован Рихардом Лепсиусом, который в 1866 году нашел так называемый Канопский декрет, тоже трехъязычный, полностью подтвердивший правильность метода Шампольона. Наконец, в 1896 году француз Ле Паж Ренуф в речи перед Королевским обществом в Лондоне отвел Шампольону то место, которое он заслужил, — это было сделано шестьдесят четыре года спустя после смерти ученого.
Шампольон открыл тайну египетской письменности. Теперь мог вступить в свои права заступ.
Глава 12 "СОРОК ВЕКОВ СМОТРЯТ НА ВАС…"
Эта книга — лишь общий обзор; мы идем от вершины к вершине, не имея возможности подолгу останавливаться на кропотливой деятельности кабинетных ученых, к заслугам которых следует отнести каталогизацию, разноску накопленного материала по рубрикам, а также смелые толкования текстов, плодотворные гипотезы и творческие предположения.
Великие открытия в области египтологии периода десятилетий, последовавших за дешифровкой иероглифов, осуществленной Шампольоном, связаны с именами четырех исследователей. Назовем их в той последовательности, которая определяется порядком нашего изложения: итальянец Бельцони собиратель, немец Лепсиус — классификатор, француз Мариэтт — хранитель, англичанин Питри — вычислитель и интерпретатор.
"Один из самых замечательных деятелей во всей истории египтологии" так называет археолог Говард Картер Джованни Баттиста Бельцони (1778–1823), который еще незадолго до своего приезда в Египет выступал как силач в лондонском цирке. Замечание Картера относится скорее к личности Бельцони, чем к его работе. Мы уже упоминали, что в истории археологии дилетанты сыграли выдающуюся роль. Но Бельцони был, пожалуй, среди них одним из наиболее странных.
Отпрыск почтенного римского рода, он родился в Падуе и должен был стать священником или монахом.
Не успев еще облачиться в рясу, он оказался замешанным в политических интригах и предпочел путешествию во всегда готовую к приему посетителей итальянскую тюрьму поездку в Лондон. Сохранилось сообщение о некоем итальянском гиганте и силаче, который "каждый вечер носит на импровизированной сцене целую группу мужчин". Несомненно, что в это время Бельцони был еще весьма далек от археологии. Возможно, впоследствии он изучал механику (впрочем, это могло быть и шарлатанством), но, во всяком случае, в 1815 году он пытается найти счастье в Египте, предлагая там механическое водяное колесо, которое якобы может заменить местным жителям четыре обычных водочерпальных колеса. Так или иначе, он, очевидно, был ловким человеком, ибо ему удается добиться разрешения продемонстрировать свою модель во дворце Мухаммеда Али, весьма опасного человека, который в то время находился еще на первых ступенях той лестницы успеха, продвигаясь по которой бедняк албанец, впоследствии торговец кофе, затем полководец и паша, стал властителем Египта, части Сирии и Аравии. Когда Бельдони прибыл к нему, Мухаммед Али уже десять лет занимал место изгнанного турецкого губернатора и был утвержденным Турцией пашой. Он дважды наголову разбил английские войска и учинил крупнейшую в истории резню; своим политическим разногласиям с мамелюками он положил конец, пригласив к себе в Каир на обед четыреста восемьдесят беев и перебив их всех там. Но, как бы то ни было, Мухаммед Али, в общем, как мы видели, человек, не чуждый прогрессу, не дал себя увлечь водяным колесом. Бельцони же тем временем успел при посредстве швейцарца Буркгардта, путешественника по Африке, представиться британскому генеральному консулу в Египте Солту и подрядился доставить гигантскую статую Рамсеса II, ныне хранящуюся в Британском музее, из Луксора в Александрию.
Последующие пять лет его жизни были отданы коллекционированию. Вначале он это делал для Солта, потом начал работать сам на себя. Он собирал все, что попадалось под руку: от скарабеев до обелисков. (Однажды один обелиск упал при транспортировке в Нил, он выудил его обратно.) Он делал это в те годы, когда Египет, самое гигантское кладбище древностей на свете, подвергался хищническому разграблению, когда без малейшего колебания античное золото добывали теми же хищническими методами, какими пару лет спустя стали добывать природное золото в Калифорнии и Австралии. Законов не существовало, да если они и были, на них никто не обращал внимания; не раз случалось, что разногласия разрешались силой оружия.
Нет ничего удивительного в том, что страсть к коллекционированию, в основе которого лежит ценность предметов, а не познавательная или научная их значимость, привела не столько к открытиям, сколько к разрушениям, и принесла больше вреда, чем знаний. И хотя Бельцони успел, как это довольно быстро выяснилось, несмотря на превратности жизни, приобрести кое-какие специальные знания, он тоже не признавал никаких препятствий в безудержной охоте за тем или иным предметом: взламывая запечатанные камеры царских гробниц с помощью стенобитных орудий, Бельцони пользовался такими методами, от которых у современных археологов, как говорится, волосы дыбом встают, и было бы непонятно, как мог такой археолог, как Говард Картер, сказать, что следует отдать должное и его раскопкам, и "тем методам, к которым он прибегал", если не учитывать того факта, что Бельцони был сыном своего века и что он первым осуществил в столь больших масштабах два дела, которым было суждено стать первыми звеньями цепи археологических исследований, не завершенных еще и до сих пор.
В октябре 1817 года Бельцони обнаружил в долине Бибан аль-Мулук, близ Фив, рядом с другими гробницами огромную — длиной в сто метров — гробницу Сети I, предшественника великого Рамсеса, победителя ливийцев, сирийцев и хеттов. Великолепный, но пустой алебастровый саркофаг, который он нашел во время раскопок, хранится в музее Джона Сона в Лондоне. (Саркофаг был пуст уже три тысячи лет. Где находилась сама мумия, Бельцони не было суждено узнать.) С находкой этой гробницы начались важнейшие открытия в Долине царей, достигшие своего апогея в нашем столетии.
А полгода спустя, 2 марта 1818 года, как об этом сообщает сегодня надпись над входом, итальянец открыл вторую по величине пирамиду Гизэ пирамиду Хефрена — и проник в ее погребальную камеру. Эти первые исследования положили основание науке о пирамидах, самых монументальных сооружениях древности. Теперь сквозь гигантские геометрические фигуры начали все яснее вырисовываться из тьмы веков черты древнего человеческого общества.
Бельцони не был первым искателем кладов в Долине царей. Он не был также первым, кто пытался найти вход в пирамиды. Но он, в значительно большей степени искатель золота, чем истины, был первым, кто дважды — в погребальной камере и в пирамиде — затронул те археологические проблемы, которые и поныне еще не разгаданы до конца.
В 1820 году он отправился в Англию и открыл выставку в Лондоне на Пиккадилли в построенном за восемь лет до этого Египетском зале. Самыми значительными экспонатами этой выставки были алебастровый саркофаг и модель гробницы Сети I. Несколькими годами позже Бельцони умер во время научно-исследовательской поездки по Тимбукту. И пусть ему будет прощено то, что он, пожелав увековечить свое имя в надписи, сделанной им на троне Рамсеса II в Фивах, совершил тем самым наряду со многими весьма достойными деяниями проступок, который положил начало дурной традиции, подхваченной целыми поколениями английских, французских и немецких "коллекционеров", не порвавших с ней, к вящему неудовольствию археологов, и до сих пор.
Бельцони был великим коллекционером. Наступало время классификатора.
Александру Гумбольдту, путешественнику и естествоиспытателю, мы обязаны тем, что по его инициативе и под его влиянием король Пруссии Фридрих Вильгельм IV (более склонный обычно к прожектам, чем к делам) пожертвовал значительную сумму на снаряжение научной экспедиции в Египет. Руководителем этой экспедиции был назначен Рихард Лепсиус, которому в ту пору исполнился тридцать один год. Выбор был на редкость удачным.
Лепсиус родился в Наумбурге в 1810 году. Он изучал филологию и сравнительное языкознание, в двадцать три года получил первую ученую степень, а в возрасте тридцати двух лет был назначен экстраординарным профессором в Берлине. Годом позже после двухлетней подготовки он отправился в свое путешествие.
Экспедиция была рассчитана на три года — с 1843 по 1845. Тем самым в ее распоряжении оказалось то, чего были лишены предшествующие ей экспедиции, запас времени. Она не гналась за легкой добычей, уделяя особое внимание изучению и регистрации, и имела возможность везде, где это сулило успех, заняться раскопками. Так она пробыла целых шесть месяцев в Мемфисе и семь в Фивах. (Если вспомнить, что в наше время в одной только гробнице Тутанхамона работы велись несколько лет, то время, которое было затрачено Лепсиусом на изучение всех этих бесчисленных памятников, может показаться не столь уж значительным, но в те годы это был очень большой срок.)
Первым успехом Лепсиуса было открытие так называемого Древнего царства в его многочисленных памятниках. (Древнее царство — ранняя эпоха истории Египта, датируемая примерно 2900–2270 годами до н. э., время постройки пирамид.) Он нашел следы и остатки более тридцати неизвестных до тех пор пирамид, увеличив тем самым общее их число до 67. Кроме того, он открыл новый, до этого неизвестный вид гробниц, так называемые мастаба — гробницы знати времен Древнего царства, — и исследовал в общей сложности сто тридцать таких гробниц. В Телль-Амарне перед ним предстала в общих чертах фигура реформатора религии Аменофиса (Аменхотепа) IV. Лепсиус первый измерил Долину царей, снял копии с настенных рельефов в храмах, с бесчисленных надписей и, что особенно ценно, с картушей с царскими именами. Он дошел в своих исследованиях, как он сам думал, до четвертого тысячелетия до н. э. (мы сегодня знаем, что до третьего); он был первым, кто систематизировал все виденное и сумел разглядеть египетскую историю, прошлое Египта там, где другие видели только нагромождение руин.
Плодом экспедиции явились сокровища Египетского музея в Берлине, результатом изучения источников — бесчисленные публикации, начиная с двадцатитомного роскошного издания "Памятники Египта и Эфиопии" ("Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien") — внука знаменитого "Описания Египта" — и кончая монографиями по самым разнообразным проблемам. Когда он в 1884 году скончался (ему было тогда 74 года), его биограф, крупный египтолог, но бездарный романист, чьи романы "Уарда" и "Дочь фараона" можно было еще в конце прошлого — начале этого века найти в любой библиотеке, Георг Эберс имел все основания сказать, что Рихард Лепсиус был, в сущности, основателем современной научной египтологии.
Это почетное место великому классификатору обеспечили в первую очередь две его публикации: появившаяся в Берлине в 1849 году "Египетская хронология" и изданная также в Берлине, но годом позже "Книга египетских фараонов". Как и у всех древних народов, у египтян не существовало твердого летосчисления, начинающегося с какого-нибудь определенного исторического события; отсутствовало у них и чувство историзма. Но лишь вера в непрерывный прогресс, присущая прошедшему веку, который сам себя рассматривал как вершину всех времен, заставляла видеть в этом факте примитивность. Освальд Шпенглер был первым, кто увидел в этом недостатке всего лишь характерную черту мировоззрения древних народов, чье представление о времени было просто иным по сравнению с нашим. Там, где нет летосчисления, нет и письменной истории. Мы не знаем египетских историков — их нет, есть только весьма неполные анналы, которые содержат отрывочные упоминания о прошлом, как правило, не более достоверные, чем, скажем, наши легенды и сказки. Представьте себе, что нам надо было бы более или менее точно восстановить хронологию ранней западноевропейской истории по надписям на наших общественных зданиях, по текстам отцов церкви и сказкам братьев Гримм! Примерно такую же задачу должны были разрешить археологи, когда они впервые попытались восстановить хронологию египетской истории. Остановимся, хотя бы коротко, на этих попытках — они дают великолепное представление о том, какой проницательностью, каким остроумием нужно было обладать, чтобы по отдельным данным реконструировать историю четырех тысячелетий. В результате этих попыток мы сегодня гораздо лучше разбираемся в египетской хронологии, чем, допустим, греки (например, значительно лучше, чем Геродот, который посетил Египет почти две с половиной тысячи лет тому назад). Чтобы вновь не возвращаться к этой теме, мы не будем останавливаться на выводах, к которым пришел в этом вопросе в 1849 году Лепсиус, и на выводах его предшественников.
Хотя ко всем египетским источникам необходимо было с самого начала подойти с осторожностью, первой отправной точкой исследования стал труд одного египетского жреца Манефона, который примерно за триста лет до н. э. во время царствования двух первых Птолемеев (следовательно, вскоре после смерти Александра Македонского) составил на греческом языке историю своей страны — "Историю Египта".
Этот труд полностью не сохранился. Мы знаем его только в общих чертах, по пересказам и отрывкам, сохранившимся у Юлия Африкана, Евсевия, у Иосифа Флавия. Манефон разделил бесконечную вереницу фараонов на 30 династий, то есть ввел то подразделение, которое применяется еще и поныне, хотя нам уже давно известны все ошибки Манефона, книгу которого современный историк Египта американец Дж. Г. Брэстед назвал собранием сказок для детей.
Оценка эта, несомненно, сурова, но надо иметь в виду, что у Манефона не было предшественников и что перед лицом ушедших в прошлое трех тысячелетии он находился примерно в том же положении, в каком очутился бы современный греческий историк, которому предстояло бы написать на основании преданий и легенд историю Греции начиная с Троянской войны. Список Манефона был на протяжении десятилетий единственной отправной точкой для археологов. (Необходимо оговориться: слово "археология" по-прежнему является общим научным термином для всей науки о древностях, но, поскольку египетских памятников и надписей было так много, что они требовали специального изучения, со времен Лепсиуса ввели термин "египтология"; точно так же мы пользуемся сейчас термином "ассириология", имея в виду археологические исследования Двуречья.) Насколько западноевропейские ученые отошли от Манефона и его датировок, можно видеть из нижеследующего перечня. В нем приведены данные различных ученых о том, когда произошло объединение Египта под властью царя Менеса (Мины), то есть о годе, с которого, собственно, и начинается история Египта:
Шампольон — 5867 год до н. э.;
Лесюер — 5770; Бек — 5702;
Унгер — 5623;
Мариэтт — 5004;
Бругш — 4455;
Лаут — 4157;
Шаба 4000;
Лепсиус — 3892;
Бунзен — 3623;
Эд. Мейер — 3180;
Вилькинсон — 2320;
Пальмер — 2224.
В наше время, однако, эту дату снова отодвигают в более далекое прошлое: Брэстед относит ее к 3400 году, немец Георг Штейндорф — к 3200 году. По самым новейшим данным, это событие относится к 2900 году.
Совершенно очевидно, что всякая датировка тем сложнее, чем более отдалены от нашей эпохи те или иные события. Для Новой истории Египта (под нею мы подразумевали историю Нового царства и так называемого Позднего времени, которая успела уже закончиться к тому времени, когда Цезарь делил ложе с Клеопатрой) можно было воспользоваться соответствующими датами из ассиро-вавилонской, персидской, еврейской и греческой истории. (Еще в 1859 году Лепсиус писал о "некоторых точках соприкосновения египетской, греческой и римской хронологии".)
Новые возможности для сравнения, а следовательно, и для уточнения хронологии наиболее отдаленной эпохи неожиданно представились в 1843 году, когда в парижской Национальной библиотеке появился так называемый Список царей из Карнака, который содержал перечень египетских властителей с древнейших времен и до XVIII династии. В Египетском музее Каира мы можем сегодня увидеть найденный в одной из гробниц Список царей из Саккара, на одной стороне которого содержится гимн Осирису, богу подземного царства, а на другой — молитва писца Тунри, обращенная к пятидесяти восьми царям, имена которых расположены в два ряда. Первым из них назван Миебис, последним Рамсес Великий. Еще большее значение для египтологии имел знаменитый Список царей из Абидоса. В одной галерее храма Сети мы видим Сети I и Рамсеса II, в то время еще наследника престола. Они воздают почести своим предкам (Сети держит в руках курильницу). Имена этих предков — их не менее семидесяти шести — приведены тут же в два столбца. А сколько для них заготовлено хлеба, пива, мяса, дичи и прочей снеди, какое множество самых различных жертвоприношений! Было ясно, что все это дает материал для сравнения и сверки, но этого еще недостаточно для точного определения дат. Имелись, однако, отдельные сведения, рассыпанные во множестве по самым различным местам; это были сведения о годах царствования некоторых царей, о длительности того или иного похода, о времени постройки того или иного храма. Все это, а также подсчет минимального времени царствования всех царей послужило основой для воссоздания хронологии египетской истории.
Однако первые достоверные даты удалось установить благодаря кое-чему более древнему, чем сам Египет, более древнему, чем человеческая история и даже чем сам человек: благодаря движению светил.
Египтяне имели свой календарь; они пользовались им с древнейших времен для вычисления сроков разлива Нила, от которых зависело все существование страны. Это был единственный в какой-то степени пригодный календарь древности, хотя, как мы это увидим далее, и не первый, несмотря на то что введен он был, как установил Эдуард Мейер, в 4241 году до н. э. Надо заметить, что этот календарь послужил основой для введенного в Риме в 46 году до н. э. юлианского календаря, который достался от римлян в наследство Западу и лишь в 1582 году н. э. был заменен так называемым григорианским календарем.
Археологи обратились за советом к математикам и астрономам. Они передали им все расшифрованные иероглифические материалы, в которых имелись хоть какие-нибудь упоминания о небесных явлениях, о движении светил. В результате, опираясь на сообщения о появлении Сириуса (1 тога — 19 июля с появлением на небе Сириуса в Египте начинался новый год), удалось довольно точно приурочить начало царствования XVII династии к 1580 году до н. э. и таким же образом определить, что начало царствования XII династии приходится примерно на 2000 год до н. э. (с возможным отклонением в три-четыре года).
Так были найдены отправные точки. Теперь можно было заняться подгонкой и размещением отдельных царствований, даты которых во многих случаях были известны. Удалось установить, что сроки царствования некоторых династий, приведеные у Манефона, были невероятно растянуты, нередко, как это известно сегодня, чуть ли не вдвое по сравнению с действительностью. Теперь, восстановив, так сказать, спинной хребет этих трех тысячелетий, установив хронологию, первый, в какой-то степени приближающийся к достоверному вариант которой был создан классификатором Лепсиусом, можно было приступить к воссозданию истории Египта.
Для того чтобы читатель мог лучше представить себе всю связь событий, мы приводим здесь кратчайший обзор истории страны на Ниле. (Лучшей историей Египта и поныне остается книга американского историка Брэстеда "История Египта" — "A History of Egypt".)
Египет — страна речной культуры. Вслед за возникновением первых политических объединений в дельте Нила возникло Северное царство, а между Мемфисом (Каир) и первым нильским порогом — Южное царство. С объединением этих двух царств, состоявшимся примерно около 2900 года до н. э. при царе Менесе (Мине) — основателе первой общеегипетской династии, — и начинается, собственно, история Египта. Для большего удобства обзора многочисленные последующие династии объединены в большие группы, которым дали название царств. Что же касается дат, то они, в особенности те, которые относятся к ранней эпохе, и поныне еще не отличаются особой точностью, поэтому при датировке начального периода египетской истории не исключены ошибки и расхождения иной раз и в сто лет. В датировке и периодизации ранней эпохи, вплоть до истории Нового царства, мы следуем за немецким египтологом Георгом Штейндорфом. В последующем изложении используется подходящая для данной цели общая периодизация, но в датах династий мы следуем за тем же автором.
Древнее царство (2900–2270 годы до н. э.) — эпоха правления I–VI династий. Это время появления первых ростков цивилизации с ее первыми законами, с ее религией, письменностью и формированием литературного языка. Это время строителей пирамид в Гизэ, царей: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура), принадлежавших к IV династии.
Первый переходный период (2270–2100 годы до н. э.) начинается после катастрофического распада Древнего царства (в Мемфисе еще сохраняется призрачное царство) и, быть может, является переходным этапом к своего рода феодализму. За это время сменилось четыре династии, с VII по Х и около тридцати царей.
Среднее царство (2100–1700 годы до н. э.) было основано Фиванскими правителями, которые свергли Гераклеопольских царей и вновь объединили страну. Этот период — время царствования XI–XIII династий, эпоха расцвета культуры и созидания, время правления четырех властителей, носивших имя Аменемхет, и трех — по имени Сесострис (Сенусерт), период создания многих выдающихся произведений зодчества.
Второй переходный период (1700–1555 годы до н. э.) проходит под знаком господства гиксосов; это время царствования XIV–XVI династий. Кочевые племена гиксосов (царей-пастухов) вторгаются в пределы Египта, покоряют его и удерживают в своих руках на протяжении целого столетия, до тех пор, пока их не изгоняют правители Фив (XVII династия). Прежде считали, что изгнание гиксосов послужило основой для библейского сказания об исходе детей Израиля из Египта. Теперь эта гипотеза признана неверной.
Новое царство (1555–1090 годы до н. э.) — время наибольшего усиления политической власти, эпоха "цезаристских" фараонов XVIII–XX династий. Завоевания Тутмеса III проводят к установлению связей с Передней Азией; он облагает данью покоренные народы, иноземные богатства рекой текут в Египет. Воздвигаются роскошные здания. Аменофис (Аменхотеп) III устанавливает связь с царями Вавилона и Ассирии. Его преемник Аменофис (Аменхотеп) IV (его женой была Нефертити) был великим реформатором религии: вместо прежнего культа бога Амона он ввел культ солнца — Атона — и с того времени начал именовать себя Эхнатоном. Он основал в песках пустыни новую столицу — на смену Фивам пришла Телль-Амарна. Но новая религия не пережила своего основателя — она погибла во время гражданских войн. При зяте Аменофиса — Тутанхамоне царская резиденция была вновь перенесена в Фивы.
Но своего наивысшего политического расцвета Египет достиг при царях XIX династии. Рамсес II, позднее прозванный Великим, царствовал тридцать шесть лет. Памятниками его могущества являются воздвигнутые им монументальные, вернее колоссальные, строения в Абу-Симбеле, Карнаке, Луксоре, Абидосе, Мемфисе.
После его смерти наступает период анархии. Рамсес III, царствование которого продолжалось двадцать один год, вновь устанавливает в стране мир, покой и порядок. Затем Египет подпадает под власть жрецов Амона.
Третий переходный период (1090-712 годы до н. э.) — период успехов и неудач, подъема и упадка. Из царей XXI–XXIV династий может представить интерес покоритель Иерусалима Шешонк I, разграбивший храм Соломона. При XXIV династии весь Египет временно подпал под власть эфиопов.
Позднее время (712–525 годы до н. э.). При XXV династии Египет был завоеван ассирийцами под предводительством Асархаддона. XXVI династии удалось еще раз объединить Египет (но без Эфиопии). Связь с Грецией оживила торговые отношения и культуру. Последний из царей этой династии — Псаметих III — был побежден персидским царем Камбизом у Пелузия; Египет превращается в персидскую провинцию. На этом в 525 году до н. э. история Древнего Египта, история египетской цивилизации, заканчивается.
Персидское господство (525–332 годы до н. э.) было утверждено при Камбизе, Дарии I Гистаспе и Ксерксе I; при Дарии II оно приходит в упадок. Египетская культура в этот период живет традицией, страна становится добычей более сильных народов.
Греко-римское господство (332 год до н. э. — 638 год н. э.). В 332 году Александр Македонский завоевал Египет и основал Александрию, которая стала центром эллинистической культуры. Держава Александра распадается. При Птолемее III Египет вновь обретает политическую самостоятельность. Последующие два века вплоть до Рождества Христова заполнены династическими распрями Птолемеев. Египет все более подпадает под влияние Рима. При поздних цезарях сохраняется лишь видимость национальной независимости египетского государства, в действительности же Египет становится римской провинцией, эксплуатируемой колонией, житницей Римской империи.
Христианство рано получает распространение в Египте. С 640 года н. э. Египет попадает в полную зависимость от арабской державы, позднее — под власть Османской империи и в европейскую историю входит уже во времена похода Наполеона.
В 1850 году Огюст Мариэтт, тридцатилетний французский археолог, поднялся на цитадель города Каира. Едва прибыв в Египет, он прежде всего хотел насладиться видом этого города, что настойчиво рекомендовалось всем чужеземцам. Но он увидел не просто город — он увидел далекое прошлое, ибо его внимательный глаз сумел разглядеть за кондитерскими украшениями минаретов в силуэтах грандиозных монументов, окаймлявших границу западной пустыни, исчезнувший древний мир. Он прибыл в Египет, чтобы выполнить одно небольшое поручение, но то, что он увидел с цитадели, определило его дальнейшую судьбу.
Мариэтт родился в 1821 году в Булони и рано увлекся египтологией. В 1849 году он был зачислен ассистентом в Луврский музей в Париже и послан в Каир для приобретения кое-каких папирусов. Приехав в Египет и увидев хищническую распродажу древностей, он потерял интерес к торгам и переторжкам с антикварами — его заинтересовало совершенно иное. Мариэтт видел, что Египет, сам того не ведая, превратился в колоссальный аукцион по распродаже древностей. Кто бы ни ступал на египетскую землю — ученые, туристы, кладоискатели — все, кто в силу тех или иных причин приезжал в Египет, были, казалось, одержимы лишь одной страстью: коллекционированием древностей, то есть, попросту говоря, занимались тем, что растаскивали эти уникальные памятники, вывозя их за границу. А местные жители помогали им. Рабочие, участвовавшие в археологических раскопках, припрятывали все мелкие находки, а потом продавали их иностранцам, которые были "так глупы", что платили за все это чистым золотом. К этому еще добавлялись разрушения:
раскопки вели, заботясь, как правило, более о материальном успехе, чем о научном. Несмотря на пример Лепсиуса, в ходу были вновь те же методы, что и во времена Бельцони. И Мариэтт, которого так и подмывало заняться исследованиями и раскопками, понял, что самая важная задача, которую необходимо выполнить для будущего археологической науки, — сохранить египетские древности. Приняв решение навсегда остаться в Египте, где, как он думал, только его личное присутствие могло гарантировать защиту и сохранность древних памятников, он даже в мечтах не мог предвидеть, какой успех выпадет на его долю. Он не подозревал, что в течение всего лишь нескольких лет ему удастся создать самый большой в мире египетский музей.
Но и Мариэтту, третьему великому египтологу прошлого столетия, прежде чем заняться хранением и собиранием, было суждено сделать открытие.
Вскоре после того, как Мариэтт приехал в Египет, он обратил внимание на один странный факт. В роскошных садах сановников, так же как и перед зданиями новых храмов в Александрии, в Каире, в Гизэ, можно было увидеть поставленных для украшения каменных сфинксов, чрезвычайно похожих друг на друга. Мариэтт был первым, кто задумался над тем, откуда они были доставлены, где они находились первоначально.
Случай играет важную роль во всех открытиях. Прогуливаясь по развалинам в Саккара, Мариэтт увидел напротив ступенчатой пирамиды еще одного сфинкса: на этот раз из-под песка виднелась одна лишь голова. Мариэтт был, разумеется, не первым, кто его увидел, но он был первым, кто заметил, что этот сфинкс — точная копия тех, которые украшали сады Каира и Александрии. И когда он нашел одну надпись, содержавшую сообщение о жизни и смерти Аписа, священного быка Мемфиса, то все прочитанное, услышанное, увиденное слилось в его сознании в одну фантастическую картину таинственной, бесследно пропавшей аллеи сфинксов, о существовании которой было давно известно, но местонахождения которой никто не знал. Он нанял несколько землекопов арабов, да и сам взялся за заступ, и в результате нашел более ста сорока сфинксов. Сегодня мы называем основную часть сооружений, которые находились в Саккара — и на поверхности и под песком, — Серапеумом или Серапейоном, по имени бога Сераписа. Аллея сфинксов соединяла два храма. Обнаружив эти статуи сфинксов (кроме них здесь было найдено немало остатков фундаментов; сами же стоявшие на них человекольвы были украдены и увезены в разные места), высвободив их из-под перекатывающихся волн песка — ныне весь Серапеум уже вновь засыпан песком, — Мариэтт одновременно открыл и то, что было соединено с аллеей сфинксов: гробницы священных быков Аписов. Благодаря этому открытию удалось поближе ознакомиться с некоторыми формами одного из египетских религиозных культов, поклонения, показавшегося чуждым и непонятным не только нам, но и древним грекам, которые в своих путевых записках специально подчеркивали его необычность.
Египетские боги сравнительно поздно воплотились в образах людей. Первоначально древние египтяне обожествляли растения, животных. Богиню Хатор олицетворяла смоковница, бог Нефертум почитался в виде цветка лотоса, богиня Нейт — в виде щита с двумя скрещенными стрелами; богов олицетворяли те или иные животные: бога Хнума — баран, бога Гора — сокол, бога Тога — ибис, Собека — крокодил, богиню города Бубастиса — кошка, богиню города Буто змея.
Но наряду с этими животными, олицетворявшими богов, почитались те или иные животные, которые были отмечены определенными признаками. Наиболее почитаемым из них был Апис — священный бык Мемфиса, которого египтяне считали слугой бога Птаха; ему воздавались самые пышные почести, которых когда-либо удостаивалось какое-либо животное.
Местопребыванием этого священного животного служил храм, ухаживали за быком жрецы. Когда бык околевал, его бальзамировали и хоронили со всей торжественностью, а его место занимал другой бык, с теми же самыми внешними признаками, что и его предшественник. Так возникали целые кладбища, достойные памяти богов и царей; к числу таких кладбищ животных принадлежат кладбища кошек в Бубастисе и Бени-Хасане, кладбище крокодилов в Омбосе, кладбище ибисов в Ашмунене, кладбище баранов в Элефантине. Эти культы, распространенные во всем Египте, претерпевали на протяжении египетской истории бесконечные изменения, то ярко вспыхивая, то угасая на целые столетия. (И если кому-либо все это покажется странным и даже в какой-то степени смешным, пусть он представит себе, каким абсурдным должен казаться человеку иной цивилизации христианский культ непорочного зачатия.)
Мариэтт стоял на кладбище священных быков Аписов. Так же как в усыпальницах египетской знати, перед входом находился храм. Наклонный ход вел в склеп, в котором покоились останки всех священных быков, начиная со времен Рамсеса Великого. Погребальные камеры были расположены по коридору, длина которого достигала ста метров. При последующем расширении склепа, продолжавшемся вплоть до эпохи Птолемеев, коридор был удлинен до 350 метров. Какой поразительный культ!
При свете зажженных факелов Мариэтт шагал от одной погребальной камеры к другой; позади него толпились рабочие, которые едва отваживались говорить даже шепотом. Каменные саркофаги, в которых покоились быки, были сделаны из цельных отполированных плит черного или красного гранита высотой более чем в три метра, шириной более двух метров и длиной не менее четырех (вес такого каменного блока исчисляется примерно в 65 тонн).
У многих саркофагов крышки были сдвинуты. Мариэтт и его спутники нашли только два нетронутых саркофага; там были украшения. Все остальные оказались разграбленными. Когда? Кем? Имена грабителей остались неизвестны, можно только сказать: они были. Это с болью и яростью вынуждены были нередко и в дальнейшем констатировать археологи. Сыпучие пески, погребающие под собой храмы, гробницы и даже целые города, заносили все следы.
Мариэтт проник в темную область исчезнувших культов. Ему было суждено заглянуть (мы не имеем возможности подробно останавливаться на его исследованиях в Эдфу, Карнаке и Деир аль-Бахари) в повседневную жизнь древних египтян — богатую и красочную.
Сегодня турист, выйдя из гробниц быков, отдыхает на террасе Мариэтт-хауз; направо ступенчатая пирамида, налево Серапеум; он потягивает арабский кофе и внимает словам велеречивых проводников, подготавливающих его к восприятию того мира, который его ожидает.
Неподалеку от Серапеума Мариэтт обнаружил могилу дворцового чиновника и крупного землевладельца Ти. Если к склепу быков прикасались еще во времена Птолемеев, когда его расширяли, устанавливая новые саркофаги (кстати говоря, работа эта была прервана так внезапно, что один большой черный гранитный саркофаг так и остался лежать у порога — его не донесли до места назначения), то гробница вельможи Ти была чрезвычайно древней: ее построили в 2600 году до н. э., когда цари Хеопс, Хефрен и Микерин выстроили свои пирамиды. Ни одно из ранее открытых захоронений не давало такого реального представления о жизни древних египтян, как эта гробница. Мариэтт был достаточно осведомлен о том, как хоронили древних египтян, и поэтому надеялся обнаружить здесь кроме украшений предметы домашнего обихода, статуи и "рассказывающие" рельефы. Но то, что он увидел в залах и коридорах этой гробницы, превосходило по богатству подробностей повседневной жизни древних египтян все до сих пор найденное.
Богач Ти постарался, чтобы и после смерти в его распоряжении оказалось все, причем буквально все, что окружало его при жизни. В центре всех изображений — он сам, богатый вельможа Ти. Он в три-четыре раза выше всех окружающих — рабов, простолюдинов, сами пропорции его фигуры должны подчеркивать его власть и могущество перед униженными и слабыми.
В весьма стилизованных стенных росписях и рельефах, хотя и линейных, но тем не менее всегда подробно детализированных, нашло свое отражение не только праздное времяпрепровождение богача. Мы видим процесс изготовления льна, видим косцов за работой, погонщиков ослов, молотьбу, веяние; видим изображение всего процесса постройки корабля — таким, каким он был четыре с половиной тысячелетия назад: обрубку сучьев, обработку досок, работу со сверлом, стамеской, которые, кстати говоря, изготовлялись в те времена не из железа, а из меди. Совершенно отчетливо различаем всевозможные орудия труда и среди них пилу, топор и даже дрель. Мы видим золотоплавильщиков и узнаем, как в те времена задували печи для плавки золота; перед нами — скульпторы и каменотесы, рабочие-кожевники за работой; мы видим также, какой властью был наделен такой чиновник, как господин Ти, — это подчеркивается везде. Стражники сгоняют к его дому деревенских старост для расчетов — они волокут их по земле, душат, избивают; перед нами бесконечная вереница женщин, несущих дары, бесчисленное множество слуг, которые тащат жертвенных животных и здесь же закалывают их (изображение так детализировано, что мы узнаем, какими приемами закалывали быков сорок пять столетий назад). Видим мы и как жил господин Ти — словно смотрим в окно его дома: господин Ти у стола, господин Ти со своей супругой, со своей семьей. Вот господин Ти за ловлей птиц, господин Ти с семьей путешествует по дельте Нила, господин Ти — и это один из самых красивых рельефов — едет сквозь заросли тростника. Стоя во весь рост, он едет в лодке; измученные гребцы сгибаются, налегая на весла. Вверху в зарослях летают птицы, в воде вокруг лодки кишмя кишат рыба и всякая прочая нильская живность. Одна лодка плывет впереди. Команда занята охотой — сидящие в лодке люди нацелили гарпуны, готовясь вонзить их в мокрые, блестящие спины гиппопотамов.
Неоценимое значение этого рельефа для времени Мариэтта меньше всего определялось его художественными достоинствами — оно определялось тем, что эти изображения давали подробнейшее представление о каждодневной, будничной жизни древних египтян, показывая не только, что они делали, но и как они это делали. (То же представление дает и гробница Птахотепа, крупного государственного чиновника, а также открытая сорок лет спустя гробница Мерерука; все они находились близ Серапеума.) Ознакомление с их, правда, очень старательно разработанным, но по своему техническому уровню еще весьма примитивным способом преодоления материальных трудностей жизни, в основе которого лежало применение рабской силы, заставляет нас проникнуться еще большим уважением к великому труду строителей пирамид, действительно загадочному для времен Мариэтта. В течение нескольких десятилетий в прессе и даже в специальных трудах неоднократно высказывались самые невероятные догадки о том, с помощью каких неизвестных нам приспособлений египтяне воздвигали свои циклопические сооружения. Тайну, которая не была тайной, разрешил человек, который в те времена, когда Мариэтт производил свои раскопки в Серапеуме, еще только появился на свет божий.
Через восемь лет после того, как Мариэтт прибыл в Египет и с вершины цитадели в Каире впервые увидел египетские древности, — все эти восемь лет он на каждом шагу сталкивался с распродажей египетских сокровищ, но вынужден был лишь беспомощно взирать на это, — он, который прибыл в страну на Ниле лишь для того, чтобы приобрести несколько папирусов, сумел наконец осуществить то, что представлялось ему делом первостепенной важности: основать в Булаке Египетский музей. Немного позже вице-король назначил его директором Управления по делам египетских древностей и главным инспектором всех раскопок.
В 1891 году музей был перенесен в Гизэ, а в 1902 году он получил постоянное помещение в Каире, неподалеку от большого моста через Нил, построенного Дурньоном в том "античном" стиле, который сформировался на рубеже XIX–XX вв. Музей был не только собранием экспонатов, он превратился в своего рода контрольный пункт. С момента его организации все находки древностей, сделанные в Египте — случайно или в результате планомерных раскопок, — стали рассматриваться как государственная собственность. Не являлись исключением даже те почетные подарки, которые вручались подлинным исследователям — археологам и другим ученым. Тем самым француз Мариэтт прекратил хищническую распродажу египетских древностей и сохранил для Египта то, что принадлежало стране по праву. Благодарный Египет воздвиг Мариэтту памятник, он установлен в саду Каирского музея; сюда же был перевезен и прах ученого, покоящийся в древнем гранитном саркофаге.
Дело Мариэтта продолжало жить. При его преемниках — директорах Гребо, де Моргане, Ларэ и в особенности Гастоне Масперо — проводились ежегодные археологические экспедиции. Во времена директорства Масперо музей оказался втянутым в громкое уголовное дело. Впрочем, эта история относится уже к главе о гробницах царей. Но прежде чем мы перейдем к ней, необходимо остановиться на деятельности еще одного человека, англичанина по национальности, который был четвертым в ряду великих создателей египтологии и прибыл в Египет тогда, когда Мариэтт уже одной ногой стоял в могиле.
Глава 13 ПИТРИ И ГРОБНИЦА АМЕНЕМХЕТА
Удивительно, как много рано развившихся дарований проявили себя впоследствии именно в области археологии! Шлиман, еще будучи учеником в лавке, овладевает чуть ли не полдюжиной языков; Шампольон в возрасте двенадцати лет высказывает самостоятельные суждения по политическим вопросам; Рич привлекает к себе всеобщее внимание уже на девятом году жизни, а об Уильяме Матью Флиндерсе Питри, которому было суждено стать самым выдающимся вычислителем и интерпретатором среди археологов, рассказывается в биографической заметке, напечатанной в одной из газет, что он уже в возрасте десяти лет проявлял совершенно исключительный интерес к раскопкам в Египте. Тогда же он высказал мысль, которая впоследствии стала основной в его научной деятельности: необходимо, соблюдая разумное соотношение между уважением к древностям и жаждой открытий, слой за слоем "просеять" землю Египта для того, чтобы не только найти все, что она скрывает в своих глубинах, но и получить представление о первоначальном расположении всех находок. Заметка эта (мы привели здесь ее лишь в качестве курьеза, так как проверить сообщаемые в ней факты не удалось) была опубликована в Лондоне в 1892 году, в том самом году, когда Флиндерс Питри был назначен профессором Университи-колледжа. (К этому времени ему уже исполнилось 39 лет — едва ли можно считать такой возраст слишком ранним для должности профессора.)
Однако независимо от достоверности этих сведений несомненно одно: уже в ранние юношеские годы у Питри появился, помимо интереса к древностям, целый ряд склонностей, которые редко встречаются в подобном сочетании и которые впоследствии сослужили ему немалую службу. Он занимался естественными науками, испытывал значительно больший, чем обычный дилетантский, интерес к химии и буквально возводил в культ ту науку, которая стала со времен Галилея основой всех точных наук — математику. Одновременно он бродил по лондонским антикварным лавкам, проверяя свои теории на самих предметах древности, и еще в школьные годы жаловался на то, что в области археологии, в частности египтологии, ощущается недостаток в настоящих фундаментальных трудах. Став взрослым, он восполнил этот пробел: его научное наследие насчитывает 90 томов. Его трехтомная "История Египта…" (1894–1905), исследование, отличающееся удивительным богатством содержания, было первым в ряду последующих монографий, посвященных этой теме, а большой отчет "Десять лет раскопок в Египте, 1881–1891", вышедший в свет в 1892 году, еще и сегодня нельзя читать без волнения.
Питри родился 3 июня 1853 года в Лондоне; свои исследования по древней истории он начал в Англии и первую печатную работу посвятил неолитической стоянке в Стонхендже. В 1880 году в возрасте 27 лет он отправился в Египет, где занимался раскопками целых сорок шесть лет, правда, с некоторыми перерывами, — вплоть до 1926 года.
Он находит греческую колонию Навкратис и раскапывает среди холмов мусора в Небеше храм Рамсеса. Около Кантары (некогда там проходила большая военная дорога из Египта в Сирию, а теперь приземляются самолеты) он раскапывает под могильными холмами военный лагерь Псаметиха I и устанавливает, что эта местность и есть греческая Дафна. В конце концов он оказывается там, где за двести лет до него, в 1672 году, стоял первый серьезный европейский исследователь этих мест, ученый Ванслеб, священник из Эрфурта, — перед остатками двух колоссальных, сделанных из песчаника статуй царя Аменофиса III, о которых упоминал еще Геродот.
Колоссами Мемнона называли их древние греки. Когда Эос появлялась на горизонте, ее сын Мемнон начинал стонать и жаловаться, и звуки его голоса, в котором не было ничего человеческого, до глубины души волновали всех, кому приходилось их услышать. Об этом сообщали Страбон и Павсаний. Много лет спустя жалобу Мемнона захотели послушать римский император Адриан (130 год до н. э.) и его супруга Сабина; звуки, которые они услышали, потрясли их до глубины души. Впоследствии Септимий Север приказал восстановить верхнюю часть статуй с помощью плит из песчаника, и тогда звук пропал. Мы и до сих пор не имеем еще достаточно ясного научного объяснения этого явления, хотя в былом существовании его не приходится сомневаться.
Здесь вдоволь поработали ветры столетий. Ванслебу еще удалось увидеть нижнюю половину одной из статуй. Питри застает только руины. Он может лишь догадываться, что каждая статуя была не менее двенадцати метров в вышину (средний палец, сохранившийся на руке южного колосса, имел в длину 1 м 38 см). Неподалеку от этого места Питри находит вход в пирамиду в Хаувара, а тем самым — затерянную гробницу Аменемхета и его дочери Пта-Нофру. Об этом его открытии стоит рассказать подробнее.
Полный список всех его раскопок не может быть приведен здесь — это совершенно излишне в книге, которая не является биографией Питри. Он занимался раскопками всю жизнь, не останавливаясь на чем-то одном, как, например, Эванс, который посвятил изучению одного лишь Кносского дворца целых двадцать пять лет своей жизни. Питри действительно "просеял" весь Египет, совершив при этом путешествие в глубь трех тысячелетий. В результате он стал крупнейшим специалистом в той области древнеегипетского искусства, которая являлась наиболее интимной и относилась к малым формам, — в области керамики и пластики. (Питри первый систематизировал и расположил хронологически египетское прикладное искусство, проложив дорогу последующим исследователям.) Одновременно Питри был знатоком самого великого и величественного из всего того, что досталось нам в наследство от древних египтян, — огромных надгробных памятников, пирамид.
В последних разделах мы больше занимались историей, чем историями, перечислением фактов, чем приключениями, но пусть читатель не посетует на нас за это. Надеемся, он будет вознагражден в последующих главах.
В 1880 году в Гизэ на поле пирамид появился чудаковатый европеец. Осмотрев местность, он обнаружил заброшенную гробницу, к которой кто-то из его предшественников приладил дверь, возможно приспособив гробницу под склад. Странный путешественник объявил своему носильщику, что он собирается здесь поселиться. Уже на следующий день он водворился в гробнице; на одном из ящиков стояла лампа, в углу потрескивала печка — Уильям Флиндерс Питри был у себя дома. А по вечерам, когда тени становились лиловыми, некий догола раздетый англичанин переползал через развалины у основания Большой пирамиды; добравшись до входа, это привидение исчезало в накаленной солнцем гробнице. После полуночи он возвращался назад с резью в глазах, с головной болью, весь в поту — ни дать ни взять человек, вырвавшийся из огнедышащей печи, и, усевшись за свой ящик, переписывал записи и заметки, сделанные в пирамиде: измерения высоты, ширины и длины ходов, наклонов углов, — попутно излагая свои первые гипотезы.
Гипотезы? О чем? Разве было что-либо таинственное в этой пирамиде, стоявшей на протяжении многих тысячелетий на виду у всех? Еще Геродот любовался ею (о сфинксе он даже не упоминает), ее называли одним из семи чудес света. Но ведь чудо — это уже что-то необъяснимое. Разве уже само существование этих пирамид не давало человеку XIX века, века техники, рационализации и механизации, не верящему в бога и не видящему смысла в возвеличивании материально бесполезных вещей, достаточно оснований для недоуменных вопросов?
Было известно, что пирамиды — это гробницы, колоссальные дома для саркофагов. Но что, черт возьми, заставляло фараонов строить такие гигантские, не имевшие себе равных в мире сооружения? (В те времена их считали единственными в мире; сегодня мы знаем, что примерно такие же сооружения были найдены и в джунглях тольтеков в Центральной Америке.) Что заставляло фараонов превращать свои гробницы в крепости с тайными входами, с глухими дверями, с подземными коридорами, упиравшимися в гранитные блоки? Что заставило Хеопса взгромоздить над своим саркофагом целую гору — два с половиной миллиона кубических метров известняка? Ночь за ночью полуослепший англичанин, задыхаясь в раскаленной атмосфере полуразрушенных ходов, упорно продолжал свою работу; он стремился разрешить при помощи научных достижений своего столетия загадки пирамид, тайны их сооружения и архитектуры и дать ответ на те вопросы, которые возникали у всех, кому пришлось эти пирамиды увидеть. Многие его гипотезы были впоследствии подтверждены, другие были опровергнуты новыми исследованиями. Наши сегодняшние сведения о пирамидах мы почерпнули не только из открытий Питри, а цифры, которыми мы пользуемся, являются, разумеется, новейшими данными, но, когда мы отправимся по следу тех, кто лишил саму идею создания пирамид всякого смысла — по следам грабителей, — мы снова возьмем себе в проводники Питри.
Перенесемся более чем на четыре с половиной тысячелетия назад; от Нила к расположенной неподалеку строительной площадке движется живой поток полуголых рабов — светлокожих и черных, толстогубых и с приплюснутыми носами, с бритыми головами, — распространяя смешанный запах дешевого масла, пота, редьки, лука и чеснока (согласно Геродоту, только на одно питание рабочих, сооружавших пирамиду Хеопса, было израсходовано в переводе на современные деньги семь миллионов марок). Вскрикивая и взвизгивая под ударами бичей надсмотрщиков, они бредут по гранитным плитам дороги, протянувшейся от Нила к месту постройки; стеная под тяжестью врезавшихся в плечи веревок, они тащат огромные, медленно передвигающиеся на катках тачки, груженные камнями, каждый объемом более одного кубического метра. Так под стоны и крики росла на костях рабов пирамида. Она росла двадцать лет подряд, и на протяжении всех этих лет каждый раз, когда Нил выбрасывал свои илистые воды на прибрежные поля, когда прекращались все полевые работы, надсмотрщики вновь сгоняли сотни тысяч рабов для постройки гробницы, которая называлась Ахет Хуфу — Горизонт Хеопса!
Пирамида поднималась все выше и выше. С помощью одной лишь людской силы были поставлены и взгромождены друг на друга 2 300 000 каменных блоков. Каждая из четырех сторон пирамиды имела в длину более 230 метров. Высота ее в конце концов достигла 146 метров. Гробница одного-единственного фараона почти не уступает по высоте Кельнскому собору, она выше Собора св. Стефана в Вене и значительно выше Собора св. Петра в Риме — самой большой христианской церкви в мире, которая могла бы свободно разместиться в гробнице египетского фараона даже вместе с лондонским Собором св. Павла. Общая кубатура этого строения, сложенного из камней и известняка, добытых в каменоломнях по обеим сторонам Нила, достигает 2 521 000 кубических метров. Оно занимает площадь почти в 54 300 квадратных метров.
Сегодня трамвай доставит вас чуть ли не вплотную к пирамиде, где вас встретят горланящие переводчики, погонщики ослов и сторожа верблюдов, выпрашивающие у вас бакшиш. Давно смолкли стенания рабов, нильский ветер разнес свист бичей, рассеялся запах пота. Осталось лишь чудовищное творение. Если сегодня подняться на пирамиду Хеопса — самую высокую из всех пирамид и встать лицом к югу (слева будет находиться сфинкс, справа — пирамиды Хефрена и Микерина), то далеко впереди будет видна еще одна группа гигантских гробниц фараонов: пирамиды Абусира, Саккара и Дашура. О многих других свидетельствуют сегодня лишь развалины. Пирамида Абу Руаш настолько разрушена, что сверху можно заглянуть в ее погребальную камеру, некогда скрытую под многими тысячами тонн тяжелых каменных плит. Пирамида в Хаувара, по занесенным илом ходам которой Питри пробирался в 1889 году по следам грабителей, и пирамида в Илахуне, сооруженная на скале из необожженного нильского кирпича, совершенно выветрились. Бывало и иначе: Аль-Харам аль-каддаб — ложная пирамида, расположенная близ Медума и названная так арабами потому, что она показалась им непохожей на все остальные пирамиды, казалось бы, должна была стать добычей непогоды и песка, так как ее строительство не было закончено, однако в отличие от многих других она сохранилась до сих пор, вздымаясь ввысь на добрых сорок метров.
Все эти пирамиды сооружались с древнейших времен и вплоть до эпохи эфиопских властителей Мероэ (в одной только северной группе, расположенной на поле Мероэ, насчитывается сорок одна пирамида!) в них покоились тридцать четыре царя, пять цариц, два наследника престола. Пирамиды — это кровь, пот и слезы целых поколений, пролитые ради создания гробницы лишь для одного человека, который, стремясь увековечить свое имя, заставлял сотни тысяч безыменных и безвестных людей громоздить к небу камни. Для чего? Только для славы? Только из стремления запечатлеть свое имя в камне? Только из-за гордыни, свойственной могущественным и сильным, потерявшим присущее обычным смертным чувство меры?
Истинный смысл сооружения пирамид можно понять, только исходя из особенностей религиозных воззрений древних египтян, причем не из их мифологии — ведь число египетских богов необозримо — и не из их жреческой премудрости (ритуалы и догмы, так же как и храмы Древнего, Среднего и Нового царств, претерпевали изменения), а из того представления, которое лежало в основе их религии: человек после смерти продолжает свой жизненный путь в царстве бессмертия. В этом потустороннем мире, антиподе земли и неба, заселенном умершими, может, однако, существовать лишь тот — и это самое основное, — кого снабдили в этом мире всем необходимым для существования. Под этим "всем необходимым для существования" подразумевалось решительно все, чем покойник пользовался при жизни: жилище, пища, а для того чтобы удовлетворять потребности в еде и питье, — слуги, рабы и предметы первой необходимости. Но прежде всего нужно было сохранить невредимым тело — его следовало обезопасить от всяких посторонних воздействий. Только в этом случае, то есть при условии полнейшей сохранности тела, душа умершего (по-египетски "Ба"), которая покидала тело после смерти, могла, свободно передвигаясь в пространстве, в любое время соединиться с телом вновь, точно так же как и дух-хранитель "Ка" — олицетворение жизненной силы, которая появилась на свет вместе с человеком, но не умирала, подобно телу, а продолжала жить, сообщая в дальнейшем покойнику необходимую силу в том потустороннем мире, где хлеб родится высотой в семь локтей, но где его тоже необходимо посеять.
Вот эти представления и породили два следствия: мумифицирование трупов, которое, хотя и в несравненно менее совершенной форме, известно также у инков, маори и иваросов, и постройку гробниц, напоминавших скорее крепости ведь каждая пирамида должна была служить защитой для запрятанной в ней мумии от любого возможного врага, от любых дерзостных поступков, от нарушения покоя.
Тысячи живых приносились в жертву, чтобы один мертвый мог воспользоваться вечным покоем и бессмертием в потустороннем мире. Тот или иной фараон на протяжении десяти, пятнадцати, двадцати лет воздвигал себе гробницу, истощая силы своего народа, делая долги и оставляя их своим детям и детям своих детей. Он опустошал государственную казну и после смерти, так как его "Ка" требовал все новых и новых жертв — ему были нужны постоянные религиозные обряды. Любой мало-мальски предусмотрительный фараон отписывал одним только жрецам, которые должны были освящать жертвы, предназначенные его "Ка", доход по меньшей мере с дюжины деревень.
Сила этих религиозных воззрений была так велика, что заглушала голос разума и в области политики и в области морали. Пирамиды, сооружавшиеся фараонами — и только ими, ибо менее знатные люди довольствовались мастаба, а человек из народа и могилой в песке, — явились порождением переходящего всякие границы эгоцентризма, чуждого человеку современного общества. Пирамиды не были, подобно огромным сооружениям христиан, храмами или соборами, предназначенными для той или иной благочестивой общины верующих; не были они и, подобно вавилонским башням-зиккуратам, обиталищем богов и одновременно всеобщей святыней. Они были предназначены только для одного человека — для фараона, для его мертвого тела, для его души и для его "Ка".
Несомненно одно: гигантские памятники, сооруженные царями IV династии сорок семь столетий назад, далеко выходят за рамки всего того, что предписывалось верой и религией и диктовалось соображениями безопасности. Вскоре, однако, постройка столь огромных пирамид стала редкостью, а потом и вовсе прекратилась, хотя правящие в те времена цари были ничуть не менее могущественными самодержцами, чем Хеопс, Хефрен и Микерин; их обожествляли даже более, чем их предшественников, а такие фараоны, как, например, Сети I и Рамсес II, отстояли от стонущего под игом рабства народа еще дальше.
Одной из причин, слишком материальной, чтобы ею можно было полностью объяснить отказ от сооружения больших пирамид, была все более возрастающая смелость грабителей. В некоторых деревнях ограбление гробниц превратилось в своего рода промысел: социальная компенсация вечно голодных за счет вечно сытых. (О таких грабителях, которые превратили историю открытия гробниц в уголовную хронику, мы еще услышим.) Сохранность останков в пирамидах не могла быть теперь гарантирована; это привело к необходимости изыскания совершенно новых мер предосторожности и защиты и тем самым к сооружению новых видов гробниц.
Другую причину можно, вероятно, понять только в том случае, если прибегнуть к помощи исторической морфологии. Она сопоставляет все цивилизации, располагая их, так сказать, на одной плоскости с их аналогичными периодами подъема и упадка, и отмечает, что пробуждение души народа всегда сопровождается стремлением к созданию монументальных, штурмующих небо сооружений. Если рассматривать интересующую нас проблему с этой точки зрения, нетрудно уловить, несмотря на все различия, определенную связь между вавилонским зиккуратом, романоготическими соборами Запада и египетскими пирамидами. Все они стоят у истоков той или иной цивилизации и относятся к тем временам, когда колоссальные сооружения воздвигались с поистине чудовищной силой; вспомним: ранние готические соборы были столь огромными, что нередко их не могло заполнить даже все население того города, где они были воздвигнуты. Сила эта не признавала никаких препятствий, благодаря ей из темных глубин сознания внезапно рождались арифметические выкладки законов статики и из постепенного познания природы — первые законы небесной механики.
Девятнадцатый век, век технического прогресса, не верил в возможность этого. Представители западноевропейской технической мысли не могли себе представить, что подобные сооружения были построены без машин, без полиспастов и, вероятно, без воротов и кранов. Но стремление к монументальности преодолело все, и количественная сила ранней цивилизации оказалась равной качественной силе позднейших цивилизаций!
Пирамиды были построены при помощи мускульной силы. В просверленные в скалах отверстия забивали колья и поливали их водой до тех пор, пока они не разбухали; так в горах Моккатама добывали необходимый для постройки пирамид камень.
На катках и тачках эти каменные глыбы доставляли к месту назначения. Так постепенно, слой за слоем, пирамида вздымалась ввысь. По одному проекту или по нескольким сооружалась она — один из академических вопросов археологии. Лепсиус и Питри придерживались в этом вопросе разного мнения; современная наука склонна принять точку зрения Лепсиуса, который считал, что пирамиды строились по нескольким проектам.
Качество работы этих строителей, живших сорок семь столетий назад, было таково, что, как отмечал Питри, несовпадение горизонтальных и вертикальных линий пирамиды не превышает ширины большого пальца. Камни настолько плотно пригонялись один к другому, что еще восемьсот лет назад арабский писатель Абд аль-Латиф с удивлением заметил (сейчас это может в большом зале Хеопсовой пирамиды установить с помощью блица и фотокамеры любой турист): здесь работали мастера — камни подогнаны так, что между ними не просунешь даже иголки. И не прав тот современный критик, который утверждает, что с точки зрения законов статики древние мастера проявляли излишнюю добросовестность, оставляя над гранитным перекрытием погребальной камеры пять пустых помещений: как показала проверка, для облегчения перекрытий за глаза хватило бы и одного. Он забывает, что сегодня мы оставляем пяти-, восьми- и двенадцатикратный запас прочности, причем не только при сооружении мостов.
Пирамиды простоят еще долго. У Хеопсовой пирамиды обломилась лишь верхушка, где образовалась площадка примерно в десять квадратных метров, почти полностью слезла гладкая облицовка из прекрасного моккатамского известняка, обнажив желтоватый плотный известняк местной породы — основной материал, использовавшийся при сооружении пирамиды; однако она стоит, и с ней рядом стоят другие. Но где те фараоны, которые искали в них убежища, которые видели в пирамидах безопасное место для своего мертвого тела и его "Ка"?
Именно здесь высокомерие фараонов обернулось для них заслуженной трагедией. Тем, которые лежали не в каменных крепостях, а в мастаба, под землей, или в простых могилах в песке, повезло значительно больше, чем их повелителям: многие из этих захоронений оказались вне поля зрения грабителей. А вот гранитная гробница Хеопса изуродована и пуста, и мы даже не знаем, с каких пор. Бельцони еще в 1818 году разыскал саркофаг Хефрена: крышка его была сломана, а сам саркофаг чуть не до краев наполнен щебнем; у богато орнаментированного базальтового саркофага Микерина уже в тридцатых годах прошлого столетия, то есть когда полковник Визе обнаружил погребальную камеру, где находился саркофаг, не было крышки, а куски деревянного внутреннего гроба лежали в другом помещении вместе с остатками мумии фараона. Этот саркофаг затонул около испанских берегов вместе с кораблем, на котором его везли в Англию.
Миллионы каменных плит должны были служить броней для мертвых тел фараонов; замурованные ходы, хитроумная маскировка архитектурными деталями должны были служить препятствием для тех, кто задумал бы разбогатеть неправедным путем. Ведь погребальные камеры были полны богатств, неоценимых сокровищ; царь и мертвый оставался царем, и его "Ка", который возвращался в мумию, чтобы возродиться к новой жизни в потустороннем мире, нуждался в украшениях, роскошных предметах обихода, привычной драгоценной утвари и верном оружии из золота и благородных металлов, украшенном лазуритом и самоцветами. Послужили ли пирамиды в самом деле защитой? Увы, нет. Жизнь показала, что их размеры не только не отпугивали грабителей, а наоборот, привлекали. Камни охраняли, но размеры пирамиды говорили совершенно ясно: "Нам есть что скрывать". И грабители принимались за дело. Это началось в древнейшие времена, это продолжается и сегодня. С хитростью грабителей, их выдержкой и коварством пришлось в полной мере ознакомиться Питри, когда он в гробнице Аменемхета пережил свое первое разочарование.
Необходимо хотя бы вкратце остановиться на том вопросе, который вот уже на протяжении ста лет вновь и вновь поднимается различными газетами и журналами, в том числе и специальными, в статьях под интригующим заголовком — "Тайна Большой пирамиды". Нам хорошо известно, что там, где не хватает знаний, всегда существует широкий простор для всякого рода умозрительных спекуляций. Необходимо, однако, отличать умозрительные спекуляции от научной гипотезы. Гипотеза входит в арсенал научных методов любой отрасли знания, она исходит из уже известных достоверных данных, она не решает, а предполагает. Умозрительные же спекуляции не имеют никаких границ. В большинстве случаев даже в посылках желаемое принимается за достоверное, а что касается так называемых следствий, то это уже всегда чистейшей воды фантазия, блуждающая по самым окольным тропинкам метафизики, по самым темным дебрям мистики, по самым таинственным областям неверно истолкованных положений Пифагора и каббалы. Самые опасные из них те, которые кажутся логически обоснованными, ибо для логики у нас, людей двадцатого иска, всегда наготове овации.
Египетские находки вызвали к жизни немало умозрительных теорий: о некоторых из них мы уже упоминали, когда рассказывали о дошампольоновских интерпретациях иероглифов. Мы можем привести здесь еще один пример. Речь идет о недавно вышедшей книге сэpa Галахада (за этим именем скрывается женщина) "Матери и амазонки", где автор не в порядке дискуссии, а в совершенно категорической форме утверждает, будто у египтян и в исторические времена существовал ярко выраженный матриархат. (Кстати, сэр Галахад вкладывает в свои доказательства столько огня и красноречия, что можно только пожелать, чтобы подобной силой убеждения обладал хоть один серьезный археолог.) Особого упоминания заслуживает в этой связи и Сильвио Гезелл. Не желая ограничиваться узким кругом своей специальности, Гезелл занялся исследованием животрепещущего вопроса: был известен Моисею порох или нет? Призвав на помощь все свое остроумие, он старался доказать, что выросший при дворе Рамceca Моисей использовал с помощью своего тестя, жреца Йетро, который был знаком с секретными таинствами, Ковчег Завета в качестве лаборатории для изготовления взрывчатых веществ; в 28–30 стихах 30-й главы 2-й книги Моисея имеется рецепт взрывчатки. Горящий кустарник, египетские колесницы, летящие вверх колесами, скала, которая раскалывается от одного удара, стены Иерихона, которые пали от звука труб, — все это, согласно Сильвию Гезеллу, результат той науки, которой удалось превратить Ковчег в лабораторию и фабрику взрывчатки. Разве получение Моисеем скрижалей Завета не сопровождалось грохотом и дымом? Разве не понадобилось неловкому лаборанту сорок дней, чтобы залечить свои ожоги? Иоганн Ланг, верный рыцарь теории полого мира, выдвинул в поддержку Гезелла естественнонаучные доводы. Однако далеко не всегда спекуляция так явно разоблачает сама себя, как эта. Нас в данном случае интересует иное: с древнейших времен Большая пирамида (именно пирамида Хеопса, не какая-либо другая) служила объектом всякого рода мистических цифровых выкладок. Эта цифровая мистика находится на том же уровне, что и приведенные нами примеры умозрительной спекуляции, и тот факт, что к ней в наши дни возвращаются серьезные ученые, завоевавшие бесспорный авторитет в различных специальных областях науки, ничего в этой оценке не меняет.
Большую пирамиду нередко называли Библией в камне. Нам известны толкования Библии. Толкования Большой пирамиды недалеко ушли от них. Из плана этой пирамиды, расположения ее ворот, ходов, залов и погребальных камер сумели вычитать всю историю человечества! Один из исследователей предсказал на основе этой "истории", что в 1913 году начнется мировая война. Легковерные отметили, что он ошибся "только на один год".
Приверженцы цифровой мистики оперируют материалом, который может произвести ошеломляющее впечатление, если только не будет сразу направлен по верному пути. Вот пример: пирамиды расположены точно по направлению стран света, поэтому диагональ северо-восток — юго-запад пирамиды Хеопса находится на одной линии с диагональю пирамиды Хефрена. Большинство вытекающих отсюда заключений основывается на ошибочных измерениях, на преувеличениях и беззастенчивом использовании тех возможностей, которые способно предоставить любое достаточно большое сооружение, если измерять его малыми мерами длины. После первой попытки, осуществленной Флиндерсом Питри, Большая пирамида была измерена относительно точно. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что любое обмеривание, даже с помощью самых современных методов, может быть только приблизительным, так как облицовка пирамиды не сохранилась, а ее вершина разрушена. Поэтому любая цифровая мистика, в основу которой положены измерения с точностью до сантиметра, с самого начала дискредитирует сама себя. К этому следует добавить, что, хотя египтяне и обладали совершенно исключительными познаниями в области астрономии — в этом им следует отдать должное, — у нас нет никаких оснований утверждать, что у них была такая же определенная, выверенная мера длины, как наш метр, эталон которого, как известно, хранится в Париже.
Вероятно, такое пренебрежение к точности покажется нам непонятным, но вспомним, что древние египтяне были также лишены чувства времени в его историческом понимании.
Получить сенсационные результаты, применяя при обмере гигантских сооружений ничтожные меры измерения, нетрудно. Можно не сомневаться, что если мы начнем измерять сантиметрами Шартрский или Кельнский собор, то с помощью таких арифметических действий, как сложение, вычитание и умножение, нам будет не так уж трудно добиться самых неожиданных аналогий с космическими величинами. Вероятно, именно такие методы породили утверждение, что число "пи" не следует считать "числом Лудольфа", ибо оно уже было известно строителям пирамиды. Но если даже и подтвердилось бы, что египтяне действительно запечатлели в пропорциях и размерах Большой пирамиды какие-то особые сведения из области математики и астрономии (сведения, которые стали доступны современной науке лишь в XIX и XX веках, как, например, точное расстояние от Земли до Солнца), то и в этом случае нет никаких оснований облекать эти цифры в мистические одежды, а тем более заниматься какими-либо пророчествами. В 1922 году немецкий египтолог Людвиг Борхардт опубликовал после тщательного изучения Большой пирамиды книгу "Против цифровой мистики вокруг Большой пирамиды Гизэ". Здесь мы находим аргументы, которые окончательно выбивают почву из-под ног мистиков.
Питри принадлежал к числу тех археологов, которым не страшны никакие препятствия, он был человеком непреклонной воли, редкой выдержки и настойчивости. Чувствуя, что находится на верном пути, Питри пробивает в 1889 году ход в сложенной из нильского кирпича пирамиде одного фараона (он сам в то время еще не знал, что это гробница Аменемхета III, одного из немногих миролюбивых властителей Египта), пробивает потому, что настоящего входа в эту пирамиду он так и не сумел найти. Однако, проникнув в гробницу, он обнаруживает, что у него были предшественники — еще более пронырливые, находчивые и настойчивые в своих поисках, чем он САМ: люди давно прошедших времен, осквернители гробниц, пробравшиеся сюда не для того, чтобы полюбоваться памятниками прошлых эпох, не для того, чтобы, воздав должное прошлому, извлечь их на свет в назидание настоящему, а для грабежа! И тут Питри, неутомимый Питри, даже восхищается выносливостью грабителей!
Решив заняться исследованием пирамиды — от деревушки Хаувара аль-Макха до нее можно было добраться на осле за три четверти часа, — Питри принялся искать вход там, где он находился почти у всех пирамид: с северной стороны. Но так же, как и его предшественники-грабители, он не нашел его. Не нашел он его и на восточной стороне, и тогда, решив не тратить времени на утомительные поиски, он начал пробивать в стене туннель.
Это было мужественное решение. В распоряжении Питри были лишь примитивные технические средства. Он знал, что ему предстоит тяжелая работа, хотя вряд ли предполагал, что ему придется провозиться с раскопом в течение нескольких недель.
Нужно призвать на помощь всю свою фантазию, чтобы понять, что значит, проработав день на египетском солнцепеке, претерпев все трудности, вызванные и несовершенством орудий, и несговорчивостью рабочих, вдруг, в тот самый момент, когда в проломе последней стены показалась счастливо найденная погребальная камера, понять, что тебя опередили: в камере ухе побывали грабители.
Мы вновь встречаемся здесь с чувством, которое так часто охватывает исследователя в момент завершения его трудов, — чувством глубочайшего разочарования, побороть которое могут лишь сильные. (Ровно двенадцать лет спустя произошел случай, который мог бы доставить Питри минутку злорадного удовлетворения: современные гробокопатели взломали гробницу Аменхотепа II, скончавшегося около 1420 года до н. э., и разрезали в поисках сокровищ ткань, в которую была завернута мумия. Они испытали всю горечь разочарования, наверняка еще более глубокую, чем та, которую испытал Питри, — их соратники по ремеслу, жившие три тысячелетия назад, так мастерски все обчистили, что на долю их потомков не осталось ровным счетом ничего.)
Ход, который проделал Питри, был слишком узок. Но он не мог ждать, пока рабочие расширят его. Обвязав одного египетского юношу под мышками и сунув ему в руку свечу, он спустил его в погребальную камеру. Трепещущий луч упал на два саркофага… Взломаны, пусты!
Ученому оставалось лишь одно: попытаться все-таки установить, кому принадлежала гробница. И снова трудности! В пирамиду пробились подземные воды. Когда Питри, расширив ход, проник в погребальную камеру, он очутился по колено в воде — точно так же, как позднее в одной мастаба, где ему было суждено найти покрытую украшениями мумию. Но Питри не отступил, не испугался. С помощью заступа он исследовал сантиметр за сантиметром всю поверхность пола и нашел сосуд из алебастра, на котором было начертано имя Аменемхет. В соседней камере он нашел бесчисленное множество жертвоприношений, причем все они были посвящены царевне Пта-Нофру, дочери Аменемхета III.
Аменемхет III, царь XII династии, царствовал с 1849 по 1801 год до н. э. (согласно Брэстеду). Династия, к которой он принадлежал, была у власти в общей сложности 213 лет. Время правления Аменемхета III, объединившего под своей властью Верхний и Нижний Египет, было одной из счастливейших эпох в истории страны, которую на протяжении долгих столетий разоряли войны как внешние — с соседними племенами, так и внутренние — с вечно восстававшими номархами. Аменемхет заботился о поддержании мира. Выстроенные им многочисленные сооружения, в том числе и построенная на одном из озер плотина, служили одновременно и светским и духовным целям; его социальные мероприятия, не имеющие с точки зрения западной цивилизации особого значения, были, однако, весьма важными для расколотого на классы Египта, основой существования которого был рабский труд. Благодаря Аменемхету, еще больше, чем Нилу,
…процветает Египет;
Он сделал сильными обе земли,
Он — жизнь, несущая прохладу;
Сокровища, им розданные, — это пища
Для тех, кто идет за ним.
Он — пища, а рот его — изобилие.
То, что Питри нашел гробницу Аменемхета, делало ему честь; как ученый, он не мог быть только недоволен достигнутым результатом, — будучи археологом, он заинтересовался тем, какими путями проникли в гробницу опередившие его грабители. Где находится вход в пирамиду? Сумели ли грабители обнаружить дверь, которую тщетно искал и он сам и многие исследователи до него?
Грабители шли по следам строителей. Питри решил идти по следам грабителей. Но идти по следам людей, побывавших здесь многие годы, а может быть, и тысячелетия назад, было ничуть не легче, чем проделать ход в пирамиде. Проникшая в гробницу вода, нечистоты, остатки битого кирпича и щебня образовали сплошное месиво грязи. В некоторых особенно узких проходах неутомимому Питри пришлось ползти на животе, по-пластунски, грязь попадала ему в уши, в рот. Он хотел знать, где находится настоящий вход. И он нашел его! Наперекор всему, что было до сих пор известно, наперекор египетской традиции вход был расположен с южной стороны. Однако, несмотря на это, грабители разыскали его! Стоит ли удивляться, что задетый за живое исследователь спрашивал себя, праведным ли путем был найден этот вход? Действительно ли успех грабителей — плод работы ума, результат выдержки и настойчивости? Для того чтобы проверить свои подозрения, он шаг за шагом проделал тот же путь, что и грабители. Перед ним возникали те же самые препятствия, с которыми пришлось в свое время столкнуться и грабителям. Каждый раз он пытался преодолеть их самостоятельно, но далеко не всегда находил правильное решение. Какой таинственный инстинкт вел их через все эти бесчисленные тупики, западни и прочие барьеры, воздвигнутые на пути к усыпальнице архитекторами фараона? Там была, например, лестница, которая вела в помещение без окон и дверей, откуда, казалось, не было выхода. Грабители, очевидно, быстро разобрались в том, что дверью в этой камере служит потолок, именно весь потолок — своего рода гигантская дверь, сквозь которую они прошли, проделав в ней отверстие, то есть таким же образом, каким проходят сквозь бронированные двери сейфов современные взломщики несгораемых шкафов. Куда же они попали после этого? В коридор, заваленный каменными глыбами. Питри, как специалист, лучше, чем кто-либо другой, мог себе представить, какую колоссальную работу необходимо было проделать, чтобы расчистить этот проход, и те чувства, которые должны были испытать грабители, когда, покончив с коридором, они наткнулись еще на одну комнату, откуда тоже, казалось, не было выхода, а затем, преодолев и это препятствие, попали в третью комнату — тоже без двери. Питри не знал, чему больше дивиться: инстинкту грабителей, который безошибочно вел их по верному пути, помогая преодолевать все трудности, или же их терпению и выдержке. Можно было не сомневаться — им пришлось прокладывать себе путь на протяжении многих недель, месяцев, а может быть, и лет. И при каких обстоятельствах! Возможно, им все время приходилось остерегаться стражей, жрецов, посетителей, совершавших свои жертвоприношения великому Аменемхету. Но может быть, все было совершенно иначе? Честолюбие Питри, человека, которому пришлось пустить в ход весь свой опыт, проявить чудеса настойчивости, чтобы преодолеть бесчисленные препятствия, которые соорудили строители пирамид (ведь речь шла о защите мертвых фараонов от поругания и посягательства со стороны злоумышленников), его гордость — все это заставляло его отрицать, что древнеегипетские грабители могли еще несколько сот лет назад благодаря одной лишь своей находчивости и остроумию распутать этот клубок.
Неужели грабители пользовались поддержкой специалистов — в египетской литературе сохранились на этот счет кое-какие намеки, — неужели жрецы и стражники, хранители тайн, продажные представители уже коррумпированного класса чиновников, помогали им своими советами и указаниями? Однако здесь мы подходим к особой главе истории Египта — к главе о грабительском промысле, который, родившись во времена седой древности, долгие годы процветал в Долине царей и достиг своей кульминационной точки в одном весьма интересном современном уголовном деле.
Глава 14 ГРАБИТЕЛИ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ
В начале 1881 года некий состоятельный американец, любитель и ценитель искусств, отправился вверх по Нилу к Луксору, в ту самую деревушку, которая находится напротив Фив — древней резиденции царей. Целью его путешествия было приобретение античных раритетов. Не надеясь на обычные пути — торговля древностями была стараниями Мариэтта подвергнута строжайшей регламентации, он положился на свой инстинкт. Этот инстинкт гнал его по вечерам в темные закоулки, заставлял посещать задние комнаты базаров и в конце концов свел его с одним египтянином, который предложил ему несколько как будто подлинных и ценных предметов.
Сегодня каждый гид считает своим долгом предостеречь туристов от приобретения антикварных вещей на черном рынке, делая это с полным основанием, ибо большинство так называемых раритетов является продукцией вполне современного производства, в большинстве случаев египетского, но порой и европейского. К каким только трюкам ни прибегают спекулянты, чтобы убедить покупателя в подлинности своего товара! Даже такой знаток древностей, как немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Грефе, и тот однажды попался на их удочку. Он нашел прямо в песке, не подозревая, что его привел к этому месту пройдоха гид, небольшую статуэтку. Мейер-Грефе нисколько не сомневался, что она подлинная, — еще бы, ведь он сам ее нашел! Он поспешил дать гиду взятку, чтобы тот не проболтался, и, спрятав статуэтку под пиджак, принес ее в отель. Но ему нужно было подобрать к ней подставку, и он отправился к торговцу; здесь он не удержался и спросил торговца, как ему нравится находка. Торговец рассмеялся, а затем, как пишет сам Мейер-Грефе, "он пригласил меня в заднее помещение своей лавчонки, открыл шкаф и показал мне четыре или пять совершенно таких же статуэток. Каждая из них была покрыта песком тысячелетней давности. Их делают в Бунцлау, но он получил их от одного грека, торгового агента в Каире".
Какие невероятные проделки, не говоря уже об изготовлении фальшивых памятников древности, составляющем целую отрасль производства, приходится принимать в расчет науке! Верное представление об этом дает автобиографический рассказ Андре Мальро; в правдивости его слов нет никаких оснований сомневаться, однако случай этот, разумеется, не следует рассматривать как пример для подражания — мы приводим его просто как курьез. В 1925 году Мальро познакомился в одном из баров Сингапура с неким коллекционером, который путешествовал за счет Бостонского музея, скупая для него всякого рода произведения искусства. Он выстроил перед Мальро пять маленьких слоников из слоновой кости, которых только что приобрел у одного индуса. "Видите, мой дорогой друг, — сказал он, — я покупаю слоников. Когда мы производим раскопки, я, перед тем как засыпать ту или иную гробницу, кладу в нее слоников. Если через пятьдесят лет другие исследователи вновь вскроют гробницу, они найдут этих слоников, которые к тому времени успеют покрыться зеленой пленкой и потеряют свой новенький вид, и немало поломают себе голову над этой находкой. Тем, кто придет после меня, я охотно задаю подобные головоломки; на одной из башен Ангкор Вата я выгравировал, мой милый друг, весьма неприличную надпись по-санскритски и хорошенько ее замазал, так что она выглядит очень старой. Какой-нибудь плут ее расшифрует. Простодушных нужно немножко злить…"
Вернемся, однако, к нашему американцу, который хотя и был дилетантом, но все же обладал некоторыми специальными познаниями в области египтологии. Предложение египтянина взволновало его, и он тут же, даже не вступая, как этого требует обычай на Востоке, в долгий торг, приобрел предложенный ему папирус удивительной сохранности и редкой красоты. Запрятав его в чемодан, американец немедленно отбыл назад, сумев обвести вокруг пальца и полицию и таможенные власти. Когда он, прибыв в Европу, показал этот папирус эксперту, то оказалось, что он не только привез неоценимое сокровище, но и дал ход, правда, без всяких на то усилий со своей стороны, одному любопытному делу. Об этом мы сейчас и расскажем, но прежде нам необходимо ознакомиться, хотя бы бегло, с необычайной историей Долины царей.
Долина царей (или Царские гробницы Бибан аль-Мулука) раскинулась на западном берегу Нила, напротив Карнака и Луксора, того самого Луксора, где вздымаются к небу колоссальные колонные залы и храмы времени Нового царства; она представляет собой часть обширного, ныне пустынного пространства, на котором некогда был расположен Фиванский некрополь. Во времена Нового царства здесь были сооружены скальные гробницы для знати, воздвигнуты поминальные храмы в честь царей и в честь бога Амона. Надзор за порядком в этом огромном городе мертвых, а также постоянные работы по его расширению требовали колоссального персонала, который находился в подчинении у специального чиновника — князя запада и начальника стражи Некрополя. Стража размещалась в казармах, а в домах, на месте которых возникли впоследствии небольшие поселения, жили землекопы, строительные рабочие, каменотесы, художники, ремесленники и, наконец, бальзамировщики, которые, заботясь о вечном вместилище для "Ка", предохраняли от разрушения тела усопших.
Как мы уже отмечали, именно во времена Нового царства и правили самые могущественные египетские фараоны, "сыновья Солнца" — Рамсес I и Рамсес II. Это была эпоха XVIII, но прежде всего XIX династии (примерно с 1350 до 1200 года до н. э.). В те времена в Египте происходило то же самое, что произошло в Риме в эпоху цезарей, когда вся монументальная культура Греции, окончательно исчерпав себя, свелась к гигантомании в постройках; величие пирамид Древнего Египта в конечном счете свелось к чванливости построек Карнака, Луксора и Абидоса. То же самое мы наблюдаем в Ниневии "ассирийском Риме" — во времена Синаххериба, у китайского цезаря Хоанг-ти и в гигантских индийских постройках, сооруженных после 1250 года.
Расширение Долины царей — этого величайшего в мире города мертвых, и в особенности начало строительных работ, связано с одним из самых выдающихся решений, принятых Тутмесом I (1545–1515 годы до н. э.). Это решение сыграло свою роль в истории последующих правящих династий Египта, более того, оно, вероятно (хотя исследование этого вопроса, выходящего за рамки собственно археологии, почти не производилось), имеет немаловажное значение для определения того исторического периода, на протяжении которого традиционная, одухотворенная египетская культура превратилась в отрицающую какую-либо традицию и разрушающую всякие установившиеся нормы цивилизацию.
Тутмес I был первым фараоном, принявшим решение отделить свою гробницу от поминального храма (расстояние между ними равнялось по меньшей мере полутора километрам) и захоронить свои бренные останки не в роскошной, видной издалека гигантской гробнице, а в потайной, вырубленной в скалах камере-склепе. Нам это решение кажется сейчас маловажным. Между тем оно означало разрыв с традицией, насчитывающей семнадцать веков.
Отделив могилу от поминального храма, в котором по праздникам приносились жертвы, необходимые для существования "Ка", Тутмес создал совершенно непредвиденные затруднения — последствия их едва ли можно было предугадать — для своего "Ка", а тем самым и для своего существования в потустороннем мире. Но он верил, что подобной мерой он сумеет обеспечить себе безопасность, чего так и не сумели добиться его предшественники — об этом красноречиво свидетельствовали оскверненные гробницы. Это и послужило основной причиной, побудившей его принять такое решение.
В основе тех указаний, которые он дал своему архитектору Инени, лежал страх, неугасимый страх, владевший им, боязнь, что и его мумия будет уничтожена, что и его гробница будет осквернена. К началу царствования XVIII династии вряд ли можно было еще найти во всем Египте хотя бы одну царскую гробницу, которая не была бы разграблена, хотя бы одну мумию сколько-нибудь значительного человека, с которой не была бы сорвана в лучшем случае часть тех "магических покровов", в которые она была завернута, и, таким образом, не оскверненную и не поруганную. Грабителей удавалось поймать лишь изредка; чаще, вероятно, их вспугивали, и тогда они бросали часть своей добычи на произвол судьбы. За пятьсот лет до Тутмеса один злоумышленник расчленил мумию жены царя Джера для того, чтобы ее удобнее было вынести, но был кем-то или чем-то потревожен; в спешке он засунул одну из высохших рук царицы в отверстие в стене гробницы; там ее и нашли в 1900 году в целости и сохранности английские археологи — даже великолепный браслет из аметиста и бирюзы оказался на месте.
Как мы уже упоминали, главного архитектора Тутмеса звали Инени. Мы можем только догадываться о том, чего потребовал от него фараон. Решив порвать с традицией, Тутмес, вероятно, быстро понял, в чем заключается единственная возможность избежать участи своих предшественников: в сохранении тайны места захоронения и местоположения гробницы. Некоторыми сведениями о том, как шло сооружение гробницы Тутмеса, мы обязаны лишь тщеславию архитектора Инени: на стенах своей гробницы он оставил автобиографическую надпись и отчет о постройке первой царской скальной гробницы. "Я один наблюдал за сооружением гробницы в скалах, предназначенной для Его Величества. Никто этого не видел, никто не слышал об этом". Однако современный археолог, один из лучших знатоков Долины царей, человек, великолепно представляющий себе все трудности, связанные со строительными работами в этой местности, Говард Картер, считает, что при этом Инени, несомненно, должен был иметь в своем распоряжении не менее сотни рабочих. Не давая этому факту моральной оценки, он бесстрастно пишет: "Совершенно очевидно, что сотня или более рабочих, посвященных в величайшую тайну фараона, не могли уже ее разгласить: Инени, надо думать, нашел средство заставить их молчать. Не исключена возможность, что в работе участвовали военнопленные. По окончании ее их всех перебили".
Привел ли этот резкий разрыв с традицией к тому результату, к которому стремился Тутмес? Его могила — первая в Долине царей, она находится в отвесно спускающейся стене этой уединенной, угрюмой чашеобразной долины. Инени вырубил в скале лестницу и разместил могилу так, как на протяжении последующих пятисот лет это делали все архитекторы фараонов. Древние греки, исходя из формы этих могил, напоминающих пожарный рукав, называли их "сиринги" от слова syrinkx — длинная пастушья свирель. Страбон, знаменитый греческий путешественник последнего столетия до н. э., описал сорок таких "достойных осмотра гробниц".
Мы не знаем, как долго Тутмес наслаждался покоем, но можно быть уверенным в одном: покой его не мог быть особенно продолжительным, разумеется, в масштабах египетской истории. Мумии Тутмеса, его дочери и другие мумии вытащили в один прекрасный день из гробницы не грабители, а те, кто пытался защитить царственные останки от грабителей, ибо к тому времени даже каменный мешок не мог уже считаться достаточно надежным убежищем. Фараоны перешли к новой тактике: они стали располагать свои замурованные в скалы гробницы максимально близко одна к другой;
теперь стражникам было легче вести наблюдение, внимание их не рассеивалось. Но тем не менее грабежи продолжались.
В гробницу Тутанхамона грабители вторглись уже через десять- пятнадцать лет после его смерти. В гробнице Тутмеса IV, куда грабители также проникли уже через несколько лет после его смерти, они даже оставили визитные карточки: зарубки, каракули, разные жаргонные словечки, нацарапанные на стенах; к тому же они так основательно разрушили гробницу, что сто лет спустя благочестивый Харемхеб на восьмом году своего правления отдал чиновнику Кею приказ: "Гробницу покойного царя Тутмеса IV в ее драгоценном обиталище в Западных Фивах восстановить".
Но своего апогея грабеж гробниц достиг во времена XX династии. Миновали блистательные годы правления Первого и Второго Рамсеса, Первого и Второго Сети. Последующие девять царей ничем не напоминали своих предшественников, хотя и носили гордое имя Рамсеса. Они были слабыми правителями и вечно находились под угрозой падения. Взяточничество и коррупция превратились в грозную силу. Кладбищенские сторожа вступали в сделку с жрецами, надзиратели — со своим начальством, и даже сам начальник Западных Фив, главный начальник охраны Некрополя, оказался в один прекрасный день пособником грабителей могил. И вот сегодня благодаря находкам папирусов времен Рамсеса IX (1142–1123 годы до н. э.) мы становимся свидетелями процесса, вызвавшего в ту пору большой интерес, очевидцами судебного разбирательства по делу об ограблении гробниц, которое шло три тысячи лет тому назад и в ходе которого были наконец названы анонимные грабители.
Однажды Песер, начальник Восточных Фив, получил донесение о массовых грабежах в гробницах, находившихся в западной части города. Начальник Западных Фив — Певеро был, очевидно, столь же мало расположен к Песеру, как тот к нему. Песер, вероятно, с большим удовольствием ухватился за представившуюся возможность дискредитировать равного по положению коллегу в глазах Хамуаса, наместника всей области Фив*.(* Мы следуем в своем изложении за Говардом Картером, который положил в основу своего рассказа документы, опубликованные в великолепном собрании египетских источников "Ancient Records of Egypt", изданных Брэстедом.)
И тем не менее дело обернулось плохо для Песера, который допустил ошибку, назвав точно количество гробниц, куда проникли злоумышленники: "Десять царских, четыре гробницы жриц Амона, не говоря уже о множестве частных". Между тем некоторые члены комиссии, посланной Хамуасом для проверки фактов, руководитель этой комиссии и даже сам наместник, несомненно (и это свидетельствует об осторожности Певеро), были лицами заинтересованными, получавшими доходы от грабителей. Они, как мы сказали бы сегодня, получали проценты с прибыли и, вероятно, еще не успев переправиться через реку, уже знали, что именно напишут в своем решении. Они и в самом деле уладили дело, отведя донос по чисто формальным юридическим основаниям даже не входя в обсуждение вопроса, имели место грабежи или нет, они принялись доказывать, что данные Песера не соответствуют действительности, ибо разграбленными, как выяснилось, оказались не десять царских гробниц, а всего лишь одна, и не четыре гробницы жриц, а только две.
Правда, факт ограбления почти всех частных гробниц отрицать было трудно, но комиссия не сочла это достаточным основанием для того, чтобы предать суду такого заслуженного чиновника, как Певеро. Доносу был дан отвод. На следующий же день торжествующий Певеро (мы можем его себе весьма реально представить) собрал надзирателей, администрацию города мертвых, ремесленников, стражу Некрополя и послал эту толпу на восточную сторону с приказом устроить там "митинг"; при этом он дал им указание отнюдь не избегать дома Песера, а наоборот, держаться к нему поближе.
Для Песера это было уже слишком! С полным основанием он расценил все происходящее как стопроцентную провокацию и в приступе ярости допустил вторую, на этот раз решающую ошибку. Он вступил в жестокую перебранку с одним из руководителей этого импровизированного "митинга" и, дойдя до высшей степени раздражения, заявил перед лицом многочисленных свидетелей, что сообщит обо всем этом чудовищном деле через голову наместника прямо фараону.
Певеро только и ждал этого. Он тут же довел до сведения наместника об этом невероятном заявлении Песера, замыслившего нарушить положенную субординацию. Визирь созвал суд и заставил злополучного Песера председательствовать на нем в качестве судьи — он должен был уличить самого себя в клятвопреступлении и признать себя 'виновным.
Эту историю, которая звучит вполне современно и к которой ничего не добавлено (ее можно было бы даже рассказать гораздо подробнее), завершил поистине сказочный конец. О таком завершении дела мечтают многие, но выпадает оно на долю лишь избранных. Через два или три года после этого вопиющего процесса была арестована банда грабителей. В ее состав входило восемь человек. Их подвергли пыткам, "били плетьми по рукам и ногам", и они дали показания, которые, очевидно, попали в руки неподкупного чиновника, во всяком случае, замолчать эти показания не удалось. Вот имена пяти грабителей: каменотес Хепи, художественный ремесленник Ирамун, крестьянин Аменемхеб, водонос Хамуас и негр-невольник Эенофер. Они показали: "Мы вскрывали их гробы и срывали покровы, в которых они покоились… Мы нашли священную мумию этого царя… На шее у него было множество амулетов и золотых украшений, голова его была покрыта золотой маской; священная мумия этого царя была вся покрыта золотом. Покровы мумии были внутри и снаружи вышиты золотом и серебром и выложены драгоценными камнями. Мы сорвали все золото, которое нашли на священной мумии этого бога, и амулеты, и украшения, и покровы, в которых она покоилась. Мы нашли также супругу царя, и мы сорвали с нее все ценное, что было на ней. Покровы, в которые она была завернута, мы сожгли. Мы украли всю найденную подле них утварь, среди которой были сосуды из золота, серебра, бронзы. Золото, найденное на мумиях этих обоих богов, амулеты, украшения и покровы мы разделили на восемь частей".
Суд признал их виновными; показания Песера были подтверждены фактами, так как среди гробниц, ограбление которых было теперь официально признано, находилась и одна из тех, о которых Песер некогда говорил.
В то же время, насколько об этом можно судить, данный судебный процесс и ряд других не смогли приостановить систематический, организованный грабеж Долины царей. Из судебных приговоров нам известно, что были взломаны гробницы Аменхотепа III, Сети I, Рамсеса II. "При последующей династии от попыток охраны гробниц, кажется, и вовсе отказались", — пишет Картер, набрасывая мрачную картину вторжений грабителей в Долину царей.
"Немало необычного видела эта долина, и дерзкими были разыгравшиеся здесь события. Можно представить себе, как на протяжении многих дней обдумываются планы, как обсуждаются они на тайных ночных совещаниях на скале, как подкупается или подпаивается стража, как затем напряженно роют в темноте, с трудом пролезают сквозь узкий подкоп к погребальной камере, а потом при слабом мерцании огонька лихорадочно ищут драгоценности, такие, которые можно было бы унести с собой; в предутренней мгле грабители возвращаются с добычей домой. Все это мы можем себе представить и одновременно понять, насколько это было неизбежно. Ведь фараон, заботясь о том, чтобы достойным образом и в соответствии со своим саном похоронить свою мумию, тем самым обрекал ее на гибель. Искушение было слишком велико. В гробницах покоились сокровища, превосходящие даже самые смелые мечты, и, чтобы добыть их, нужно было только найти способ. И грабители рано или поздно приходили к цели".
Однако другая картина волнует еще более. Мы так много говорили о расхитителях гробниц, о предателях-жрецах, о чиновниках-взяточниках, о коррумпированных отцах города, об этой охватившей чуть ли не все слои населения воровской сети — ее существование первым заподозрил Питри, когда шел по следу грабителей в гробнице Аменемхета, — что у читателя могло создаться впечатление, будто в Египте, в особенности во времена XX династии, вообще не было ни честных людей, ни верующих, которые отдавали должное памяти усопших царей.
А между тем в то самое время, когда грабители под покровом ночи крались со своей добычей по одним тропинкам, на других сидели в засаде небольшие группы верных своему долгу людей. Волей-неволей им приходилось пользоваться методами своих противников, хотя и в прямо противоположных целях. Для того чтобы успешно бороться с грабителями, необходимо было их опередить — с грабежами боролись при помощи грабежей. Эта превентивная война немногих оставшихся верными своему долгу жрецов и неподкупных чиновников с великолепно организованными ворами требовала еще большей подготовки и еще большего соблюдения тайны, чем действия грабителей.
Призовем на помощь всю силу своего воображения: мы услышим жаркий шепот, увидим затененный свет факела над открытым саркофагом и пригнувшиеся из боязни быть замеченными фигуры. Если их застигнут, им самим ничего не угрожает: они не делают ничего предосудительного, но один взгляд предателя и грабители окажутся осведомленными о том, что останки какого-то царя перенесены в безопасное место и, таким образом, ускользнули из их рук. Мы должны постараться представить себе шествие жрецов: вдвоем, в лучшем случае втроем они торопливо идут вслед за стражником, одним из немногих оставшихся верными своему долгу, который показывает им дорогу, — они несут забальзамированные останки своих мертвых царей. Так эти мумии перетаскивают с места на место, чтобы спасти их от грабителей. Как только жрецы узнают о новых заговорах, они вынуждены вновь повторять свои ночные вылазки. Мертвые цари, чьи мумии должны были пребывать в вечном покое, начинают путешествовать!
Порой это происходило иначе, возможно, даже среди бела дня: стража оцепляла долину; с помощью носильщиков и вьючных животных саркофаг переносили из ставшего ненадежным укрытия в новое место, затем появлялись солдаты, и, возможно, снова многим свидетелям приходилось расплачиваться жизнью, чтобы тайна осталась тайной.
Рамсеса III трижды переносили с одного места на другое. Путешествуют Яхмес, Аменхотеп I, Тутмес II и даже Рамсес Великий. В конце концов из-за нехватки надежных убежищ они попадают втроем в одну гробницу. "В 14-й год третьего месяца второго времени года на 6-й день Осирис, царь Усермара (Рамсес II), был принесен и захоронен в гробнице Осириса, царя Менмаатра (Сети I), верховным жрецом Амона — Пайноджемом".
Но и здесь нельзя поручиться за их безопасность: Сети I и Рамсеса II кладут в могилу царицы Инхапи. В могиле Аменхотепа II оказалось в конце концов не менее тринадцати царских мумий. Других при первом удобном случае извлекали из первоначальных мест захоронения или из убежищ, где они были спрятаны, выносили по пустынной, одинокой тропинке, вьющейся по склону горы (ее можно увидеть и сейчас), из Долины царей и хоронили в могиле, высеченной в скалах Деир аль-Бахари, неподалеку от гигантского храма, который начала строить царица Хатшепсут, несчастная соправительница и сестра Тутмеса III.
Здесь мумии пролежали никем не потревоженные три тысячи лет. Точное местонахождение захоронения было, очевидно, забыто; в этом, вероятно, сыграла свою роль одна их тех случайностей, благодаря которым после первого, в общем поверхностного, ограбления осталась непотревоженной гробница Тутанхамона: например, сильный ливень, после которого вход в часть долины оказался занесенным глиной. Другой случайности — путешествию уже в наши дни американского коллекционера в Луксор — мы обязаны тем, что эта колоссальная общая гробница фараонов была обнаружена в 1875 году нашей эры.
Глава 15 МУМИИ
История Долины царей теряется во тьме столетий. "Сейчас нам трудно представить себе, — пишет Картер, — как выглядела эта пустынная долина, населенная призраками, в существовании которых египтяне не сомневались. Ее подземные галереи были ограблены и опустошены, входы во многие из них открыты и служили убежищем для лисиц, сов и летучих мышей. Но и ограбленная, опустевшая, скорбная Долина не утратила своего романтического очарования. Она по-прежнему оставалась Священной Долиной царей и, вероятно, продолжала привлекать толпы любопытных и чувствительных посетителей. Кроме того, некоторые гробницы Долины во времена правления Осоркона (900 годы до н. э.) вновь использовались для погребения жриц".
Через тысячу лет Долина царей была заселена первыми отшельниками-христианами, которые устроили себе кельи в пустых сирингах. "Блеск и роскошь царей уступили место смиренной бедности. Пышная усыпальница фараона превратилась в тесную келью отшельника".
Но и это изменилось. Традиция предназначила Долину царей служить убежищем одновременно и для царей и для грабителей. В 1743 году английский путешественник Ричард Пикок составил ее первое современное описание; гидом ему служил какой-то шейх, Пикоку удалось осмотреть четырнадцать открытых могил. (Страбону, как мы уже упоминали, было известно сорок, сейчас насчитывают шестьдесят одну.) Район этот был ненадежным. На холмах Курны раскинула свой лагерь шайка разбойников. Двадцать шесть лет спустя Долину царей посетил Джеме Брюс. Вот что он рассказывает в своих записках об одной попытке выкурить грабителей из их нор: "Все они объявлены вне закона и подлежат, если их удастся где-либо схватить, смертной казни. Осман-бей, прежний наместник Гиргэ, не желая более терпеть безобразий, творимых этими людьми, приказал набрать сухого хворосту и осадил вместе со своими солдатами ту часть горы, где жило большинство этих отверженных; он приказал завалить хворостом все их пещеры и поджечь его; большинство разбойников погибло. Впрочем, они быстро пополнили свои ряды".
Когда Брюсу вздумалось остаться на ночь в погребальной камере для того, чтобы снять копию с настенного рельефа в гробнице Рамсеса III, испуганные туземцы-проводники стали шуметь и всячески выражать свое недовольство, а потом побросали свои факелы и ушли, оставив Брюса в темноте. "Уходя, они всю дорогу выкрикивали по моему адресу страшные пророчества о великом несчастье, которое разразится тотчас же после их ухода из гробницы". Когда же Брюс вместе с единственным оставшимся ему верным слугой начал в кромешной тьме спускаться к Нилу, к своей лодке, поднялся невообразимый шум: со всех сторон послышались крики, а сверху из темноты пронеслось несколько камней и раздались выстрелы. Эта усиливавшаяся стрельба и заставила Брюса сократить свой визит — ему пришлось чуть ли не бегством спасаться из Долины царей. А когда тридцать лет спустя наполеоновская Египетская комиссия приступила к обмеру гробниц и самой Долины царей, она тоже была обстреляна фиванскими разбойниками.
Сегодня в Долину царей стекаются приезжие со всего света. Одна из самых драгоценных, выдающихся находок в этой древней земле была сделана всего лишь каких-нибудь двадцать лет назад. Теперь и в этом месте кричащие драгоманы награждают ударами палок своих ослов; из гостиницы Кука, расположенной возле Деир аль-Бахари, приходят посетители, а арабы-зазывалыцики на прекрасном английском языке приглашают всех желающих осмотреть "царские гробницы".
И невольно перед вашим взором проносится вся необычайная история Нильской долины, ее царей, ее народов; а когда читаешь в путеводителе о том, что наиболее заслуживающие внимания гробницы, в том числе и гробница Тутанхамона, три раза в неделю по утрам освещаются электрическим светом, становится немного грустно и смешно.
Наиболее значительная находка в Долине царей была сделана в 1922 году; она взбудоражила общественное мнение всей Европы и вызвала такой интерес, какой выпадал до тех пор на долю лишь одного археологического открытия открытия Шлиманом Трои. Однако за несколько десятилетий до этого почти столь же поразительная находка, но сопровождаемая еще более странными обстоятельствами, была сделана в долине Деир аль-Бахари.
Мы уже упоминали об американце, которому удалось раздобыть на кривых улочках Луксора ценный египетский папирус. Европейский эксперт, установив подлинность этого документа и его значение, поинтересовался, каким образом он попал в руки американского путешественника. Довольный удачей, коллекционер, зная, что на европейской территории у него уже никто не может отнять добычу, охотно рассказал обо всем, ничего не утаивая и отнюдь не преуменьшая своих заслуг. Эксперт написал подробное письмо в Каир. Так был сделан первый шаг к знакомству с неслыханным фактом осквернения могил.
Когда профессор Гастон Масперо получил в своем музее в Каире письмо из Европы, его взволновали два обстоятельства. Во-первых, то, что музей снова лишился ценнейшей находки. Снова — ибо не более как за шесть лет до этого на черном рынке непонятно откуда появились редкие и чрезвычайно ценные в научном отношении вещи, происхождение которых не удавалось выяснить даже в тех случаях, когда счастливые покупатели, выехав за пределы Египта, соглашались рассказать, каким образом им удалось их приобрести. В большинстве рассказов фигурировал некий высокий незнакомец; в одних рассказах он был арабом, в других — юношей негром, нищим феллахом и даже состоятельным шейхом. Во-вторых, Масперо был озадачен тем, что папирус, о котором его уведомляли, был извлечен, как сообщалось в письме, из усыпальницы одного из царей XXI династии, то есть именно той самой династии, о гробницах которой ничего не было известно. Кто нашел эту гробницу? И была ли она гробницей одного царя? Если бы профессор Масперо мог увидеть те сокровища, сведения о которых достигли его ушей, то даже поверхностный осмотр убедил бы его в том, что они относились к погребальному инвентарю различных фараонов. Предположение, что современным осквернителям гробниц удалось обнаружить сразу несколько древних усыпальниц, казалось просто невероятным. Гораздо более правдоподобной представлялась мысль, что они сумели найти одну из больших общих гробниц. Перспективы, которые открывало подобное заключение, не могли не взволновать такого ученого, как Масперо. Необходимо было что-то предпринять. Между тем египетская полиция поставила на этом деле крест. Оставалось одно: самому заняться поисками грабителей. Так в результате ряда совещаний с очень узким кругом участников в Луксор был откомандирован один из молодых ассистентов Масперо.
С того самого момента, как ассистент покинул корабль, он повел себя совсем иначе, чем обычный археолог. Он поселился в том же отеле, что и американец, раздобывший папирус. А затем по всем углам и закоулкам базара днем и ночью стал слоняться некий молодой богатый "франк". Он покупал различные безделушки, щедро за них расплачиваясь; ведя конфиденциальные переговоры с торговцами, он никогда не забывал оставить собеседнику "на чай", однако не больше обычного, чтобы не возбудить подозрений. Ему предлагали немало различных "раритетов", изготовленных местными кустарями, но молодой человек, слонявшийся весной 1881 года по Луксору, был знатоком своего дела и его не так-то легко было провести. В этом вскоре убедились и постоянные и "дикие" торговцы Луксора. Это внушило им уважение, а от уважения к доверию один шаг. И вот в один прекрасный день некий торговец, часами стоявший в ожидании покупателей возле своей лавчонки, позвал его к себе. А затем ассистент Египетского музея увидел небольшую статуэтку.
Ему удалось сдержаться и придать своему лицу совершенно безучастное выражение. Присев рядом с торговцем на циновку, он принялся торговаться, не выпуская из рук статуэтку; он знал, что она подлинная — об этом свидетельствовала выгравированная на ней надпись; более того, она, несомненно, была взята из гробницы какого-то фараона XXI династии.
Торговля длилась долго. В конце концов ассистент купил статуэтку, но особого восторга при этом не выразил. Он дал недвусмысленно понять, что ищет что-нибудь более значительное, более ценное. Тогда его еще до наступления вечера познакомили с неким высоким арабом в расцвете лет — Абд аль-Расулом, главой большой семьи. А когда юный ассистент поговорил с ним в последующие дни подробнее, когда этот араб показал ему наконец после новых встреч несколько других античных раритетов, на этот раз из эпохи XIX и XX династий, он велел его арестовать — молодой ученый был убежден, что нашел вора.
Вместе с некоторыми своими родственниками Абд аль-Расул был доставлен к мудиру Кены. Дауд-паша лично вел следствие, но на сцене появлялись бесчисленные свидетели, доказывавшие невиновность обвиняемого. Все жители той деревушки, в которой родился и жил Абд аль-Расул, клятвенно подтвердили, что он невиновен, более того, что невиновна и вся его семья, принадлежавшая к числу самых старых и наиболее уважаемых в общине. Тем временем ассистент, полностью уверенный в своей правоте, уже успел протелеграфировать в Каир об успехе. Теперь ему пришлось увидеть, как Абд аль-Расул и его родственники были освобождены из тюрьмы за недостатком улик. Он заклинал чиновников — те в ответ только пожимали плечами, он пошел к мудиру — тот удивленно посмотрел на него, подивился нетерпению "франка" и сказал, что нужно подождать.
Ассистент прождал день, прождал другой, а затем послал телеграмму с опровержением первого сообщения. Муки неопределенности, восточная флегматичность мудира довели его до того, что он заболел. Но мудир знал своих людей.
Говарду Картеру мы обязаны следующим рассказом, который он записал со слов одного из своих старейших рабочих, — в юности тот был схвачен как вор и приведен к мудиру. Он очень боялся строгого Дауд-пашу. К тому же его охватило щемящее чувство неуверенности, когда вместо суда его привели в частные апартаменты паши, который плескался в это время — жара была страшная — в чане с холодной водой.
Дауд-паша взглянул на него… он ничего не говорил, он просто смотрел, но и много лет спустя старый рабочий помнил этот взгляд. "Казалось, кости мои превратились в воду. Потом он спокойным голосом сказал: "Ты являешься ко мне первый раз, я тебя отпускаю, но смотри берегись, берегись, если попадешься второй раз". Я был так напуган, что решил переменить профессию, и уже никогда больше не принимался за старое".
Авторитет, которым пользовался Дауд-паша — можно, кстати, не сомневаться, что, когда одного авторитета не хватало, обращались к другим, весьма жестким мерам, — принес свои плоды, на что молодой ассистент, свалившийся, как мы уже упоминали, к этому времени в приступе лихорадки, уже перестал рассчитывать. К началу второго месяца один из родственников и соучастников Абд аль-Расула пришел к Дауд-паше с повинной и полностью во всем признался. Мудир тотчас известил об этом юного ученого, который все еще находился в Луксоре. Началось новое следствие, и вот тут-то выяснилось, что вся Курна, родная деревушка Абд аль-Расула, сплошь населена грабителями гробниц. Это ремесло передавалось от отца к сыну, оно родилось в незапамятные времена и процветало, вероятно, без значительных перерывов начиная с XIII века до н. э. Подобной династии воров мир еще не видывал!
Самой выдающейся находкой этой династии была общая гробница царей в Деир аль-Бахари. В грабеже этой гробницы странным образом переплелись случай и система. За шесть лет до описанных выше событий, в 1875 году, Абд аль-Расул случайно обнаружил в возвышающейся между Долиной царей и Деир аль-Бахари скале скрытое отверстие. Преодолев все трудности, он проник туда и убедился, что находится в обширной погребальной камере — месте захоронения мумий. Даже первого беглого осмотра было достаточно, чтобы понять: ему удалось обнаружить клад, который в состоянии обеспечить его и его семью пожизненной рентой, разумеется, если удастся сохранить тайну.
В тайну были посвящены только главные члены семьи. Они торжественно поклялись, что ни при каких обстоятельствах этой тайны не выдадут, и решили оставить находку там, где она пролежала три тысячелетия; таким образом гробница превратилась в мумифицированный банковский счет семейства Абд аль-Расул. "Снятие со счета" позволялось производить только в тех случаях, когда это было необходимо семье. Как бы невероятно это ни звучало, но им действительно удавалось сохранять таким образом тайну на протяжении целых шести лет. За эти шесть лет семейство успело разбогатеть, но 5 июля 1881 года перед входом в гробницу очутился уполномоченный Каирского музея, которого привел сам Абд аль-Расул.
Это была одна из тех шуток, которые всегда имеются наготове у судьбы: уполномоченным оказался не юный ассистент, стараниями которого были разоблачены грабители и не профессор Масперо, которому первому пришла в голову идея их выследить. Очередная телеграмма, отправленная в Каир, в которой на этот раз были приведены лишь абсолютно достоверные факты, не застала Масперо: он был в отъезде. Поскольку дело не терпело отлагательства, нужно было послать заместителя. Им оказался Эмиль Брупп-бей, брат знаменитого египтолога Генриха Бругша, в то время хранитель музея в Каире. Прибыв в Луксор, он нашел своего юного коллегу, который с таким успехом исполнял роль детектива, в лихорадке. Он нанес дипломатический визит мудиру; все заинтересованные лица пришли к единодушному заключению: чтобы прекратить дальнейшие грабежи, необходимо как можно скорее опечатать гробницу. Так Эмиль Брупп-бей в сопровождении одного только Абд аль-Расула и своего помощника араба ранним утром 5 июля очутился у входа в гробницу. То, что он увидел, напоминало о сокровищнице из сказки об Аладине, а о том, что произошло в последующие девять дней, он не мог забыть до конца своей жизни.
Им пришлось долго карабкаться по скалам. Наконец Абд аль-Расул остановился и показал рукой на небольшое отверстие в скале, которое было весьма искусно замаскировано камнями. Оно находилось в труднодоступном месте и было совершенно незаметным: нет ничего удивительного в том, что на протяжении трех тысячелетий люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. Абд аль-Расул снял с плеча веревку и объявил Бругшу, что необходимо спуститься в этот проход. Оставив подозрительного проводника под присмотром своего помощника араба, Бругш без колебаний последовал приглашению. Осторожно — в глубине души он все-таки опасался какого-нибудь подвоха со стороны этого видавшего виды вора — он спустился по веревке вниз. Но если в нем и тлел огонек надежды найти здесь какие-то ценности, он, разумеется, и в мечтах не мог себе представить, что ожидало его наяву.
Выяснилось, что вертикальный проход, по которому он спускался, уходил под землю примерно на одиннадцать метров. Закончив спуск, Бругш зажег факел, сделал несколько шагов вперед, завернул за угол и оказался перед первым большим саркофагом, за которым виднелись другие. Надпись на одном из них, стоявшем у самого входа, свидетельствовала о том, что в нем хранится мумия Сети I — та самая мумия, которую Бельцони в октябре 1817 года напрасно проискал в первоначальном склепе фараона в Долине царей. Свет факела упал на следующие саркофаги, на бесчисленные драгоценные принадлежности египетского заупокойного инвентаря, которые были небрежно разбросаны по земле и на саркофагах. Брупп двинулся дальше, шаг за шагом прокладывая себе дорогу. Внезапно он увидел саму погребальную камеру: она казалась огромной при тусклом свете факела. Саркофаги лежали как попало, вперемежку, некоторые из них были открыты, среди груды утвари и украшений лежало несколько мумий. Брупп остановился, затаив дыхание… ему было дано увидеть то, чего еще не видел ни один европеец. Мог ли он когда-либо об этом мечтать?
Перед ним были бренные останки самых могущественных правителей древнего мира. Продвигаясь где ползком, где во весь рост, он установил, что здесь лежит Яхмес I (1580–1555 годы до н. э.), который приобрел известность тем, что окончательно изгнал варварских царей-пастухов — гиксосов (с чем, однако, совершенно не связан библейский рассказ об исходе израильтян из Египта), и что здесь находится мумия Аменхотепа I (1555–1545 годы до н. э.), ставшего впоследствии святым покровителем всего Фиванского некрополя. Наконец среди многочисленных гробниц менее известных египетских фараонов он находит (не выпуская факела из рук, он вынужден на минуту присесть, чтобы справиться с охватившим его волнением) мумии обоих великих египетских правителей, слава которых пережила века: Тутмеса III (1501–1447 годы до н. э.) и Рамсеса II (1298–1232 годы до н. э.), прозванного Великим (при дворе которого, как думали во времена Бругша, вырос Моисей, законодатель еврейского народа и всего западного мира), — фараонов, один из которых царствовал пятьдесят четыре года, а другой — шестьдесят шесть лет, фараонов, сумевших не только создать на крови и слезах своих подданных мировые империи, но и удержать их в течение долгого времени в своих руках.
Потрясенный, не зная толком, с чего начать, Бругш уже при первом беглом ознакомлении с надгробными надписями наткнулся на историю о "странствующих мумиях", и перед его взором возникла картина бесчисленных ночей, под покровом которых жрецы, стремясь спасти останки фараонов от ограбления и осквернения, похищали их из Долины царей и хоронили здесь, в Деир аль-Бахари, одного возле другого. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что страх и спешка сыграли здесь свою роль: некоторые мумии были просто прислонены к стене. И только уже в Каире он прочитал с волнением то, что жрецы доверили стенам гробниц: одиссеи мертвых царей.
Он принялся считать; всего здесь оказалось сорок мумий, бренные останки сорока правивших некогда фараонов, которых почитали в свое время как богов. Три тысячи лет пролежали они, никем не потревоженные, прежде чем их удалось увидеть сначала грабителю, а затем ему — Эмилю Бругш-бею.
Несмотря на все меры предосторожности (некоторые из них фараоны предпринимали уже перед самой смертью), египетские правители были настроены весьма пессимистически: "Те, кто строил из гранита, кто замуровывал камеру в пирамиду, создавая прекрасные творения… их жертвенные камни так же пусты, как и тех уставших, которые покоятся на берегу, не оставив после себя наследников". Но, несмотря на такой пессимизм, они все же предпринимали все новые и новые меры, которые могли бы обезопасить их мертвые тела. Вот как описывает погребальные обряды и бальзамирование Геродот; он сам наблюдал их во время своего путешествия по Египту (цитируем по Говарду Картеру):
"Когда умирает какой-либо знатный человек, все женщины в доме обмазывают себе головы и даже лица землей. Затем они оставляют покойного, выбегают из дому и шествуют через город… колотя себя в грудь. Все родственники умершего присоединяются к шествию и делают то же самое. Мужчины собираются в кучу и тоже бьют себя в грудь. Закончив эту церемонию, они относят труп умершего к бальзамировщикам".
Пора, однако, рассказать кое-что и о самих мумиях. Слово "мумия" имеет несколько значений; это становится ясным, когда читаешь у Абд аль-Латифа, арабского путешественника XII века, что в Египте можно дешево приобрести употребляемую для медицинских целей "мумию". "Mumiya", или "mumiyai", арабское слово, которое в данном случае обозначает не то асфальт, не то вар, не то какое-то природное выделение скал, наподобие того, которое добывают в Мумиевой горе в Дерабгерде (Ирак). Смесью смолы и мирра назвал мумию арабский путешественник; еще в шестнадцатом и семнадцатом веках в Европе ее можно было найти повсюду, даже в прошлом столетии аптекари рекомендовали "мумию" как хорошее средство для лечения переломов и ран. Кроме того, "мумией" называли состриженные у того или иного человека волосы и ногти: по существовавшим в те времена представлениям, они были как бы его воплощением и потому вполне годились для заговоров и колдовства.
Когда мы сегодня говорим "мумия", мы имеем в виду сохранившийся от разложения забальзамированный труп; как известно, мумифицирование было особенно распространено у древних египтян. Прежде различали естественное мумифицирование и искусственное; под естественными мумиями подразумевали такие, которые сохранились не благодаря постороннему вмешательству, а чисто случайно, в силу тех или иных обстоятельств, — это, например, мумии, найденные в капуцинском монастыре в Палермо, в монастыре Гран-Сен-Бернара, в свинцовом погребе церкви в Бремене или во дворце Кведлинбурга. Таким же образом их различают и поныне, хотя и с некоторыми оговорками, поскольку многие исследования, в особенности исследования Эллиота Смита и анализ мумии Тутанхамона, произведенный Дугласом Дерри, показали, что своей чудесной сохранностью мумии в гораздо большей степени обязаны сухому нильскому климату, стерильности воздуха и песка, нежели искусству бальзамирования у древних египтян. Так было найдено немало великолепно сохранившихся мумий, похороненных не в саркофагах, а просто в песке, причем внутренности у них не были вынуты; эти мумии были ничуть не в худшем состоянии, чем забальзамированные, которые нередко подвергались разложению или превращались в бесформенную массу под воздействием смолы, асфальта, бальзамических масел и, как сказано в папирусе Ринда, "воды из Элефантины, соды из Эйлейтфиазполиса и молока из города Кимы".
В прошлом столетии было распространено мнение, будто египтяне знали секрет бальзамирования какими-то специальными химическими средствами. Аутентичное, действительно точное и полное описание мумифицирования не найдено и по сей день; вероятно, искусство мумифицирования неоднократно менялось на протяжении столетий. Так, еще Мариэтт обратил внимание на то, что мемфисские мумии, самые древние, высохшие чуть ли не до черноты, очень хрупки, а более новые — фиванские, желтоватого цвета, с матовым блеском, нередко эластичны; разумеется, все это не может быть объяснено одним лишь различием во времени.
Геродот сообщает о трех способах мумифицирования, из коих первый был в три раза дороже, чем второй, а третий — наиболее дешевым, им практически мог воспользоваться любой чиновник (но отнюдь не человек из народа — тому не оставалось ничего другого, как положиться в заботах о своем мертвом теле на благоприятный климат). В древнейшие времена удавалось сохранить только внешние формы тела. Позднее было найдено средство, которое предохраняло кожу от сморщивания, и мы можем встретить мумии с вполне сохранившимися во всей своей индивидуальности чертами лица.
Как правило, мумифицирование производилось следующим образом: вначале с помощью металлического крючка удаляли через ноздри мозг; после этого каменным ножом вскрывали брюшину и удаляли внутренности (иногда, вероятно, и через задний проход), которые укладывали в так называемые канопы (специальные сосуды); вынимали также и сердце — на его место клали каменного скарабея. Затем труп тщательнейшим образом обмывали и "солили", выдерживая его в соляном растворе больше месяца. После этого его в течение семидесяти дней высушивали.
Захоронение производилось в деревянных гробах, вкладывавшихся один в другой (в большинстве случаев им придавали форму тела), или же в каменных саркофагах; иногда несколько вложенных друг в друга деревянных гробов помещали в каменный саркофаг. Труп клали на спину, руки скрещивали на груди или животе, а иногда оставляли вытянутыми вдоль туловища. Волосы в большинстве случаев коротко остригали, но у женщин нередко оставляли. На лобке и под мышками волосы выбривали. Внутренние полости набивали глиной, песком, смолой, опилками, мотками шерсти, добавляя к этому ароматические смолы и, как это ни странно, лук. Затем начинался длительный — в этом можно не сомневаться — процесс обматывания мумии полотняными бинтами и платками, которые с течением времени так пропитывались смолами, что впоследствии ученым редко удавалось их аккуратно размотать; что же касается воров, которых прежде всего интересовали драгоценности, то они, разумеется, и не думали себя утруждать разматыванием бинтов, а просто разрезали их вдоль и поперек.
В 1898 году Лоре, тогдашний главный директор Управления раскопками и древностями, открыл, помимо целого ряда других, и гробницу Аменхотепа II. Он тоже нашел "странствующие мумии" тринадцати царей, которые во времена XXI династии были перенесены сюда жрецами, но в отличие от Бругша не нашел никаких драгоценностей. Нетронутыми остались только сами мумии (Аменхотеп так и продолжал лежать в своем саркофаге), в остальном гробница была разграблена дочиста. Тем не менее год или два спустя в эту гробницу, которая в то время по предложению Вильяма Гарстена была снова замурована, чтобы не тревожить сон мертвых царей, опять проникли воры (вероятно, они, так же как почти все их близкие и далекие предшественники, сговорились со сторожами); они выбросили из саркофага мумию Аменхотепа, сильно повредив ее при этом. Этот случай подтвердил, что Бругш, который вывез из гробницы все, что сумел, поступил правильно: всякие колебания и сомнения в этом вопросе, порожденные пиететом, при тогдашних условиях были явно неуместны. Выбравшись на поверхность из узкой шахты и расставшись с сорока мертвыми царями, Эмиль Бругш-бей принялся размышлять, как сохранить найденное. Оставить содержимое гробницы на месте означало обречь все на разграбление. Нужно было вывезти все в Каир, но для этого требовалось много рабочих, а набрать их можно было только в Курне, в родной деревушке Абд аль-Расула — прародине грабителей. Тем не менее к тому времени, когда Бругш попросил у мудира новой аудиенции, он, несмотря на возможные тяжкие последствия этого шага, решился. Следующее утро застало его вместе с тремястами феллахов у входа в гробницу. Он приказал оцепить прилегающий район и вместе со своими помощниками отобрал из общей массы небольшую группу рабочих, внушавших ему большее доверие, чем остальные. Эти рабочие (им приходилось нелегко: ведь для того, чтобы поднять тяжелые саркофаги, требовались дружные усилия шестнадцати человек) подавали наверх найденные драгоценности; тем временем Бругш и его помощники принимали их, регистрировали и раскладывали у подножия холма. Вся работа была произведена за 48 часов. Говард Картер лаконично отметил: "Нынче мы уж не работаем так поспешно". Спешка была излишней не только с точки зрения археологии: каирский пароход все равно опаздывал на несколько дней. Бругш-бей приказал запаковать мумии, укутать гробы и отправить их в Луксор. Погрузка была произведена только 14 июля.
Вот тогда-то и произошло нечто такое, что произвело на видавшего виды исследователя гораздо большее впечатление, чем сами сокровища: все, что произошло здесь во время медленного продвижения парохода вниз по течению, взволновало уже не исследователя, а просто человека, которому не были чужды чувства уважения и благоговения.
С быстротой ветра по всем деревушкам и далеко в глубь страны распространилась весть о том, какой груз скрыт в трюмах парохода. И тогда все убедились в том, что Древний Египет, видевший в своих властителях богов, еще не исчез окончательно. С верхней палубы Бругш наблюдал за тем, как на протяжении всего пути следования парохода от Луксора и до Кены сотни феллахов и их жены провожали судно. Мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, женщины обсыпали себя землей, до крови раздирали грудь песком. Плач и стенания были слышны на протяжении всего пути.
Не в силах вынести этого зрелища, Бругш отвернулся. Прав ли он в своих действиях? Быть может, в глазах тех, кто издавал эти жалобные крики и бил себя в грудь, он тоже был грабителем, одним из тех воров и преступников, которые на протяжении трех тысячелетий оскверняли гробницы? Достаточным ли оправданием могло служить то, что он действовал в интересах науки?
Много лет спустя на этот вопрос дал недвусмысленный ответ Говард Картер. То, что произошло с гробницей Аменхотепа, дало ему основание заметить: "Из этого случая можно извлечь урок; мы бы рекомендовали ознакомиться с ним тем критикам, которые называют нас вандалами за то, что мы вывозим все находки, передавая их в музеи. Между тем, отдавая найденные древности в музеи, мы заботимся об их сохранности; если их оставить на месте, они рано или поздно попадут в руки воров, что равносильно их уничтожению".
Когда Бругш-бей высадился в Каире, он не только обогатил один из музеев мира — он обогатил весь мир, предоставив ему возможность увидеть тех, кто некогда знал блеск величия и славы.
Глава 16 ГОВАРД КАРТЕР НАХОДИТ ТУТАНХАМОНА
В 1902 году египетское правительство разрешило американцу Теодору Дэвису производить раскопки в Долине царей. Дэвис копал двенадцать зим подряд. Ему посчастливилось: он обнаружил такие чрезвычайно интересные и важные для науки гробницы, как гробницы Тутмеса IV, Сипта, Хоремхеба, не говоря уже о мумии и саркофаге великого царя-еретика Аменхотепа IV (раскрашенный скульптурный портрет его жены Нефертити принадлежит, пожалуй, к наиболее известным у нас произведениям древнеегипетского искусства), того самого правителя, который называл себя Эхнатоном, что значит "угодный Атону", и на короткий срок заменил древнюю традиционную религию культом солнечного светила.
В тот год, когда Европа перепоясалась траншеями первой мировой войны, эта концессия перешла к лорду Карнарвону и Говарду Картеру. С этого, собственно, и начинается история самой выдающейся археологической находки в Египте, которая, как впоследствии писала в своей статье о Карнарвоне его сестра, "вначале напоминает сказку о волшебной лампе Аладина, а заканчивается, как греческая легенда о Немезиде".
Для нашей книги находка гробницы Тутанхамона имеет особое значение. В истории археологических открытий она, несомненно, явилась одной из вершин; в то же время, если искать в нашей науке наиболее драматические страницы это, безусловно, одна из самых ярких. Экспозицией этой науки мы обязаны Винкельману и бесчисленному множеству других систематиков, методистов и специалистов. Шампольону, Гротефенду и Раулинсону (о двух последних будет рассказано в "Книге башен") удалось распутать первые грубые узлы. Первыми, кто, активно продолжив исследование, получил широкое признание, были Мариэтт, Лепсиус и Питри в Египте, Ботта и Лэйярд в Двуречье (см. "Книгу башен") и американцы Стефенс и Томпсон в Юкатане (см. "Книгу ступеней"). Но истинно драматические высоты были достигнуты впервые в эпоху открытий Шлимана и Эванса в Трое и Кноссе, а впоследствии Кольдевея и Вуллея в Вавилоне и в Уре, на родине Авраама. Шлиман, гениальный одиночка, был последним великим дилетантом-археологом, который занимался раскопками на свой собственный страх и риск. В Кноссе и Вавилоне уже работали целые штабы специалистов. Правительства, монархи, состоятельные меценаты, богатые университеты, археологические учреждения, частные лица из всех стран современного мира посылали год за годом хорошо снаряженные экспедиции во все страны древнего мира. Однако и отдельные достижения, и опыт, накопленный многочисленными предшествующими экспедициями, были в грандиозных масштабах суммированы экспедицией, открывшей гробницу Тутанхамона. Здесь все было подчинено интересам науки. Экспедиция не знала тех трудностей, с какими столкнулись Лэйярд, которому пришлось вести борьбу с глупыми суевериями, и Эванс, потративший немало сил, чтобы преодолеть сопротивление местных властей; ей была обеспечена поддержка правительства. Зависть ученых-коллег они бранили даже Раулинсона и превратили в ад жизнь Шлимана — уступила теперь место сотрудничеству и взаимопомощи, которые могли бы послужить величайшим примером международного сотрудничества ученых в области науки. Время великих пионеров, таких, например, как Лэйярд, который один-одинешенек с ранцем за плечами отправился на осле искать исчезнувший город, миновало. Говард Картер, ученик Питри, хотя и принадлежал к археологам старого закала, превратился — если позволительно употреблять такое сравнение — в чиновника, облеченного в области археологии всей полнотой исполнительной власти, перешедшего от лихих кавалерийских рейдов в неизведанные страны к строгим методам топографа древней цивилизации.
При всем своем доктринерстве Картер все-таки умудрился сохранить энтузиазм, проявляя одновременно максимальную научную точность и добросовестность; благодаря этому он тоже занял место среди великих археологов, среди тех, кто с заступом в руках занимался не только поисками древних сокровищ и останков мертвых царей, но и пытался разгадать великие загадки человечества, воплотившего свое лицо, характер и душу в великих цивилизациях древности.
Спортсмен и собиратель произведений искусства, джентльмен и путешественник, совершивший кругосветное плавание, реалист в своих поступках и романтик в чувствах, лорд Карнарвон мог сформироваться как личность только на английской почве. Еще в бытность свою студентом Тринити-колледжа в Кембридже он однажды предложил восстановить за собственный счет первоначальный рисунок на панелях своей комнаты, испорченный последующими реставрациями; юношей он становится завсегдатаем антикварных магазинов, в зрелом возрасте страстно и с пониманием дела коллекционирует старые гравюры и рисунки. Одновременно он не пропускает ни одних бегов, тренируется в стрельбе, увлекается водным спортом и, получив в двадцать три года огромное наследство, совершает кругосветное плавание на паруснике. Третий зарегистрированный в Англии автомобиль принадлежал ему: автомобильный спорт был его страстью. Эта страсть привела к коренному перелому в его жизни — в самом начале нынешнего столетия он попадает неподалеку от Бад-Лангеншвальбаха, в Германии, в автомобильную катастрофу: переворачивается на своей машине. Помимо ряда серьезных ранений, последствием катастрофы явилось поражение дыхательных путей; настоящие приступы удушья делают невозможным для него пребывание в Англии зимой. Так, в 1903 году он впервые попадает в Египет с его более мягким климатом, и здесь — на раскопки, которые велись различными археологическими экспедициями. Богатый независимый человек, не имевший до этого определенной цели в жизни, он увидел в этой деятельности поистине великолепную возможность сочетать не покинувшую его страсть к спорту с серьезными занятиями искусством. В 1906 году он приступает к самостоятельным раскопкам, но той же зимой приходит к выводу, что его знания совершенно недостаточны. Он обращается за помощью к профессору Масперо, и тот рекомендует ему молодого Говарда Картера.
Сотрудничество этих людей было необыкновенно плодотворным. Говард Картер великолепно дополнял лорда Карнарвона: он был всесторонне образованным исследователем и еще до того, как лорд Карнарвон пригласил его наблюдать за всеми проводимыми им раскопками, успел приобрести немало практических знаний у Питри и Дэвиса. Но при всем этом он вовсе не был лишенным фантазии регистратором фактов, хотя некоторые критики и упрекали его в чрезмерном педантизме. Он был человеком с практическим складом ума и одновременно редким храбрецом, настоящим сорвиголовой. Эти его качества в полной мере проявились во время одного памятного события 1916 года.
Он находился в кратком отпуске в Луксоре, когда однажды к нему в сильном смятении пришли старейшины деревни с просьбой оказать им поддержку и помощь. Дело в том, что из-за войны, которая стала чувствоваться даже здесь, в Луксоре сильно уменьшилось число чиновников, контроль и полицейский надзор ослабли; этим не преминули воспользоваться бравые потомки Абд аль-Расула, принявшиеся за свое традиционное ремесло. Одна из банд этих грабителей нашла на западном склоне холма, расположенного в самом конце Долины царей, какой-то клад. Едва об этом узнала банда их соперников, как они предприняли все возможное, чтобы завладеть предполагаемыми сокровищами. То, что разыгралось вслед за этим, напоминало плохой гангстерский фильм.
Дело дошло до вооруженной схватки между обеими бандами. "Первооткрыватели" были разбиты и изгнаны, предполагалось, что кровавая распря на этом не закончится. Картер находился в отпуске, он не нес никакой ответственности за все эти безобразия, и все-таки он решил вмешаться. Впрочем, приведем его собственный рассказ.
"Был уже поздний послеобеденный час. Я поспешно собрал тех немногих моих рабочих, которые еще не были мобилизованы, и, соответственным образом их вооружив, отправился к месту происшествия. Нам пришлось совершить при свете луны более чем шестисотметровое восхождение по склону горы, нависшему над Курной. Была уже полночь, когда мы прибыли на место; наш проводник показал мне веревку, свисавшую с отвесной скалы. Прислушавшись, мы услышали, как внизу трудились грабители. Прежде всего я перерезал веревку, лишив тем самым грабителей возможности ускользнуть, а затем, надежно укрепив свой канат, спустился по нему вниз. Спускаться в полночь на веревке в логово занятых своим делом грабителей — времяпрепровождение, не лишенное, во всяком случае, своеобразной занятности. Я застал там восемь человек, и, когда я приземлился, мне пришлось пережить несколько не слишком приятных мгновений. Я предложил им выбор: либо убраться, воспользовавшись моим канатом, либо остаться на месте, но уже без веревки, и, следовательно, не имея возможности выбраться на волю. В конце концов благоразумие одержало верх, и они убрались. Остаток ночи я провел там же".
Чтобы составить себе полное представление об этом воинственном археологе, необходимо его скромный и даже несколько сухой рассказ, в котором об опасностях говорится лишь мимоходом и с юмором висельника, расцветить собственной фантазией. Впрочем, если бы Картер и предоставил грабителей самим себе, их все равно ждало разочарование. Дело в том, что найденный ими клад оказался гробницей, первоначально, вероятно, предназначенной для царицы Хатшепсут; никаких сокровищ там не было — стоял лишь незаконченный саркофаг из кристаллического песчаника.
Карнарвон и Говард Картер начали работать вдвоем. Только осенью 1917 года им удалось настолько увеличить масштаб работ, что появилась надежда на успех. Тогда же и произошло то, с чем мы уже неоднократно встречались в истории науки: с самого начала им удалось напасть на то место, где, собственно, и было впоследствии сделано открытие. Однако ряд внешних обстоятельств — критические размышления, оттяжки, сомнения и, прежде всего, "указания специалистов" затормозили все дело и привели к тому, что оно чуть было вообще не лопнуло.
Разве не произошло в свое время нечто похожее с одним из самых первых археологов, неким неаполитанским кавалером Алькубиерре, которому посчастливилось б апреля 1748 года, в самом начале своих раскопок, наткнуться на центр Помпеи? Не поняв этого, он вновь засыпал раскопки, полный нетерпения, принялся копать в других местах. Прошли годы, прежде чем он понял, что первый удар заступа и был-то как раз верным.
Перед Карнарвоном и Картером лежала Долина царей. Десятки людей копали здесь до них, и ни один не оставил каких-либо мало-мальски точных записей или планов этих раскопок. Горы мусора и щебня громоздились здесь одна возле другой; между ними были видны проходы в уже обнаруженные гробницы. Существовал только один путь — приступить к планомерным раскопкам и вести их до тех пор, пока не докопаешься до скального грунта. Поэтому Картер предложил начать раскопки в треугольнике, образованном гробницами Рамсеса II, Меренпта и Рамсеса VI. "Рискуя, — писал он впоследствии, — быть обвиненным в том, что я проявляю прозорливость задним числом, я тем не менее считаю себя обязанным заявить, что мы твердо надеялись найти совершенно определенную гробницу, а именно гробницу фараона Тутанхамона".
Это звучит неправдоподобно, если представить себе разрытую вдоль и поперек Долину царей, более того, неправдоподобно смело, особенно если учесть, что у обоих исследователей было очень мало оснований для подобных надежд, а весь ученый мир решительно склонялся к мысли, что время великих открытий в Долине царей миновало. За сто лет до этого Бельцони, раскопав могилы Рамсеса I и Сети I, Эйе и Ментухотепа, писал: "Я твердо убежден, что в долине Бибан аль-Мулук нет никаких других гробниц, кроме тех, которые стали известны благодаря моим недавним открытиям, ибо, прежде чем покинуть это место, я сделал все, что было в моих скромных силах, чтобы обнаружить хотя бы еще одну гробницу, но все было безуспешно; эта моя точка зрения находит свое подтверждение и в том, что независимо от моих исследований, после того как я покинул это место, британский консул господин Солт провел там четыре месяца, пытаясь найти еще какую-нибудь гробницу, но все его старания оказались тщетными".
Через двадцать семь лет после Бельцони Долину царей тщательно исследовала большая немецкая экспедиция. Когда она отправилась назад, ее руководитель Рихард Лепсиус был убежден, что экспедиция исчерпала все возможности и все, что можно было здесь найти, найдено. Это, однако, не помешало Лорэ на рубеже прошлого и нынешнего столетий найти несколько новых, ранее неизвестных гробниц, а Дэвису сделать то же самое после него. Однако в описываемое время в Долине царей не оставалось, наверное, ни одной песчинки, которую бы по меньшей мере трижды не переместили с одного места на другое, и, когда Мосперо в качестве начальника Управления раскопками и древностями подписывал концессию на раскопки лорда Карнарвона, он не преминул выразить твердую уверенность, в данном случае уже как ученый, что концессия эта, собственно, является излишней: в Долине невозможны никакие новые находки.
Но почему же Картер все-таки, несмотря на все эти обстоятельства, надеялся обнаружить здесь гробницу, и притом не вообще какую-либо гробницу, а совершенно определенную — царя Тутанхамона? Начнем с того, что ему были хорошо известны находки Дэвиса, которые он видел собственными глазами; среди этих предметов был найден под одной скалой фаянсовый кубок с именем Тутанхамона, а неподалеку от скалы, почти совсем рядом с ней, в одной шахте-могиле Дэвис нашел деревянную шкатулку. На обломках золотой пластинки, лежавшей в шкатулке, тоже было имя Тутанхамона. Дэвис сделал несколько поспешный вывод, заключив, что данная шахта-могила и является местом погребения этого царя. Картер пришел к другому заключению, которое подтвердилось тоща, когда выяснилось, что при первом исследовании была допущена ошибка в определении третьей находки Дэвиса. Речь шла о нескольких сосудах, найденных в одном углублении скалы и наполненных не представлявшими на первый взгляд большого интереса глиняными черепками и свертками полотна. При повторном исследовании (оно было произведено в Музее Метрополитен в Нью-Йорке) внезапно выяснилось, что это, несомненно, остатки материалов, которые были использованы во время погребения Тутанхамона. Но и это еще не все: когда Дэвису удалось обнаружить убежище царя-еретика Эхнатона, он нашел там несколько глиняных печатей Тутанхамона.
Все это звучит весьма убедительно; на первый взгляд у Картера были все основания утверждать, что гробница Тутанхамона, хотя попытки ее найти и закончились неудачей, должна находиться где-то неподалеку от того места, где были найдены эти предметы, то есть в центре Долины царей. Но вспомним о трех тысячелетиях, прошедших со дня захоронения, вспомним о бесчисленных грабителях и о жрецах, перетаскивавших с места на место мумии, вспомним, наконец, и о тех разрушениях, которые произвели своими нередко безграмотными раскопками неопытные археологи… В распоряжении Картера имелись только несколько золотых пластинок, фаянсовый кубок, пара глиняных сосудов и несколько печатей — это были все его "доказательства". Нужно было обладать безграничной верой в свое счастье, чтобы, основываясь только на этом, прийти не просто к надежде, а к твердому убеждению, что гробницу Тутанхамона найти удастся.
Приступив к раскопкам, Карнарвон и Картер в продолжение зимы убрали внутри намеченного треугольника почти весь верхний слой мусора и щебня и довели раскопки до подножия открытой гробницы Рамсеса VI. "Здесь мы наткнулись на ряд хижин для рабочих — на несколько лачуг, которые были построены на куче обломков кремня, что, как известно, всегда служит в Долине верным признаком близости какой-либо гробницы".
События нескольких последующих лет приобретали постепенно все более напряженный характер.
Из-за туристов, вернее, потому, что дальнейшие раскопки помешали бы осмотру охотно посещаемой туристами гробницы Рамсеса, Карнарвон и Картер решили прекратить раскопки в этом месте до более благоприятных времен. Таким образом, зимой 1919/20 года они произвели раскопки лишь у входа в гробницу Рамсеса VI и нашли там в небольшом тайнике некоторые имевшие известный археологический интерес предметы заупокойного инвентаря. "Никогда еще за время нашей работы в Долине мы не были так близки к настоящему открытию", писал впоследствии Картер.
Теперь они "разворотили", как сказал бы Питри, весь треугольник, за исключением того клочка земли, на котором стояли хижины рабочих. И снова они оставляют нетронутым этот последний участок, снова отправляются в другое место, в небольшую, прилегающую к Долине царей лощину, к гробнице Тутмеса III, роются там два года подряд и в конце концов не находят ничего ценного.
Тогда они собираются и вполне серьезно обсуждают вопрос, не следует ли все-таки после столь ничтожных результатов долголетних исследований перенести раскопки в совершенно другое место. По-прежнему нераскопанным остается только тот пятачок земли, где стоят лачуги рабочих и находится куча кремневых обломков — небольшой кусочек территории у подножия гробницы Рамсеса VI. После долгих колебаний они наконец решают посвятить Долине царей еще одну, на этот раз действительно последнюю, зиму.
И вот они начинают копать как раз в том месте Долины царей, где они остановились за шесть лет до этого, — на том месте, где находятся лачуги рабочих и кучи кремня. На этот раз, когда они наконец осуществили то, что могли сделать еще за шесть лет до этого — срыли лачуги, — им тотчас же, чуть ли не с первым ударом кирки, удалось обнаружить вход в гробницу Тутанхамона, в богатейшую царскую гробницу Египта. Картер пишет: "Внезапность этой находки так ошеломила меня, а последующие месяцы были так наполнены событиями, что я едва нашел время собраться с мыслями и все это обдумать".
Третьего ноября 1922 года Картер (лорд Карнарвон находился в это время в Англии) приступил к сносу лачуг — это были остатки жилищ времен XX династии. На следующее утро под первой лачугой была обнаружена каменная ступенька. К вечеру пятого ноября, после того как были убраны горы мусора и щебня, уже не оставалось никаких сомнений в том, что удалось найти вход в какую-то гробницу.
Однако это могла быть и какая-нибудь незаконченная или же неиспользованная, пустая гробница. А если в ней и находилась мумия, не исключалось, что и эту гробницу, как и многие другие, давно уже осквернили и разграбили. Наконец, чтобы перебрать все пессимистические варианты, скажем, что гробница могла принадлежать вовсе не царю, а какому-нибудь придворному или жрецу.
По мере того как продвигалась работа, возрастало и волнение Картера. Ступенька за ступенькой высвобождались из-под мусора и щебня, и к тому времени, когда внезапно, как всегда в Египте, зашло солнце, все увидели двенадцатую ступеньку, а за ней "верхнюю часть закрытой, обмазанной известкой и запечатанной двери". "Запечатанная дверь! Значит, действительно… Это мгновение могло взволновать и бывалого археолога".
Картер осмотрел печати: это были печати царского некрополя. Следовательно, там, в гробнице, покоился прах какой-то действительно высокопоставленной особы. Поскольку жилища рабочих уже со времен XX династии закрывали вход в гробницу, она, во всяком случае с этого времени, должна была стать недоступной для воров. Картер, дрожа от нетерпения, проделал в двери небольшое отверстие такого размера, чтобы туда можно было просунуть электрическую лампочку, и обнаружил, что весь проход по ту сторону двери завален камнями и щебнем; это лишний раз доказывало, что гробницу пытались максимально обезопасить от непрошеных гостей.
Когда Картер, оставив раскоп под охраной самых верных своих людей, возвращался при свете луны домой, ему пришлось вступить в тяжелую борьбу с самим собой.
"За этим ходом могло находиться все, буквально все что угодно, и мне пришлось призвать на помощь все мое самообладание, чтобы не предаться искушению сейчас же взломать дверь и продолжать поиски", — записал Картер в своем дневнике после того, как он заглянул в проделанное им в двери отверстие. Теперь, когда он верхом на ослике спускался по склону Долины царей, им овладело жгучее нетерпение. Внутренний голос нашептывал ему, что после шести лет бесплодного труда он наконец стоит на пороге великого открытия; и все-таки он — трудно не восхищаться этим — принимает решение засыпать раскоп и ждать возвращения лорда Карнарвона, своего друга и сотрудника.
Утром 6 ноября Картер посылает Карнарвону телеграмму: "Наконец удалось сделать замечательное открытие в Долине. Великолепная гробница с нетронутыми печатями; до Вашего приезда все снова засыпано. Поздравляю". Восьмого он получает два ответа:
"Приеду по возможности быстро"; "Предполагаю двадцатого быть в Александрии".
23 ноября лорд Карнарвон вместе со своей дочерью прибыл в Луксор. Более двух недель провел Картер в жгучем нетерпении, в томительном ожидании перед вновь засыпанной гробницей. Уже через два дня после открытия на него обрушился град поздравлений, но с чем, собственно, его поздравляли — с каким открытием, чьей гробницы? Этого Картер не знал. Если бы он продолжил раскоп буквально на несколько сантиметров, он бы увидел абсолютно ясный и отчетливый оттиск печати Тутанхамона. "Я бы лучше спал по ночам и избавил бы себя от трех недель мучительной неопределенности".
Ко второй половине дня 24 ноября рабочие очистили все ступеньки. Сойдя с последней, шестнадцатой, Картер очутился перед запечатанной дверью. Он увидел оттиск печати с именем Тутанхамона и одновременно то, с чем пришлось столкнуться чуть ли не всем исследователям гробниц: следы грабителей, которые и здесь сумели опередить ученых; здесь, так же как и в других местах, воры успели сделать свое дело.
"Так как теперь была видна вся дверь, мы сумели увидеть то, что до этого было скрыто от наших взоров, а именно: часть замурованного прохода дважды вскрывали и вновь заделывали; ранее найденные нами печати — шакал и десять пленников — были приложены к той части стены, которую открывали, печати же Тутанхамона, которыми и была первоначально запечатана гробница, находились на другой, нижней, нетронутой части стены. Таким образом, гробница вовсе не была, как мы надеялись, совершенно нетронутой. Грабители побывали в ней, и даже не раз. Хижины, о которых мы уже упоминали, свидетельствовали о том, что грабители действовали еще до царствования Рамсеса VI, а то обстоятельство, что гробница была вновь запечатана, говорило о том, что грабителям не удалось очистить ее полностью".
Но это еще не все. Сомнения и беспокойство, охватившие Картера, все усиливались. Когда последние ступеньки были очищены от мусора и грязи, он нашел большое количество черепков и разбитые сундуки с именами Эхнатона, Сменхкара и Тутанхамона, скарабей Тутмеса III и часть другого скарабея с именем Аменхотепа III. Свидетельствовало ли это множество имен фараонов о том, что вопреки ожиданиям здесь находилась не одиночная гробница, а захоронение нескольких царей?
Ясность в этот вопрос можно было внести, только открыв дверь. Все последующие дни и были заполнены этой работой. За дверью — Картер установил это еще тогда, когда заглянул в проделанное им отверстие, — находился проход, заваленный камнями и щебнем. По расположению щебня можно было отчетливо определить, где именно в этот проход проникли грабители (они прорыли узкий туннель) и каким образом они снова засыпали его. После многодневной работы археологи наткнулись на глубине примерно десяти метров на вторую дверь. Здесь также были печати Тутанхамона и царского некрополя, но и здесь были отчетливо видны следы незваных гостей.
Основываясь на том, что все это сооружение очень напоминало тайник Эхнатона, который был найден неподалеку от этого места, Картер и Карнарвон уже почти не сомневались, что перед ними не гробница, а тайник. А много ли можно ожидать от тайника, да еще такого, в котором побывали грабители?
Надежд оставалось мало, и тем не менее, по мере того как перед второй дверью уменьшалась куча щебня, напряжение все нарастало. "Наступал решающий момент, — пишет Картер, — дрожащими руками мы проделали маленькое отверстие в левом верхнем углу…"
Взяв железный прут. Картер пропустил его сквозь отверстие; прут не встретил преграды. Тогда Картер зажег спичку и поднес ее к отверстию: никаких признаков газа. Он принялся расширять отверстие.
Теперь вокруг него столпились все: лорд Карнарвон, его дочь леди Эвелин Герберт и египтолог Кэллендер, который, едва узнав о новой находке, поспешил предложить свои услуги в качестве помощника. Нервно чиркнув спичкой. Картер зажигает свечу и трепетной рукой подносит ее к отверстию, но горячий ток воздуха, вырывающийся из отверстия, чуть было не задувает ее, и в мерцании света Картеру не сразу удается разглядеть то, что находится за дверью. Постепенно глаза его привыкают, и он различает сначала контуры, потом первые краски, и, когда наконец ему становится ясно видно содержимое камеры, расположенной по ту сторону двери, победный крик застывает у него на устах… он молчит. Для тех, кто стоит в ожидании рядом с ним, это мгновение кажется вечностью. "Видите ли вы там что-нибудь?" — спрашивает его Карнарвон, не в силах более вынести неизвестность. Медленно, словно завороженный, Говард Картер поворачивается к нему. "О да, — говорит он проникновенно, — удивительные вещи!"
"Можно не сомневаться, что за всю историю археологических раскопок никому до сих пор не удавалось увидеть что-либо более великолепное, чем то, что вырвал из мрака наш фонарь", — сказал Картер, когда первое волнение улеглось и исследователи один за другим смогли уже спокойно подойти к проделанному в двери отверстию. Его слова подтвердились, когда открыли 17 ноября дверь и луч света от сильной электрической лампочки заплясал на золотых носилках, на массивном золотом троне, на двух матово поблескивающих черных больших статуях, на алебастровых вазах, на каких-то необычайных ларцах. Головы диковинных зверей отбрасывали на стены чудовищные тени; словно часовые, стояли одна против другой две статуи "с золотыми передниками, в золотых сандалиях, с палицами и жезлами. Их лбы обвивали золотые изображения священных змей". И среди всей этой роскоши мертвых, которую невозможно было охватить взглядом, виднелись следы живых: возле двери стоял наполовину наполненный известкой сосуд, неподалеку от него черная от сажи лампа, в другом месте на стене был заметен отпечаток пальца, на пороге лежала гирлянда цветов — последняя дань усопшему. Словно завороженные, стояли Карнарвон и Картер, глядя на всю эту мертвую роскошь и на сохранившиеся на протяжении стольких тысячелетий следы жизни; прошло немало времени, прежде чем они очнулись и убедились, что в этом помещении настоящем музее сокровищ — не было ни саркофага, ни мумии. Неужели вновь должен был всплыть уже не раз обсуждавшийся вопрос: гробница или тайник?
Однако, обойдя шаг за шагом все помещения, они обнаружили между часовыми еще одну, третью, запечатанную дверь. "В мыслях нам уже представилась целая анфилада комнат, похожих на ту, в которой мы находились, тоже наполненных сокровищами, и у нас захватило дух". 27 ноября они обследовали дверь и при свете сильных электрических ламп, которые к тому времени удалось установить Кэллендеру, убедились в том, что почти на уровне пола, рядом с дверью находится ход, тоже запечатанный, правда позднее, чем сама дверь. Значит, и здесь успели побывать грабители. Что же могло скрываться в этой второй камере или втором коридоре? Если за этой дверью находилась мумия, то в каком виде? Была ли она цела? Здесь было немало загадочного. Странной была и планировка этой гробницы, не похожая ни на одну из найденных ранее. Еще более странным было то обстоятельство, что грабители старались проникнуть за третью дверь, не обратив никакого внимания на те богатства, которые находились перед ними. Что же они искали, если спокойно прошли мимо кучи золотых вещей, лежавших в первом помещении?
Оглядевшись, Картер увидел в этой удивительной сокровищнице нечто более важное, чем материальные ценности. Какое великолепное представление о прошлом, какое множество ценнейших сведений могли дать науке собранные в этом помещении вещи! Здесь находились бесчисленные предметы материальной и духовной культуры древних египтян, и каждый из них мог послужить достаточным вознаграждением за зиму тяжелых археологических раскопок. Более того, египетское искусство целой эпохи было представлено здесь в таком многообразии и такими совершенными образцами, что Картеру было достаточно беглого взгляда, чтобы понять: тщательное изучение всех этих сокровищ "приведет к изменению, если не к полному перевороту во всех прежних воззрениях и теориях".
Вскоре исследователи сделали еще одно важное открытие: в камере, помимо всего прочего, стояли три больших ложа. Заглянув под одно из них, один из исследователей обнаружил небольшую дыру. Он позвал остальных. Осветив отверстие лампой, они увидели маленькую боковую камеру, меньшую, чем первую, но также до отказа наполненную всякими предметами обихода и драгоценностями. Насколько об этом можно было судить, в гробнице все осталось в том виде, в каком ее покинули грабители; они прошли здесь, "как хорошее землетрясение". И снова возникает вопрос: грабители перерыли тут все, они (об этом можно говорить совершенно определенно) перебросили некоторые вещи и предметы из боковой камеры в переднюю, они кое-что повредили, разбили, но почти ничего не украли — даже то, что, так сказать, само лезло им в руки. Быть может, их спугнули?
Вплоть до этого момента все — и Картер, и Карнарвон, и остальные находились словно в чаду и плохо соображали, что делали. Но теперь, увидев содержимое боковой камеры, догадываясь, что за третьей дверью их ожидает нечто совершенно необычное, они начинают понимать всю сложность стоящей перед ними научной задачи и то, какой большой работы и строгой организации потребует ее разрешение.
Разобраться в этой находке, даже только в том, что им уже удалось обнаружить, за один сезон было невозможно!
Глава 17 ЗОЛОТАЯ СТЕНА
Когда мы теперь слышим, что Карнарвон и Картер решили засыпать только что раскопанную гробницу, мы знаем, что это не имело ничего общего с аналогичными действиями их предшественников, быстро раскапывавших, но и не менее быстро засыпавших места своих находок.
Археологические работы в районе, где были найдены предметы с именем Тутанхамона, велись в то время, когда еще не было уверенности в существовании самой гробницы, тем не менее они были с самого начала так обстоятельно продуманы и спланированы, что могут служить в этом деле образцом, хотя, разумеется, необходимо учитывать и то обстоятельство, что, если бы находка была менее сенсационна, в распоряжении археологов вряд ли оказались бы такие вспомогательные средства, как у Картера и Карнарвона.
Картеру было ясно одно: ни в коем случае не следует торопиться с раскопками. Не говоря уже о необходимости твердо установить первоначальное расположение всех найденных предметов (это было важно для датировки и других определений), следовало считаться и с тем, что значительная часть утвари и многие драгоценности были повреждены, и, прежде чем дотрагиваться до них, необходимо было принять меры для их консервации, то есть соответствующим образом обработать и упаковать. Учитывая и то обстоятельство, что на этот раз дело касалось находки, невероятной по объему, нужно было заготовить соответствующее количество упаковочных материалов и различных препаратов. Необходимо было посоветоваться со специалистами и создать лабораторию, где производилось бы немедленное исследование тех важных находок, которые нельзя было сохранить. Одна лишь каталогизация такого большого числа находок уже требовала большой предварительной организационной работы. Все эти проблемы нельзя было разрешить, сидя на месте. Карнарвону необходимо было съездить в Англию, а Картеру — хотя бы в Каир. Тогда-то Картер и принял решение засыпать раскоп. Только такая мера могла, по его мнению (хотя на месте и оставался за сторожа Кэллендер), обезопасить гробницу от современных последователей Абд аль-Расула. Мало того, едва прибыв в Каир, Картер заказал тяжелую железную решетку для внутренней двери.
Основательность и точность, с которыми проводились эти самые знаменитые египетские раскопки, были во многом обусловлены той зачастую самоотверженной помощью, которую Карнарвон и Картер с самого начала получали со всех концов мира. Впоследствии Картер выразил в печати свою благодарность за оказанную ему всестороннюю помощь, и он имел все основания это сделать. Он начал с того, что привел письмо, посланное ему в свое время неким Ахмедом Гургаром, руководившим рабочими, которые принимали участие в раскопках. Мы тоже приведем это письмо, ибо мы не хотим прославлять одну лишь интеллектуальную помощь. Вот оно:
Карнак, Луксор 5 августа 1923 года Мистеру Говарду Картеру, эскв. Досточтимый сэр!
Я пишу Вам письмо в надежде, что Вы живы и здоровы, и молю Всевышнего, чтобы Он не оставил Вас в своих заботах и возвратил нам в добром здравии, целым и невредимым. Осмеливаюсь сообщить Вашей светлости, что склад № 15 в полном порядке, сокровищница в порядке, северный склад в порядке, и дом в порядке, и все рабочие исполняют то, что Вы приказали в своих предписаниях.
Хусейн, Газ Хасан, Хасан Авад, Абделад-Ахмед и все шлют Вам свои наилучшие пожелания.
Шлю свои наилучшие пожелания Вам, всем членам семьи лорда и всем Вашим друзьям в Англии.
С нетерпением ожидающий Вашего скорейшего приезда,
Ваш покорный слуга
Ахмед Гургар.
В ответ на робкую просьбу о помощи, с которой Картер обратился к членам одной экспедиции, работавшей в районе Фив, Лайсгоу, руководитель египетского отделения нью-йоркского Музея Метрополитен, предоставил ему в полное распоряжение своего фотографа Гарри Бертона, несмотря на то что лишался таким образом нужного ему работника; в своем ответе Картеру он писал: "Рад быть хоть чем-нибудь полезным. Прошу полностью располагать Бертоном точно так же, как и любым членом нашей экспедиции". В результате к Картеру перекочевали еще рисовальщики Холл и Хаузер и руководитель раскопок в районе пирамид Лишта А. К. Мейс. Директор египетского государственного департамента химии А. Лукас из Каира предоставил себя и свой трехмесячный отпуск в распоряжение Картера. Д-р Алан Гардинер занялся надписями, а профессор Джеме Г. Брэстед из Чикагского университета поспешил приложить свои знания для определения датировки найденных Картером древних оттисков печатей.
Несколько позднее, 11 ноября 1925 года, Салех-бей Хамди и Дуглас Е. Дерри, профессор анатомии Египетского университета, приступили к исследованию мумии. А. Лукас написал обширную монографию "Химия в гробнице" о металлах, маслах, жирах и тканях. П. Э. Ныоберри исследовал найденные в гробнице венки и гирлянды цветов и сумел установить, какие цветы росли три тысячи триста лет назад на берегах Нила. Более того, ему даже удалось по цветам и ягодам определить, в какое время года был похоронен Тутанхамон: зная, когда цветет василек, когда созревают мандрагора — "яблоко любви" из Песни песней — и черноягодный паслен, он пришел к выводу, что Тутанхамон был похоронен не ранее середины марта и не позднее конца апреля. "Особые материалы" исследовали также Александр Скотт и X. Дж. Плендерлейт.
Это творческое содружество специалистов (некоторые из них были специалистами в областях, далеко отстоящих от археологии и истории древнего мира) явилось верным залогом того, что научные результаты этих раскопок оказались более значительными, чем каких-либо прежних.
Теперь можно было приступить к работе. 16 декабря раскоп был вновь раскрыт. 18 декабря фотограф Бертон сделал пробные снимки, а 27-го первая находка была извлечена на поверхность.
Основательная работа требует времени. Раскопки в гробнице Тутанхамона продолжались несколько зим. Подробное их описание не входит в нашу задачу, мы следуем за ярким и красочным рассказом Картера лишь в его узловых моментах и не имеем поэтому возможности подробно останавливаться на описании всех находок. Однако нельзя не упомянуть о двух-трех самых значительных, таких, например, как деревянный ларец, принадлежащий к числу наиболее выдающихся в художественном отношении произведений древнеегипетского прикладного искусства. Он был покрыт тонким слоем гипса и весь расписан. Яркость красок чудесно сочетается здесь с поразительно тонким и точным рисунком, а сцены охоты и военные сцены так великолепно скомпонованы и в то же время настолько детально выписаны, что "превосходят даже персидские миниатюры". Этот ларец был наполнен самыми разными предметами; примером тщательности в работе может служить тот факт, что Картер затратил три недели тяжелого, кропотливого труда, пока добрался до дна этого ларца.
Не менее важной находкой были три больших ложа, о существовании их было известно и ранее из росписей на стенах гробниц, но найти их, однако, до сих пор не удавалось. Это были удивительные сооружения, с возвышением не для головы, а для ног. На одном из них красовались изображения львиных голов, на втором — коровьих, на третьем можно было увидеть голову полукрокодила-полугиппопотама. На ложах были горой навалены драгоценности, оружие и одежда, а сверху лежал трон. Его спинка была так изумительно разукрашена, что Картер впоследствии "без всяких колебаний" утверждал: "Это самое красивое из всего, что до сих пор было найдено в Египте".
Наконец, следует еще упомянуть о четырех колесницах, которые были слишком велики, чтобы их можно было целиком внести в гробницу, и потому их распилили; впоследствии грабители перевернули и раскидали их части. Все четыре колесницы были сверху донизу покрыты позолотой: каждый дюйм их поверхности был украшен орнаментом и рисунками или же инкрустациями из цветного фаянса и камня.
В одной лишь первой камере исследователи нашли не менее шестисот-семисот различных предметов. О внешних и внутренних трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в работе — один неверный шаг мог разрушить то, что невозможно было возместить, — у нас еще будет случай поговорить подробнее.
13 мая при +37 °C в тени по узкоколейке были доставлены к специально зафрахтованному пароходу первые тридцать четыре тяжелых ящика с находками. Расстояние было небольшое — всего полтора километра, но, так как рельсов не хватало, пришлось прибегнуть к хитрости: когда вагонетка проходила некоторое расстояние, путь позади нее разбирали, а снятые рельсы укладывали впереди вагонетки. Так драгоценные находки проделали обратный путь спустя три тысячелетия после того, как они были торжественно доставлены с берега Нила в гробницу усопшего царя. Еще через семь дней они были в Каире.
К середине февраля из первой камеры было вывезено все. Теперь можно было продолжить раскопки, чего с нетерпением ожидали все, и вскрыть третью дверь — ту самую, которая находилась между двумя статуями-часовыми. Теперь наконец настало время выяснить, находится ли в соседней камере мумия.
Когда в пятницу, 17 февраля, в 2 часа дня в передней комнате гробницы собралось примерно двадцать человек, удостоившихся чести присутствовать при этом событии, ни один из них не подозревал, что именно суждено ему увидеть через какие-нибудь два часа.
Ведь после находки сокровищ, которые теперь уже были в безопасности, трудно было себе представить, что может быть найдено еще что-либо более ценное, более значительное.
Гости — члены правительства и ученые — заняли свои места. Когда Картер взобрался на своего рода помост, приставленный к двери (с него было удобнее разбирать кирпичную кладку), наступила мертвая тишина.
С величайшими предосторожностями Картер принялся разбирать кладку. Работа была тяжелой и требовала много времени: кирпичи могли обрушиться и повредить то, что находится за дверью. Кроме того, нужно было попытаться сохранить в целости важные для науки оттиски печатей. Когда было проделано первое отверстие, "искушение сейчас же прервать работу, — пишет сам Картер, — и заглянуть в расширявшееся отверстие было так велико, что мне с трудом удавалось его побороть".
Мейс и Кэллендер помогали ему. Когда через десять минут Картер, несколько расширив отверстие, просунул в него электрическую лампочку, по рядам присутствующих пробежал тревожный шепот.
То, что он увидел, было совершенно неожиданно, невероятно и в первое мгновение совершенно непонятно: перед ним была стена. Она тянулась и вправо и влево, вверх и вниз, тускло поблескивая при свете лампочки, она закрывала весь ход. Картер просунул руку как можно дальше — перед ним была массивная золотая стена! Он начал расширять отверстие. Теперь уже и все остальные увидели блеск золота. По мере того как он вынимал кирпичи, золотая стена вырисовывалась все явственнее, и тогда "мы, — пишет Картер, — словно по невидимым проводам, стали ощущать нараставшее волнение зрителей".
Прошло еще несколько минут, и Картеру, Мейсу и Кэллендеру стало ясно, что представляет собой эта стена. Они действительно стояли перед входом в погребальную камеру, но то, что они приняли за стену, на самом деле было всего лишь передней стенкой самой огромной и дорогой усыпальницы, которую когда-либо кому-либо приходилось видеть, — усыпальницы, внутри которой должны были находиться саркофаги и наконец сама мумия.
Понадобилось два часа тяжелой работы для того, чтобы расширить отверстие настолько, чтобы в него можно было войти. Потом наступила пауза, казалось, натянутые до предела нервы не выдержат этого напряжения; на самом пороге были найдены рассыпанные бусины ожерелья, вероятно оброненного грабителями. Не обращая внимания на зрителей, которые, дрожа от нетерпения, ерзали на стульях, Картер с педантичностью истинного археолога, для которого не существует незначительных находок, тщательно собрал все бусины и лишь после этого продолжил работу. Погребальная камера, как оказалось, находилась примерно на метр ниже, чем передняя комната, Захватив с собой лампу. Картер спустился вниз. Да, перед ним был обитый листовым золотом ящик, покрывавший сверху саркофаг, причем он был столь огромен, что занимал чуть ли не все помещение, Лишь узкий проход — всего 65 см — отделял его от стены. Продвигаться по этому проходу можно было только с величайшей осторожностью: он весь был заставлен погребальными приношениями.
Теперь наступил черед лорда Карнарвона и Лако. Войдя в камеру, они остановились в безмолвии. Затем они обмерили саркофаг. Позднейшие, более точные измерения дали следующие результаты: 5,20х3,35х2,75 м.
Он действительно был сверху донизу покрыт золотом, по сторонам его были инкрустации из блестящего синего фаянса, испещренные магическими знаками, которые должны были охранять покой умершего.
Теперь всех троих больше всего волновал один вопрос: сумели ли грабители проникнуть дальше, цела ли мумия? Картер обнаружил, что расположенные с восточной стороны большие двустворчатые двери были хотя и закрыты на засов, но не запечатаны. Дрожащей рукой он отодвинул засов. Со скрипом раскрылись двери, и перед ним оказался еще один обитый золотом ящик. Как и первый, он был заперт, но на этот раз печать была цела!
Все трое облегченно вздохнули. Наконец-то. До сих пор грабителям всюду удавалось их опередить. Здесь же первыми были они. Следовательно, мумия цела, невредима и находится там, где она была похоронена три тысячелетия назад.
Тихо, насколько это только было возможно, прикрыли они дверь. Они чувствовали себя захватчиками, они видели блеклый полотняный погребальный покров, свисавший над внутренним ящиком; "мы словно чувствовали присутствие умершего фараона, и долгом нашим было отнестись к нему с благоговением".
В этот момент, находясь на вершине научного успеха, они, казалось, были не способны к каким-либо дальнейшим открытиям: слишком грандиозным было то, что представилось их взорам, и все-таки уже буквально в следующую минуту они очутились перед новым открытием.
Дойдя до другого конца погребального покоя, они неожиданно обнаружили маленькую, низенькую дверь, которая вела в следующее помещение сравнительно небольшую по размерам комнату. С того места, где они находились, они могли видеть ее содержимое. Можно ли представить себе, что там было, если Картер после всего того, что он видел в гробнице, написал об этой комнате: "Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что именно здесь находятся величайшие сокровища гробницы"?
Посередине помещения возвышался покрытый золотом ларец. Его окружали изваяния четырех богинь-охранительниц, грациозные фигуры которых были так естественны и живы, а их лица настолько исполнены сострадания и скорби, что "уже одно созерцание их казалось чуть ли не кощунством".
Медленно возвращались археологи назад и снова прошли мимо обитого золотом ящика в переднюю комнату. Теперь в обнаруженное помещение могли войти остальные. "Было любопытно наблюдать, как они один за другим появлялись на пороге двери: у всех блестели глаза, все разводили руками, жестом показывая, что не в силах выразить словами обуревавшие их чувства".
Около пяти часов пополудни, через три часа после того, как они вошли в гробницу, все снова поднялись на поверхность. Было еще светло, и, хотя здесь ничего не изменилось, Долина царей предстала перед ними (может быть, это им только показалось?) в каком-то новом свете.
Дальнейшее исследование этой величайшей в истории археологии находки растянулось на несколько зим. К сожалению, первая зима пропала чуть ли не полностью: скончался лорд Карнарвон; кроме того, совершенно неожиданно возникли трения с египетским правительством по вопросу о продлении концессии и дележе находок. В конце концов благодаря вмешательству других стран удалось достичь приемлемого урегулирования вопроса. Работа могла продолжаться. Зимой 1926/27 года были сделаны наиболее важные дальнейшие шаги: был вскрыт обитый золотом ящик, были вынуты многочисленные драгоценные гробы и исследована мумия Тутанхамона. Эта стадия работы, в которой было мало неожиданного для жадной до сенсации публики, но много для специалистов-египтологов, также имела свой кульминационный пункт. Им явился момент, когда исследователи впервые взглянули в лицо тому, кто тридцать три столетия подряд был недоступен для взоров смертных. В том, что именно этот желанный миг одновременно принес Картеру единственное разочарование, которое ему пришлось испытать за все годы исследования гробницы, не было, собственно, ничего необычного: в цепи удач, как и во всякой цепи, всегда найдется слабое звено.
Работа началась с того, что была снесена кирпичная стена, отделявшая переднюю комнату от погребальной камеры. Затем исследователи разобрали первый ящик; в нем находился второй, во втором — третий.
У Картера были определенные основания считать, что теперь-то наконец появится гроб. Впрочем, предоставим слово ему самому.
"Сдерживая волнение, приступил я к вскрытию третьего ящика. Я, наверное, никогда не забуду этот напряженнейший момент нашей кропотливой работы. Я разрезал веревку, удалил драгоценную печать, отодвинул засов, открыл дверцы и… перед нами оказался четвертый ящик. Он был точно такой же, как и остальные, но только еще роскошнее и красивее, чем третий. Какой незабываемый миг для археолога: впереди снова неизвестность. Что скрывалось за незапечатанными дверцами этого ящика? В страшном волнении я отодвинул засов… Медленно открылись дверцы. Перед нами, заполняя собой чуть ли не весь ящик, стоял огромный, совершенно целый саркофаг из желтого кристаллического песчаника. Казалось, чьи-то милосердные руки только что опустили его крышку. Какое незабываемое, великолепное зрелище! Золотое сияние ящика еще больше усиливало впечатление. По четырем углам саркофага распростерли крылья богини, словно защищая и охраняя того, кто спал здесь вечным сном".
Восемьдесят четыре дня понадобилось для того, чтобы извлечь ящики из погребальной камеры. Все они состояли примерно из восьмидесяти частей; каждая часть была тяжелой, неудобной для переноски и чрезвычайно хрупкой.
Как это часто бывает, возвышенное здесь соседствовало со смешным: нельзя без улыбки читать те строки, в которых Картер, став на время специалистом по демонтированию, бранит тех, кто некогда собирал эти ящики. Отдавая должное великолепному мастерству умельцев, которые изготовили и аккуратнейшим образом пометили все детали, проставив на них номера и условные знаки, он осуждает тех, кто собирал ящики уже непосредственно в гробнице: монтаж велся, очевидно, в спешке и совершенно безответственно отдельные части перепутаны и неверно установлены; дверцы, например, открывались на запад, а не на восток, а гроб был установлен так, что покойник лежал обращенный к востоку, а не к западу. "Эту ошибку им еще можно простить… другие же — указывали на явную неряшливость. Отдельные части были скреплены с риском повредить их позолоченные украшения. Глубокие следы от ударов какого-то тяжелого инструмента вроде молотка и по сей день видны на позолоте, кое-где отбиты части облицовки; мусор, оставшийся после работы, например древесные стружки, так и не был убран".
Наконец 3 февраля, после того как последний ящик был вынесен на поверхность, исследователи увидели саркофаг во всем его великолепии высеченный из цельной желтой кварцитовой глыбы, в 2,75 метра длиной, полтора метра шириной и полтора метра высотой. Сверху он был прикрыт гранитной плитой.
В тот день, когда лебедки со скрипом начали поднимать эту плиту, вес которой составлял около полутора тонн, в гробнице снова собралось множество видных деятелей. "Когда плита начала подниматься, наступила мертвая тишина. В первый момент всех охватило разочарование: ничего, кроме просмоленных полотняных бинтов. Но когда бинты были размотаны, все увидели мертвого фараона".
Впрочем, это не совсем так. Они увидели не фараона, а его скульптурный портрет из золота, изображавший фараона в очень юном возрасте. Золото ослепительно блестело; скульптура выглядела так, как будто ее только что принесли из мастерской. Голова и руки были вылеплены объемно, тело же дано в плоскостном рельефе. В скрещенных руках фараон держал знаки царского достоинства: жезл и инкрустированное синим фаянсом опахало. Лицо было сделано из чистого золота, глаза из арагонита и обсидиана, брови и веки из стекла цвета лазурита. Это лицо напоминало в своей неподвижности маску, и в то же время оно было словно живое.
Огромное впечатление на Картера и на всех присутствующих произвел трогательный скромный венок — последнее прости любимому супругу от молодой вдовы. Вся царская роскошь, блеск золота и великолепие похоронного убранства меркнет перед этим увядшим букетом, не потерявшим, однако, еще окончательно своей естественной окраски. Цветы эти лучше, чем что-либо другое, свидетельствуют о мимолетности тысячелетий. А когда зимой 1925/26 года Картер вновь спустился в гробницу, чтобы вскрыть гроб, он записал: "И вновь овладело нами ощущение таинственности, благоговение перед давно минувшими, но все еще могущественными тайными силами, витающими над гробницей".
Эти слова не следует считать данью сентиментальности, в них нашли свое выражение чисто человеческие чувства. Приятно сознавать, что строгому исследователю не были чужды благородные душевные порывы.
Мы не имеем возможности останавливаться на частностях и на отдельных мелких происшествиях, связанных со вскрытием саркофага. Работа была длительной и трудоемкой, она проходила в тесном помещении, в котором буквально негде было повернуться; любой промах, неверно приложенный полиспаст, упавшая балка могли привести к беде: повредить находившиеся здесь уникальные сокровища. Так же как крышка первого гроба, крышка второго изображала лежащего в богатом убранстве юного фараона, точнее говоря, это было скульптурное изображение фараона в образе бога Осириса. То же самое увидели и тогда, когда вскрыли третий гроб. В ходе всей работы ее участники обратили внимание на то, что гробы были очень тяжелыми. Здесь исследователи снова столкнулись с неожиданностью, которым, казалось, не будет конца. Когда Бертон сделал свои снимки, а Картер убрал цветы и снял полотняный покров, причина этой поразительной тяжести стала ясна с первого взгляда: третий гроб длиной 1,85 м был сделан из чистого массивного золота толщиной 2,5–3,5 мм. Трудно было определить его материальную ценность. Однако вслед за этой неожиданностью, которую можно назвать приятной, последовала вторая, которая вызвала у исследователей серьезнейшие опасения. Еще тогда, когда они рассматривали второй гроб, они обратили внимание на то, что его орнамент местами попорчен сыростью. Теперь же выяснилось, что все пространство между вторым и третьим гробами наполнено по самую крышку какой-то черной склеившейся массой. Правда, им все же удалось очистить от этой похожей на вар массы двойное ожерелье из золота и фаянсовых бус, но перед исследователями встал тревожный вопрос: в каком состоянии находится мумия, не повредило ли ей это явно чрезмерное количество масел и смол? Когда один из сотрудников дотронулся до последнего куска полотна и гирлянды из украшенного бусами фаянса — на вид и то и другое, казалось, хорошо сохранилось, — они рассыпались: священные масла разъели их.
Лукас тотчас же приступил к анализу этой массы. Очевидно, это была какая-то жидкая или полужидкая субстанция, состоявшая в основном из жиров и смол, что же касается древесной смолы, запах которой эта масса издавала при нагревании, то ее присутствие первоначально не удалось доказать.
Теперь вновь всеми овладело волнение — наступал последний решающий момент.
Было вынуто несколько золотых гвоздиков, затем крышка гроба была приподнята за золотые скобы. Тутанхамон, которого они искали шесть долгих лет, лежал перед ними.
"Сложные и противоречивые чувства, овладевающие человеком в такие моменты, невозможно выразить словами", — пишет Картер.
Пора, однако, ответить на вопрос, который, вероятно, давно уже вертится у всех на языке: кто же был этот фараон, этот Тутанхамон, которому была приготовлена столь роскошная гробница?
Как это ни странно, он был весьма незначительным правителем и умер восемнадцати лет от роду. О нем известно, что он был зятем Эхнатона, царя-еретика, и, весьма вероятно, его родным сыном. Юность свою он провел в поклонении Атону — это было время религиозных реформ его тестя. Впоследствии он вернулся в лоно старой религии, на это указывает его имя: из Тутанхатона он превратился в Тутанхамона. Нам известно, что время его правления было весьма смутным. Мы видим на изображениях, как он глумится над пленными и во время боя с поистине царским размахом косит своих врагов чуть ли не целыми рядами. Впрочем, у нас нет никаких сведений, пришлось ли ему самому хотя бы раз участвовать в сражении; мы даже не знаем, сколько лет продолжалось его правление (оно относится примерно к 1350 году до н. э.). Трон он получил благодаря своей жене Анхес-ан-Амун, на которой женился в очень раннем возрасте (это была, если портреты не льстят оригиналу, очаровательная женщина).
По многочисленным портретам и рельефам на стенах гробницы, по таким личным вещам царя, как, например, трон, мы можем составить себе известное представление о некоторых чертах его характера, причем в целом оно будет благоприятным. Но о его государственных деяниях у нас нет сведений, о времени его царствования известно весьма мало; впрочем, вряд ли успел совершить что-нибудь значительное человек, скончавшийся в восемнадцать лет.
Поэтому Картер в своем историческом обзоре с полным основанием приходит к лаконичному выводу: "При нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно: единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен".
Но если этот восемнадцатилетний ничем не примечательный фараон, не совершивший ничего значительного, был похоронен с такой роскошью, переходящей по западноевропейским представлениям все дозволенные границы, то как же должны были хоронить Рамсеса Великого и Сети I? Какие же приношения и погребальные дары были собраны в их гробницах? Именно Сети I и Рамсеса имел в виду Дерри, когда говорил: "Можно не сомневаться, что в каждой из их погребальных камер находилось больше драгоценностей, чем во всей гробнице Тутанхамона". Каким колоссальным богатствам суждено было на протяжении веков попасть в руки грабителей Долины царей!
Мумия была и прекрасна и ужасна: в свое время ее с бессмысленной щедростью обмазали маслами и благовониями, а теперь все это склеилось, образовав черную затвердевшую массу. На фоне темной бесформенной массы резко выделялась блестевшая истинно по-царски золотая маска; на ней, впрочем, так же как и на ногах, не было никаких следов масел.
После многих безуспешных попыток исследователям в конце концов все же удалось отделить деревянный гроб от золотого. Это был длительный процесс, в ходе которого пришлось нагреть золотой гроб до температуры в 500 °C, предварительно обложив его для сохранности листами цинка.
Когда же наконец уже можно было приступить к исследованию самой мумии, единственной мумии Долины царей, которая пролежала на одном месте никем не потревоженная тридцать три столетия, внезапно выяснилось одно немаловажное обстоятельство; вот как говорит о нем сам Картер: "Ирония судьбы — ученым пришлось в этом убедиться — заключалась в том, что те мумии, которые побывали в руках грабителей и жрецов, сохранились лучше, чем эта, нетронутая". Это неудивительно: они были спасены от разъедающего воздействия масел; нередко они были основательно повреждены (в тех случаях, когда их покой был потревожен не жрецами, а грабителями) и в большинстве случаев ограблены до нитки, но они сохранились гораздо лучше, чем мумия Тутанхамона, которая в этом отношении принесла ученым разочарование, — пожалуй, единственное разочарование, которое им пришлось здесь пережить.
11 ноября в 9 час. 45 мин. утра анатом доктор Дерри сделал первый надрез в верхней части обмотанного промасленными полотняными бинтами туловища фараона. За исключением лица и ног, не соприкасавшихся с маслами, мумия была в ужасном состоянии. Окисление смолянистых веществ вызвало своего рода самовозгорание, которое было таким сильным, что в результате обуглилась не только значительная часть бинтов, но и мертвая ткань и даже кости мумии. Затвердевшую массу пришлось кое-где выковыривать с помощью скальпеля. Совершенно неожиданное открытие было сделано, когда под серповидным валиком, напоминавшим по своей форме корону, был найден амулет. В самой находке амулета не было ничего необычного. Тутанхамон был полностью оснащен "магическим вооружением" — в складках бинтов, в которые была запеленута мумия, находилось бесчисленное множество амулетов и всяких символических и магических предметов. Как правило, такие амулеты были из гематита, а этот был железным! Амулет относился к числу наиболее ранних железных изделий Египта, и не без иронии следует заметить, что в наполненной чуть ли не до отказа золотом гробнице именно эта скромная находка имела наибольшую, с точки зрения историка культуры, ценность.
Наконец настал самый напряженный и чрезвычайно ответственный момент: начали удалять остатки бинтов с головы. Оказалось, что для этого достаточно легчайшего прикосновения кисточкой из соболиного волоса: истлевшие остатки льняной ткани рассыпались, и все присутствовавшие увидели… впрочем, дадим слово самому Картеру: "…благородное, с правильными чертами, полное спокойствия, нежное юношеское лицо с четко очерченными губами".
Трудно даже себе представить, какое невероятное количество украшений было найдено на мумии. Под каждым слоем бинтов обнаруживали все новые и новые драгоценности. Всего Картер насчитал сто одну группу различных украшений. На пальцах рук и ног были надеты золотые наконечники. Из тридцати трех страниц, на протяжении которых Картер описывает вскрытие мумии, половина посвящена рассказу о найденных на ней сокровищах. Этот юноша, этот восемнадцатилетний фараон был буквально усыпан с ног до головы золотом и драгоценными камнями.
Позднее профессор Дерри, который произвел вскрытие мумии, посвятил ее анатомическому исследованию специальную монографию. Мы упомянем здесь только о трех его важнейших выводах. Прежде всего он устанавливает — и не бездоказательно, — что Тутанхамон был сыном Эхнатона; это имеет немаловажное значение для восстановления династических связей и соответственно политических событий, относящихся ко времени вымиравшей XVIII династии.
Далее он делает одно весьма интересное с точки зрения истории изобразительного искусства замечание о реалистическом характере египетского искусства эпохи Тутанхамона; неоднократно об этом упоминал и Картер. Впрочем, предоставим слово самому Дерри: "Золотая маска изображает Тутанхамона милым и благородным юношей. Тот, кому выпало счастье увидеть лицо мумии, может подтвердить, насколько точно и верно передал искусный художник времен XVIII династии черты усопшего фараона, оставив нам навечно в нетленном металле великолепный портрет юного правителя".
Наконец, уже как анатом он дает заключение о возрасте царя (об этом не сохранилось никаких исторических сведений). На основании исследования сочленений конечностей он приходит к выводу, что Тутанхамон скончался в возрасте семнадцати-девятнадцати лет, вероятнее всего, в восемнадцать лет.
На этом, собственно говоря, можно было бы закончить рассказ о раскопках гробницы Тутанхамона (исследования боковой камеры и маленькой камеры, в которой были собраны драгоценности, дали хотя и важные, но для наших целей все же второстепенные сведения),
если бы не одно особое обстоятельство. Речь идет о так называемом проклятии фараона, о таинственной смерти чуть ли не двадцати человек, участвовавших в свое время в раскопках гробницы Тутанхамона.
За все двести лет существования археологии как науки ни одно археологическое открытие не получило такого широкого признания и известности, как находка гробницы Тутанхамона. Недаром это открытие было осуществлено в век ротационных машин, фотографии, кино и радио, тогда еще только входившего в жизнь. Прежде всего участие общественности нашло свое выражение в поздравительных телеграммах. Затем прибыли репортеры; потом, поскольку весть о найденных сокровищах распространилась по всему свету, начали поступать всякого рода письма — и от критиков и от доброжелателей. Одни, по свидетельству Картера, гневно протестовали против осквернения гробницы, другие присылали патенты на моды похоронной одежды. В первую зиму ежедневно приходило десять-пятнадцать в лучшем случае никому не нужных, в худшем — бессмысленных посланий. "Что можно, например, сказать о человеке, пишет Картер, — который вполне серьезно спрашивает, не может ли открытие гробницы Тутанхамона бросить луч света на события в Бельгийском Конго?"
Потом начали прибывать посетители — это было настоящее паломничество к гробнице. Многие делали снимки; поскольку работа, в особенности в первое время, продвигалась медленно и те или иные находки лишь изредка попадали в поле зрения зевак — обычно тогда, когда что-либо несли для исследования в лабораторию, — многие фотолюбители чуть ли не сутками ждали подходящего случая "щелкнуть". Картер увидел однажды, как кусок ткани с мумии, который несли для исследования в лабораторию, сфотографировали восемь раз. За три месяца 1926 года, в самый разгар всеобщих разговоров о Тутанхамоне, его гробницу посетили 12 300 туристов, а лабораторию — 270 групп.
Вполне понятно, что рядовая газета, которая должна была держать своих читателей в курсе событий, волновавших весь мир, не могла заказывать каждую статью или сообщение по египтологии специалистам-египтологам. По вине телеграфа, а также из-за различных искажений, проскользнувших в наспех составленных сообщениях, в газетных статьях, посвященных находке гробницы Тутанхамона, были допущены некоторые ошибки и неточности. Сенсационные подробности всегда более интересны для газеты, чем сухой перечень фактов, это в порядке вещей. Ясно, что в данном случае дело не обошлось без фантазии.
Когда и как возник миф о проклятии фараона, сегодня уже трудно установить. Вплоть до тридцатых годов нынешнего столетия вся мировая печать вновь и вновь посвящала ему свои страницы. Тем не менее с точки зрения научной достоверности этот миф ничем не отличается от упоминавшейся уже нами цифровой мистики Большой пирамиды или время от времени всплывающей на страницах прессы совершенно недоказанной истории о семенах древнеегипетской пшеницы, которые якобы, несмотря на трех-четырехтысячелетнее пребывание в гробницах, где их действительно иногда находят среди прочих жертвоприношений, не потеряли своей всхожести. После того как этот "факт" стал достоянием широких слоев населения, туристы начали довольно часто находить древние семена: об этом заботятся гиды и, надо сказать, не остаются внакладе.
Проклятие фараона принадлежит к тому же слегка щекочущему нервы развлекательному чтиву, что и известные россказни о проклятии алмаза Хоупс и менее известные — об ударах судьбы, которые обрушились на тех, кто стал жертвой проклятия монахов Лакромы. (Изгнанные с острова, носящего это имя, они прокляли его. Все последующие владельцы острова — император Максимилиан, царица Елизавета Австрийская и кронпринц Рудольф, король Людовик II Баварский и эрцгерцог Франц Фердинанд погибли насильственной смертью.)
Основанием для легенды о проклятии фараона послужила, вероятно, безвременная смерть лорда Карнарвона, который скончался от укуса москита после трехнедельной тщетной борьбы с болезнью. Тотчас после его смерти раздались голоса о "возмездии богохульнику".
Вскоре нашлось место и для нового сообщения о "жертве проклятия Тутанхамона" — появилась статья под заголовком "Месть фараона", а затем заговорили о второй, третьей, седьмой, девятнадцатой жертве. Об этой девятнадцатой жертве говорилось, в частности, в телеграфном сообщении из Лондона, датированном 21 февраля 1930 года и опубликованном в одной немецкой газете: "Сегодня семидесятивосьмилетний лорд Вестбурн выбросился из окна своей квартиры в Лондоне, расположенной на седьмом этаже, и разбился насмерть. Сын лорда Вестбурна, который в свое время в качестве секретаря известного археолога Картера принимал участие в раскопках гробницы Тутанхамона, был в ноябре прошлого года найден утром мертвым в своей постели, хотя с вечера был вполне здоров и не жаловался на недомогание. Причина его смерти так и не была точно установлена".
"Страх объял Англию…" — писала одна газета после того, как скончался Арчибальд Дуглас Рейд, который хотел сделать рентгеновский снимок мумии. Двадцать первая "жертва фараона" — египтолог Артур Вайгалл умер от "неизвестного вида лихорадки".
Затем сообщается о смерти А. К. Мейса, того самого, который совместно с Картером вскрыл погребальную камеру. В сообщении, однако, не упоминался тот факт, что Мейс был уже давно болен;
превозмогая недуг, он все-таки помогал Картеру, но в конце концов именно из-за своей болезни был вынужден прекратить раскопки.
Наконец, "покончив с собой в состоянии душевной депрессии", умирает сводный брат лорда Карнарвона Обрей Герберт. И — это действительно действует ошеломляюще — в 1929 году от укуса какого-то насекомого умирает леди Карнарвон. К 1930 году из числа непосредственных участников раскопок остается в живых только Говард Картер.
"Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушит покой фараона" так звучит один из многих вариантов надписи, якобы найденной в гробнице Тутанхамона и получившей название "Проклятие фараона". Когда в один прекрасный день появилось сообщение о том, что в Америке при таинственных обстоятельствах скончался некий мистер Картер и что фараон тем самым предостерегает самого первооткрывателя, расправляясь с членами его семьи, в дело наконец вмешались несколько ведущих археологов, которых возмутила вся эта газетная галиматья.
Первым выступил сам Картер. Как исследователь, он, разумеется, подходил к своей работе с благоговейным трепетом и чувством полной ответственности, но без того ужаса и содрогания, которых так жаждет падкая на сенсацию толпа. Он говорил о "смехотворных россказнях" и о "разновидностях обычных церковных историй". Далее он переходит к рассмотрению вопроса по существу, поскольку во всех сообщениях утверждалось, будто каждый перешагнувший через порог гробницы подвергает свою жизнь опасности, впрочем, это очень легко могло быть объяснено с научной точки зрения. Он говорит о доказанной стерильности гробницы — это было предметом тщательного исследования, — и горько звучат его заключительные слова: "В этой глупой болтовне поражает полное отсутствие элементарного понимания вещей. Мы, очевидно, вовсе не так далеко продвинулись по дороге морального прогресса, как это представляется многим людям".
Проявив тонкое понимание того, каким образом необходимо воздействовать на мнение общественности, в 1933 году выступил немецкий профессор Георг Штейндорф. Он обратил, в частности, особое внимание на те сообщения, происхождение которых еще требовало выяснения. Он констатировал, что погибший в Америке Картер не имел ничего общего, кроме фамилии, со знаменитым исследователем. Он утверждал далее, что оба Вестбурна не были ни прямо, ни косвенно связаны ни с гробницей, ни с мумией. И после целого ряда доказательств он приводит решающий аргумент: проклятия фараона вообще не существует: оно никогда не было высказано, его не содержит ни одна надпись. Он подтвердил то, что мимоходом заметил Картер: "В египетском похоронном ритуале вообще не существует подобного рода проклятий, он требует лишь выказывать усопшим благоговение и уважение". Стремление же превратить немногие охранительные формулы заклинания, встречающиеся на некоторых магических фигурах в погребальных камерах, в какие-то проклятия нельзя расценивать иначе, как прямую фальсификацию, как прямое искажение их смысла. Эти формулы лишь "должны отпугнуть врага Осириса (умершего), в каком бы обличье этот враг не появился".
После открытия гробницы Тутанхамона в Египте производили раскопки многие археологические экспедиции. В 1939, 1940 и 1946 годах профессор Пьер Монтэ обнаружил вблизи Туниса целую группу царских захоронений XXI и XXII династий, в том числе гробницу фараона Псусеннеса. В вырубленных в скалах галереях длиной более километра профессор Сами Габра обнаружил места поклонения Ибису, бесконечные могилы священных животных. Другая египетская экспедиция открыла древнейшие гробницы, относящиеся к III–II тысячелетиям до н. э. Доктор Ахмед Бадави и доктор Мустафа аль-Амир в 1941 году обнаружили случайно (они были заняты совершенно другими раскопками) стелу в честь Аменхотепа II и целую, никем не потревоженную гробницу царевича Шешонка, богатую драгоценностями.
С чего началась эта глава? С Египетского похода Наполеона, с рождения смуглолицего мальчика по имени Жан-Франсуа Шампольон. Но к тому времени, когда звезда Наполеона уже начала закатываться, а Шампольон еще только приступил к изучению иностранных языков, некий школьный учитель из Геттингена страстно заинтересовался попавшими к нему в руки копиями необычных надписей. А когда ему удалось проникнуть в тайну этих письмен, создались, предпосылки нового завоевательного похода науки в царство, еще более древнее, чем Египет, занимавшее некогда междуречье Тигра и Евфрата, в страну Вавилонской башни и Ниневии во времена ее величия и падения.
КНИГА БАШЕН
"Многие годы живу я в этой стране. Мой отец и отец моего отца разбивали здесь до меня свои палатки, но и они никогда не слышали об этих истуканах. Вот уже двенадцать столетий правоверные — а они, слава Аллаху, только одни владеют истинной мудростью — обитают в этой стране, и никто из них ничего не слыхал о подземных дворцах, и те, кто жил здесь до них, тоже. И смотри! Вдруг является чужеземец из страны, которая лежит во многих днях пути отсюда, и направляется прямо к нужному месту. Он берет палку и проводит линию: одну — сюда, другую — туда. "Здесь, — говорит он, — находится дворец, а там — ворота", и он показывает нам то, что всю жизнь лежало у нас под ногами, а мы даже и не подозревали об этом. Поразительно! Невероятно! Откуда узнал ты об этом — из книг? С помощью волшебства или тебе помогали ваши пророки? Ответь мне, о бей, открой мне секрет мудрости!"
Из беседы шейха Абд ар-Рахмана с английским археологом Лэйярдом
Глава 18 В БИБЛИИ СКАЗАНО…
О зверствах ассирийцев сказано в Библии, о сооружении Вавилонской башни и блистательной Ниневии, о семидесятилетнем пленении евреев и о правителе Навуходоносоре, о божьем суде над "великой блудницей"* и о чашах гнева его, которые семь ангелов излили на приевфратские земли. (*Великой блудницей Библия называла древнюю Ассиро-Вавилонию.)
Пророки Исайя и Иеремия рассказывали о своих видениях — мрачных картинах грядущего разрушения "красы царств", "гордости халдеев": оно "будет ниспровержено Богом, как Содом и Гоморра" так, что "шакалы будут выть в чертогах и гиены в увеселительных домах".
В эпоху господства христианской веры все, что было сказано в Библии, считалось неоспоримой истиной, буква ее была священна. Эпоха Просвещения принесла с собой критику; но именно тот самый век, в который критика во всех материалистических философиях превратилась в перманентное сомнение, принес одновременно и доказательства тому, что наряду с шелухой последующих измышлений в Библии содержится ядро верных сведений.
Плоской была страна между Тигром и Евфратом. Лишь кое-где возвышались таинственные холмы, над которыми свирепствовали смерчи; в течение целого столетия наметали они дюны из черной земли, чтобы потом на протяжении последующих пяти уничтожить плоды собственных трудов. Бедуины, кочевавшие здесь в поисках скудного пропитания для своих верблюдов, не знали, что скрывается под — этими холмами; верные приверженцы Аллаха и Мухаммеда, пророка его, они не имели ни малейшего представления о словах, сказанных в Библии об этой стране.
Человек, которому было суждено заняться здесь археологическими изысканиями, родился в 1803 году во Франции. Даже в тридцать лет он еще ничего не знал о том деле, которое стало впоследствии главным в его жизни; врач по специальности, он возвращался тогда из одной экспедиции по Египту. Приехав в Каир, он привез с собой множество ящиков. Полиция потребовала вскрыть их. Он подчинился. В ящиках оказалось двенадцать тысяч аккуратно наколотых насекомых.
Четырнадцать лет спустя этот врач и собиратель коллекций насекомых издал пятитомный труд об Ассирии, который положил начало научному изучению истории Двуречья, так же как двадцать четыре тома "Description de 1'Egypte" — изучению истории Древнего Египта.
Почти сто лет спустя в Германии (аналогичные примеры можно привести и для Франции и Англии) вышла книга профессора Бруно Мейснера под названием "Цари Вавилонии и Ассирии" ("Konige Babyloniens und Assyriens"),
Достоинства этой книги меньше всего определяются ее научной значимостью, впрочем, на это книга и не претендовала: задача, которую поставил перед собой автор, сводилась к популярному рассказу о правителях, царствовавших в Вавилонии и Ассирии от 2000 до 5000 лет назад. Истинное значение этой книги для нашего очерка истории развития археологии, так же как всех книг аналогичного содержания, вышедших в других странах, заключается в том, что она вообще могла быть написана, и притом написана популярно. "Подобного рода книгу, — говорится в предисловии к ней, — нельзя написать, не имея в своем распоряжении соответствующих исторических источников, ибо только они могут дать автору те неповторимые красочные детали, без которых он не сумеет реально воссоздать образы своих необыкновенных героев".
Как же обстояло дело с этими источниками? Оставим в стороне символически преувеличенные сообщения Ветхого Завета и приведем еще одну цитату: "Немногим более столетия назад вся ассириология была закрытой книгой, а еще несколько десятилетий назад мы абсолютно ничего не знали о вавилонских и ассирийских царях — разве что их имена. Неужели такого короткого срока оказалось достаточно, чтобы воссоздать охватывающую более двух тысячелетий историю древнего Двуречья и набросать портреты ее властителей?"
Книга Мейснера (и многие другие, появившиеся примерно в то же время) свидетельствует о том, что это стало возможным в наше столетие. Небольшая группа энтузиастов-археологов, ученых и дилетантов сумела, затратив на это всего лишь несколько десятилетий, буквально воскресить эту угасшую цивилизацию. Более того, в приложении к книге приведены даты царствования и имена почти всех правителей Двуречья — эту таблицу составил Эрнст Ф. Вейднер, один из самых чудаковатых ассириологов. Двадцать лет подряд просидел Вейднер вторым редактором в "Берлинер иллюстрирте цайтунг", редактируя развлекательные романы и кроссворды. В эти же годы он опубликовал ряд серьезных статей, посвященных проблемам ассирийской хронологии, и был издателем международного научного листка, выходившего тиражом всего в несколько сот экземпляров, который выписывали университеты и специалисты-ученые. И только в 1942 году он принял предложенную ему кафедру в одном из австрийских университетов к вящему удивлению всех сотрудников "Берлинер иллюстрирте", которые даже не подозревали, что сидели на протяжении двадцати лет в одной комнате с выдающимся ассириологом.
Значение книги Мейснера и всех аналогичных изданий заключается в том, что такие книги вообще могли быть написаны. Выводы, популярно изложенные в них, были триумфом науки, триумфом более значительным, чем первая египетская хронология Лепсиуса. В этих книгах скомпилировано то, что собрали три поколения энтузиастов-исследователей; они рассказывают не об успехах какого-либо одного человека, а об успехе, достигнутом благодаря бесчисленным часам работы в канцелярии французского консульства в Мосуле и в геттингенской профессорской, под палящим солнцем, между Евфратом и Тигром, и в маленькой каюте парохода, где при свете качающейся лампы пытался проникнуть в тайны клинописных текстов некий английский офицер.
Эта кропотливая работа является триумфом археологии именно потому, что в Двуречье не было почти никаких следов великой цивилизации. Здесь не сохранилось ни храмов и статуй, как, например, на классической почве Греции и Италии, ни пирамид и обелисков, как в Египте, здесь не было жертвенных камней, как в лесах Юкатана и Мексики, которые могли бы рассказать о гекатомбах умерщвленных. Легенды и сказки бедуинов и курдов не шли дальше времен Харуна ар-Рашида, — все, что было до этого, скрывалось во тьме неизвестности, а распространенные здесь сейчас языки тоже не имели, казалось, никакой связи с языками далекой древности.
Триумф был тем значительнее, что вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов, мало сочетавшихся с рельефом песчаной равнины Междуречья, да, может быть, нескольких глиняных черепков, покрытых странными клинообразными значками, которые в те времена принимали за орнамент; как заметил некий наблюдатель, эти знаки были похожи на следы птиц, пробежавших по мокрому песку.
Глава 19 БОТТА НАХОДИТ НИНЕВИЮ
Арам-Нахараим — Сирией между реками называется верхнее Двуречье в Ветхом Завете. Там лежат города, на которые пал гнев божий. Там, в Ниневии, и южнее, — в великом Вавилоне, царствовали ужасные цари, которые, кроме Него, поклонялись еще и другим богам и в наказание за это были сметены с лица земли.
Мы знаем эту страну под именем Месопотамии. Сегодня она называется Ираком, столица ее Багдад. На севере она граничит с Турцией, на западе — с Сирией и Иорданией, на юге — с Саудовской Аравией, а на востоке — с Персией, нынешним Ираном.
В Турции берут свое начало обе реки Евфрат и Тигр, которые, так же как Нил в Египте, превратили эту страну в колыбель культуры. Они текут с северо-запада на юго-восток, соединяются неподалеку от нынешней Басры (в древности они не сливались) и вливаются в Персидский залив.
Ассирия — древняя страна Ашшур — была расположена на севере вдоль бурного, с шумом и ревом несущего свои воды Тигра, Вавилония, в древности Шумер и Аккад, находилась на юге, между Тигром и Евфратом; она простиралась вплоть до зеленых волн Персидского залива. В одном вышедшем в свет в 1876 году энциклопедическом словаре статья о Месопотамии заканчивается следующими словами:
"Своего расцвета страна достигла при ассирийском и вавилонском господстве. При господстве арабов в Месопотамии жили халифы, и тогда страна вновь переживала подъем. Ее упадок начался со времен вторжения Сельджукидов — татар и турок. В настоящее время некоторые ее районы представляют собой пустыню".
Там и здесь в этой пустыне вздымались ввысь загадочные холмы с плоскими вершинами, обрывистыми краями, все в трещинах, словно сухой бедуинский сыр. Эти холмы до такой степени взбудоражили фантазию нескольких исследователей, что именно здесь, в Двуречье, археология как наука одержала свои первые победы.
Поль Эмиль Ботта еще в юношеском возрасте совершил кругосветное путешествие. В 1830 году он поступил в качестве врача на службу к Мухаммеду Али и принял участие в экспедиции в Сеннаар (не забыв и о коллекционировании насекомых). В 1833 году французское правительство назначило его своим консулом в Александрии.
Объездив всю Аравию, он описал свое путешествие в путевых заметках, составивших объемистую книгу. В 1840 году он был назначен консулом в Мосул; город этот расположен в верховьях Тигра. Когда Ботта однажды, уже после захода солнца, вырвавшись из душной толчеи базара, отправился на своем скакуне за город подышать чистым воздухом, он увидел странные холмы…
Не он первый обратил на них внимание; еще до него некоторые путешественники — Киннейр, Рич, Эйнсворт — высказывали предположение, что под холмами скрыты остатки каких-либо строений. Самым интересным из этих путешественников был К. Дж. Рич. Такой же вундеркинд, как Шампольон, он в девять лет приступил к изучению восточных языков, а в четырнадцать китайского. В возрасте двадцати четырех лет он, адвокат "East Indian Company" в Багдаде, изъездил вдоль и поперек все Двуречье. Эти путешествия дали тогда немало ценного науке.
Ботта интересовался естественными науками, был дипломатом и умел использовать свои связи в свете, но археологом он не был. Впрочем, разрешение поставленной им перед собой задачи облегчило знание местного языка, приобретенное во время путешествий умение завязывать дружественные связи с приверженцами пророка и — качество последнее по счету, но отнюдь не по важности — поразительная работоспособность, которую оказался не в состоянии сломить даже губительный климат Йемена и заболоченной низины Нила.
Во всеоружии всех этих достоинств он приступил к работе. Оценивая ретроспективно его деятельность, следует признать, что в ее основе лежали не какая-либо смелая гипотеза, не какой-нибудь определенный план, а всего лишь смутная догадка и любопытство;
успех, которого он достиг в конечном итоге, удивил его самого ничуть не меньше, чем всех остальных. Закрыв к концу дня свое бюро, он с поразительным упорством отправлялся каждый день в ближайшие окрестности Мосула. Он ходил из дома в дом, из лачуги в лачугу и везде задавал одни и те же вопросы: "Нет ли у вас каких-либо старых вещей? Старинной посуды? Или, быть может, какой-нибудь древней вазы? Где вы взяли кирпич, из которого сложен этот хлев? Откуда у вас эти черепки с непонятными письменами?"
Он покупал все, что ему удавалось найти, но, когда он просил показать ему то место, где были найдены эти предметы, люди пожимали плечам и говорили: "Аллах велик, и в своей мудрости он раскидал их повсюду, нужно только поискать".
Убедившись, что все его попытки напасть на след этих находок путем расспросов ничего не дают, он решил раскопать первый попавшийся холм и выбрал для этой цели холм вблизи Куюнджика. Однако его выбор оказался неудачным, по крайней мере для него лично и по крайней мере в тот год, так как факт местонахождения под этим холмом дворца Ашшурбанапала (или, как его называли греки, Сарданапала) было суждено установить другому исследователю. Ботта же не нашел ничего.
Необходимо понять, что значит снова и снова приниматься за раскопки, не имея никаких доказательств своей правоты, руководствуясь лишь смутной догадкой, что значит копать день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем — и не находить ничего, кроме нескольких потрескавшихся кирпичей, покрытых знаками, которых никто не мог прочитать, да двух-трех скульптурных торсов, настолько, впрочем, изуродованных, что по ним при всем желании невозможно было составить себе представление о произведении в целом, либо же настолько примитивных, что даже человеку с самой смелой фантазией они ничего сказать не могли… И так в течение целого года.
Стоит ли удивляться тому, что, когда по истечении этого года к Ботта, не раз обманутому ложными сообщениями местных жителей, явился некий болтливый араб и принялся красочно описывать ему холм (опять холм!), где полным-полно тех самых предметов, какие ищет "франк", Ботта чуть было не выгнал его? Араб принялся ему настойчиво доказывать, что он из отдаленной деревушки и раз слышал о желании "франка", что он любит "франков" и хочет им помочь. Кирпичи, испещренные надписями, ищет он? Так их целая куча в Хорсабаде, там, где находится его деревушка! Он знает это совершенно точно, он сам сложил печку из таких кирпичей, и все в его местности издавна поступают так же.
Не в силах отделаться от араба, Ботта посылает с ним двух-трех своих людей. До того холма, о котором рассказывал араб, было не более шестнадцати километров; Ботта дал точные указания, как поступить в том случае, если… ведь, в конце концов, чем черт не шутит… То, что Ботта направил к холму эту маленькую экспедицию, сделало его имя бессмертным в истории археологии. Имя араба забыли. Именно Ботта считают первым, кто обнаружил следы древнейшей цивилизации, расцвет которой продолжался добрых две тысячи лет и которая потом, забытая всеми, более двух с половиной тысячелетий покоилась под землей.
Ровно через неделю после того, как Ботта отправил своих людей, прибыл взволнованный гонец. Он рассказал, что, едва приступив к раскопкам, они обнаружили стены, а стоило им чуть-чуть соскрести налипшую на эти стены грязь, как они увидели какие-то надписи, рисунки, рельефы, изображения диковинных зверей. Ботта вскочил на коня. Двумя часами позже он уже сидел в раскопе и срисовывал причудливые, совершенно необычные изображения крылатых зверей, фигуры бородатых людей; ничего подобного ему не приходилось видеть даже в Египте, да и вообще европейцам еще не случалось видеть подобные изображения. Через три дня он перебросил сюда из Куюнджика всех своих людей. Были пущены в ход мотыги и лопаты. Все новые и новые стены высвобождались из-под земли и мусора. Наконец наступил момент, когда Ботта мог уже не сомневаться в том, что он открыл если не всю Ниневию, то по крайней мере один из блестящих дворцов древних ассирийских царей. Наступило мгновение, когда он уже не мог больше молчать и послал телеграмму во Францию, в Париж. "Я полагаю, — с гордостью написал он, и газеты напечатали эти слова крупными буквами, — что я открыл первые изваяния и сооружения, которые с полным основанием следует отнести ко времени расцвета Ниневии".
Этот первый ассирийский дворец явился не только сенсацией для европейского мира, но и важным научным открытием. До сих пор колыбелью человечества считали Египет, ибо нигде в другом месте история цивилизации не прослеживалась так далеко в глубь веков, как в стране мумий. О Двуречье до этого сообщала лишь Библия — для науки XIX века "сборник легенд". К скупым свидетельствам древних авторов относились с большим почтением. Они представлялись более достоверными, но нередко противоречили друг другу, и сообщаемые в них даты трудно было согласовать с датами Библии.
Открытие же Ботта свидетельствовало о том, что в Двуречье действительно некогда существовала по меньшей мере такая же древняя, а если признать теперь сведения Библии достоверными, то даже еще более древняя, чем Египет, блистательная и величественная цивилизация, которая в конце концов была уничтожена огнем и мечом.
Франция ликовала. Чтобы облегчить Ботта дальнейшую работу, были предприняты все меры. Его раскопки продолжались три года — с 1843-го по 1846-й — и он трудился, не обращая внимания ни на климат, ни на погоду, в любое время года, преодолевая препятствия, которые чинили ему местные жители и наместный паша — турецкий губернатор, деспот, которому подчинялась страна. Этот жадный чиновник видел в неутомимых раскопках Ботта только поиски золота. Он уводил у Ботта рабочих, угрожал им пытками и тюрьмой, надеясь таким способом выведать тайну; он установил цепь часовых вокруг холма Хорсабад, строчил доносы в Константинополь. Но Ботта был на редкость стойким и цепким человеком, не зря он был дипломатом; на интригу он отвечал интригой. Тогда паша официально предоставил ему свободу действий, но неофициально строжайшим образом запретил всем местным жителям под угрозой ужасных наказаний помогать "франку", который своими раскопками преследует одну цель: подкопаться под свободы всех месопотамских народов.
Ботта невозмутимо продолжал свою работу.
Раскопанный им дворец располагался гигантскими террасами. Многочисленные исследователи, прибывшие сюда после первых же сообщений Ботта, пришли к выводу, что это дворец царя Саргона, тот самый, который упоминается в пророчествах Исайи, — летний дворец на окраине Ниневии, своего рода Версаль, гигантский Сан-Суси, сооруженный в 709 году до н. э., после завоевания Вавилона. Стена за стеной поднимались из земли целые дворцы с великолепно разукрашенными порталами, с роскошными помещениями, ходами и залами, гаремом из трех отделений и остатками ступенчатой башни-террасы.
Изобилие рельефов и скульптур было поразительным. Ассирийцев внезапно как бы вырвали из небытия. Здесь были их рисунки, утварь, оружие, они предстали здесь в своей обыденной жизни, на войне, на охоте. Однако оказалось, что извлеченные на поверхность скульптуры, многие их которых были сделаны из хрупкого "восточного алебастра", не выдерживали горячего дыхания пустыни. Эжен Наполеон Фланден, художник по призванию, который приобрел известность своими путешествиями по Ирану, автор многих зарисовок античных изваяний и сооружений, по поручению правительства спешно выехал из Парижа к месту раскопок. Он стал для Ботта тем, кем был Виван Денон для Египетской экспедиции Наполеона. Но если Денон рисовал то, что и после него мог увидеть любой путешественник, Фланден должен был запечатлеть на бумаге то, что гибло у него на глазах.
Ботта удалось погрузить целый ряд находок на плоты. Но Тигр — здесь, в верхнем своем течении еще совершенно дикий, неукротимый горный поток — не захотел смириться с непривычным грузом. Плоты начали крутиться, вертеться, потом, потеряв равновесие, опрокинулись. Так боги и цари Ассирии, только что вырванные из тьмы веков, вновь погрузились в небытие — на этот раз в бурных водах Тигра.
Но Ботта не пал духом. Вниз по реке отправили новый транспорт. Были приняты все меры предосторожности. На этот раз все обошлось благополучно. Драгоценные находки были погружены на корабль, и в один прекрасный день первые ассирийские древности оказались на европейской земле. Двумя-тремя месяцами позднее они уже стояли в Луврском музее в Париже. Ботта приступил к изучению и классификации этих сокровищ. Издание его трудов взяла на себя комиссия из девяти ученых; в ее состав входили наряду с другими Бюрнуф, который вскоре стал одним из самых выдающихся археологов Франции (четверть века спустя Шлиман часто цитирует его в своих трудах, называя его "мой ученый друг"), и некий англичанин по фамилии Лэйярд, слава которого впоследствии затмила славу Ботта — он был его непосредственным продолжателем, и ему суждено было стать одним из самых удачливых исследователей, которые когда-либо рылись в пыли тысячелетий.
Впрочем, Ботта, пионер археологических раскопок на ассирийской земле, тоже не был забыт, и это справедливо: в истории Двуречья он сыграл ту же роль, что Бельцони в Египте, — он был безудержным "копателем", кладоискателем. (И опять-таки француз, консул Виктор Плас, сделал в Ниневии то, что "великий собиратель" Мариэтт сделал в Каире.) Не была забыта и книга Ботта, она принадлежит к числу классических трудов по археологии. Полное ее название — "Памятники Ниневии, открытые и описанные Ботта, измеренные и зарисованные Фланденом" ("Monuments de Ninive decouverts et decrits par Botta, mesureset dessines par Flandin"). Она вышла в свет в 1849–1850 годах пятью томами; в первом и во втором помещены таблицы по архитектуре и скульптуре, в третьем и четвертом — собранные Ботта надписи, в пятом описание находок.
Глава 20 ДЕШИФРОВКА КЛИНОПИСИ
В чьи же руки попала книга Ботта? Кто смог прочитать ее третий и четвертый тома? Кому были понятны собранные там надписи?
История науки свидетельствует о том, что само открытие и практическое его использование нередко бывают изрядно отдалены во времени.
Когда Ботта собирал наряду со скульптурами кирпичи, испещренные странными клинообразными знаками, когда он отдавал эти надписи срисовывать и посылал их в Париж (не имея ни малейшего понятия о том, как читаются эти знаки), несколько ученых в Европе и Передней Азии уже держали в руках ключи к дешифровке этих надписей.
Это может показаться неправдоподобным, однако еще за сорок семь лет до появления книги Ботта эти люди действительно держали в своих руках ключ к дешифровке письменности того царства, которое только теперь благодаря трудам Ботта предстало перед всем миром в своих памятниках и документах. Для того чтобы продвинуться по пути расшифровки, им не хватало лишь более новых, более точных, более многочисленных данных. Основные, наиболее существенные открытия в области расшифровки клинописи были сделаны еще тогда, когда ни одна стена дворца Саргона не появилась из-под земли и мусора тысячелетий, когда о Ниневии, к раскопкам которой только что приступил Лэйярд, было известно лишь то, что рассказывается о ней в Библии. Теперь же, после открытий Ботта, за которыми последовали открытия Лэйярда, обогащенные в свою очередь сведениями, добытыми неким смелым англичанином, спустившимся неподалеку от места раскопок Лэйярда по отвесной скале с помощью системы блоков только лишь для того, чтобы скопировать клинописную надпись, теперь, повторяем мы, новые археологические находки, результаты дешифровки, новые сведения из области языкознания и истории древних народов дали науке за какие-нибудь десять лет так много сведений, что уже к середине века она была полностью подготовлена к обработке любого очередного открытия археологов.
Впрочем, человек, сделавший решающий шаг в расшифровке клинописи, действовал — и это весьма забавно — не из научных побуждений, не из-за научной любознательности. Он был немцем. В 1802 году он служил помощником учителя в городской школе Гетгингена и был подающим надежды молодым человеком двадцати семи лет. Он расшифровал первые десять букв одной клинописной надписи с помощью метода, который во все времена будет считаться гениальным, и сделал это на пари!
Наши первые сведения о существовании клинописных текстов относятся к XVII веку. Первые копии этих надписей отослал в Европу итальянский путешественник Пьетро делла Валле. В 1693 году Эштон привел в "Philosophical Transactions" все строчки, которые скопировал некий Флауер, агент Ост-Индской компании в Персии. Волнующие известия не только о текстах и памятниках, но и о стране и людях тех мест привез Карстен Нибур. Этот ганноверец состоял на службе у Фридриха I Датского. Вместе с другими учеными он в 1760–1767 годах объездил Восток. В течение всего лишь одного года умерли один за другим все участники этой экспедиции, за исключением Нибура. Человек смелый и неустрашимый, он продолжил путешествие один, целым и невредимым возвратился назад и издал книгу "Описание Аравии и других прилегающих к ней стран", — ту самую, которую Наполеон во время египетского похода постоянно носил с собой. Первые копии клинописных текстов попали в Европу различными окольными путями. Это были отдельные фрагменты, искаженные, плохо скопированные (еще в XVIII веке знаменитый английский ориенталист Гайд утверждал, что это не письмена, а узоры на камнях), и большинство их было доставлено вовсе не с ассиро-вавилонской земли в узкогеографическом значении этого понятия — почти все они были сделаны в семи милях северо-восточнее Шираза. Здесь находились гигантские развалины какого-то здания, о котором Нибур с полным основанием говорил как о руинах древнего Персеполя. Эти руины принадлежат цивилизации более поздней, чем та, которую в 40-х годах XIX века обнаружил Ботта. Это остатки гигантского дворца Дария и Ксеркса, который был разрушен Александром Великим во время одного пиршества, "когда он, — как говорит Диодор, — уже не владел собой". Клитарх повторяет этот рассказ и добавляет, что во время пиршества афинская танцовщица Таис в неистовстве танца схватила с алтаря факел и швырнула его между деревянных колонн дворца, а Александр, который был пьян, и его свита лишь последовали ее примеру. (В своей истории эллинизма Дройзен пишет, что в этом рассказе талантливо переплелись правда и вымысел.) Впоследствии в этом дворце правили средневековые эмиры, приверженцы ислама. Позже между его развалинами бродили только овцы. Первые путешественники были нечисты на руку: трудно найти такой музей, где не было бы персепольских рельефов. Фланден и Кост зарисовали руины. Андреас и Штольце сфотографировали их в 1882 году. И так же, как Колизей в Риме, дворец Дария служил каменоломней. В прошлом столетии дворец с каждым десятилетием разрушался все больше и больше. В 1931–1934 годах Эрнст Херцфельд произвел по поручению Восточного института Чикагского университета первое настоящее методическое обследование развалин дворца. Благодаря этому обследованию могли быть приняты эффективные меры к предохранению остатков дворца от дальнейшего разрушения.
Остатки различных культур образуют в этой местности настоящий "слоеный пирог". Представим себе следующую картину: некий араб приносит археологу в его служебный кабинет в Багдаде несколько покрытых клинописью глиняных табличек. В этих табличках, найденных, возможно, в районе Бехистуна, речь идет о персидском царе Дарий. Археолог, у которого всегда под рукой сочинения Геродота и исследования современных ученых, может легко удостовериться в том, что в 500-х годах до н. э. власть Дария достигла своего апогея и что в это время он правил огромной державой. В других табличках археолог найдет древние родословные, упоминания о войнах, опустошениях, убийствах. Он может найти там сведения о царе Хаммурапи и его державе, время расцвета которой приходится примерно на 1700-е годы до н. э., или о царе Синаххерибе и тем самым о третьей огромной державе, существовавшей в конце VIII — начале VII века до н. э. И для того чтобы продолжить цикл сообщений о гигантских империях прошлого, ему достаточно последовать за своим арабом. Он найдет его на ближайшем углу усевшимся на корточках рядом с уличным певцом-сказителем, однотонно, с выразительными паузами повествующим о знаменитом халифе Харуне ар-Рашиде, который в 800 году н. э. — в Западной Европе правил в это время Карл Великий — достиг зенита своей славы и могущества.
Если к этому добавить еще и результаты новейших изысканий, то окажется, что на территории, расположенной между нынешними Дамаском и Ширазом, сменились на протяжении тысячелетий шесть различных цивилизаций, каждая из которых оказывала в пору своего расцвета большое влияние на весь древний мир. Эти цивилизации, стиснутые на узком пространстве, обогащали друг друга и были в то же время совершенно независимыми; время их существования заняло более пяти тысячелетий, — во многом ужасных, но во многом и величественных тысячелетий истории человечества. По сравнению с многообразием слоев, с которыми пришлось столкнуться археологам в Двуречье, девять слоев шлимановской Трои представлялись проблемой весьма несложной — ведь среди этих девяти слоев только один имел всемирно-историческое значение. Бесчисленное множество слоев, обнаруженных в Двуречье, не имело вообще никакого значения, так, например, под одним из обнаруженных аккадских городов, относящихся к третьему тысячелетию до н. э., ученые насчитали пять слоев мусора. К этому времени Вавилон еще не успел родиться! Вполне понятно, что на протяжении такого огромного периода времени менялись не только языки, но и письменность. Точно так же, как между иероглифами, существовала разница и между клинописными знаками, и то, что Ботта послал в Париж, было совершенно не похоже на то, что привез с собой из Персеполя Нибур. Однако именно персепольские тексты (этим объясняется тот факт, что во всех первых публикациях о дешифровке клинописи речь всегда идет не о вавилонских или ассирийских надписях, а о персепольских) — эти таблицы, возраст которых исчислялся двумя с половиной тысячелетиями, явились ключом к тем текстам, которые были извлечены теперь на свет в долине Евфрата и Тигра.
Дешифровка этих таблиц явилась достижением гения, одной из величайших побед человеческого разума, которая стоит в одном ряду с самыми выдающимися открытиями в области науки и техники.
Георг Фридрих Гротефенд родился в Германии в городе Мюндене 9 июня 1775 года. Учился он в лицее сначала в родном городе, затем в Ильфельде, после чего изучал филологию в Геттингене. В 1797 году он был назначен помощником учителя в городской школе, в 1803 году — проректором, а впоследствии конректором гимназии во Франкфурте-на-Майне; в 1817 году он основал общество по изучению немецкого языка, в 1821 году занял пост директора лицея в Ганновере, а в 1849 году перешел на пенсию; 15 декабря 1853 года Гротефенд скончался.
В возрасте двадцати семи лет этому ничем до сих пор не отличившемуся человеку, жизненный путь которого был всегда безупречно ясным, однажды, когда он был навеселе, вдруг взбрело в голову заключить поистине сумасбродное пари: он поспорил, что ему удастся найти ключ к дешифровке клинописных текстов. В его распоряжении не было ничего, если не считать нескольких скверных копий персепольских надписей. Это, однако, не помешало ему с юношеской беззаботностью приступить к разрешению проблемы, и он сделал то, что считали невозможным лучшие ученые его времени. В 1802 году он доложил Академии наук в Геттингене о первых результатах своих исследований. Его многочисленные последующие труды по филологии сегодня не представляют никакого интереса и давно преданы забвению, но статья "К вопросу об объяснении
персепольской клинописи" никогда не потеряет своего значения и никогда не будет забыта.
Что было известно об этом до Гротефенда?
Персепольские письмена были весьма неоднородны. На некоторых таблицах различали три вида письма, расположенные тремя отчетливо отделявшимися друг от друга колонками. Об истории древних персов ученые, а следовательно, и юный гуманист Гротефенд были довольно неплохо осведомлены благодаря древним греческим авторам. Было известно, что в 540 году до н. э. Кир наголову разбил вавилонян и, основав первое великое персидское царство, подписал тем самым смертный приговор Вавилону. Поэтому можно было предположить, что хоть одна из персепольских надписей сделана на языке победителя; высказывалось и дальнейшее предположение: вероятнее всего, древнеперсидский текст расположен в средней колонке — ведь по общепринятым представлениям самое главное всегда находится посередине. Затем исследователи обратили внимание на то, что одна группа знаков и один косой клинообразный знак встречаются в текстах особенно часто. Было высказано предположение, что эта часто повторяющаяся группа знаков означает царский титул — вывод, который не противоречил всему, что было известно о памятниках древности. А косой клинообразный знак принимали за разделитель слов.
Это было все, но этого было крайне мало, ведь все гипотезы не давали ответа даже на самые элементарные вопросы: с какой стороны следует читать надпись — слева направо или справа налево, где верх и где низ надписи.
Гротефенд — с юных лет он привык браться за все основательно — начал с самого начала.
Шампольон, который двадцатью годами позднее расшифровал иероглифы, находился в несравненно более благоприятных условиях и имел дело с более простой задачей: в распоряжении Гротефенда не было "трехъязычного камня" с готовым переводом текста на греческий язык; в отличие от Шампольона он не знал ни одного из трех языков, на которых были сделаны надписи, и не имел ни малейшего понятия о том, что означают все эти диковинные знаки. Ему не оставалось ничего другого, как попытаться их точно описать и изучить.
Прежде всего он решил обосновать точку зрения, согласно которой клинописные знаки представляют собой письменность, а не орнамент. Затем, основываясь на полнейшем отсутствии каких-либо закруглений у знаков, он пришел к выводу, что эти письмена предназначались для нанесения на какие-либо твердые материалы. (Сегодня мы знаем, что эта столь неуклюжая на вид письменность вполне отвечала своему
назначению и что при ее посредстве совершались все политические и хозяйственные дела в Двуречье и древней Персии вплоть до времен Александра Македонского. Так, например, при расчетах в лавке писцы брали две свежеизготовленные, еще мягкие глиняные таблицы, выцарапывали на них с помощью тростниковой палочки наименование и цену товаров, отдавали копию покупателю, а оригинал оставляли себе. Затем обе таблички обжигались в печи, где они затвердевали так основательно, что и спустя три тысячелетия можно было прочесть все то, что на них было написано, — какая бумага может сравниться с ними по долговечности!)
Затем Гротефенд доказал, что, хотя клинописные знаки и направлены в разные стороны, основных направлений может быть только два: либо сверху вниз, либо слева направо, так как угол, образуемый двумя клиньями, всегда обращен направо. Из этих, казалось бы, весьма простых наблюдений он не преминул сделать свой первый вывод — как следует читать надписи: "Их необходимо держать таким образом, чтобы острия вертикальных клиньев были направлены книзу, а горизонтальных — вправо, так же как и углы, образуемые двумя знаками. Если соблюсти это, то можно убедиться в том, что все клинописные тексты расположены не вертикально, а горизонтально и что фигурки на геммах и цилиндрах не являются определяющими для направления надписи". Он сделал и последующий вывод: клинописные тексты следует читать слева направо — для европейца это звучало само собой разумеющимся.
Но все это еще не было расшифровкой. Нужно было сделать последний, решающий шаг. То, что Гротефенд сумел сделать этот шаг, свидетельствует о его гениальности. Гениальность, кроме прочих качеств, включает в себя способность видеть в сложном простое и в конструкции — ее принцип. Идея, осенившая Гротефенда, была действительно гениально простой.
Вряд ли можно предполагать, рассуждал он, что традиционные тексты на могильных памятниках (а лежавшие перед ним клинописные тексты были копиями надгробных надписей) сильно изменялись на протяжении веков. Ведь на его родине каноническое "спи спокойно" можно было найти на могилах дедов и прадедов, и, по всей вероятности, та же надпись будет выгравирована на могилах детей и внуков.
Почему бы тогда постоянно встречающейся на новоперсидских могилах надписи не звучать примерно так же и на древнеперсидском, если верно, что одна из колонок текста написана по-древнеперсидски? Почему, собственно, персепольские надписи не могут начинаться так же, как известные ему надписи на персидских могилах более позднего времени:
"х великий царь, царь царей, царь а и б,
сын у великого царя, царя царей…",
то есть, иначе говоря, начинаться стереотипной родословной? Эта мысль была гениальным продолжением высказанной еще до Гротефенда гипотезы, что одна из наиболее часто встречающихся в клинописных текстах группа клиньев, возможно, означает слово "царь". Это была суггестивная мысль, ибо она неизбежно приводила к следующему заключению: если первое слово в надписи это имя царя, то следующий знак — косой клин — должен быть разделителем слов, а одно из последующих слов должно было означать "царь", причем оно должно было еще несколько раз повториться в следующих строках текста.
Мы не можем здесь подробно воспроизвести все умозаключения и проследить весь, нередко весьма сложный, ход мыслей Гротефенда. Скажем одно: не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе чувство торжества, охватившее юного помощника учителя в тихом Геттингене, когда он, отделенный тысячами километров от мест, где находились оригиналы его текстов, и тремя тысячелетиями от эпохи, когда они были написаны, убедился в том, что его гипотеза верна. Впрочем, это слишком сильно сказано; правда, он убедился, что тот порядок слов, который он предположил, существует, убедился он и в том, что слово, которое должно было означать "царь", повторяется неоднократно, но кто согласится посчитать эти факты окончательным доказательством? И наконец чего он, собственно, достиг своими открытиями?
Проверяя полученные результаты, он обратил внимание на следующее: почти на всех таблицах было только два различных варианта первых групп клиньев. Сколько он ни сравнивал их, он все время сталкивался с теми же группами, с теми же начальными словами, которые, согласно его теории, должны были означать имя царя, больше того, он нашел надписи, в которых одновременно стояли и тот и другой варианты.
Мысли Гротефенда мчались, перегоняя друг друга. Ведь если исходить из его собственной теории, это могло означать только одно: все те монументы и памятники, с которых были сняты копии надписей, попавшие к нему в руки, принадлежали всего двум царям. Разве не представлялось весьма вероятным, что в тех случаях, когда на таблицах имена их стояли рядом, речь шла об отце и сыне?
Когда эти имена упоминались порознь, то после одного из них следовал знак, обозначающий "царь", а после второго этот знак отсутствовал; если придерживаться его теории, то схематически это должно было выглядеть так:
"х — царь, сын z,
у — царь, сын х — царя".
Не следует забывать, что все высказанное им до этих пор было всего только гипотезой, в основу которой были положены лишь некоторые самые общие наблюдения над группировкой отдельных знаков, их повторяемостью и последовательностью.
Можно себе представить, какое волнение охватило Гротефенда, когда при проверке приведенной нами схемы он вдруг совершенно ясно увидел путь к доказательству, к бесспорному, обоснованному доказательству своей гипотезы. Пусть вдумчивый читатель, родившийся в век ребусов и головоломок, прежде чем продолжить чтение, тоже примет в ней участие. Итак, что же прежде всего бросается в глаза?
Внимание! Не проглядите путь к решению. Решающим для последующего шага был пропуск, точнее говоря, отсутствие одного слова, в частности отсутствие слова "царь" после имени, которое в схеме обозначено как z. Если схема верна, она дает следующую родословную: дед — отец — внук, причем отец и внук — сыновья царя, а дед нет. Теперь Гротефенд мог облегченно вздохнуть: если ему удастся среди имен известных персидских царей найти такие, которые укладывались бы в его схему, его теория будет доказана и первый шаг по пути дешифровки клинописи будет совершен!
Пусть, однако, об этом решающем этапе дешифровки расскажет сам Гротефенд: "Будучи полностью убежден в том, что речь шла о двух царях из династии Ахеменидов, ибо история древних греков, как современников событий и обстоятельных рассказчиков, представлялась мне наиболее достоверной из всех, я принялся изучать генеалогию персидских царей, пытаясь установить, какие имена более всего подходят к характеру надписи. Это не могли быть Кир и Камбиз, так как имена царей, упомянутых в надписи, начинались с разных букв; это не могли также быть Кир и Артаксеркс, ибо первое имя было слишком коротким, а второе — слишком длинным. Оставались только Дарий и Ксеркс, и их имена так хорошо укладывались в схему, что у меня не было буквально никаких сомнений в том, что мой выбор правилен. К тому же в надписи, принадлежащей сыну, об отце упоминалось как о царе, а в надписи, принадлежащей отцу, имя его отца приводилось без царского титула, и это во всех персепольских надписях на всех языках, на которых были составлены эти надписи".
Это и было главным доказательством. Не только Гротефенд, веривший в свою теорию, но и любой беспристрастный критик должен был склониться перед покоряющей силой этой логической цепи. Но нужно было еще сделать последний шаг. До сих пор Гротефенд исходил из греческого написания имен царей, приведенных в сочинениях Геродота. Впрочем, предоставим опять слово Гротефенду: "Поскольку мне благодаря правильной дешифровке имени (деда) уже. были известны двенадцать букв, а среди них находились все буквы, составлявшие царский титул, задача теперь сводилась к тому, чтобы придать этому имени, известному в греческой транскрипции, его персидскую форму, с тем чтобы, правильно определив каждый знак, расшифровать царский титул и таким путем разгадать тот язык, на котором сделаны надписи. Из Авесты (собирательное название для Священного писания персов) я узнал, что имя Гистасп по-персидски пишется Гошасп, Густасп, Кистасп или Вистасп. Тем самым я получил первые семь букв имени Гистаспа в надписи Дария, а остальные три я уже имел, получив их путем сравнения всех царских титулов".
Начало было положено. За этим последовали лишь уточнения и исправления, но, как это ни удивительно, должно было пройти еще свыше тридцати лет, прежде чем были сделаны дальнейшие решающие открытия. Они связаны с именами француза Эжена Бюрнуфа и норвежца Кристиана Лассена; их исследования появились одновременно в 1836 году.
Одно только странно: имя Шампольона, дешифровщика иероглифов, известно чуть ли не каждому школьнику, имя же Гротефенда неизвестно почти никому. В школьных курсах о нем не говорится ни полслова. Более того, даже в ряде современных энциклопедий его имя или отсутствует, или же, в лучшем случае, упоминается только в списках литературы. И тем не менее именно Гротефенду, и только ему, принадлежит приоритет в открытии, историческое значение которого в полной мере выявилось во время последующих гигантских археологических раскопок в Двуречье.
Мы говорим "приоритет", но ведь с дешифровкой клинописи произошло то же самое, что и со многими другими открытиями и изобретениями: она была осуществлена дважды! Совершенно независимо от Гротефенда это удалось сделать одному англичанину, и, что самое удивительное, он сделал это не только после Гротефенда, но и после продолжателей его дела — Бюрнуфа и Лассена (его первая серьезная работа была опубликована в 1846 году!). Впрочем, этому англичанину было суждено пойти значительно дальше своих предшественников; он вывел науку о клинописи из кабинетов ученых на широкий простор университетских аудиторий, его исследования позволили начать изучение клинописи; тем самым он сделал ее всеобщим достоянием, оказав важную услугу тем многим ученым, труд которых становился постепенно все более необходимым для исследования и изучения увеличивающегося с каждым годом числа вновь открытых надписей. Достаточно напомнить, что в один прекрасный день была обнаружена целая библиотека глиняных табличек. (Впрочем, эта история требует отдельной главы.) Для того чтобы дать представление о том, какое неисчислимое множество материалов было открыто в Двуречье, приведем один лишь факт: число клинописных табличек, добытых только одной экспедицией В. Хильпрехта в 1888–1900 годах в Ниппуре, так велико, что их расшифровка и публикация до сих пор еще не закончены.
Глава 21 НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В 1837 году майор английской армии Генри Кресвик Раулинсон, состоявший на персидской службе, спустился с помощью блоков по отвесной скале близ Бехистуна с единственной целью — скопировать высеченный на скале клинописный текст. Так же как и Ботта, он был страстным любителем ассириологии.
Своим интересом к истории древней Персии он был обязан случайной встрече. В возрасте семнадцати лет — в ту пору он был кадетом — Раулинсон попал на корабль, который шел мимо мыса Доброй Надежды в Индию. Чтобы как-то скрасить пассажирам долгое путешествие, он начал выпускать корабельную газету. Один из пассажиров — Джон Малькольм, губернатор Бомбея и выдающийся ориенталист, заинтересовался новоявленным семнадцатилетним редактором. Они беседовали часами, разумеется, прежде всего на темы, интересовавшие сэра Джона, — об истории Персии, о персидском языке, о персидской литературе. Эти беседы определили круг интересов Раулинсона.
Родился Раулинсон в 1810 году; в 1826 году он поступил на службу в Ост-Индскую компанию, а в 1833 году, уже в чине майора, перешел на персидскую службу. В 1839 году он стал политическим агентом в Кандахаре (Афганистан), в 1843 году — консулом в Багдаде, а в 1851 году — генеральным консулом; одновременно он был произведен в подполковники. В 1856 году Раулинсон возвратился в Англию, был избран членом парламента и в том же году вошел в совет Ост-Индской компании; в 1859 году он был назначен английским послом в Тегеране, с 1864 по 1868 год снова был членом парламента.
Занявшись клинописью, он пользовался теми же таблицами, которые положил в основу своей работы Бюрнуф. И здесь произошло нечто невероятное: не зная Гротефенда, Бюрнуфа и Лассена, не будучи знаком с их работами, он расшифровал, следуя примерно тем же путем, что и Гротефенд, имена трех царей — Дараявауша (староперсидское написание имени Дария), Кшайярша и Виштаспа! Кроме этих имен он расшифровал еще четыре и несколько слов, в правильности чтения которых он, правда, не был уверен. Когда же он в 1836 году впервые ознакомился с публикациями Гротефенда, то, сравнивая свой алфавит с алфавитом геттингенского учителя, он убедился в том, что пошел значительно дальше.
Теперь Раулинсон нуждался в надписях, в надписях с именами.
В священном с древнейших времен районе Бехистуна рядом со старой торговой дорогой, ведущей из Хамадана через Керманшах в Вавилон, вздымается к небу крутая двуглавая скала. Примерно две с половиной тысячи лет назад персидский царь Дарий (Дараявауш, Дореявош, Дара, Дараб, Дарейос) приказал высечь на ее отвесной стене на высоте пятидесяти метров надписи и рельефы, которые должны были прославить и возвеличить его деяния, его победы и его самого.
На каменном парапете стоят фигуры; они не прикасаются к скале. В знойном мареве высоко над дорогой возвышается недостижимая ни для чьей дерзновенной руки фигура великого правителя. Он опирается на свой лук; его правая нога покоится на поверженном Гаумате, волшебнике и маге, восставшем против Дария и оспаривавшем у него царство. Позади царя — два знатных перса, они вооружены луками и копьями, за плечами у них колчаны. Перед ним со связанными руками и веревкой вокруг шеи стоят девять покоренных и наказанных "царей-самозванцев". По сторонам этого памятника и под ним — четырнадцать колонок текста: сообщения о царе и его деяниях, составленные на трех разных языках. Различие в текстах надписи заметил еще Гротефенд, но он не сумел определить, что здесь на скале на вечные времена высечены надписи на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках.
Объявляет царь Дараявуш:
"Ты, который в грядущие дни
Увидишь эту надпись,
Что я повелел выгравировать в скале,
И эти изображения людей,
Ничего не разрушай и не трогай;
Позаботься, пока у тебя есть семя,
Сохранить их в целости".
Солдата и спортсмена, Раулинсона не испугали те пятьдесят метров, которые отделяли надпись от подножия скалы. Презрев опасность, вися на головокружительной высоте, рискуя каждую секунду сорваться вниз, он скопировал староперсидский вариант текста. За вавилонский он осмелился приняться только несколькими годами позже — для этого нужны были "гигантские лестницы, морской канат и "кошки", а их трудно было сюда доставить". И все-таки в 1846 году он представил Лондонскому королевскому азиатскому обществу не только первую точную копию знаменитой надписи, но и ее полный перевод. Это был первый значительный, всеми признанный, бесспорный триумф дешифровки клинописи.
Впрочем, и в кабинетах ученых работа тем временем не стояла на месте. Решающие шаги здесь сделали, в частности, немецко-французский исследователь Опперт и ирландец Хинкс. Сравнительная наука, и прежде всего сравнительное языкознание, совершили буквально чудеса; сравнительное языкознание использовало становившиеся все более точными знания авестийского языка и санскрита, а также знание всех основных языков индоевропейской группы для того, чтобы проникнуть в грамматическую структуру древнеперсидского языка. Общими усилиями в результате поистине интернационального содружества было расшифровано примерно шестьдесят знаков древнеперсидской клинописи.
Затем Раулинсон и другие исследователи приступили к изучению остальных колонок бехистунской надписи, которая превосходила по объему весь до этого собранный материал, и вот тут-то Раулинсон сделал открытие, которое (разу же поколебало веру в успех дальнейшей дешифровки текстов, в особенности текстов Ботта.
Как мы помним, и в персепольской и бехистунской надписях были ясно различимы три разных языка.
Гротефенд уверенно определил место, которое легче всего поддавалось дешифровке, — среднюю колонку текста, составленную на древнеперсидском языке; поскольку хронологически язык этот был наиболее близок нам, появилась возможность провести определенные параллели с уже известными языковыми группами. Эту среднюю колонку Гротефенд назвал "I классом".
Преодолев трудности, связанные с дешифровкой этой колонки, ученые обратились к дешифровке двух остальных. Дешифровка второй колонки — "II класса" — связана прежде всего с именем датчанина Вестергаарда (первые результаты его исследований были опубликованы в 1854 году в Копенгагене). Заслуга дешифровки "III класса" принадлежит отчасти Опперту, а отчасти опять-таки Генри Раулинсону, который к этому времени стал уже генеральным консулом в Багдаде.
При исследовании текста "III класса" уже в самом начале было сделано потрясающее открытие: текст "I класса" — это буквенное письмо, основанное на алфавите, весьма схожем по принципу с нашими западноевропейскими, знаки которых одновременно являются и звуками. Каждая группа знаков означала здесь, как правило, букву.
В тексте "III класса", который исследовали теперь, каждый отдельный знак означал слог, а иногда даже и целое слово; в некоторых же случаях — они по мере исследования становились все многочисленнее — один и тот же знак мог означат" различные слоги и даже совершенно различные слова. Более того, в конце концов выяснилось, что такие случаи не являются исключением, скорее они были правилом.
Наступило полнейшее замешательство.
Представлялось совершенно немыслимым пробиться сквозь эти дебри многозначности. Статьи, посвященное этому вопросу, опубликованные главным образом Раулинсоном, настоятельно, впрочем, подчеркивавшим, что, несмотря на все трудности, прочитать тексты все же можно, вызвали живейшее волнение в ученом мире и взрыв отчаяния среди профанов и дилетантов. В развернувшуюся дискуссию ввязались и посвященные и непосвященные. "Неужели нас действительно хотят всерьез уверить, что подобная запутанная письменность когда-то существовала? — спрашивали в научных и литературных приложениях газет известные и неизвестные авторы, специалисты и неспециалисты. — А если она и в самом деле существовала, то разве возможно ее прочитать?" И многие открыто заявляли: пусть ученые, утверждающие это, и прежде всего сам Раулинсон, прекратят свои "антинаучные забавы".
Приведем для наглядности только один пример из текста, который в силу своей сложности не может быть здесь помещен целиком: буква "р" изображается шестью различными знаками в зависимости от того, в какой слог она входит "ра", "ри", "ру", "ар", "ир", "ур". Если к этим слогам добавляется еще согласный звук, то путем складывания каждых двух звуков образуются особые знаки для "рам", "мар" и т. п. Многозначность основывается на том, что несколько знаков, объединенных в одну группу, теряют в результате свое первоначальное значение и выражают совершенно иное определенное понятие или имя. Так, например, группа знаков, составляющих имя Навуходоносор (правильнее — Набукудурриусур), прочитанных в слоговом значении, дает Ан-па-ша-ду-шеш.
В разгар всей этой работы, когда, на взгляд неспециалиста, сумятица достигла предела, некий археолог нашел в одной из подземных комнат в Куюнджике — там, где производил свои раскопки Ботта, — сотни глиняных табличек. Эти таблицы, изготовленные, очевидно, для учебных целей (впоследствии ученые определили, что они относятся к VII веку), содержали не что иное, как расшифровку значений клинописных знаков в их отношении к буквенному письму.
Значение этой находки трудно было переоценить. Ведь это были настоящие словари! Они были необходимы школьникам, изучавшим основы клинописи в те времена, когда старая силлабическая письменность и письмо-рисунок начали постепенно заменяться более простым алфавитным письмом. Один за другим стали находить многочисленные учебники, причем, не только для начинающих, и словари, в которых рядом со значением данного слова по-шумерийски (этот язык еще сохранился в религии и юриспруденции) стояло и его значение по-аккадски; находили даже своего рода энциклопедии, содержащие названия чуть ли не всех предметов обихода, перечисленные сначала по-шумерийски, а затем по-аккадски.
Но какой бы значительной ни была эта находка, она, разумеется, сама по себе, в силу своей внутренней неполноценности, могла дать ученым в лучшем случае всего лишь некоторые общие данные. Только специалистам известно, каких трудов стоила дешифровка первых текстов, какую работу пришлось проделать исследователям, часто идущим окольными путями, а то и попадавшим на неверный путь;
сколько труда затратили они, прежде чем смогли с уверенностью сказать: "Да, несмотря на многозначность, мы в состоянии прочесть и самые сложные клинописные тексты".
Когда, в частности, Раулинсон после периода всеобщего замешательства решился объявить, что готов публично доказать правомочность такого утверждения (он подвергся за это оскорблениям и поношениям, так же как, впрочем, все пионеры в той или иной значительной области знаний), Лондонское азиатское общество пошло на совершенно необычный, беспримерный в истории науки шаг.
Четырем наиболее крупным в то время специалистам в области клинописи была направлена в запечатанном конверте копия никому до того не известного, недавно найденного большого ассирийского клинописного текста с просьбой расшифровать его и отослать в запечатанном виде назад, причем никого из этих четырех исследователей не уведомили, что такие же копии посланы трем другим.
Этими четырьмя учеными были англичане Раулинсон и Тальбот, ирландец Хинкс и немецко-французский ученый Опперт. Каждый из них принялся за работу, не подозревая о том, что одновременно ею заняты и трое остальных. Каждый работал по собственному методу. Закончив, они запечатали результаты своих трудов в конверты и отослали назад. Специальная комиссия проверила тексты. И то, что еще недавно казалось невероятным, в чем во всеуслышание сомневались, теперь стало действительностью: да, несмотря на всю сложность, эти силлабические письмена прочитать можно — все четыре текста в основном были идентичны.
Разумеется, эта необычная проверка не могла не вызвать у многих ученых чувства горечи; они были оскорблены таким рассчитанным на одобрение публики, но недостойным науки методом дознания.
Таким образом, в 1857 году в Лондоне смогла появиться "Надпись Тиглатпаласара, царя Ассирии, переведенная Раулинсоном, Тальботом, д-ром Хинксом и Оппертом", — одно из самых блестящих и убедительнейших доказательств возможности расшифровки этой письменности; оказалось, что, несмотря на все трудности, можно, идя различными путями, прийти к одним и тем же научным результатам.
Исследования продолжались. Десятью годами позже появились первые элементарные грамматики ассирийского языка — от проблем дешифровки ученые перешли к изучению языковых тайн. Сегодня насчитывается немало исследователей, свободно читающих клинописные тексты, и вряд ли им приходится сталкиваться с иными трудностями, кроме тех, которые обусловливаются причинами, так сказать, чисто внешними: полустертыми знаками, неразборчивым почерком, фрагментарным характером таблиц, не всегда к тому же целых, — следами трех тысячелетий с их ветрами, дождями, песчаными бурями, которые пронеслись над глиняными табличками, стенами дворцов и древними городами.
Глава 22 ДВОРЦЫ ПОД ХОЛМОМ НИМРУД
В 1854 году лондонский Хрустальный дворец, в котором за три года до этого размещалась Всемирная выставка, был перенесен из Гайд-парка в Сайденхэм и оборудован под музей. В стенах этого музея жители западных стран Европы впервые, хотя бы в общих чертах, ознакомились с роскошью и великолепием тех исчезнувших столиц, о которых с проклятием упоминает Библия как о гнездах разврата, убийств и чародейства. Здесь можно было увидеть два огромных помещения, выстроенных в древнеассирийском стиле, и реконструкцию фасада огромного дворца и, таким образом, получить первое, самое общее, но впечатляющее представление о той архитектуре, о которой до этих пор знали только из легенд, сомнительных рассказов древних путешественников и священных книг.
Здесь были выстроены церемониальный зал и царские покои, здесь стояли крылатые человекобыки, здесь можно было найти и репродукции, изображающие душителя львов, "победоносного героя", "господина страны" — Гильгамеша. Стены дворца были сложены из разноцветных глазурованных кирпичей, не употреблявшихся в других странах. На рельефах были изображены волнующие сцены охоты и военные эпизоды, они относились к эпохе великого царя Ашшурбанапала, правившего 27 столетий назад.
Человека, организовавшего этот музей, звали Остин Генри Лэйярд. В 1839 году он, тогда еще никому не известный "бедняга", как говорят немцы, в сопровождении лишь одного провожатого ехал вдоль берега Тигра в Мосул. В тот год, когда в музее в Сайденхэме были выставлены для всеобщего обозрения выкопанные им сокровища, этот "бедняга" занимал пост помощника статс-секретаря в английском министерстве иностранных дел.
Биография Лэйярда чрезвычайно напоминает биографию Ботта и Раулинсона. Так же как и они, он был по натуре авантюристом и тем не менее, несомненно, крупным деятелем, выдающимся ученым и одновременно светским человеком. У него была склонность к занятиям политикой, и он был искушен в обращении с людьми.
Лэйярд принадлежал к издавна осевшей в Англии французской семье. Он родился в 1817 году в Париже, часть своей юности провел вместе с отцом в Италии, в 1833 году уехал в Англию и занялся там изучением юриспруденции. 1839 год застает его путешествующим по Востоку. Затем он жил при британском посольстве в Константинополе. В 1845 году он начал свои археологические раскопки в Двуречье. В 1852 и 1861 годах он дважды был помощником статс-секретаря, в 1868 году — министром общественных сооружений, в 1869 году — полномочным министром Великобритании в Мадриде.
Страсть, которую он питал к Востоку, к далекому Багдаду, Дамаску, к Персии, восходит к его юношеским мечтам. Она родилась, когда ему было 22 года и он торчал в затхлой конторе одного лондонского стряпчего, имея в перспективе скучную, заранее известную карьеру, в конце которой его ожидал пудреный парик. Лэйярд бросил все и последовал за своей мечтой.
Его жизненный путь прямо противоположен жизненному пути Генриха Шлимана: и на того и на другого оказали большое влияние впечатления и мечты юношеских лет. У Шлимана они были навеяны поэмами Гомера, У Лэйярда чтением "Тысячи и одной ночи". Однако если Шлиман со свойственной ему суровой непреклонностью сначала пошел по пути житейского преуспевания и лишь затем, став миллионером, приобретя широчайшие связи, последовал дорогой мальчишеских грез, то Лэйярд был не в силах ждать. Без денег, с юношеским энтузиазмом отправился он в страну сказок, увидел там гораздо больше, чем обещали его грезы, добился известности и славы и лишь потом стал продвигаться по лестнице житейских успехов. Но в одном они были схожи — так же как Шлиман, готовясь в воплощению своих юношеских грез в действительность, старательно изучал в амстердамской мансарде языки, так и Лэйярд еще в юношеские годы изучил все, что могло, по его мнению, пригодиться ему во время путешествия в страну его мечты. Это были чисто практические знания, не имевшие ничего общего с юриспруденцией, которую от штудировал в то время: например, умение обращаться с компасом, определение широты того или иного пункта с помощью секстанта, применение географических измерительных инструментов, а одновременно и уход за больными, страдающими тропическими болезнями, первая помощь при ранениях и т. д., но в первую очередь знание персидского языка и различные сведения о быте и нравах жителей Ирака и Ирана.
В 1839 году он выбрался из лондонской конторы и отправился в свое первое путешествие по Востоку. Очень скоро выяснилось, что он обладает одним существенным преимуществом перед своими коллегами по науке: он оказался не только крупным археологом, но и блестящим писателем, оставившим великолепные описания своей деятельности и своих находок. Предоставим же ему слово (цитата несколько сокращена):
"Осенью 1839 года и зимой 1840 года я путешествовал по Малой Азии и Сирии. Меня сопровождал спутник, по меньшей мере столь же любознательный, как и я сам. Оба мы не обращали внимания на опасности. Мы путешествовали вдвоем; наше оружие было нам единственной защитой, притороченные к седлу ранцы — нашим гардеробом, и в тех случаях, когда нас от этого не освобождал радушный прием в какой-нибудь деревушке или бедуинской палатке, мы сами пасли своих коней и ухаживали за ними. Таким образом, мы уподобились местному населению.
Я с удовольствием вспоминаю те счастливые дни, когда мы покидали на рассвете скромную хижину или уютную палатку, чтобы к вечеру, путешествуя, как нам вздумается, очутиться возле каких-либо потемневших от старости развалин, рядом с которыми разбил свою палатку кочевник-араб, или же в какой-нибудь заброшенной деревушке, сохранившей лишь свое громкое имя…
Я почувствовал непреодолимое желание осмотреть местность по ту сторону Евфрата, которую история и традиция называют местом рождения мудрости Запада. Большинство путешественников испытало это желание: перешагнуть через реку и исследовать местность, отделенную на картах от границ Сирии колоссальным белым пятном, протянувшимся от Алеппо до берегов Тигра. История Ассирии, Вавилонии и Халдеи еще весьма темна; с этими странами связаны истории великих наций; там бродят угрюмые тени прошлого больших городов: огромные каменные руины, лежащие среди пустыни, как бы насмехаются над описаниями путешественников. Следуя заветам пророков, по этой стране, по этой равнине, которую евреи и язычники считают колыбелью своего народа, кочуют остатки больших племен.
18 марта мы вместе с моим спутником покинули Алеппо. Мы по-прежнему путешествовали без гида и слуги. 10 апреля мы прибыли в Мосул. Во время нашего пребывания в этом городе мы осмотрели большие каменные руины на восточном берегу реки, которые все считали остатками Ниневии. Мы съездили также в пустыню и осмотрели холм Калах-Шергат, колоссальное нагромождение камней на берегу Тигра примерно в 50 милях от места его слияния с Забом. По дороге в Калах-Шергат мы заночевали в небольшой деревушке Хамму-Али, вокруг которой еще сейчас можно обнаружить следы древнего города. С вершины искусственного холма мы осмотрели широкую долину, отделенную от нас только рекой; на востоке эта равнина окаймлялась многочисленными довольно большими холмами, среди которых выделялся один самый большой пирамидальной формы. Лишь с трудом можно было различить узкую ленту Заба. Его расположение помогает узнать в этом холме пирамиду, описанную Ксенофонтом, именно ту, возле которой разбили свой лагерь десять тысяч греческих воинов: это были те самые руины, которые видел уже двадцать столетий назад греческий полководец, — и уже тогда они были руинами древнего города. И хотя Ксенофонт, спутав, заменил местное название города более милым греческому уху именем Ларисса, традиция сохранила сведения о возникновении города и, связывая его с первыми поселениями человека, приписывала его основание Нимруду, имя которого и поныне носят развалины".
Лэйярду не удалось тотчас же приступить к исследованию этих таинственных холмов, скрывающих столь великое прошлое, но они буквально заворожили его — он бродил вокруг них, как алчущий золота вокруг запертого сейфа. В своих путевых записках он вновь и вновь возвращается к этим холмам, находя все новые и новые слова для их описания: "Огромная бесформенная масса, поросшая травой, — и нище ни единого следа какого-либо вмешательства, разве только там, где зимние дожди размыли кое-где на склонах землю, обнажив то, что скрывается под ее покровом". А всего лишь страницей далее: "Трудно сказать, какую форму имеют эти диковинные кучи земли, расстилающиеся сейчас перед путешественниками". Он сравнивал ландшафт и руины, которые видел в Сирии, с тем, что увидел здесь: "…вместо богато вылепленных, наполовину закрытых растениями карнизов или капителей — бесформенные, мрачные кучи земли, возвышающиеся наподобие холмов на выжженной солнцем равнине".
В конце концов, несмотря на недостаток времени, он все-таки уступает любопытству. "Среди арабов распространена легенда, согласно которой под руинами еще можно увидеть таинственные фигуры из черного камня. Однако все наши попытки найти хотя бы одну такую фигуру (мы чуть ли не целый день ворошили кучи земли и камней, занимающих изрядное пространство вдоль правого берега Тигра) оказались тщетными". Далее следует окончательный вывод:
"Эти гигантские холмы в Ассирии произвели на меня более сильное впечатление, вызвали больше глубоких и серьезных размышлений, чем храмы Баальбека и театры Ионии".
Особенно заинтересовал его один холм, причем не только своими размерами, не только величиной той площади, на которой он раскинулся, но и названием того поселения, развалины которого громоздились у подножия холма. Название это, как он сам писал, казалось, указывало на его прямую связь с "колыбелью человечества" и с Нимрудом, о котором рассказывает Библия.
Хуш, так говорится в 10-й главе Первой книги Моисея, сын Хама, внук Ноя, который вместе со своими тремя сыновьям, их женами и всеми чистыми и нечистыми животными принялся после великого потопа вновь наполнять землю и умножаться на ней, родил Нимрода:
"Сей начал быть силен на земле.
Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говорится:
сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом.
Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар.
Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию и Реховофир, Калах и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий".
Однако Лэйярд был вынужден вернуться: средства его иссякли. Он отправился в Константинополь. Там он познакомился с английским послом Стрэтфордом Каннингом. Целыми днями Лэйярд только и говорил о таинственных холмах вокруг Мосула. Тем временем весь мир услышал о находках Поля Эмиля Ботта у Хорсабада. Красочные рассказы Лэйярда, его энтузиазм оказали свое воздействие, и в один прекрасный день (прошло пять лет со времени его первого путешествия; Ботта в это время находился на вершине своих успехов в Хорсабаде) Каннинг подарил двадцативосьмилетнему Лэйярду шестьдесят английских фунтов. Шестьдесят фунтов! Не так много для осуществления тех целей, которые поставил перед собой Лэйярд, — ведь он мечтал достичь больших результатов, чем Ботта, которому помогало французское правительство и который занимал административную должность в Мосуле.
8 ноября 1845 года Лэйярд отправился на плоту вниз по Тигру, чтобы приступить к раскопкам на холме Нимруд. Но, как оказалось, недостаток средств был не единственной помехой в его деятельности: его поджидали трудности совсем иного рода. Со времени первого путешествия Лэйярда прошло пять лет; когда он на этот раз сошел со своего плота, он попал в страну, охваченную мятежом.
Двуречье находилось в эти годы под властью турок. В стране был новый губернатор. Рассматривать подведомственную ему страну как объект для обогащения, а ее жителей — как дойных коров или как кур, несущих золотые яйца, свойственно, вероятно, губернаторам всех времен и народов (любопытные истории о них рассказывают еще римские хроники). Губернатор же Мосула действовал здесь с чисто азиатским размахом. До нас дошли описания его деятельности — так и кажется, что он сошел со страниц какого-либо исторического романа, ще должен был олицетворять все силы зла; даже внешность его как нельзя больше соответствовала этому образу: он был одноглаз и одноух, коренаст и жирен, лицо его было, как у всех классических мошенников, рябое, голос — ужасен, движения — неловки. К тому же он был недоверчив и всегда держался настороже, словно опасаясь угодить в какую-либо ловушку. Он был изощренным садистом, и от его шуток веяло могильным холодом. Одним из его первых мероприятий по вступлении в должность было введение зубного налога, или, как он именовался, "налога на зуб", — подати, которая оставляла далеко позади себя знаменитые "соляные налоги", существовавшие в свое время в Европе: несчастные жители должны были, как объявил губернатор, платить за… износ его зубов и их удаление — ведь виной тому пакостная пища, которую ему приходится есть в этой стране. Но это еще были только цветочки… Он заставил трепетать в страхе весь народ. Его карательные экспедиции были настоящими грабительскими походами, он разорял города и облагал непосильной данью села.
Деспотия немыслима без слухов — службы связи слабых. Однажды кто-то в Мосуле сказал, что Аллах сжалился и паша будет отстранен от должности. Пару часов спустя губернатор уже узнал об этом. Ему пришла в голову идея, которая кажется заимствованной из какой-либо староитальянской новеллы: нечто подобное встречается у Боккаччо, хотя в гораздо более смягченных тонах.
Во время одного из ближайших выездов губернатор внезапно заявил, что захворал. Его спешно отвезли назад во дворец, казалось, уже чуть ли не полумертвым. Рассказы очевидцев, словно на крыльях надежды, мгновенно распространились по всему городу. На следующий день ворота дворца продолжали оставаться закрытыми; когда же за его стенами раздались монотонные стенания евнухов и телохранителей, народ возликовал: "Слава Аллаху! Паша скончался!" Но когда на площади перед дворцом собралась шумная ликующая толпа, проклинающая тирана, ворота дворца внезапно открылись и в них появился губернатор — маленький, жирный, омерзительный, с повязкой на кривом глазу, с коварной ухмылкой на изрытом оспой лице…
Кивок — и вот уже солдаты врезаются в остолбеневшую толпу. Началась расправа. Покатились головы. Губернатор действовал не без расчета: он обезглавил всех "мятежников", а заодно, пользуясь удобным случаем, и всех тех, чьи богатства он до сих пор не мог захватить; теперь он расправился с этими людьми под предлогом, будто они "распространяли слухи, которые подрывали власть". И тогда наконец страна восстала: поднялись племена, кочевавшие в степях вокруг Мосула. Они восстали на свой лад: неспособные к организованному мятежу, они ответили на грабеж грабежом — во всей округе не осталось ни одной безопасной дороги, и ни один чужеземец не мог поручиться за свою жизнь. Именно в это время сюда и прибыл Лэйярд, который намеревался раскопать холм Нимруд.
Ситуация в стране недолго оставалась тайной для Лэйярда; уже через несколько часов ему стало ясно, что он должен скрывать свои истинные планы и никому о них в Мосуле не говорить. Он приобрел ружье и короткое копье и стал рассказывать всем, кому не лень было его слушать, что собирается отправиться на противоположный берег реки поохотиться на диких свиней.
Несколько дней спустя он нанял лошадь и поехал по направлению к Нимруду. Так он попал в ближайшее кочевье восставших бедуинов. Однако происходит нечто совершенно невероятное: еще до вечера ему удается завязать дружеские отношения с Авадом, вождем одного из племен, кочевавших близ холма Нимруд. Более того, в его распоряжении оказываются шесть бедуинов, которые готовы за умеренную плату помогать ему с завтрашнего утра выяснять, что же скрывается в "чреве горы".
Когда вечером этого дня Лэйярд наконец очутился в своей палатке, он, наверное, долго не мог уснуть. Завтрашний день должен был показать, будет ли ему сопутствовать счастье. Впрочем, почему завтрашний? Возможно, на это понадобятся месяцы. Разве Ботта не копал безрезультатно целый год?
Двадцать четыре часа спустя Лэйярд наткнулся на стены двух ассирийских дворцов.
С восходом солнца он был на холме. Уже при беглом осмотре ему удалось обнаружить множество кирпичей с узорчатыми, словно отштампованными надписями. Авад, предводитель бедуинов, обратил его внимание на обломок алебастровой плиты, торчавшей из земли. Эта находка решила вопрос, в каком именно месте начинать раскопки.
Семеро мужчин принялись за работу. Они начали рыть траншею в холме. Первыми из того, что они обнаружили уже через пару часов, были несколько вертикально поставленных каменных плит. Выяснилось, что это цокольные фризы, так называемые ортостаты, то есть стенная облицовка какого-то помещения, которое, судя по богатству орнаментировки, могло быть только дворцом.
Лэйярд разделил свою группу. Его внезапно охватил страх, что он может пройти мимо другого, быть может, еще более богатого находками места. Кроме того, он надеялся обнаружить неповрежденные стены (те, которые он нашел, хранили следы пожара). Он отправил трех человек копать с противоположной стороны холма, и здесь снова заступ, словно по мановению волшебной палочки, наткнулся на стену. Она была покрыта рельефами, разделенными фризом, на котором была какая-то надпись. Так Лэйярд обнаружил угол второго дворца.
Чтобы лучше представить себе, какого характера находки были сделаны Лэйярдом в том же месяце, приведем его собственное описание одного украшенного барельефом ортостата: "На нем изображена батальная сцена: во весь опор мчатся две колесницы; в каждой колеснице — три воина, старший из них, безбородый (по всей вероятности, евнух), облачен в доспехи из металлических пластинок, на голове его остроконечный шлем, напоминающий старинные норманнские шлемы. Левой рукой он крепко держит лук, а правой чуть ли не до плеча оттягивает тетиву с наложенной на нее стрелой. Меч его покоится в ножнах, нижний конец которых украшен фигурками двух львов.
Рядом с ним стоит возничий, с помощью поводьев и кнута он направляет бег коней; щитоносец отбивает круглым щитом, возможно из чеканного золота, вражеские стрелы и копья. С удивлением отмечал я изящество и богатство отделки, точное и в то же время тонкое изображение как людей, так и коней; знание законов изобразительного искусства нашло здесь свое выражение в группировке фигур и общей композиции".
Подобные барельефы ныне можно увидеть в любом музее Европы и Америки. Большинство посетителей бросает на них лишь беглый взгляд и идет дальше. Между тем эти рельефы заслуживают более пристального внимания. Они удивительно реалистичны по содержанию (но не по стилю — реалистичная манера изображения характерна лишь для отдельных эпох); внимательное их изучение дает возможность заглянуть в жизнь тех людей и прежде всего тех правителей, о которых так много ужасного рассказывается в Библии.
Сегодня, в век фотографии, мы еще на школьной скамье получаем благодаря репродукциям какое-то, хотя бы самое общее, представление об этих барельефах, но в те времена, когда Лэйярд занимался вместе с горсткой своих рабочих раскопками на холме Нимруд, подобные произведения искусства удалось доставить в Париж пока одному только Ботта. Для тех, кому удавалось откопать их и отряхнуть с них пыль тысячелетий, они были волнующей новинкой.
Мгла, в которую до сих пор была погружена история Ассирии, рассеивалась с молниеносной быстротой. В 1843 году Раулинсон принялся в Багдаде за дешифровку бехистунской надписи, в том же году Ботта приступил к раскопкам в Куюнджике и Хорсабаде, в 1845 году Лэйярд начал свои раскопки в Нимруде. О результатах, достигнутых в эти три года, можно судить по тому факту, что дешифровка одной только бехистунской надписи дала нам больше сведений о персепольских правителях, чем все античные авторы, вместе взятые. Сегодня мы можем без всякого преувеличения сказать, что мы гораздо лучше осведомлены об истории Ассирии и Вавилона, о величии и падении Вавилона и Ниневии, чем весь "классический" древний мир, чем все греческие и римские историки, вместе взятые, несмотря на то что они были ближе к этим временам на целых два тысячелетия.
Надо сказать, что арабы, которые видели, как Лэйярд изо дня в день восхищается старыми, потрескавшимися каменными плитами, изображенными на них фигурами и битыми кирпичами, решили, что он сумасшедший, но, поскольку он платил, они готовы были помогать ему продолжать раскопки. Впрочем, ни одному из пионеров в области археологии не удавалось спокойно довести до конца начатую работу. Всегда исследования соседствовали с приключениями, наука — с опасностями, самопожертвование — с обманом. Не составил в этом отношении исключения и Лэйярд, однако он был рожден под счастливой звездой.
Однажды, когда работа уже значительно продвинулась вперед и никакие надежды не представлялись несбыточными, Авад отвел Лэйярда, которому малейшая пауза казалась потерей времени, в сторону. Хитро подмигивая, словно речь шла об общей тайне, и вертя при этом в грязных пальцах небольшую фигурку, на которой еще были заметны следы позолоты, он после бесчисленных отступлений и ссылок на Аллаха дал понять Лэйярду, что для него не составляет секрета, что именно ищет уважаемый "франк". Он желает ему счастья и надеется, что "франку" удастся найти все золото, которое запрятано под этим холмом. Авад не скрыл и собственной заинтересованности в этом, но, по его мнению, необходимо действовать с величайшей осторожностью: ведь эти ослы рабочие не умеют держать язык за зубами. Нужно позаботиться о том, чтобы слух об успехах Лэйярда не дошел до длинных ушей паши в Мосуле, — и Авад, раздвинув руки, показал величину этих ушей.
Однако Авад ошибался: у паши, как и у всех деспотов, была не одна пара длинных ушей, а тысячи: ведь число этих органов чувств возрастает у них пропорционально числу тех креатур, которые видят в них бога и подобострастно им прислуживают. Прошло некоторое время, и паша заинтересовался Лэйярдом. На месте раскопок появился турецкий капитан в сопровождении нескольких солдат. Формальности ради они осмотрели раскоп и найденные статуи, а затем без обиняков дали понять, что они информированы и о том золоте, которое время от времени здесь находят. С церемонным поклоном капитан передал Лэйярду письменное запрещение производить дальнейшие раскопки.
Нетрудно себе представить, как подействовал на Лэйярда этот запрет: после первых действительно феноменальных успехов любая потеря времени приводила его буквально в бешенство. Он вскочил на коня и, словно одержимый, поскакал в Мосул. Там он потребовал немедленной аудиенции у паши.
Он получил ее, и ему удалось познакомиться с восточным лицемерием во всем разнообразии его красок. Паша молитвенно поднял руки к нему: ну, разумеется, он сделает все, буквально все, что в его силах, для того чтобы помочь Лэйярду — представителю нации, к которой паша относится с величайшим уважением, человеку, которым он восхищается и чьим другом он хотел бы быть. Он готов помогать ему сегодня, завтра, всю свою жизнь, пока Аллаху не будет угодно призвать его. Но продолжать раскопки? Немыслимо. Ведь там расположено старое мусульманское кладбище. Пусть "франк" посмотрит повнимательнее, и он увидит там могильные плиты. Все правоверные расценят его, Лэйярда, действия как святотатство. Тогда они поднимут восстание не только против "франка", но и против него самого, против паши, и паша не сумеет тогда оказывать "франку" покровительство и защищать его!
Аудиенция была унизительной и ни к чему не привела. Вечером, размышляя на пороге своей хижины о происшедшем, Лэйярд понял, что вся его работа находится под угрозой. Вернувшись от паши, он тут же отправился к холму, чтобы проверить, правду ли говорил деспот о мусульманских надгробных камнях. Все было верно, паша не солгал! Обнаружив в уединенном месте первый камень, Лэйярд угрюмо повернул назад. Дома, забравшись под одеяло, он принялся размышлять о том, как поступить. Но размышлять-то как раз и не следовало! Надо было повнимательнее осмотреть могильные плиты!
Он мог бы сделать это еще за день до аудиенции, а сейчас ему не следовало залезать под одеяло, ведь он уже вторую ночь упускал возможность познакомиться с фактами, которые могли бы пригодиться ему для разговора с пашой: и в эту ночь и в предыдущую он мог бы заметить множество фигур, которые тайком бесшумно двигались по направлению к холму Нимруд. Обе ночи напролет они парами подходили к холму, а потом также парами исчезали. Грабители, как в Египте? Но что же они могли найти здесь, где не было ничего, кроме тяжелых каменных плит и барельефов?
Лэйярд, должно быть, обладал огромным личным обаянием и был искусен в обращении с людьми. Направляясь на следующее утро к холму, он повстречал капитана, вручившего ему приказ паши. В разговоре с капитаном Лэйярд буквально обворожил своего собеседника, и тот, проникшись к нему доверием, конфиденциально сообщил ему, что работал последние две ночи вместе со своими солдатами не покладая рук: они перебрасывали по приказу паши надгробные камни и могильные плиты из близлежащих поселений к Нимруду.
"Для того чтобы установить эти надгробия, мы разрушили столько настоящих могил правоверных, сколько вы не могли бы осквернить, если бы даже раскопали всю территорию между Забом и Селамией. Мы замучили и себя и лошадей, перевозя эти проклятые камни".
Будь Лэйярд наблюдательнее, он бы сам мог все это заметить. Однако, прежде чем Лэйярд сумел соотвествующим образом использовать эту необыкновенную весть, затруднения его разрешились совсем иным и, надо сказать, самым неожиданным образом: вскоре после беседы с капитаном Лэйярду представился случай посетить пашу… в тюрьме. Да-да, Лэйярду посетить пашу, а не наоборот. Милостивая судьба, которая лишь немногим деспотам дарует долгую жизнь, позаботилась о том, чтобы паша был смещен; теперь ему пришлось держать ответ за все им содеянное. Лэйярд нашел его в какой-то дыре, куда свободно проникал дождь. "Окаянные людишки! — вскричал паша, увидев Лэйярда. — Вчера еще эти собаки целовали мне ноги, а сегодня все против меня. — И, взглянув на потолок, добавил: — Даже дождь".
С падением власти деспота Лэйярд смог беспрепятственно продолжать работы. Однажды утром со второго раскопа, который находился в северо-западном углу холма, прибежали взволнованные рабочие: они потрясали своими кирками, кричали и танцевали, казалось, в их волнении причудливым образом переплелись радость и страх. "Поскорее, о бей, скорее, — кричали они, — нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его! Мы нашли Нимрода, самого Нимрода, мы видели его собственными глазами…"
Лэйярд летел к раскопу на крыльях надежды. Разумеется, он ни на секунду не поверил тому, что утверждали арабы, которые решили, что им удалось откопать статую Нимрода, но он сразу подумал об успехах Ботта: может быть, речь шла об одной из тех диковинных статуй получеловека-полуживотного, несколько экземпляров которых Ботта удалось отыскать? А затем он увидел исполинскую алебастровую голову от туловища крылатого человекольва. "Она удивительно хорошо сохранилась. Выражение лица было спокойным и в то же время. величественным; черты лица переданы так свободно и в то же время с таким пониманием законов искусства, какое с трудом можно было предположить для столь далекой от нас эпохи". Сегодня мы знаем, что это была одна из многих статуй ассирийских астральных богов; таких богов было четыре: Мардук, которого изображали в виде крылатого быка, Набу — его изображали как крылатого человека, Нергал — крылатый лев и Нинурта, которого изображали в виде орла.
Лэйярд был глубоко потрясен. Позднее он писал: "Целыми часами я рассматривал эти таинственные символические изображения и размышлял об их назначении и их истории. Что более благородное мог бы ввести тот или иной народ в храмы своих богов? Какие более возвышенные изображения могли быть заимствованы у природы людьми, которые… пытались найти воплощение своим представлениям о мудрости, силе и вездесущности высшего существа? Что могло лучше олицетворять ум и знания, чем голова человека, силу — чем туловище льва, вездесущность — чем крылья птицы!
Эти крылатые человекольвы вовсе не были бессмысленными творениями, они не были лишь плодом досужей фантазии — их внешний вид передавал то, что они должны были символизировать. Они внушали благоговение, они были созданы в назидание поколениям людей, живших за три тысячелетия до нас. Сквозь охраняемые ими порталы несли свои жертвоприношения правители, жрецы и воины еще задолго до того, как мудрость Востока распространилась на Грецию, снабдив ее мифологию издавна известными ассирийцам символическими изображениями. Они были погребены под землей еще до основания Вечного города, и о их существовании никто не подозревал. Двадцать пять столетий были они скрыты от взоров людей и вот появились вновь во всем своем былом величии. Но как изменилось все кругом… Великолепные храмы и богатые города превратились в руины, едва угадываемые под бесформенными кучами земли. Над теми обширными залами, где некогда стояли эти статуи, плуг провел свою борозду и волнами колыхалась тучная нива. Монументы, сохранившиеся в Египте, немые свидетели былой мощи и славы, не менее поразительны, но они на протяжении столетий стояли открытые всем взорам. Те же, с которыми довелось столкнуться мне, только что появились из небытия, словно специально для того, чтобы подтвердить слова пророка: "Некогда Ассур был как кедр ливанский, весь покрытый листвой, раскидистый, высокий, и вершина его высоко возвышалась…"
В Книге пророка Софонии содержится и продолжение этого ужасного пророчества:
"И прострет он руку свою на Север, и уничтожит Ассур, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: "Я — и нет иного, кроме меня". Как он стал развалиной, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою".
Пророчество это сбылось еще много столетий назад. Теперь Лэйярд извлекал на свет то, что осталось от этой древней цивилизации.
Известие о находке (она вызвала некоторое смятение среди местных жителей) распространилось с быстротой молнии. Из близких и дальних мест к Нимруду потянулись бедуины, появился даже некий шейх, а с ним чуть ли не половина его племени; все они разряжали в воздух свои ружья, словно салютуя миру, исчезнувшему в незапамятные времена. Это было фантастическое зрелище. Бедуины подъезжали вплотную к раскопу, вглядывались в отбеленную на протяжении тысячелетий грунтовыми водами гигантскую голову, простирали в изумлении руки к небу и призывали Аллаха.
Лишь после длительных уговоров удалось убедить шейха залезть в раскоп и удостовериться, что это все не видение, не какой-либо страшный джинн и даже не божество, собравшееся явиться свету. "И все же, — воскликнул шейх, — это не может быть делом рук человеческих: здесь замешаны те гиганты, о которых пророк, мир праху его, говорил, что они были выше самых высоких финиковых пальм. Это один из тех идолов, которых Ной, мир праху его, проклял перед потопом". Тем временем один из арабов, увидевших алебастровую голову, бросив свои дела, помчался в Мосул, крича по пути всем и каждому, что великий Нимрод восстал из гроба, чем вызвал немалый переполох на мосульском базаре.
Делом заинтересовался кади. Он учинил арабу допрос: что же, собственно, найдено? Кости, останки Нимрода или только его изваяние? Он обратился за советом и к муфтию. Тот подошел к вопросу с теологических позиций и попытался установить, был Нимрод правоверным или же он был неверной собакой.
Губернатор, преемник одноглазого паши, принял соломоново решение: на всякий случай он предложил Лэйярду обращаться с "останками" с величайшим уважением, а дальнейшие раскопки приказал на время приостановить. Запрещение производить раскопки? С этим Лэйярд сталкивался не впервые. Он потребовал аудиенции у паши, и ему удалось его убедить, что чувства правоверных не будут задеты, если он продолжит раскопки. А подоспевший к этому времени султанский фирман раз навсегда освободил его от притеснений местных властей и каких-либо обвинений религиозного характера со стороны местных жителей.
Лэйярд открывал все новые и новые изваяния. Скоро в его распоряжении оказалось тринадцать пар крылатых человекобыков и человекольвов. Великолепное здание, которое Лэйярд постепенно откопал в северо-западном углу холма (этой находке он был обязан своей славой, затмившей славу Ботта), оказалось, как это впоследствии было установлено, дворцом Ашшурнасирапала II (884–859 годы до н. э., по Вейднеру), царя, который перенес свою резиденцию из Ашшура сюда, в Кальху. Как и предшественники и преемники его, он жил по заветам Нимрода, который, по свидетельству Библии, был "сильный зверолов перед Господом". Именно из этого дворца Лэйярд вывез охотничьи барельефы и изображения зверей. Натурализм этих рисунков оказал заметное влияние на целые поколения современных художников. Охота была постоянным занятием ассирийской знати, об этом свидетельствовали рельефы, скульптуры, надписи. Животные содержались в специальных парках, "парадизах", как их именовали, далеких предшественниках наших зоопарков; здесь за оградой разгуливали газели и львы. Знатные ассирийцы устраивали большие загонные охоты и практиковали охоту с сетями, подобной которой теперь, должно быть, не встретишь ни в одном уголке земного шара.
Лэйярду пришлось немало поломать голову над тем, как доставить хотя бы пару этих колоссальных крылатых статуй в Лондон. Лето в тот год было неурожайное, поэтому можно было ожидать, что разбойничьи шайки начнут рыскать вокруг Мосула, и, хотя Лэйярд приобрел среди местных жителей немало друзей, разумнее было ускорить перевозку.
В один прекрасный день в Мосуле на полусгнившем понтонном мосту через Тигр появилась целая толпа арабов и халдеев*. (* Халдеями в XIX веке называли месопотамских и персидских христиан.) Пыхтя и отдуваясь, они тянули, волочили, тащили какой-то огромный и неуклюжий воз, какой-то гигантский фургон, который так и не смогла сдвинуть с места пара здоровенных буйволов. Эту огромную телегу спешно изготовили по заказу Лэйярда в Мосуле. В первую очередь он решил отправить два крылатых чудовища — одного быка и одного льва, — два самых маленьких и в то же время наиболее сохранившихся из найденных им человекольвов и человекобыков; ведь если вспомнить, какими орудиями Лэйярд располагал, перевозка представлялась в достаточной степени рискованным делом. Для того чтобы извлечь из-под холма лишь одного крылатого быка, пришлось вырыть от подножия холма до места находки траншею длиной тридцать, шириной пять и глубиной семь метров. Лэйярд буквально не знал, куда деваться от забот, а для арабов увоз "идолов" был настоящим праздником. Феллахи Нильской долины провожали останки своих царей, увозимые Бругшем в Каир, с плачем и стенаниями; арабы, собравшиеся у холма Нимруд, оглашали окрестности криками радости. Под эти крики гигантскую статую и поставили на катки.
Вечером, успешно завершив первую часть работы, Лэйярд отправился в сопровождении шейха Абд ар-Рахмана домой. Здесь и произошел между ними тот разговор, отрывок которого мы предпослали в качестве своего рода эпиграфа к данной главе: "Поразительно! Поразительно! Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его! Во имя Всевышнего, о бей, скажи мне, что ты собираешься делать с этими камнями? Потратить так много денег ради подобных вещей! Неужто и в самом деле твой народ черпает из них мудрость? Или, может быть, прав кади, который говорит, что они попадут во дворец царицы, где она будет вместе с остальными неверными поклоняться им? А что касается мудрости, то ведь эти истуканы не научат вас лучше производить ножи, ножницы и материи, в чем, собственно, англичане и проявляют свою мудрость! Великий Аллах! Вот лежат камни, которые были погребены здесь во времена святого Ноя, мир праху его, а возможно, и задолго до потопа!
Многие годы живу я в этой стране. Мой отец и отец моего отца разбивали здесь до меня свои палатки, но и они никогда не слышали об этих истуканах. Вот уже двенадцать столетий правоверные — а они, слава Аллаху, только одни владеют истинной мудростью — обитают в этой стране, и никто из них ничего не слыхал о подземных дворцах, и те, кто жил здесь до них, тоже.
И смотри! Вдруг является чужеземец из страны, которая лежит во многих днях пути отсюда, и направляется прямо к нужному месту. Он берет палку и проводит линию: одну — сюда, другую — туда. "Здесь, — говорит он, находится дворец, а там — ворота", — и он показывает нам то, что всю жизнь лежало у нас под ногами, а мы даже и не подозревали об этом. Поразительно! Невероятно! Откуда узнал ты об этом — из книг? С помощью волшебства или тебе помогали ваши пророки? Ответь мне, о бей, открой мне секрет мудрости!"
Наступила ночь, а на холме Нимруд не затихали шум и крики: музыка, танцы и звуки цимбал возвещали о великой радости. А на гигантской повозке лежал белый огромный крылатый бык и, казалось, глядел на этот изменившийся мир.
На следующее утро транспорт направился к реке. Вдруг буйволы, тащившие этот чудовищный груз, останавливаются, выбившись из сил. Ни крики, ни понукания, ни удары бича не могут заставить их тронуться с места. Тогда Лэйярд обращается за помощью к шейху, и тот предоставляет в его распоряжение людей и тросы.
Вместе с Лэйярдом шейх ехал впереди, показывая дорогу, далее следовали барабанщики и флейтисты, которые изо всех сил били и свистели в свои инструменты, "за ними двигалась повозка; ее тащили около трехсот человек, оравших во всю силу своих легких. Их подгоняли и понукали надсмотрщики и кавассы (полицейские). Заключали шествие женщины; своими пронзительными криками они подбадривали мужчин. Вокруг джигитовали конники Абд ар-Рахмана, они носились взад и вперед, время от времени вступая между собой в шуточные сражения". Однако впереди были новые препятствия: дважды повозка застревала.
Погрузка статуй оказалась дьявольски трудной задачей. Лэйярда бросало то в жар, то в холод. С барельефами, которые он до этого неоднократно переправлял в Англию, дело обстояло значительно проще: из Мосула их перевозили в Багдад, а оттуда в Басру, где их грузили на пароход. Это делалось с помощью современных технических средств и было довольно нетрудно. Здесь же Лэйярд хотел обойтись без второй погрузки в Багдаде, так как крылатые чудища были необыкновенно тяжелы, к тому же Лэйярд не мог там присутствовать.
Мосульские корабельщики, которым никогда не приходилось плавать до Басры, буквально руками и ногами отбивались от этого предложения, и тому, что Лэйярду все-таки удалось за баснословную сумму осуществить свой план, он был обязан чистой случайности:
один из корабельщиков польстился на деньги, так как ему грозила долговая тюрьма. Добавим, что Лэйярду удалось благополучно избежать участи Ботта, многие находки которого, как известно, затонули в Тигре.
Так гигантские изваяния богов, крылатые чудища, отправились после двадцати восьми столетий покоя в далекое путешествие. И прежде чем опять обрести покой в Британском музее в Лондоне, они проплыли тысячу километров по Тигру и 25 тысяч километров через два океана — ведь Суэцкого канала тогда еще не существовало, он был открыт позже, в 1869 году, и изваяния везли вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды.
Прежде чем прервать на время свои раскопки, Лэйярд, вероятно, обошел их с записной книжкой в руках. Вот заключительное описание находок, взятое из его книги, которая за несколько лет приобрела мировую известность: "Мы поднимаемся вверх по искусственному холму, но пока еще не видим торчащих из земли камней: перед нами расстилается обширная платформа. Местами видны богатые всходы ячменя, местами она бесплодна и суха, если не считать отдельных кустарников, которые служат пищей верблюдам. Там и сям видны низкие черные холмики, из середины которых вырывается тонкий столб дыма. Это палатки арабов, вокруг которых копошатся несколько похожих на нищенок женщин. Впрочем, вы можете встретить и девушек: выпрямившись, твердо ступая с кувшином на плече или же со связкой хвороста на голове, они уверенно поднимаются к вершине холма…
Но с флангов холма то и дело появляются какие-то странные существа: с развевающимися волосами, полуодетые, в легких широких и коротких рубашках, они появляются откуда-то из-под земли: вприпрыжку, гримасничая на ходу, они словно сумасшедшие снуют туда и сюда. Каждый тащит корзину. Едва поравнявшись с краем холма, они опоражнивают корзину, поднимая при этом кучу пыли, а потом как можно быстрее возвращаются назад, пританцовывая на ходу, горланя, подкидывая пустую корзину над головой. Они исчезают так же внезапно, как и появляются. Потом все повторяется сначала. Это рабочие, выносящие землю из раскопа.
Спустимся по грубо вырубленным в земле ступеням в главную траншею. Двадцать шагов в глубину — и мы между двумя крылатыми человекольвами, образующими портал. В подземном лабиринте беспокойная суета; арабы носятся повсюду: некоторые несут наполненные землей корзины, другие — кувшины с водой для своих товарищей. Халдеи в своих полосатых одеждах и остроконечных шапочках бьют кирками неподатливую кочку, с каждым ударом поднимая целую тучу мельчайшей пыли. Изредка с какого-нибудь дальнего холма доносятся мелодии курдской музыки; услышав ее, арабы затягивают хором свой воинственный клич и с новой энергией берутся за работу.
Миновав львов, мы входим в главную залу. От нее остались лишь руины, но по обеим ее сторонам стоят гигантские крылатые фигуры, одни с головой орла, другие — созданные по человеческому подобию. В руках у них какие-загадочные символические предметы. Налево — еще один портал, который также образуют крылатые львы. Один из них упал наискосок, загородив дорогу, и нам с трудом удается проползти под ним. За этим порталом находятся крылатая фигура человека и две плиты с барельефами, настолько, однако, испорченные, что почти невозможно разобрать, что на них изображено. Еще далее, вероятно, была стена, но сейчас от нее ничего не осталось. Исчезла и противоположная стена залы; мы видим лишь высокую земляную насыпь, и только при внимательном осмотре удается обнаружить следы облицовки — остатки кирпичей из необожженой глины, которые уже давно приобрели тот же оттенок, что и окружающая их земля.
Упавшие алебастровые плиты водворены на место. Так мы попадаем в настоящий лабиринт маленьких барельефов, на которых изображены повозки, всадники, сражения и осады. Нам повезло: рабочие поднимают очередной барельеф. Затаив дыхание, в величайшем нетерпении ждем мы, пока они кончат: о каком новом событии ассирийской истории узнаем мы? Быть может, речь пойдет о каком-нибудь еще неизвестном обычае или религиозной церемонии?
Пройдя еще около ста шагов среди этого царства древностей, мы приближаемся к проходу, охраняемому двумя гигантскими крылатыми человекобыками из желтого известняка. Один из них еще цел, другой же давно разбился — большая человеческая голова валяется у самых наших ног.
Мы проходим мимо и идем дальше. Вот еще одна крылатая фигура: в руках у нее красивый цветок, который она, вероятно в качестве жертвоприношения, подносит крылатому быку. Рядом с этой фигурой находятся восемь красивых барельефов. Здесь и царская охота: торжествующий царь рядом со своими трофеями — львом и диким быком; и осада крепости, к стенам которой подведены тараны. Но вот мы уже достигли конца залы. Перед нами изысканно красивая скульптура: два царя в сопровождении крылатых божеств-охранителей перед фигурой высшего божества. Между ними — священное древо. Впереди этого барельефа — каменная платформа; в древние времена на ней стоял трон ассирийских монархов; здесь восседали они во время приемов или когда перед ними дефилировали пленные враги.
Слева еще один, четвертый проход: он образован двумя львами. Мы проходим мимо них, и вот мы уже у края глубокой пропасти. Над ее северной стороной нависают огромные руины; на сохранившихся стенах видны фигуры пленников, несущих дань: серьги, браслеты, обезьянок. А у самого края стены валяются два огромных изваяния быка и две крылатые фигуры высотой в четырнадцать шагов.
Так как с этой стороны руины вплотную подходят к пропасти, возвратимся к проходу, где стоят быки из желтого известняка. Пройдя через него, мы вступаем в помещение, окруженное со всех сторон изваяниями божеств с орлиными головами. На одном конце его находятся охраняемые двумя жрецами, или божествами, ворота, а в середине другой портал, у которого стоят два крылатых быка. Куда бы мы теперь ни направили свой путь, мы окажемся в целой анфиладе комнат: не зная их расположения, можно запутаться. Так как обыкновенно посреди комнаты лежит мусор, весь раскоп состоит из серии узких проходов-траншей, с одной стороны ограниченных алебастровыми плитами, а с другой — высокой земляной насыпью, в которой кое-где виднеются полузасыпанные разбитые вазы или покрытые разноцветной глазурью кирпичи. Не меньше часа надо потратить на осмотр этой галереи с ее удивительными скульптурами и многочисленными рельефами. Мы видим здесь царей в сопровождении евнухов и жрецов, бесчисленные крылатые фигуры с сосновыми шишками и символами божества в руках, застывшие в благоговении перед священным деревом.
Комнаты соединены между собой проходами, которые образуют стоящие попарно крылатые львы и быки, в каждой из комнат все новые и новые скульптуры, вызывающие одновременно и удивление и любопытство. Утомленные, мы наконец выходим из этого царства руин, но не с той стороны, откуда мы вошли, а с противоположной, и перед нами снова голая платформа".
И Лэйярд, сам потрясенный до глубины души, добавляет: "Напрасно стали бы мы искать хоть малейшие следы только что увиденных чудес: так и кажется; что это всего лишь видение, всего лишь рассказанная тебе восточная сказка. Многие из тех, кто посетит это место, когда руины ассирийских дворцов зарастут травой, наверное, заподозрят, что все рассказанное здесь — плод фантазии".
Глава 23 ДЖОРДЖ СМИТ ИЩЕТ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА
Результаты раскопок Лэйярда на холме Нимруд были не просто значительными: они превзошли все ожидания и затмили успех Ботта в Хорсабаде. Казалось бы, после такого успеха он должен был поостеречься подвергать риску свою репутацию ученого и не предпринимать эксперимента, который как будто вряд ли мог завершиться удачей. Тем не менее среди множества холмов Лэйярд выбрал в качестве объекта для дальнейших раскопок именно куюнджикский холм тот самый, который на протяжении целого года безуспешно раскапывал Ботта.
Это лишь на первый взгляд абсурдное решение свидетельствует о том, что Лэйярд был не просто удачливым археологом, рожденным под счастливой звездой: он извлек некоторые уроки из своих предыдущих раскопок, научившись, в частности, разбираться в характере местности и использовать самые незначительные данные для важных обобщений.
С ним произошло то же, что случилось в свое время со Шлиманом: когда этот бывший коммерсант, миллионер, принялся после открытия Трои за раскопки в Микенах, весь мир был уверен, что его первый успех был чистой случайностью, и что большая удача невозможна.
Теперь, так же как и во времена Шлимана, всем скептикам пришлось убедиться в своей ошибке, ибо только на этот раз Лэйярду удалось по-настоящему заглянуть в глубины прошлого, только теперь были сделаны находки, благодаря которым давно исчезнувшая цивилизация предстала во всем своем многообразии и богатстве.
Осенью 1849 года Лэйярд приступил к раскопкам на куюнджикском холме, расположенном напротив Мосула, на другом берегу Тигра, и обнаружил один из самых замечательных дворцов Ниневии.
Проделав вертикальный ход в холме, он наткнулся примерно на глубине двадцати метров на слой кирпичей. Тогда он начал вести под землей горизонтальные ходы по всем направлениям и вскоре обнаружил зал, а затем и дворцовые ворота с крылатыми изваяниями по бокам. За четыре недели работы он открыл девять комнат; как выяснилось впоследствии, это были остатки дворца кровавого деспота Синаххериба (704–681 годы до н. э.) — одного из самых могущественных правителей ассирийской империи. Одни за другими появлялись на свет божий рисунки, рельефы, великолепные изразцовые стены, мозаика, белые барельефы на бирюзовом фоне; все это было выдержано в холодных, мрачноватых тонах — преимущественно черном, желтом и темно-лиловом. Рельефы и скульптуры отличались удивительной выразительностью и по натуралистичности деталей оставляли далеко позади все аналогичные находки на холме Нимруд.
В Куюнджике был, между прочим, найден знаменитый рельеф, относящийся, вероятно, ко временам Ашшурбанапала, с изображением смертельно раненной львицы. В ее тело вонзились стрелы, у нее перебит позвоночник, но, волоча парализованные задние лапы, она в последнем усилии приподняла верхнюю часть туловища и, вытянув морду, застыла в предсмертном рывке. Этот рельеф по глубине экспрессии и проникновенности можно смело поставить рядом с лучшими произведениями мирового искусства.
Времена, когда все наши знания об этом страшном и в то же время великолепном и огромном городе ограничивались лишь беглыми сведениями, которые можно было найти в книгах пророков, миновали. Заступ Лэйярда явил этот город свету.
Своим именем город обязан Нин — великой богине Двуречья. Он возник в древнейшие времена: уже законодатель Хаммурапи примерно в 1930 года до н. э. упоминает о храме Иштар, вокруг которого был расположен этот древнейший город. Но когда Ашшур и Кальха были уже резиденциями царя, Ниневия все еще продолжала оставаться провинциальным городом. Ее возвышение связано с именем Синаххериба. В пику Ашшуру — резиденции своего отца, Синаххериб сделал Ниневию столицей государства, включавшего в свои границы все Двуречье: на западе вплоть до Сирии и Палестины, а на востоке — до владений диких горных народов, которые не удавалось покорить хоть на сколько-нибудь продолжительный срок.
При Ашшурбанапале Ниневия достигла своего расцвета; она стала городом, в котором "купцов было больше, чем звезд на небе", политическим и хозяйственным центром, а также центром культуры, науки и искусства настоящим Римом эпохи цезарей. Однако уже при сыне Ашшурбанапала Синшаришкуне, который царствовал всего семь лет, у стен Ниневии появился Киаксар, царь мидийский, со своей армией, усиленной за счет персов и вавилонян. Он осадил Ниневию, взял ее штурмом и сравнял с землей ее дворцы и стены, оставив после себя одни лишь руины.
Это произошло в 612 году до н. э. Таким образом, Ниневия была столицей Ассирии и царской резиденцией всего около девяноста лет. Чем же были наполнены эти годы, если имя Ниневии не только не было забыто, но на протяжении последующих двадцати пяти веков оставалось символом величия и падения, сибаритства и высокой цивилизации, ужасных злодеяний и справедливого возмездия?
Сегодня благодаря совместной успешной работе археологов и дешифровщиков клинописи мы так хорошо осведомлены о жизни и деяниях обоих правителей Ниневии — Синаххериба и Ашшурбанапала, а также о жизни их предшественников и преемников, что в состоянии дать на это ответ: Ниневия не была забыта главным образом потому, что с именем ее связаны убийства, грабежи, угнетение, насилие над слабыми, войны и всякие ужасы, кровавая смена правителей, которые держались на троне лишь силой террора и которым почти никогда не удавалось умереть своей смертью, — впрочем, их место занимали еще худшие тираны.
Синаххериб был первым полусумасшедшим цезарем на троне этого города, ставшего центром цивилизации, так же как впоследствии Нерон был первым цезарем Рима. Да Ниневия и была ассирийским Римом, могущественнейшим городом, столицей мировой державы, городом гигантских дворцов, гигантских площадей, гигантских улиц, городом новой, неслыханной дотоле техники. Это был город, где власть принадлежала узкой прослойке господ независимо от того, на чем они основывали свое право господства: на праве крови или происхождения, расовом превосходстве, деньгах, насилии или же на изощренной комбинации всех этих "достоинств". И в то же время это был город бесправия серой массы — тех, кого не спрашивают, а наказывают, — рабов, обязанных работать и лишенных всяких прав. Не раз их пытались с помощью красивых слов прельстить иллюзией свободы; они должны были работать, как говорили, для того, чтобы другие могли воевать. Эта вечно мятущаяся между восстанием и добровольным рабством (такие приливы и отливы наблюдались каждые двадцать лет), слепо верящая своим правителям масса была готова на любые жертвы; как на убой собирали людей из самых разных городов страны, городов, поклонявшихся разным богам, а нередко гнали и из других стран.
Вот каким городом была Ниневия. Ее дворцы, отражавшиеся в Тигре, были видны издалека. Она была окружена бастионом и большой стеной. Про стену говорили: "Та, которая своим ужасным сиянием отбрасывает врагов"; она возвышалась на фундаменте из четырех плит, стоявших по ее углам. В ширину эта стена имела сорок кирпичей (десять метров), а в высоту — сто кирпичей (двадцать четыре метра); в ней было проделано пятнадцать ворот. Вокруг стены был ров шириной сорок два метра; около Садовых ворот через него был перекинут каменный мост — настоящее чудо архитектуры того времени.
В западной части города был расположен дворец, "равного которому нет на свете", роскошный дом Синаххериба. Старые постройки, мешавшие строительству, он приказал срыть.
Строительная горячка, обуревавшая Синаххериба, с особой силой сказалась при постройке в Ашшуре помещения для празднеств в честь бога Ашшура. Вокруг храма на площади в 16 000 квадратных метров в скалах были пробиты огромные ямы, соединенные между собой подземными каналами. Ямы были наполнены землей: царь хотел видеть на этом месте сад!
Свое царствование Синаххериб начал с улучшения своей родословной: отказавшись от собственного отца Саргона, он объявил себя прямым потомком царей, правивших еще до потопа, — полубогов Адапы и Гильгамеша.
"Синаххериб был во всех отношениях натурой необыкновенной. Он был чрезвычайно одаренным, способным человеком, увлекался спортом, искусством, наукой и в особенности техникой; но все эти достоинства сводил на нет его бешеный, неукротимый нрав: своенравный, вспыльчивый Синаххериб не соразмерял цель и средства и шел напролом к поставленной цели. Именно поэтому он представлял собой полную противоположность хорошему государственному деятелю" (Мейснер).
Его правление ознаменовано войнами. Он воевал в Вавилонии, сражался против галлеев и касситов, в 701 году выступил в поход против Тигра, Силона, Аскалона и Экрона, он вел войну против Езекия из Иуды, советником которого был пророк Исайя. Он хвастался, что уничтожил в иудейской стране 46 крепостей и бесчисленное множество деревень. Но под Иерусалимом ему пришлось пережить свое Ватерлоо. Исайя предсказал: "Не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала". "И вышел ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые". Сегодня мы знаем, что войско Синаххериба уничтожила тропическая лихорадка.
Он предпринял "военные прогулки" в Армению. Он вновь и вновь вел войны против Вавилонии, которая не хотела покоряться его сатрапам. С флотом спустился он к берегам Персидского залива и, словно саранча, обрушился со своим войском на Персию. Его сообщения о собственных деяниях чрезвычайно пышны и крайне недостоверны.
Однако все мыслимые границы безудержного самовластия Синаххериб перешагнул в 689 году: он принял решение стереть с лица земли вновь не покорившийся ему Вавилон и сделал это со всей основательностью. Чуть ли не все жители были перебиты: улицы были буквально завалены трупами, дома разрушены, храм Эсагила и его башня обрушены в канал Арахту, соединявший Евфрат с Тигром. В довершение всего в город были спущены воды Евфрата; они затопили улицы, площади и остатки домов. Но всего этого Синаххерибу было мало. Уничтожив город физически, он пожелал проделать это же символически, по его приказу на корабли была погружена вавилонская земля, затем ее отвезли в Дильмун и там развеяли по воздуху.
Покончив с войнами, он занялся внутриполитическими вопросами. Из любви к фаворитке Накии он назначил своим преемником Асархаддона, одного из своих младших сыновей, и заставил оракула одобрить это решение. Затем он собрал своего рода вече, на котором присутствовали старшие братья Асархаддона, а также ассирийские чиновники и представители народа, и спросил их, согласны ли они с назначением Асархаддона наследником престола. Все ответили утвердительно. Это не помешало, однако, его старшим сыновьям, действуя по традиции, напасть на отца, когда тот молился своим богам в одном из храмов Ниневии, и умертвить его. Это произошло в конце 681 года до н. э. Таков был конец Синаххериба.
Все это только часть той кровавой истории, которую Лэйярд открыл с помощью заступа. Другую ее часть он восстановил позднее, когда ему посчастливилось найти в двух помещениях, которые, насколько можно было судить, представляли собой позднейшую пристройку к дворцу Синаххериба, большую библиотеку.
Мы не оговорились, и даже в сравнении с нашими современными библиотеками это не преувеличение. Книгохранилище, найденное Лэйярдом, насчитывало тридцать тысяч томов, вернее, тридцать тысяч глиняных табличек!
Ашшурбанапал (668–626 годы до н. э.), который был обязан троном своей бабке, фаворитке Синаххериба Накии, был по характеру полной противоположностью Синаххерибу. Его надписи, составленные нередко в не менее высокопарных тонах, чем надписи его предшественников, свидетельствуют о склонности и стремлении к миру, благополучию и покою. Это, однако, не означает, что он не вел войн. Его братья (один из них, верховный жрец лунного божества, носил на редкость длинное имя Ашшур-этель-шаме-у-ерсити-убаллитсу), в частности Шамашшумукин, который был царем Вавилона, доставили ему немало хлопот. Ашшурбанапал разрушил царство эламитов и завоевал отстроенный его непосредственным предшественником Асархаддоном Вавилон, но не разрушил его, как Синаххериб, а отнесся к нему милосердно.
Кстати говоря, во время осады Вавилона, которая длилась два года, в городе пышным цветом расцвел так называемый черный рынок, та самая спекуляция из-под полы, в которой Западная Европа, пережившая ее две с половиной тысячи лет спустя, после мировых войн, склонна видеть вполне современное, якобы впервые возникшее явление и верное свидетельство неблагополучия экономики. Так, например, сила зерна (сила — мера, равная двум с половиной литрам) стоила теперь сикль серебра (один сикль содержал 8,4 грамма серебра); в мирное же время за эту цену можно было купить в шестьдесят раз больше зерна.
Некий поэт, прославляя Ашшурбанапала, говорит (о Синаххерибе этого нельзя было сказать):
Покоились (при нем) оружие мятежных врагов,
Колесничие распрягли свои упряжки,
Острые пики и копья их лежали без дела,
И отпустили тетиву у луков;
И тем, кто с помощью силы
Пытался решить спор или вести борьбу с противником,
Не давали бесчинствовать.
Ни в городе, ни в доме
Никто не пускал в ход силу, "чтобы присвоить
Имущество товарища,
И на территории всей страны
Никто никому не причинял ущерба.
Одинокий путник мог спокойно
Совершать свой путь на самых дальних дорогах,
Не было разбойников с их кровавыми деяниями,
И никто не совершал никаких насилий.
Вся земля была мирным домом,
И чисты, как масло, были все четыре страны света.
Однако вечной своей славой Ашшурбанапал обязан не мирному покою, а основанию библиотеки, которая была предназначена для его, личного пользования. Находка этих табличек была последним триумфом Лэйярда-археолога. Уступая свое место другим, он возвратился после этого в Англию и целиком посвятил себя политике.
Найденная им библиотека оказалась своего рода ключом ко всей ассиро-вавилонской культуре. Она была составлена систематически; часть таблиц царь получил из частных собраний, большая же часть является копиями, которые царь повелел изготовить во всех провинциях своей страны. Посылая своего чиновника Шадану в Вавилон, он снабдил его следующей инструкцией: "В тот день, когда ты получишь это письмо, возьми с собой Шуму, брата его Бель-этира, Алла и художников из Борсиппы, которые тебе известны, и собери все таблички, хранящиеся в их домах и в храме Эзида". И заканчивает письмо следующими словами: "Драгоценные таблички, копий которых нет в Ассирии, найдите и доставьте мне. Я написал главному жрецу и губернатору Борсиппы, что ты, Шадану, будешь хранить эти таблички в своем складе, и просил, чтобы никто не отказывался предоставлять их тебе. Если вы узнаете, что та или иная табличка или ритуальный текст подходят для дворца, сыщите, возьмите и пришлите сюда".
Кроме того, у него работали ученые и целая группа мастеров-писцов. Таким путем Ашшурбанапалу удалось создать библиотеку, в которой была представлена вся наука, все знания того времени, но, поскольку в ту эпоху наука была тесно переплетена с магией, верой во всякого рода чудеса и волшебство, большая часть библиотеки заполнена различными заговорными и ритуальными текстами. Впрочем, в библиотеке имелось довольно много медицинских текстов, хотя и написанных опять-таки с изрядным уклоном в магию, а также табличек, содержащих сведения из области философии, астрономии, математики, филологии. (Именно здесь, в недрах холма Куюнджик, нашел Лэйярд те школьные таблички, которые оказали такую неоценимую помощь при дешифровке клинописи "III класса".)
Наконец, в библиотеке были собраны царские указы, исторические заметки, дворцовые записи, носящие политический характер, и даже литературные памятники — эпико-мифические рассказы, песни и гимны. А под всем этим хранились глиняные таблички, на которых было нанесено самое выдающееся произведение литературы месопотамского мира, один из величайших эпосов мировой литературы — сказание о великом и грозном Гильгамеше, который был "на две трети бог, на одну — человек".
Однако эти таблички нашел уже не Лэйярд, а человек, который незадолго до этого был освобожден одной экспедицией из мучительного двухлетнего плена в Абиссинии. Если бы Лэйярд открыл еще и эти таблички, он бы переполнил чашу своей славы, ибо сказание о Гильгамеше было интересно не только с точки зрения литературы: в нем содержался рассказ, проливавший свет на наше древнейшее прошлое, рассказ, который и поныне еще изучают школьники всей Европы, хотя до находки на холме Куюнджик никто даже не подозревал об истинном происхождении этой истории.
Ормузд Рассам был помощником Лэйярда. Когда Лэйярд начал свою министерскую карьеру, Рассам по поручению Британского музея стал его преемником.
Рассам был халдеем-христианином. Он родился в 1826 году в Мосуле, в 1847 году начал учиться в Оксфорде, в 1854 году стал переводчиком английского министра-резидента в Адене, а вскоре — ему в то время едва минуло тридцать лет — помощником резидента. В 1864 году он отправился вместе с посольством к абиссинскому царю Федору. Федор посадил его за решетку. Два года провел Ормузд Рассам в абиссинской тюрьме, прежде чем его освободила экспедиция Напира. Некоторое время спустя он приступил к своим раскопкам в Ниневии.
Успехи Рассама были ничуть не меньшими, чем успехи Лэйярда, но у него не было тех преимуществ, которые создали славу его предшественнику: он не был первым и, следовательно, не мог рассчитывать, что его открытия вызовут сенсацию. Кроме того, он не обладал ловкостью Лэйярда, который умел красочно рассказать о своих открытиях, придать своим выводам безукоризненную формулировку и, рассмотрев проблему в различных, подчас довольно смелых, аспектах представить все это на суд широкой публики и специалистов.
Можно себе представить, как подал бы Лэйярд новость о том, что ему удалось обнаружить под холмом Нимруд, который, казалось, уже давно переворошили до основания, еще один храм длиной пятьдесят и шириной тридцать метров. Какими красками он расцветил бы рассказ о мятеже рабочих, который Рассам подавил железной рукой, когда раскопал в четырнадцати километрах от Нимруда, возле Балавата, не только храм Ашшурнасирапала, но и остатки расположенного террасами города и среди бесчисленного множества самых различных находок обнаружил бронзовые ворота высотой около семи метров первое и единственное в то время доказательство существования во дворцах Двуречья дверей и ворот. И наконец, как рассказал бы он о находке эпоса о Гильгамеше, даже если бы не смог, так же как и Ормузд Рассам, оценить его в то время по достоинству.
Ведь по-настоящему это произведение, приоткрывающее завесу над давно исчезнувшим прошлым, оценили лишь в последующие годы. Сегодня, правда, упоминание о нем можно встретить на первых же страницах любого учебника мировой литературы, однако современные авторы не слишком затрудняют себя: они ограничиваются тем, что цитируют десять строк, дают общую литературную оценку эпоса и указывают, что он лег в основу всех последующих эпических произведений. Их меньше всего интересует содержание поэмы, а между тем оно действительно восходит к истокам человеческого рода, непосредственно к библейскому прародителю. Обнаружить эти истоки было суждено человеку, который скончался через четыре года после своего открытия и чья заурядная фамилия совершенно несправедливо упоминается в истории археологии лишь в сносках и примечаниях.
Этого человека звали Джордж Смит; он тоже не был специалистом-археологом — он был гравером. Родился Смит 26 марта 1840 года в Челси, близ Лондона. С удивительным рвением этот самоучка изучал по вечерам в своей каморке первые публикации ассирийских документов и двадцати шести лет от роду опубликовал несколько небольших статей о некоторых еще в ту пору вызывавших различные толкования клинописных знаках. Эти статьи обратили на себя внимание ученого мира. Через два года он стал ассистентом египетско-ассирийского отделения Британского музея в Лондоне. Он умер рано, тридцати шести лет, оставив нам добрую дюжину своих трудов и прославив свое имя рядом выдающихся открытий.
В течение 1872 года этот бывший гравер целыми днями просиживал над расшифровкой и разбором табличек, присланных в музей Ормуздом Рассамом.
В то время никто даже не подозревал о существовании вавилонско-ассирийской литературы, достойной занять свое место в ряду других великих литератур, и Смит, старательный, но, вероятно, чуждый музам ученый, вряд ли ставил себе задачу ее открытия. Но едва приступив к дешифровке текста, он увлекся одним рассказом, который заинтересовал его не столько своей формой, сколько содержанием; чем дальше он читал, тем все более близко принимал к сердцу то, что сообщало ему это повествование.
Это был рассказ о могучем Гильгамеше; Смит читал о подвигах этого героя и лесного звероподобного человека Энкиду, которого привела в город Урук священная блудница, жрица богини Иштар, для того чтобы Он победил Гильгамеша надменного, однако схватка закончилась вничью, а Гильгамеш и Энкиду стали друзьями, заключили вечный союз и совершили вдвоем немало героических деяний: они убили Хумбабу, грозного владыку кедрового леса, а Гильгамеш даже бросил вызов богам, грубо оскорбив Иштар и отвергнув ее божественную любовь.
Мучаясь над дешифровкой, Смит читал о том, как скончался от страшной болезни Энкиду, как оплакивал его Гильгамеш и как отправился он, чтобы избежать той же участи, на поиски бессмертия. К Утнапиштиму идет он прародителю, которому в свое время, когда боги наслали на человечество великую кару, единственному из всех людей, было даровано спасение и бессмертие. И Утнапиштим, прародитель, поведал Гильгамешу историю своего чудесного спасения…
Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово,
И тайну богов расскажу тебе я.
Шуруппак — город, который ты знаешь,
Что лежит на берегу Евфрата;
Этот город древен, близки к нему боги.
Задумало сердце богов великих потоп устроить…
У Смита загорелись глаза… Но как раз тогда, когда его волнение сменилось уверенностью в том, что он находится на пороге важного открытия, в тексте рассамовских табличек все чаще стали попадаться пропуски. Как оказалось, в распоряжении Смита находилась лишь часть текста великого эпоса, а наиболее важная для ученого, последняя часть, содержащая рассказ Утнапиштима, была представлена только в отрывках.
Однако то, что Смит сумел к этому времени вычитать из глиняных книг, не давало ему покоя; он не мог молчать. Набожную Англию охватило волнение. На помощь Джорджу Смиту пришла одна популярная газета. Лондонская "Дейли телеграф" объявила, что она готова снабдить суммой в тысячу гиней того, кто отправится в Куюнджик, чтобы отыскать недостающие фрагменты сказания о Гильгамеше.
Предложение было авантюристическим, но ассистент Британского музея Джордж Смит принял вызов. И чтобы осуществить свой план, ему надо было совершить поездку в Месопотамию, отделенную от Лондона несколькими тысячами километров, и там, в многослойной толще гигантского холма, едва потревоженной предшествующими раскопками, отыскать несколько глиняных табличек, причем именно тех, которых ему недоставало! Это была задача, которую можно сравнить с поисками водяной блохи, не вообще блохи, а какой-то совершенно определенной водяной блохи в озере, или же со всем известными поисками иголки в стоге сена.
Джордж Смит принял предложение газеты.
И снова произошло невероятное: ему действительно удалось найти недостающие фрагменты сказания.
Он привез домой 384 таблички, в том числе недостающую часть истории Утнапиштима, так взволновавшей его при первом чтении. Это была история потопа — не обычного наводнения, упоминание о котором можно найти в ранней мифологии чуть ли не всех народов, а совершенно определенного потопа, о котором впоследствии было рассказано в Библии, ибо Утнапиштим был Ной — это с полной очевидностью явствовало из текста поэмы. Друг людей бог Эа во сне открыл опекаемому им Утнапиштиму замысел богов покарать людской род, и Утнапиштим построил корабль.
Нагрузил его всем, что имел я,
Нагрузил его всем, что имел серебра я,
Нагрузил его всем, что имел я злата,
Нагрузил его всем, что имел живой я твари,
Поднял на корабль всю семью и род мой.
Скот степи, зверей степи, всех мастеров я поднял.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сумрак утром, перед ночью полил погибельный ливень.
Я взглянул на облик погоды
Страшно глядеть на погоду было;
Я взошел на корабль и запер двери.
За постройку судна корабельщику Пузур-Амурри
Я отдал чертог и его богатства.
Едва занялось сиянье утра,
От основанья небес поднялась черная туча.
Адад гремит в ее середине,
Шуллат и Ханиш идут перед нею.
Идут гонцы горой и равниной,
Ирагаль вырывает мачту;
Идет Нинурта, гать прорывает;
Подняли факелы Ануннаки,
От их сияния земля озарилась;
Адада ярость небес достигает,
Что было светлым — во тьму обратилось,
[Земля как чаша], черпает [воду].
Первый день бушует буря,
Быстро налетела, водой заливая,
Словно войною людей постигла
Те не видят друг друга больше,
И с небес не видать человеков.
Боги потопа устрашились,
Поднялись, удалились на небо Ану,
Свернулись, как псы, у стены растянулись.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иштар кричит, как в муках родов,
Госпожа богов, чей прекрасен голос:
"Прежние дни обратились в глину,
Ибо в совете богов я решила злое,
Зачем в совете богов решила я злое,
На гибель людей моих я войну решила?
Для того ли рожаю я человеков,
Чтобы, как рыбий народ, наполняли море!"
Ходит ветер шесть дней и ночей,
Потоп и буря покрывают Землю.
При наступлении дня седьмого
Буря и потоп войну прекратили,
Те, что сражались подобно войску.
Утих ураган, успокоилось море — потоп прекратился.
Я взглянул на море — тишь настала,
И все человечество стало глиной!
Подобно крыше стала равнина.
Я пал на колени, сел и плачу.
По лицу моему побежали слезы.
Я взглянул на море во все пределы
За двенадцать бэру* поднялся остров. (* Бэру — около 10 км.)
У горы Нисир корабль остановился,
Гора Нисир корабль удержала, не дает качаться.
При наступлении дня седьмого
Вынес голубя и отпустил я:
Пустившись, голубь назад вернулся
Не было места, опять прилетел он.
Вынес ласточку и отпустил я:
Пустившись, ласточка назад вернулась
Не было места, опять прилетела.
Вынес ворона и отпустил я.
Пустившись же, ворон спад воды увидел
Не вернулся — каркает, ест и гадит.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Поднялся Энлиль, взошел на корабль,
Взял меня за руку, вывел наружу.
На колени поставил жену мою рядом.
К нашим лбам прикоснулся, встал между нами, благословляя:
"Доселе Утнапиштим был человеком,
Отныне же Утнапиштим и жена его нам, богам, подобны:
Пусть живет Утнапиштим у устья рек, в отдаленье".
Можно ли было сомневаться в том, что это древнейший вариант библейской легенды? Библейское сказание не только в общем, но и по своим подробностям удивительно напоминало рассказ Утнапиштима, где даже фигурируют голубь и ворон, которых, как известно, посылал и Ной.
Находка этого текста выдвинула совершенно необычный для эпохи Джорджа Смита вопрос: "Неужели истины, содержащиеся в Библии, не являются изначальными?" А археология снова сделала гигантский шаг на пути изучения далекого прошлого, поставив еще одну проблему: была ли история Утнапиштима действительно всего лишь легендой, подтверждающей библейскую легенду? Ведь еще совсем недавно к легендам относили вообще все, что было известно о поразительно богатой стране, расположенной между Тигром и Евфратом. Разве не выяснилось в конце концов, что во всех этих легендах есть свое рациональное зерно? Не следует ли и в рассказе о великом потопе видеть нечто большее, чем простую легенду? К каким же временам следует в таком случае отнести начало истории Двуречья? Непроницаемая стена, за которой видели лишь мглу времен, на самом деле оказалась лишь занавесом — когда его удалось раздвинуть, перед изумленными зрителями предстал новый, никому не ведомый мир, значительно более древний, чем тот, о котором знали до сих пор.
Несколькими годами позже, около 1880 года, снова француз и снова вице-консул, некий де Сарзек раскопал в песке возле местечка Телло в Вавилонии скульптуру, которая сильно отличалась от всех когда-либо найденных археологами в районе Двуречья. Ее принадлежность к вавилонской культуре была несомненна, однако она отличалась большей архаичностью и монументальностью и, по всей вероятности, принадлежала к еще более отдаленному периоду, ко временам далекого детства человеческой культуры, к цивилизации, значительно более древней, чем египетская, которая до этого времени считалась наидревнейшей.
Найти следы цивилизации этого древнейшего народа удалось благодаря смелой гипотезе, выдвинутой одним ученым, и случайной находке де Сарзека, блестяще подтвердившей эту гипотезу.
Впрочем, это относится уже к особой главе истории археологии; события, которые будут в ней описываться, относятся к двадцатым годам нашего столетия, а свое завершение они найдут, может быть, только сейчас, в наши дни.
Впрочем, еще задолго до этого, в конце XIX века, некий немец приступил к раскопкам Вавилона.
Глава 24 КОЛЬДЕВЕЙ ПОД ПУЛЯМИ
В 1878 году молодой бостонский архитектор Френсис X. Бэкон — ему в то время шел двадцать второй год — решил вместе со своим приятелем Кларком отправиться в путешествие по Греции и Турции. Кларк работал в то время над историей дорийской архитектуры, и Бэкон хотел ее проиллюстрировать. Кроме небольшой субсидии, полученной от Общества архитекторов Бостона, у каждого из них было по пятьсот долларов — все их сбережения.
"Пока мы добрались до Англии, — писал впоследствии Бэкон, — мы успели истратить слишком много денег и поняли, что, если мы и дальше будем путешествовать обычным путем, нам не удастся осуществить наши планы — денег не хватит. Поэтому мы решили купить в Англии лодку, в которой мы могли бы и жить, переплыть на ней через канал, подняться вверх по Рейну, спуститься по Дунаю в Черное море, а затем пройти через Константинополь и Дарданеллы к архипелагу, с тем чтобы посетить старые греческие поселения. Так мы и сделали".
Три года спустя эти на редкость предприимчивые археологи отправились в свое второе путешествие — на этот раз, однако, вместе с группой сотрудников — на раскопки Ассоса (южный берег Троады). Молодые ученые не были лишены чувства юмора. "4 апреля 1881 года, — пишет Бэкон, — мы, вдоволь наторговавшись, приобрели за восемь фунтов лодку — такую, какие ходят в Смирнской гавани, и, оставив на набережной кучку жадных до бакшиша людей, отправились, привязав лодку к пароходу, в Митилену". Сильный норд-ост задержал их. "Решив как-то использовать это время, мы принялись чистить и красить нашу лодку, а затем стали придумывать ей имя и даже поспорили из-за этого. Поскольку мы никак не могли прийти к соглашению относительно того, какому из классических имен отдать предпочтение — скажем, "Ариону" или "Сафо", — мы окрестили ее "Мечитра", что значит "Свежий сыр"!
1 апреля к этим веселым и бодрым парням присоединился третий, который как нельзя лучше подходил к их компании. Это был немец Роберт Кольдевей. Двадцать лет спустя он стал одним из самых выдающихся археологов нашего столетия, а тогда ему было всего лишь двадцать семь лет. 27 апреля 1882 года Бэкон писал о нем: "Кольдевей чрезвычайно выигрывает при близком знакомстве, он именно тот человек, который подходит мне и Кларку". Такова первая характеристика, которую дали Кольдевею его коллеги-археологи, а так как она была дана человеком, проплывшим через всю Европу в Средиземное море на небольшом суденышке и назвавшим свою лодку "Свежим сыром" (что не мешало ему быть серьезным ученым), мы и привели ее здесь. На этом, однако, мы можем оставить и Кларка и Бэкона, ибо в списках археологов они стоят далеко позади того человека, которого они некогда приняли в свою компанию.
Роберт Кольдевей родился в 1855 году в Бланкенбурге, в Германии. Он учился в Берлине, Мюнхене и Вене, изучая там архитектуру, археологию и историю искусства. До тридцати лет он успел принять участие в раскопках в Ассосе и на острове Лесбос. В 1887 году он занимался раскопками в Вавилонии — в Сюргуле и Эль-Хиббе, позднее — в Сирии, в Южной Италии и на Сицилии, а в 1894 году — снова в Сирии.
С сорока до сорока трех лет он был преподавателем в архитектурном училище в Герлитце; годы эти были для него мало плодотворными. В 1898 году, в возрасте сорока трех лет, он приступил к раскопкам Вавилона.
Кольдевей был необычным человеком, а по сравнению с коллегами по профессии — и необычным ученым. Любовь к археологии, к науке, которая выглядит в публикациях специалистов весьма скучной, не мешала ему наблюдать людей, изучать страну, все видеть, все подмечать, на все реагировать, не могла она в нем заглушить и бьющего через край юмора.
Перу археолога Кольдевея принадлежит множество стихотворений, полных веселых, озорных рифм и занятных афоризмов весьма легкомысленного толка. В возрасте пятидесяти шести лет, будучи уже давно профессором, он, не задумываясь, опубликовал следующий новогодний стишок:
Кто судьбу свою предскажет?
Что сулит грядущий день?
Перед сном совсем не в тяжесть
Рюмка тминной иль коктейль.
Его письма не только способны заставить насторожиться сугубо серьезного ученого, они могут даже показаться недостойными такого человека, каким был Кольдевей.
Вот что он писал во время одного из своих путешествий по Италии: "Кроме раскопок, в данное время в Селинунте — ничего нового. Но были времена, когда здесь, как говорится, чертям тошно было. И можно себе легко представить почему: вся волнистая равнина, насколько ее можно охватить глазом, покрыта садами, огородами, виноградниками, и все это принадлежало грекам Селинунта, которые на протяжении нескольких столетий преспокойно и очень разумно всем этим пользовались. Это продолжалось примерно до 409 года, когда из-за ссоры с сегестанцами сюда пожаловали карфагенские варвары, и Ганнибал Гизгон направил свои стенобитные орудия против крепостных ворот испуганных селинунтийцев, что было с его стороны довольно низко, особенно если учесть, что незадолго до этого селинунтийцы оказали помощь карфагенянам. Ганнибал благополучно проломил обветшавшие крепостные стены, и после девятидневного сражения, в котором деятельное участие приняли и местные дамы, на улицах города остались лежать 16 000 убитых. А карфагенские варвары, разрушая и грабя все, что попадалось им на глаза, бродили по всему городу, по всем его священным и светским местам, украсив свои пояса отрубленными руками и прочими не менее ужасными атрибутами. После этого Селинунт уже не смог оправиться: именно поэтому ныне по всем его улицам бегает так много кроликов, и мы нет-нет, да и получаем стараниями господина Жиофре одного-другого из них на ужин — они вполне успевают зажариться к тому времени, когда мы, омыв свои измученные наукой телеса в пенящемся прибое всегда неспокойного моря, возвращаемся в свои пенаты".
Из "страны опер и теноров" он писал: "Люди здесь обладают голосами, это несомненно. И человек, которому трудно взять верхнее "до", считается здесь калекой". Все это не мешает ему буквально в следующей строке перейти к серьезным размышлениям об особенностях конструкции храмов V века до н. э., впрочем, только до тех пор, пока в поле его зрения не попадают итальянские жандармы, наблюдение за которыми доставляет ему живейшее удовольствие: "В своих фраках с пышными галунами, в гордых треуголках, верхом на лошади они похожи на адмиралов, посаженных на коней; так они едут по пустым улицам, блюдя порядок".
В древнем Акраганте он, к своему удовольствию, обнаружил античную канализацию (несколько позднее его осеняет идея написать книгу о развитии канализации).
"Это сооружение воздвиг старый Феакс, и в его честь все подобные сооружения стали называть феаками. Техник здесь с незапамятных времен играл незаурядную роль. Первый тиран Акраганта, грозный Фаларис, был по призванию архитектором и строителем, а когда он завершал сооружение какого-либо храма, он обносил его стеной, ставил "фаларийского быка" и приносил страшные человеческие жертвы, говоря при этом: "Я — Фаларис, тиран Акраганта". Это было примерно в 550 году до н. э.".
Храм в Химере* вдохновил его на следующее письмо: "Но что стало с могущественной Химерой? Внизу, вплотную к железной дороге, стоят жалкие остатки великолепного храма, и пара его колонн украшает вполне современное стойло, вы не ошиблись, именно стойло, где коровы трутся о каннелюры и вообще ведут себя совершенно неподобающим образом — совсем не так, как полагалось бы себя вести в древнем храме. Единственное, что остается при виде такого зрелища — пожалеть храм и позавидовать коровам: ну, скажите по совести, чего бы не дал какой-нибудь немецкий археолог, чтобы переночевать в древнем храме?" (* Химера — древний город на северном побережье Сицилии; основан греками середине VII в. до н. э.)
Дороги в Италии были в то время еще небезопасны, однако Кольдевей чувствует себя разочарованным: "Надежда встретить разбойников, еще десять лет назад вполне реальная, свелась теперь к минимуму. Одного из них, на вид чрезвычайно опасного, мы как-то видели на шоссе, что проходит возле храмов. Он стоял, широко расставив ноги, глаза на его бронзовом лице блестели, а его калабрийская шапочка и вообще все его одеяние являло собой такое буйство красок, какое мне до того приходилось видеть лишь в спектре двууглекислого натрия. На наше счастье, близ дороги был винный погребок, и мы быстренько туда заскочили, но он последовал за нами, и, когда мы затеяли невинный разговор с хозяйкой и ее длинными, чрезвычайно выразительными серьгами о том, который теперь час, он вмешался и сказал с неистребимым австрийским акцентом: "Без четверти пять". Оказалось, что он из Венеции, долгое время работал в Австрии и Баварии и вовсе не разбойник".
2 октября 1897 года Роберт Кольдевей "под страшным секретом" сообщает одному из своих приятелей о готовящихся раскопках в Вавилоне. Дело продвигалось медленно. 2 августа 1898 года он пишет тому же приятелю о совещании у Рихарда Шене, генерального директора Берлинского музея, и восклицает: "Вавилон будет раскопан!!", а после двух восклицательных знаков продолжает: "Я тружусь сейчас над составлением инструкции для экспедиции. Предприятие пока рассчитано на один год. Я требовал в докладе ассигнований 500 000 марок в расчете на пять лет работы, причем в первый год — 140 000 марок". 21 сентября он сообщал: "Я — начальник экспедиции с окладом 600 марок в месяц… От радости, что называется, ног под собой не чую… Если бы мне кто-нибудь шестнадцать лет назад сказал, что я буду раскапывать Вавилон, я бы счел его сумасшедшим".
Как показало будущее, выбор был сделан удачно: Кольдевей был именно тем человеком, которому эта задача оказалась по плечу. Когда ему было тридцать восемь лет, он писал в одном из своих писем: "Во мне постоянно словно сидит кто-то, кто мне говорит: "Так, Кольдевей, теперь ты можешь делать только то или только это", — и тогда все остальное перестает для меня существовать". Так поступал он всегда — и тогда, когда вокруг свистели пули разбойников, в существовании которых он сомневался, и тогда, когда он обнаружил сады Семирамиды и раскопал Э-темен-анки — Вавилонскую башню.
"Англичане во время своих раскопок в Вавилоне и Ассирии рыли в основном шахты и туннели, некоторые из таких шахт сохранились до сих пор; пройти через них можно, но в большинстве случаев это связано с трудностями и неприятностями. Обычно я, прежде чем войти, стреляю, чтобы выгнать гнездящуюся там живность, в особенности сов, гиен, которые порой до того обалдевают, что со страху даже не знают, что предпринять — кидаться на людей или бежать".
Письма Кольдевея пестрят подобного рода заметками. Это всего лишь беглые замечания, но они, так же как только что приведенные нами отрывки из писем, помогают наглядно представить себе те препятствия и затруднения, с которыми археологам приходится сталкиваться на каждом шагу, но о которых не принято говорить в монографиях. В научных публикациях, в ученых трактатах, где подводятся итоги большой, нередко многолетней научной работы, в большинстве случаев обо всем этом ничего не сообщается: ни о климате, часто доставляющем немало неприятностей, ни о болезнях, ни об ограниченности местных властей или плохой охране, ни о всякого рода сброде, невесть откуда слетающемся к месту раскопок, ни о многих и многих других препятствиях, которые приходится преодолевать исследователям. А в письмах Кольдевея все это есть.
В них можно найти немало упоминаний о грабителях из племени шаммаров, о том, что дороги небезопасны. Из-за того, что дороги небезопасны, сюда нельзя доставить тростниковые маты, сахар, лампы, — владельцы караванов заламывают дикие цены. Его сотрудникам приходится ездить с вооруженным эскортом; но и здесь Кольдевей не теряет чувства юмора: "Позавчера к нам пожаловали люди Бени Хедшейма, чтобы потребовать, правда, несколько шумно, украденных у них овец. Вчера наши парни взяли реванш. Примерно двести человек во главе с шейхами Мухаммедом, Абудом и Мизелем — кроме них впереди ехали еще человек двадцать — отправились в район Черчера. Там дело дошло до обычной потасовки, закончившейся стрельбой. Противная сторона потеряла одного убитого и одну винтовку. Что касается наших, то один из рабочих был ранен в живот, нескольким разбили головы, одному из стражников с типично арабским именем Дейбель — ему непременно нужно было принять во всем этом участие прострелили бедро; Дейбель уложил на месте своего противника и захватил его ружье. Таким образом, потери примерно одинаковы — здесь два раненых, там один убитый и одна потерянная винтовка. Вечером Дейбель, маленький приветливый человечек в не слишком чистой рубашке, налепив на рану добрый кусок пластыря — тесто, в которое входит мука, масло и соль, восседал в самом лучшем расположении духа в сторожке, окруженный почитателями, которые восхваляли до небес его львиную храбрость, и врал как сивый мерин".
Пришлось Кольдевею и самому побывать под огнем. "Для сынов пустыни ружья — своего рода хлопушки, а стрельба — удовольствие, в котором они никогда себе не отказывают". Возвращаясь с очередных раскопок, на сей раз в Фаре, он ехал прохладной ночью назад в Вавилон.
"На расстоянии примерно двух часов пути после Мурадии нас обстреляли из деревушки, расположенной справа от дороги. Простодушные жители приняли нас, очевидно, за монтефикских арабов, собравшихся в грабительский поход, а в таких случаях не принято долго рассуждать. Чтобы убедить их, что они ошиблись, мы медленно продолжали наш путь навстречу выстрелам до тех пор, пока дробинки не запрыгали по нашим седлам, а свист пуль не перешел на столь характерные для близкого и прицельного выстрела пронзительные, но обрывающиеся тона.
Оба солдата из нашего эскорта не переставали кричать "аскер, аскер!", то есть "солдаты", чтобы дать понять, что мы не злоумышленники. Но их крики не были слышны из-за стрельбы, воинственных криков арабов, а также воплей и трелей их жен, которые таким способом подбадривали свою худшую половину.
Арабы растянулись в темноте в длинную разомкнутую цепь не далее чем в сотне метров от нас. Вспыхивавшие беспрестанно огоньки выстрелов делали не слишком темную ночь более темной, чем она была на самом деле. Наш помощник повара Абдулла, направлявшийся в Хиллех для того, чтобы там отдохнуть, спрятался за вьючной лошадью и, вытянув руку с зажатой в ней полой пальто, кричал:
"Дорогой Аллах!", чем развеселил всех остальных — его еще долго поддразнивали на протяжении оставшегося пути.
Наконец арабы опомнились, прекратили стрельбу и подбежали к нам. Около двухсот полунагих темно-коричневых парней с ружьями плясали, как дикари, вокруг нас и мирно давали себя ругать; "Совы вы, шакалы настоящие! Разве вы не видите, что здесь солдаты и бек Фары и постдаши? Что за наглость поднимать такую стрельбу, словно вся пустыня принадлежит вам одним!"
"Долго ли здесь до греха! — восклицает Кольдевей и добавляет: Подобные вещи — настоящий бич здешних мест".
Глава 25 Э-ТЕМЕН-АНКИ — ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
К тому времени, когда Ниневия была из провинциального города возведена в ранг столицы и только начинала входить в историю, Вавилон был столицей уже тринадцать столетий. Своего наивысшего расцвета и могущества он достиг при царе Хаммурапи-законодателе, то есть примерно за 1250 лет до возвышения Ниневии.
Ниневия была разрушена не так, как Вавилон, который можно было отстроить вновь, а полностью, что дало античному автору Лукиану основание вложить в уста Меркурия обращенную к Харону фразу: "Что касается Ниневии, мой добрый перевозчик, то она разрушена так, что от нее не осталось и следа, трудно даже сказать, где она в свое время находилась". После этого Набопаласар основал в Вавилоне новое царство, которое его сын Навуходоносор II сделал великим и могущественным. Это новое вавилонское царство пережило Ниневию на семьдесят три года и пало под натиском персидского царя Кира.
26 марта 1899 года Кольдевей приступил к раскопкам в Вавилоне в восточном районе Каср. В отличие от Ботта и Лэйярда он представлял себе в основных чертах историю города, развалины которого были скрыты под слоем земли и щебня. Раскопки в Хорсабаде, Нимруде и Куюнджике и прежде всего колоссальная библиотека Ашшурбанапала, которая большей частью состояла из вавилонских и еще более древних текстов, дали немало сведений о южном Двуречье: о его истории, населявших эту область народах и их правителях. Но какой Вавилон предстанет перед ним? Древнейший, относящийся к эпохе Хаммурапи и ко времени одиннадцати царей династии Амурру, или же менее древний, отстроенный после ужасного разгрома, учиненного Синаххерибом?
Кольдевей предугадал это еще в январе 1898 года, когда не был даже уверен, что возглавить раскопки поручат именно ему; лишь бегло ознакомившись с местностью, он послал Берлинскому музею свой отчет. "Судя по всему, писал он из Багдада о Вавилоне, — там будут найдены главным образом постройки Навуходоносора".
Это звучит так, словно он не ожидает особых результатов от этих раскопок, однако радость, высказанная им после получения назначения, говорит скорее об обратном. Впрочем, вскоре все его сомнения рассеялись перед лицом фактов.
5 апреля 1899 года он писал: "Я копаю уже четырнадцать дней. Все удалось как нельзя лучше".
Первое, на что он наткнулся, была колоссальная стена. Вдоль этой стены он нашел обломки рельефов — пока еще только отдельные фрагменты: львиные гривы, пасти, хвосты, когти; ноги, бороды, глаза людей, ноги какого-то тонконогого животного, вероятнее всего газели, кабаньи клыки. На небольшом участке — всего лишь в восемь метров, он находит без малого тысячу обломков рельефов. Так как по его расчетам общая длина рельефов равнялась примерно тремстам метрам, он в этом же письме добавляет: "Я рассчитываю найти по меньшей мере 37 000 обломков". Неплохие перспективы после четырнадцати дней раскопок!
Самыми подробными описаниями древнего Вавилона мы обязаны греческому путешественнику Геродоту и лейб-медику Артаксеркса II — Ктесию. Больше всего поразила их воображение городская стена. О ее размерах: Геродот сообщает такие данные, что их на протяжении двух тысячелетий относили на счет присущей путешественникам склонности к преувеличению: по его словам, стена была такой широкой, что на ней могли свободно разъехаться две колесницы, запряженные четверками лошадей! Кольдевей обнаружил эту стену, едва лишь приступив к раскопкам, однако в дальнейшем дело продвигалось медленно: это были, пожалуй, самые трудоемкие раскопки на свете.
Достаточно сказать, что в то время как на других раскопках культурные слои находились в двух-трех, максимум в шести метрах от поверхности, здесь они были перекрыты двенадцатиметровым, а в некоторых местах и двадцатичетырехметровым слоем земли и щебня. Вместе с двумястами рабочими Кольдевей копал день за днем и зимой и летом более пятнадцати лет подряд…
Он одержал свою первую победу, доказав, что сведения Геродота едва ли преувеличены. (В какой-то степени это было уделом всех крупных археологов: Шлиман доказал правдивость сведений Гомера и Павсания, Эванс сумел найти основания для легенды о Минотавре, Лэйярд доказал достоверность ряда сведений, сообщаемых Библией.)
Кольдевей раскопал стену из сырцового кирпича шириной семь метров. На расстоянии примерно двенадцати метров от нее возвышалась другая стена, на этот раз из обожженного кирпича, шириной семь метров восемьдесят сантиметров, а за ней — третья стена, в свое время, очевидно, опоясывавшая ров, который наполнялся водой, если городу грозила опасность. Эта стена была сложена из обожженного кирпича и имела в ширину три метра тридцать сантиметров.
Пространство между стенами, очевидно, было в свое время заполнено землей, вероятнее всего, вплоть до кромки внешней стены. Здесь было где проехать четверке лошадей! Через каждые пятьдесят метров вдоль стены стояли сторожевые башни. Кольдевей определил, что на внутренней стене их было 360, на внешней Ктесий насчитывал 250 башен, и, судя по всему, что нам известно, эта цифра вполне правдоподобна. Найдя эту стену, Кольдевей раскопал самое грандиозное из всех когда-либо существовавших на свете городских укреплений. Стена свидетельствовала о том, что Вавилон был самым крупным городом на Востоке, более крупным, чем даже Ниневия. А если считать, как в период средневековья, что город — это обнесенное стеной поселение, то Вавилон был и остается самым большим городом, существовавшим когда-либо на свете.
Навуходоносор писал: "Я окружил Вавилон с востока мощной стеной, я вырыл ров и скрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками. Для того чтобы враги, замыслившие недоброе, не могли проникнуть в пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как морские валы, водами. Преодолеть их было так же трудно, как настоящее море. Чтобы предотвратить прорыв с этой стороны, я воздвиг на берегу вал и облицевал его обожженным кирпичом. Я тщательно укрепил бастионы и превратил город Вавилон в крепость".
Это должна была быть, по тем временам, поистине неприступная крепость! И все-таки разве Вавилон не был взят врагами? Здесь можно предполагать только одно: вероятно, он был захвачен изнутри. Ведь часто, когда неприятель стоит у ворот, в городе находятся партии, которые в одних случаях справедливо, в других — ошибочно видят в своих врагах освободителей. Возможно, так же пала и эта величайшая на свете крепость.
Да, Кольдевей действительно наткнулся на Вавилон Навуходоносора. Это при Навуходоносоре, которого пророк Даниил называл "царем царей" и "золотой головой", город начал монументально отстраиваться. Это при нем началась реставрация храма Эмах, храмов Эсагила, Нинурты и древнейшего храма Иштар в Меркесе. Он обновил стену канала Арахту и построил первый каменный мост через Евфрат и канал Либил-хигалла, он отстроил южную часть города с ее дворцами, разукрасил Ворота Иштар цветными рельефами животных из глазурованного кирпича.
Его предшественники употребляли для постройки обожженный на солнце кирпич-сырец, который под воздействием ветра и непогоды довольно быстро выветривался и разрушался. Навуходоносор стал применять при постройке укреплений по-настоящему обожженный кирпич. От строений более ранней эпохи в Двуречье не осталось почти никаких следов, кроме гигантских холмов, именно потому, что при их сооружении применялся непрочный и недолговечный материал. От строений времен Навуходоносора осталось почти так же мало следов по другой причине: из-за того, что на протяжении долгих столетий местное население смотрело на их развалины как на своего рода каменоломни и брало там кирпич для своих нужд. Та же участь постигла во времена папского средневековья языческие храмы Древнего Рима. Современный город Хиллех и многие окрестные поселения целиком выстроены из кирпичей Навуходоносора (это совершенно достоверно, ибо на них стоит его клеймо), и даже современная плотина, отделяющая воды Евфрата от канала Хиндийе, в основном построена из кирпичей, по которым некогда ходили древние вавилоняне; не исключено, что какие-нибудь археологи будущего, раскопав остатки этой плотины — ведь когда-нибудь и она придет в ветхость и будет разрушена, — решат, что это тоже остатки строений времен Навуходоносора.
Дворец, нет, комплекс дворцов, дворец-город, раскинувшийся на огромной площади, который вечно неудовлетворенный Навуходоносор постоянно продолжал расширять, считая все выстроенное ухе не отвечающим "достоинству его величия", этот дворец со своими богатейшими украшениями, многоцветными барельефами из глазурованного кирпича был настоящим чудом, — холодным, чуждым, варварским чудом роскоши. Между прочим, Навуходоносор утверждал, что он построил весь дворец за пятнадцать суток: версия, которая передавалась из поколения в поколение на протяжении столетий как абсолютно достоверная.
Однако из всех находок Кольдевея в Вавилоне три буквально ошеломили весь мир: сад, башня и улица, равных которым не было на свете.
В один прекрасный день Кольдевей нашел в северо-восточном углу южной части города остатки весьма своеобразного, совершенно необычного сводчатого сооружения. Кольдевей был озадачен. Во-первых, за все время раскопок в Вавилоне он впервые встретил подземные сооружения; во-вторых, в Двуречье еще никому не приходилось встречаться с подобной формой сводов; в-третьих, здесь был колодец, состоявший из трех совершенно необычных шахт. После долгих
раздумий Кольдевей, не будучи все же уверен в своей правоте, предположил, что это остатки водоразборного колодца с ленточным водоподъемником, который, разумеется, не сохранился; вероятно, в свое время он предназначался для беспрерывной подачи воды. Наконец, в-четвертых, свод был выложен не только кирпичом, но и камнем, причем таким камнем, какой встретился до того Кольдевею лишь раз — у северной стены района Каср.
Совокупность всех деталей позволяла увидеть в этом сооружении на редкость удачную для того времени конструкцию — как с точки зрения техники, так и с точки зрения архитектуры; как видно, сооружение это предназначалось для совершенно особых целей.
И вдруг Кольдевея осенило! Во всей литературе о Вавилоне, начиная с произведений античных писателей Иосифа Флавия, Диодора, Ктесия, Страбона и других и кончая клинописными табличками, — везде, где речь шла о "грешном" городе, содержались лишь два упоминания о применении камня в Вавилоне, причем это особенно подчеркивалось при постройке северной стены района Каср (там его и обнаружил Кольдевей) и при постройке висячих садов Семирамиды.
Неужели Кольдевею действительно удалось напасть на след этих великолепных садов, которые прославились на весь древний мир и вошли в число семи чудес света, — садов легендарной царицы Семирамиды?
Кольдевей еще раз перечитал античные источники. Он взвешивал каждую фразу, каждую строчку, каждое слово, он даже отважился вступить в чуждую ему область сравнительного языкознания и в конце концов пришел к убеждению, что его предположение верно. Да, найденное сооружение не могло быть не чем иным, как сводом подвального этажа вечнозеленых висячих садов Семирамиды, внутри которого находилась удивительная для тех времен водоподводящая система. Но чуда больше не было, ибо что, собственно, могли представлять собой эти висячие сады, если предположение Кольдевея было действительно правильным? Несомненно, очень красивые, несомненно, поражающие сады на крыше здания своего рода чудо техники того времени, но не больше, и вряд ли их можно сравнивать с другими постройками в том же Вавилоне, которые Геродот, однако, не отнес к чудесам света. (Надо сказать, что все наши сведения о легендарной Семирамиде весьма недостоверны и спорны. Мы обязаны им в основном Ктесию, который известен своей бурной фантазией. Так, колоссальное изображение Дария в Бехистуне, по утверждению Ктесия, является изображением Семирамиды, окруженной сотней телохранителей! Согласно Диодору, Семирамида была покинута своими родителями и вскормлена голубями; впоследствии она вышла замуж за одного придворного, у которого ее и забрал царь. Она носила такую одежду, что "нельзя было понять, мужчина она или женщина"; после того как Семирамида передала престол своему сыну, она обратилась в голубя и улетела из дворца прямо в бессмертие.)
Вавилонская башня!
Сооружение, о котором в Книге бытия говорится: "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли".
Кольдевею удалось обнаружить всего-навсего гигантский фундамент. В надписях же речь шла о башнях; та башня, о которой говорится в Библии (она, очевидно, действительно существовала), была, вероятно, разрушена еще до эпохи Хаммурапи, на смену ей была выстроена другая, которую воздвигли в память о первой. Сохранились следующие слова Набополасара: "К этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, воздвигнуть, фундамент ее установив на груди подземного мира, а вершина ее чтобы уходила в поднебесье". А сын его Навуходоносор добавил: "Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Э-темен-анки так, чтобы поспорить она могла с небом". Вавилонская башня поднималась гигантскими террасами; Геродот говорит, что ее составляли восемь башен, поставленных друг на друга; чем выше, тем размер башни был меньше. На самом верху, высоко над землей, был расположен храм. (В действительности башен было не восемь, а семь.)
Башня стояла на равнине Сахн, буквальный перевод этого названия "сковорода". "Наша Сахн, однако, — пишет Кольдевей, — не что иное, как форма древнего священного округа, в котором находился зиккурат* Э-темен-анки Храм краеугольного камня неба и земли, Вавилонская башня, окруженная со всех сторон стеной, к которой примыкали всякого рода здания, связанные с культом". (*"Зиккурат", "зигура", "зиггура" — различные написания общего названия для шумерско-вавилонских пирамид и башен.)
Основание башни было шириной девяносто метров; столько же метров она имела и в высоту. Из этих девяноста метров тридцать три приходились на первый этаж, восемнадцать — на второй и по шесть метров на остальные четыре. Самый верхний этаж высотой в пятнадцать метров был занят храмом бога Мардука. Покрытый золотом, облицованный голубым глазурованным кирпичом, он был виден издалека и как бы приветствовал путников.
"Но что значат все описания по сравнению с тем представлением о храме, которое дают его руины!.. Колоссальный массив башни, которая была для евреев времен Ветхого Завета воплощением человеческой заносчивости, возвышался посреди горделивых храмов-дворцов, огромных складов, бесчисленных помещений; ее белые стены, бронзовые ворота, грозная крепостная стена с порталами и целым лесом башен — все это должно было производить впечатление мощи, величия, богатства; ибо во всем огромном вавилонском царстве трудно было встретить что-либо подобное".
Каждый большой вавилонский город имел свой зиккурат, но ни один из них не мог сравниться с Вавилонской башней. На ее строительство ушло восемьдесят пять миллионов кирпичей; колоссальной громадой возвышалась она над всей округой. Так же как и египетские пирамиды. Вавилонскую башню воздвигли рабы не без участия бичей надсмотрщиков. Но между ними есть различие: пирамиду строил один правитель на протяжении своей нередко короткой жизни; он строил ее для себя одного, для своей мумии, для своего "Ка", а Вавилонскую башню строили целые поколения правителей: то, что начинал дед, продолжали внуки. Если египетская пирамида разрушалась или ее разоряли грабители, никто не занимался ее восстановлением, не говоря уже о наполнении ее новыми сокровищами. Вавилонский же зиккурат был разрушен неоднократно, и каждый раз его восстанавливали и украшали заново: Это понятно: правители, сооружавшие зиккураты, строили их не для себя, а для всех. Зиккурат был святыней, принадлежавшей всему народу, он был местом, куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку. Картина эта была, вероятно, необычайно красочна: вот толпы народа выходят из Нижнего храма, где перед статуей Мардука совершалось жертвоприношение. (По словам Геродота, эта статуя, отлитая из чистого золота, весила вместе с троном, скамеечкой для ног и столом 800 талантов. В покоях храма находился своего рода эталон таланта: каменная утка, "истинный талант", как гласила начертанная на ней надпись. Ее вес равнялся 29,68 кг. Таким образом, если верить Геродоту, статуя Мардука — а она была из чистого золота — весила более 23 700 кг.) Потом народ поднимался по гигантским каменным ступеням лестницы Вавилонской башни на второй этаж, расположенный на высоте тридцати метров над землей, а жрецы тем временем спешили по внутренним лестницам на третий этаж, а оттуда проникали потайными ходами в святилище Мардука, находившееся на самой вершине башни. Голубовато-лиловым цветом отсвечивали глазурованные кирпичи, покрывавшие стены Верхнего храма. Геродот видел это святилище в 458 году до н. э., то есть примерно через полтораста лет после сооружения зиккурата; в ту пору оно еще, несомненно, было в хорошем состоянии. В отличие от Нижнего храма здесь не было статуй, здесь вообще ничего не было, если не считать ложа и позолоченного стола (как известно, все знатные люди на Востоке, а также греческая и римская знать возлежали во время принятия пищи). В это святилище народ не имел доступа — здесь появлялся сам Мардук, а обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна избранная женщина проводила здесь ночь за ночью, готовая разделить с Мардуком ложе. "Они также утверждают, — пишет Геродот, — будто сам бог посещает этот храм и отдыхает на этом ложе, но мне это представляется весьма сомнительным".
А вокруг храма, охваченные кольцом стены, поднимались дома, где жили паломники, прибывавшие в дни больших праздников из дальних и ближних мест для участия в праздничной процессии, и дома для жрецов Мардука — служители бога, короновавшего царя, они, несомненно, обладали большой властью.
Таким был двор, посреди которого возвышалась "Э-темен-анки" вавилонский Ватикан.
Тукульти-Нинурта, Саргон, Синаххериб и Ашшурбанапал штурмом овладевали Вавилоном и разрушали святилище Мардука, Вавилонскую башню. Набополасар и Навуходоносор отстраивали ее заново. Кир, завладевший Вавилоном после смерти Навуходоносора, был первым завоевателем, оставившим город неразрушенным. Его поразили масштабы Э-темен-анки, и он не только запретил что-либо разрушать, но приказал соорудить на своей могиле памятник в виде миниатюрного зиккурата, маленькой Вавилонской башни.
И все-таки башня была снова разрушена. Ксеркс, персидский царь, оставил от нее только развалины, которые увидел на своем пути в Индию Александр Македонский; его тоже поразили гигантские руины — он тоже стоял перед ними как завороженный. По его приказу десять тысяч человек, а затем и все его войско на протяжении двух месяцев убирало мусор; Страбон упоминает в связи с этим о 600 000 поденных выплат.
Двадцать два столетия спустя на том же месте стоял один западноевропейский ученый. Он искал не славы, а знаний, и в его распоряжении было не десять тысяч человек, а всего лишь двести пятьдесят. В течение одиннадцати лет он выдал 800 000 поденных заработков. И в результате выяснил, каким было это не имевшее себе равных сооружение!
Висячие сады еще в древности были отнесены к числу семи чудес света, а Вавилонская башня и поныне является символом людской заносчивости. Однако Кольдевей разыскал не только эти сооружения, он раскопал еще один из районов города, и, хотя об этом районе упоминали надписи, известен он был далеко не всем.
Собственно говоря, это был даже не район, а всего лишь улица, но, когда Кольдевей откопал ее, перед ним предстала, пожалуй, самая великолепная дорога на свете, великолепнее дорог древних римлян и даже дорог Нового Света, если только не связывать с понятием "великолепная" ее протяженность. Улица была сооружена не для перевозок и передвижения, это была дорога процессий — по ней шествовал великий господин Мардук, которому поклонялись и служили в Вавилоне все, не исключая и Навуходоносора. Навуходоносор, который строил в течение всех сорока трех лет своего правления, оставил подробное сообщение об этой дороге: "Анбур-Шабу, улицу в Вавилоне, я для процессии великого господина Мардука снабдил высокой насыпью и с помощью камней из Турми-набанды и Шаду сделал Айбур-Шабу от ворот Иллу до Иштар-са-кипат-тебиша пригодной для процессий его общества; соединил ее с той частью, которую построил мой отец, и сделал дорогу великолепной".
Итак, это была дорога процессий в честь бога Мардука, но одновременно она являлась и составной частью городского укрепления. Эта улица напоминала ущелье: слева и справа на всем протяжении ее возвышались семиметровые крепостные стены, поскольку она вела от фольварка до Ворот Иштар (Иштар-сакипат-тебиша, упоминаемых в надписи), за которыми только и начинался собственно город. А так как другого пути не было, любому неприятелю приходилось, прежде чем попасть в город, обязательно проследовать по этой дороге, и тогда она становилась дорогой смерти.
Тревожное ощущение, охватывающее в этом каменном мешке любого врага, несомненно, усугублялось тем, что со стен улицы глядели сто двадцать львов с развевающимися желто-красными гривами, с оскаленными клыкастыми пастями. Они стояли в угрожающих позах чуть ли не через каждые два метра — их великолепные желто-белые рельефы на темно-голубом или светло-голубом фоне, выложенные из глазурованного кирпича, украшали обе стороны улицы. Ширина улицы равнялась двадцати трем метрам.
Вымощена улица была огромными квадратными известняковыми плитами; они лежали на кирпичном настиле, покрытом слоем асфальта. Каждая сторона плиты имела более метра в длину, края плит украшала инкрустация из красной брекчии. Все стыки и зазоры между плитами были залиты асфальтом, а на внутренней стороне каждого камня была высечена надпись: "Я — Навуходоносор, царь Вавилона, сын Набополасара, царя Вавилона. Вавилонскую улицу замостил я для процессии великого господина Мардука каменными плитами из Шаду. Мардук, господин, даруй нам вечную жизнь".
Ворота были вполне достойны дороги; они и поныне вместе с двенадцатиметровыми стенами представляют собой самое примечательное из всего, что сохранилось от древнего Вавилона. Собственно говоря, они состояли из двух гигантских ворот с мощными выдающимися вперед башнями, и здесь тоже, куда бы путник ни кинул взор, везде можно было увидеть изображения священных животных: пятьсот семьдесят пять рельефов насчитал на этих воротах Кольдевей; они должны были внушать путнику трепет и страх перед могуществом города, лежащего за этими воротами.
Однако на воротах не было изображений львов — зверей богини Иштар. Их украшали изображения быков, священного животного Раммана (его называли и Ададом), бога погоды, и Сирруша — дракона, змея-грифона, которому покровительствовал бог Мардук; это был фантастический зверь с головой змеи, с высунутым из пасти раздвоенным языком, с рогом на плоском черепе. Все тело его было покрыто чешуей, а на задних ногах, таких же высоких, как и передние, были когти, как у птицы. Это и был знаменитый Вавилонский дракон.
И снова рациональное зерно библейского рассказа освобождалось от наносной шелухи легенд. Даниил, который сидел здесь, в Вавилоне, во рву с семью львами, познал могущество Яхве и доказал, что дракон бессилен против его бога, которому суждено было стать богом последующих тысячелетий.
"Можно предположить, — говорит Кольдевей, — что жрецы Эсагилы действительно держали там какое-нибудь пресмыкающееся, может быть, встречающегося в здешних местах арвала, выдавая его в полутьме храма за живого Сирруша. В таком случае вряд ли стоит удивляться тому, что дракон, сожрав преподнесенную ему пророком Даниилом коврижку из смолы, жира и волос, тут же протянул ноги".
Какое зрелище должна была представлять большая новогодняя процессия, двигавшаяся по этой дороге, — дороге, посвященной Мардуку!
"Мне однажды пришлось наблюдать, как в портале храма в Сиракузах чуть ли не сорок человек вынесли, высоко подняв над толпой, большие носилки с колоссальной сделанной из серебра статуей девы Марии в праздничном убранстве — кольцах, бриллиантах, золоте, серебре — и как потом эта статуя в торжественной процессии при звуках музыки, молитв и песнопений всей толпы была доставлена в сады латомий. Примерно такой же представляется мне и процессия
в честь бога Мардука, когда он шествовал из Эсагилы по дороге процессий Вавилона".
Впрочем, это сравнение, безусловно, слабое. Все эти обряды были, вероятно, значительно более величественным, мощным, блестящим и, так сказать, еще более варварским зрелищем — ведь нам довольно неплохо известно, как проходили шествия подземных богов из "Комнаты судей" в храме Эсагила к берегам Евфрата, трехдневные молитвы и поклонения этим богам, а затем их триумфальное возвращение.
На рубеже старой и новой эры при парфянском владычестве началось запустение Вавилона, здания разрушались. Ко времени владычества Сасанидов (226–636 годы н. э.) там, где некогда возвышались дворцы, остались лишь немногочисленные дома, а ко времени арабского средневековья, к XII веку, лишь отдельные хижины.
Сегодня здесь видишь пробужденный стараниями Кольдевея Вавилон — руины зданий, блестящие фрагменты, остатки своеобразной, единственной в своем роде роскоши. И поневоле вспоминаются слова пророка Иеремии: "И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов".
Глава 26 ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ЦАРИ И ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
Если сегодня черная кошка перебежит нам дорогу и мы повернем назад (ох уж эти суеверия!), вспомним ли мы в этот момент о древних вавилонянах? Вспоминаем ли мы об этом древнем народе, когда бросаем взгляд на циферблат наших часов, имеющий двенадцать делений, или покупаем дюжину носовых платков? Но ведь мы как будто привыкли к десятичной системе счета? Помним ли мы о вавилонянах, когда говорим, что такой-то или такая-то родились под счастливой звездой? А следовало бы вспомнить — ведь наше мышление, наше восприятие мира в известной степени сложилось в Вавилоне.
Тщательное изучение истории человечества позволяет почувствовать в какой-то момент дыхание вечности. В такие минуты убеждаешься, что из пятитысячелетней истории человечества не все утеряно безвозвратно: многое из того, что когда-то считалось верным, мы сейчас отрицаем, но независимо от того, правильны были представления древних или нет, приняты они нашим сознанием или не находят себе в нем места, они продолжают жить. Этот момент наступает неожиданно, и тогда внезапно начинаешь понимать, какой груз мыслей и представлений предшествующих поколений тяготеет над человеком; как вечное наследие вошли они в наше сознание, в большинстве случаев мы даже не отдаем себе отчета в величине и значении этого наследия, даже не умеем его должным образом использовать.
Во время раскопок в Вавилоне археологи, как это ни было неожиданно, буквально с каждым взмахом заступа убеждались в том, что многие из мыслей и представлений этого древнего народа живут в нашем сознании и подсознании, оказывая свое влияние на наши чувства и восприятие окружающего мира. Но еще более неожиданным явилось то открытие, что и вавилонская мудрость была унаследованной — доказательства тому становились все многочисленнее — и что своим происхождением она обязана народу еще более древнему, чем семиты-вавилоняне и даже египтяне.
Существование этого народа было доказано самым необычным путем, поэтому открытие это, безусловно, является одним из самых блестящих достижений человеческого духа. Оно было сделано в результате размышлений и рассуждений дешифровщиков клинописи, вернее, — тут лучше не скажешь — существование этого народа было… вычислено.
Когда в результате сложнейших вычислений астрономы впервые смогли предсказать появление в определенном месте, в определенный час никем еще не виданной безыменной звезды и эта звезда действительно появилась в предсказанном месте и в предсказанный час, астрономическая наука пережила величайший триумф.
Аналогичное открытие было сделано русским ученым Д. И. Менделеевым, который сумел увидеть в кажущемся хаосе известных и, как в то время считалось, неделимых химических элементов определенную закономерность свойств, на основе которых он составил таблицу и предсказал существование целого ряда тогда еще неизвестных элементов.
То же самое произошло и в антропологии: на основании чисто теоретических умозаключений Геккель предположил существование в прошлом промежуточной формы между человеком и обезьяной, которую он назвал питекантропом; мысль Геккеля была блестяще подтверждена Евгением Дюбуа: в 1892 году он нашел на острове Ява остатки черепа получеловека-полуобезьяны, вполне соответствовавшего геккелевской реконструкции.
После того как стараниями последователей Раулинсона были устранены трудности в дешифровке, специалисты в области клинописи смогли посвятить свои труды частным проблемам, в том числе вопросу о происхождении клинописных знаков, вопросу о вавилоно-ассирийских языковых связях и взаимосвязях. Пытаясь обобщить некоторые факты, они сделали выводы, которые в конце концов привели их к одной удивительной мысли.
Многозначность вавилоно-ассирийских знаков не может быть объяснена, если искать разгадку в них самих. Такая запутанная письменность, такая причудливая смесь алфавитного, силлабического и рисуночного письма не могла быть исконной, причем она не могла возникнуть в этом виде именно тогда, когда вавилоняне появились на арене истории. Она могла быть только производной, ее характер свидетельствовал о длительном развитии. Сотни отдельных языковедческих исследований, взаимно дополнявших и исправлявших друг друга, были сведены учеными воедино, и тогда была выдвинута одна обобщающая гипотеза, суть которой сводилась к следующему: клинопись была изобретена не вавилонянами и ассирийцами, а каким-то другим народом, по всей вероятности не семитского происхождения, пришедшим из гористых восточных районов, существование которого еще не было в то время доказано ни одной находкой.
Подобной гипотезе можно было отказать в чем угодно, только не в смелости. И тем не менее с течением времени ученые так уверовали в свою правоту, что даже дали этому народу имя, хотя существование его еще не было доказано и упоминания о нем не сохранилось ни в одной надписи. Некоторые ученые называли этот народ аккадцами, а немецко-французский ученый Жюль Опперт назвал его шумерами, и это название привилось: оно было взято из титула наиболее древних правителей южной части Двуречья, которые именовали себя царями Шумера и Аккада.
И точно так же, как было когда-то предсказано местоположение планеты, как были открыты недостающие элементы в таблице Менделеева и найден питекантроп, так в один прекрасный день были обнаружены и первые следы неведомого до тех пор народа, который дал письменность вавилонянам и ассирийцам. Только ли письменность? Прошло еще немного времени, и можно было с уверенностью сказать: почти все, что относится к культуре Вавилона и Ниневии, следует отнести за счет предшествовавшей ей культуры таинственных шумеров.
Мы уже упоминали об Эрнесте де Сарзеке, французском помощнике консула; до того как попасть в Месопотамию, он не имел ни малейшего понятия о целях и задачах археологии, но при виде развалин и холмов Двуречья в нем заговорило то же любопытство, что и в Поле Эмиле Ботта (со времени раскопок Ботта прошло сорок лет). Счастье сопутствовало де Сарзеку: едва приступив к раскопкам, которые он вел еще совсем по-дилетантски, он нашел у подножия одного из холмов статую, не похожую на все до сих пор найденное. Он стал копать дальше, и, как оказалось, успешно: нашел надписи и первые осязаемые следы "предсказанного" народа — шумеров.
Статуя местного правителя, князя или царя-жреца Гудеа, сделанная из диорита и великолепно отполированная, была самой драгоценной из тех великолепных скульптур, которые были погружены на корабли и отправлены в Лувр. Какое волнение вызвали они среди ученых! Даже самые рассудительные и отнюдь не склонные к манипуляциям с датами ассириологи вынуждены были, принимая во внимание эти находки и данные, почерпнутые из найденных тогда же надписей, прийти к заключению, что некоторые из обнаруженных памятников и фрагментов относятся к эпохе третьего-четвертого тысячелетия до н. э., то есть к цивилизации еще более древней, чем египетская.
Де Сарзек копал в течение четырех лет — с 1877 по 1881 год. С 1888 по 1900 год американцы Хильпрехт, Петере, Хайне и Фишер производили раскопки в Ниппуре и Фаре. С 1912 по 1913 год в Эрехе вело раскопки Немецкое восточное общество; в 1928 году оно начало вести раскопки в других местах, а в 1931 году раскопки в Фаре производились вновь, на сей раз американским Обществом по изучению Востока под руководством Эриха Ф. Шмидта.
В результате раскопок были найдены большие сооружения — ступенчатые пирамиды-зиккураты, без которых, казалось, тамошние города было так же трудно себе представить, как, скажем, мечеть без минарета или церковь без колокольни, были найдены и надписи, позволявшие проследить историю месопотамского мира далеко в глубь веков. Для истории Месопотамии это было открытием по меньшей мере такого же значения, как для истории Греции открытие крито-микенской культуры.
Но истоки этой шумерской культуры уходили в еще более далекую эпоху. Казалось, начало ее и в самом деле относится если не ко времени сотворения мира, описанному в Библии, то уж, во всяком случае, к периоду, последовавшему за потопом, который суждено было пережить только Ною. Разве в сказании о Гильгамеше, в том самом сказании, недостающие фрагменты которого Джордж Смит искал и в конце концов нашел среди миллионов глиняных черепков, похороненных в холме Куюнджик, не говорилось о подобном потопе?
В двадцатых годах нашего столетия английский археолог Леонард Вуллей предпринял раскопки в Уре, библейском городе Уре в Халдее, на родине Авраама. Он доказал, что и в сказании о Гильгамеше и в Библии речь идет об одном и том же потопе, более того, что этот потоп является историческим фактом.
Если сжать мокрую губку так, чтобы она заняла лишь часть своего объема, она, разумеется, станет почти сухой. Так же сух будет и наш рассказ, если мы изложим всю историю Ассиро-Вавилонии на нескольких страницах. И все же подобный обзор, несмотря на сухость, может оказаться полезным, особенно для тех, кто, не довольствуясь "историями", хочет получить представление и об истории.
История Месопотамии не является столь же однородной, как, скажем, история Египта. При знакомстве с ней поневоле приходит на ум сравнение с начальным периодом греко-римской культуры. Когда-то в район Тиринфа и Микен пришел невесть откуда взявшийся чужой, неведомый народ и создал здесь центры своей цивилизации; а затем сюда вторглись с севера ахейцы и дорийцы. Смешиваясь и переплавляясь в течение многих веков, культура этих народов стала той культурой, которую мы сейчас называем эллинистической. Точно так же пришлый народ шумеров заселил дельту Тигра и Евфрата, принеся с собой сложившуюся культуру, письменность и законы; в конце концов он был на протяжении немногих столетий уничтожен варварскими племенами, но на удобренной им почве культуры выросла и расцвела наследница царства Шумера и Аккада — Вавилония.
В Библии говорится о смешении языков при постройке Вавилонской башни. Действительно, в Вавилоне существовало два государственных языка — шумерский и семитский (с течением времени шумерский язык стал языком жрецов и юристов); кроме того, в страну привносили свои диалекты амориты, амореи, эламиты, касситы и другие вторгшиеся в этот район племена, а в Ассирию лулубеи, хурриты, хетты.
Первым местным царем, которому удалось объединить под своей властью обширную территорию — весь район от Элама до Тавра, — был Саргон I (2684–2630 годы до н. э.). О его рождении сохранился миф, чрезвычайно напоминающий аналогичные мифы о рождении Кира и Ромула, Кришны, Моисея и Персея: мать его зачала непорочно, а родив, положила ребенка в корзинку и пустила вниз по реке. Подобрал Саргона Акки-водонос; он взял его к себе, воспитал и сделал водоносом и садовником; потом богиня Иштар сделала его царем. Долгое время считалось, что Шаррукин (истинный царь, Саргон) личность мифическая. Сегодня его деятельность, а она была довольно значительной, подтверждена документально. Династия Саргона царствовала двести лет, затем она пала. После этого начинаются вторжения горных племен, прежде всего гутиев; они грабят и разоряют страну. Города-государства ведут ожесточенную борьбу за господство. Отдельные цари-жрецы Ура и Лагаша, такие, как Ур-бау и Гудеа, приобретают на время большое влияние. Несмотря на политические распри, искусство и наука, выросшие на почве шумерского культурного наследия, достигают в это время высшего расцвета, их влияние весьма плодотворно сказывается затем на протяжении всех последующих четырех тысячелетий истории человечества.
Хаммурапи, правившему сорок два года, удалось в жестокой политической борьбе вновь объединить страну, причем не без помощи оружия. По своему могуществу и культуре она теперь имела все основания претендовать на первенство среди остальных стран мира. Хаммурапи был не только воином; у него хватило выдержки, получив власть, двадцать пять лет спокойно ждать, пока состарится его главный враг, царь Ларсы Римсин, с тем чтобы наверняка разбить его. Кроме того, Хаммурапи был первым в истории великим законодателем. "Для того чтобы сильный не обижал слабого, чтобы с сиротами и вдовами поступали по справедливости, он велел начертать в Вавилоне, в храме Эсагила, свои законы на каменной стеле и поставить ее перед статуей, на которой он был изображен как царь справедливости". Впрочем, небольшие кодексы законов существовали и до него: один — царя Исины, другой Шульги царя из III династии Ура. Американский археолог Френсис Стиль, сопоставив в 1947 году найденные в Нипуре четыре клинописных фрагмента, обнаружил, что они представляют собой отрывки из кодекса законов царя Липит-Иштар (XX век до н. э.).
Таким образом, он нашел кодекс, составленный на полтора столетия ранее, чем кодекс Хаммурапи. Однако Хаммурапи заслужил славу законодателя прежде всего тем, что собрал разрозненные локальные законы и предписания, объединив их в единый свод законов; триста с лишним параграфов этого свода не утратили своего значения и тогда, когда вавилонское царство было уже давно разрушено.
Необыкновенный подъем надолго исчерпал производительные силы шумеро-вавилонского государства. Политическая раздробленность ослабила государственную власть; экономика была подорвана. При Кадашмане-Энлиле I и Бурнабуриаше II Вавилон поддерживал торговые связи со всеми соседними странами вплоть до Египта; сохранилась переписка, которая велась около 1370 года с третьим и четвертым Аменофисами. И даже тогда, когда страна освободилась от касситского ига, арамейские бедуины и вторгавшиеся с севера ассирийцы позаботились о том, чтобы вавилонское государство не смогло возродиться.
Здесь снова напрашивается прямая параллель с греко-римской культурой.
Так же как впоследствии Афинам пришлось стать безучастным свидетелем постепенного разрушения собственной культуры, религии, науки, искусства выскочкой Римом, создавшим на базе греческой культуры свою бездушную цивилизацию, так и вавилонскому царству с его главным городом Вавилоном пришлось увидеть возрождение своей культуры в разбогатевшей Ассирии, которая в конце концов создала Ниневию — город, бывший по отношению к Вавилону тем же, чем был Рим по отношению к Афинам.
Тукульти-Нинурта I (около 1250 года до н. э.) был первым ассирийцем, которому удалось взять в плен вавилонского царя. При Тиглатпаласаре I (около 1100 года до н. э.) Ассирия стала великой державой, однако при его преемниках она настолько ослабла, что кочевые племена арамейцев не только заставали ее не раз врасплох, но даже располагались поселениями на ее территории. Лишь Ашшурнасирапалу II (884–860 годы до н. э.), а вслед за ним Салманасару IV (781–772 годы до н. э.) удалось возродить мощь государства, расширить его границы вплоть до Средиземного моря, завоевать всю Сирию и даже обложить данью финикийские города. Ашшурнасирапалу город Калах (Кальху) — царская столица обязан великолепным дворцом, а Ниневия — храмом Иштар. Семирамида (Шаммурамат) царствовала четыре года; ее сын Ададнерари (810–782 годы до н. э.), решив, что политический успех стоит мессы, пытался ввести в Ассирии почитание вавилонских богов, однако только Тиглатпаласар III (745–727 годы до н. э.) (в Библии он фигуририрует под именем Фула), необыкновенно энергичный узурпатор, вернул Ассирии право именовать себя великой державой и в соответствии с этим поступать. При Тиглатпаласаре III границы государства простирались от Средиземного моря до Персидского залива; он вторгся в пределы Армении и Персии и покорил народы, которые вряд ли удалось бы покорить кому-либо другому, так как они были необыкновенно воинственными; завоевал Дамаск и захватил значительную часть северного Израиля. Помимо перечисленных нами царей, страной правили и многие другие, однако они не заслуживают упоминания в кратком обзоре. Мы переходим к Саргону II (722–705 годы до н. э.), победителю хеттов Кархемиша, при котором Ассирия испытала власть, быть может, самой жестокой политической централизации. Он был отцом Синаххериба Бесноватого (705–681 годы до н. э.), разрушившего Вавилон, и дедом Асархаддона (681–669 годы до н. э.), который отстроил Вавилон, одержал на севере победу над киммерийцами, а в 671 году до н. э. завоевал в Египте Мемфис и ограбил его, пополнив казну Ниневии; наконец, он был прадедом Ашшурбанапала (668–626 годы до н. э.), который, правда, потерял в борьбе с фараоном Псамметихом I египетские завоевания отца, но зато был силен в интригах и довел своего мятежного брата, правителя Вавилона, до самоубийства. Ашшурбанапал основал величайшую библиотеку древности в Ниневии (ее превзошла только знаменитая Александрийская библиотека) и, несмотря на многие военные походы, был скорее мирным правителем, чем завоевателем.
Из последующих правителей следует упомянуть Синшаришкуна (625–606 годы до н. э.), который не смог удержать власть в своих руках и не сумел противостоять все усиливавшемуся натиску мидийцев; он доверился халдейскому полководцу Набопаласару, но тот изменил ему в самый критический момент, и, когда мидийцы ворвались на улицы Ниневии, Синшаришкун сжег себя вместе со своими сокровищами и женами на гигантском костре; согласно Диодору, который в свою очередь ссылается на Ктесия, высота костра достигала чуть ли не 400 футов; в костре погибло также сто пятьдесят два золотых ложа, такое же количество золотых столов, десять миллионов золотых талантов, сотня миллионов серебряных и множество драгоценных пурпурных одеяний.
Было ли это концом вавилоно-ассирийской истории? С воцарением полководца-изменника Набопаласара на вавилонском троне снова появился узурпатор. Он расчистил дорогу для своего сына Навуходоносора II (604–567 годы до н. э.), "цезаря" Двуречья.
Великолепие и роскошь, силу самодержавной власти, которую теперь увидел Вавилон, нельзя отнести только за счет духа, традиции и древнейшей культуры этого города. Все это было воспринято как бы в преломлении через культуру Ассирии и Ниневии. Ни в чем это новое царство не соприкасалось со старой культурой, старыми обычаями, старыми общественными формами. Сегодня мы называем его нововавилонским царством, это была декадентская цивилизация, сложившаяся на почве старой культуры.
Все деяния Навуходоносора носили цивилизаторский характер. В дошедших до нас надписях восхваляются его заслуги в области техники: он строил каналы, разбивал парки, соорудил бассейн, воздвиг бесчисленное множество зданий — светских и духовных. Однако вслед за расцветом той или иной цивилизации следуют ее регресс и упадок. Через шесть лет после смерти Навуходоносора дворцовый переворот смел его династию. Последний правитель Вавилона Набонид (555–539 годы до н. э.), чудаковатый святоша, погиб во время штурма царского дворца, который был сдан предателями персидскому царю Киру.
Так в годы правления Навуходоносора культура Двуречья пережила свой последний подъем.
В 1927–1928 годах археолог Леонард Вуллей в возрасте сорока семи лет приступил к раскопкам город Ура на Евфрате — легендарной родины Авраама. Прошло немного времени, и он обнаружил массу богатейших материалов, относящихся к жизни и истории шумерского народа. Вскрыв царские гробницы Ура, он нашел богатейшие сокровища и тем самым расширил наши знания о вавилонской предыстории, что было более ценно, чем все найденное им золото. В результате этот древнейший период истории человеческой культуры неожиданно заиграл всеми красками.
Среди многочисленных находок Вуллея (перечислять их здесь не место) были две особенно интересные: парик одной шумерской царицы и пластинка с мозаичной инкрустацией, так называемый штандарт из Ура. Важным для наших знаний о древнейшем периоде истории человечества было открытие, которое подтвердило историческую достоверность одного из самых впечатляющих рассказов Библии.
Наконец, любопытной была находка, познакомившая нас с похоронными обрядами, существовавшими пять тысячелетий назад, причем такими, о которых мы даже и не подозревали.
Вуллей начал с того, что прорыл в холме траншею — с этого обычно начинались любые археологические исследования. Слой золы, битого кирпича, глиняных обломков, щебня и мусора достигал здесь двенадцати метров; именно здесь находились остатки захоронений царей Ура. В гробнице одной правительницы Вуллей обнаружил богатые украшения, золотые сосуды, две лодки — медную и серебряную — длиной шестьдесят сантиметров и головной убор царицы. Густой парик украшали три шнура из ляпис-лазури и красного сердолика. На нижнем из этих шнуров висели золотые кольца, на втором золотые буковые листочки, на третьем — ивовые листья и золотые цветы. В парик был воткнут гребень, украшенный золотыми цветами, инкрустированный ляпис-лазурью. Спиральные золоченые нити украшали виски, а золотые серьги в форме полумесяца — уши.
Екатерина Вуллей сделала попытку восстановить по одному из найденных здесь черепов внешний облик царицы, которая некогда носила этот парик. Прическу она восстановила по изображениям, сохранившимся на глиняных изделиях. Эта модель, очевидно весьма близкая к оригиналу, находится сейчас в университетском музее Филадельфии. Наиденные изделия свидетельствуют о большом мастерстве обработки драгоценных металлов и тонком художественном вкусе. Среди золотых украшений, найденных в Уре, есть такие, за которые не пришлось бы краснеть и знаменитому парижскому ювелиру Картье.
Весьма важной была и находка так называемого штандарта. Вуллей относит его к 3500 году до н. э.; он состоял из двух прямоугольных деревянных пластинок, каждая длиной 55 см и шириной 22,5 см, и двух треугольников. Можно предположить, что эти пластинки прикрепляли к шесту и несли впереди во время процессий и шествий. Инкрустированный перламутром и ракушками на синем фоне из ляпис-лазури, этот штандарт воспроизводил разные сцены из жизни шумеров. Хотя эти изображения были не так разнообразны и подобны, как, например, стенные рельефы в гробнице вельможи Ти, которые, как мы помним, помогли Мариэтту восстановить подробности повседневной жизни древних египтян, они все же представляли достаточный интерес, а принимая во внимание возраст этих пластинок, значение штандарта трудно переоценить.
Картина пиршества дает нам сведения об одежде и утвари; мы видим, как ведут на заклание жертвенных животных, и таким образом узнаем, какие животные были в те времена домашними; дальше мы видим шествие пленных и шествие воинов — оно знакомит нас с оружием; видим, наконец, и колесницы, свидетельствующие о том, что именно шумеры первыми в конце четвертого тысячелетия стали вводить в боевой арсенал колесницы, которым суждено было сыграть такую важную роль в создании и уничтожении Вавилонской, Ассирийской, Персидской и Македонской держав.
И наконец, Вуллей сделал свое самое поразительное открытие: в царских гробницах Ура были похоронены не только цари! Казалось, в этих гробницах происходили чудовищные побоища. В одной из них Вуллей нашел несколько стражников; рядом с их трупами так и остались лежать выпавшие из рук копья и скатившиеся с голов шлемы. В углу другой лежали останки девяти придворных дам в головных уборах, которые они, вероятно, надели, идя на похороны. У входа в гробницу стояли две тяжелые кареты, а в них — скелеты возничих; впереди рядом со скелетами волов, впряженных в кареты, лежали скелеты слуг.
В гробнице царицы Шуб-ат убитые придворные дамы лежали в два ряда. Там же лежал музыкант — арфист. Кисти его рук еще находились на инструменте, покрытом драгоценной инкрустацией, на котором он, очевидно, играл в тот момент, когда его настиг смертельный удар. И даже на носилках, где был установлен гроб царицы, лежали скелеты двух людей в той позе, в какой их застала смерть.
Что означали все эти находки?
Объяснение могло быть только одно: здесь в честь мертвых была принесена самая большая жертва, на какую только вообще способны люди, — человеческая жизнь. Здесь имели место человеческие жертвоприношения, и, вероятнее всего, их совершали фанатики жрецы. Положения скелетов, а также ряд других обстоятельств позволили прийти к выводу, что все эти придворные, солдаты и слуги последовали за своими повелителями отнюдь не добровольно, как, скажем, индийские вдовы, сами входившие в костры, на которых сжигали останки их мужей. Здесь речь шла об убийстве, о настоящей резне. Это была кровавая тризна в честь мертвых правителей!
Какие выводы сделала из этих находок наука?
"У нас нет никаких письменных упоминаний о подобного рода жертвоприношениях. И если не считать данного случая, то археологи тоже никогда не сталкивались с этим обычаем или с его пережитками в позднейшие времена. Если эти жертвы… находят свое объяснение в обожествлении первых царей, то следует отметить, что в исторические времена ни одному даже самому значительному божеству подобных жертвоприношений не совершали, — это лишнее доказательство чрезвычайной древности гробниц Ура".
Вуллею было суждено сделать еще один шаг на пути изучения этой древнейшей цивилизации. Перейдя к систематическим раскопкам, он наткнулся на глубине двадцати метров под слоем, в котором находились остатки гробниц, на слой глины примерно в два с половиной метра толщины. Этот слой был совершенно чистый — в нем не было ни черепков, ни мусора, ни каких-либо иных следов деятельности человека.
Присутствию здесь этого явно наносного, аллювиального слоя можно было дать только одно объяснение, причем геологи могли здесь помочь больше, чем археологи. Некогда в стране шумеров произошел настоящий потоп, ибо наносный слой глины толщиной в два с половиной метра мог возникнуть только в том случае, если в древнем Шумере некогда разверзлись "хляби земные и небесные". Невиданный поток, сметающий все на своем пути, хлынул на землю; по словам Библии, "разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей… вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.
Вуллей пришел к поразительному выводу. Он вспоминал об удивительном совпадении библейского рассказа о потопе с рассказом о потопе в гораздо более древнем, чем Библия, сказании о Гильгамеше; он вспоминал о том, что в так называемых шумерских царских списках было сказано: "Потом был потоп, а после потопа цари вновь спустились с небес"; вспоминал он и о том, что многие древние легенды и содержащиеся в Священном писании сведения нашли свое подтверждение во время раскопок в Двуречье. Не свидетельствовало ли все это о том, что потоп, следы которого обнаружил Вуллей, был именно тем потопом, о котором говорится в Библии?
Разумеется, этот исторически достоверный потоп, послуживший основанием для рассказов о мифическом потопе, не уничтожил весь людской род, за исключением Утнапиштима — Ноя. По всей вероятности, это было чрезвычайно большое наводнение, хотя и не столь уж редкое в дельте Евфрата и Тигра. Те сведения, которыми мы располагаем о древнейших шумерских царях, живших "до и после потопа", позволяют предполагать, что после потопа шумерские поселенцы остались живы потому, что они в отличие от местных жителей жили в окруженных крепостными стенами городах, возведенных на искусственных насыпях. Весьма вероятно, что Утнапиштим, шумерский Ной, — реально существовавшее лицо, какой-либо поселенец, колонист, который жил ранее в аккадской земле, а потому раньше других узнал, что вода прибывает, и заблаговременно предпринял соответствующие меры.
Что касается обращенных к Утнапиштиму слов бога — "плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю", — то шумерские поселенцы точно выполнили эту заповедь. С энергией, которая и по сей день вызывает восхищение археологов, они превратили разрушенную потопом страну в цветущую высокоразвитую державу.
Свои находки в царских гробницах Ура Вуллей датировал четвертым тысячелетием до н. э. До него все наши сведения об этой эпохе мы черпали из мифов и легенд. Вуллей же сделал ее достоянием истории. Ему удалось документально доказать существование одного из царей того времени, одного из древнейших царей человечества.
В свое время существование шумеров было открыто на основании косвенных данных. Ныне никто не сомневается в реальном существовании этого народа: достаточно вспомнить хотя бы о произведениях шумерского искусства и ремесла, находящихся в наших музеях. Но о происхождении народа, который изготовлял все эти вещи, мы, по существу, и сейчас еще ничего не знаем. В этом вопросе мы вынуждены по-прежнему опираться лишь на косвенные свидетельства. Бесспорным является лишь одно: шумеры, темноволосый, не принадлежащий к семитической ветви народ, "черноголовые", как их называют в надписях, пришли в район дельты Евфрата и Тигра последними. До них страна была уже заселена, по всей вероятности, двумя различными семитическими племенами. Шумеры принесли с собой более высокую, в основном вполне сформировавшуюся культуру, которую они навязали семитам. Но где сформировалась их культура? Этот вопрос затрагивает одну из больших, до конца еще неясных проблем археологии.
Язык шумеров похож на древнетурецкий (общетюркский). Судя по внешнему облику, они должны принадлежать к индоевропейцам. Это все, что мы о них знаем; дальше начинается область чистых гипотез. Люди, которые поклонялись богам, живущим на вершинах гор, и сооружали для них искусственные горы зиккураты, не могли быть родом с равнинных мест. Весьма возможно, что они пришли из высокогорных районов Ирана, а может быть, и из более отдаленных мест — из гористых районов Азии. В пользу подобного предположения говорит то обстоятельство, что ранняя шумерская архитектура, образцы которой были обнаружены археологами во время раскопок в Двуречье, совершенно явно выдержана в традиционном стиле деревянных сооружений, который мог выработаться только у народа, живущего в лесистых районах. Однако сказать что-либо точно довольно трудно, поскольку этой теории противоречат некоторые древние шумерские легенды, в которых рассказывается о народе, пришедшем в Двуречье со стороны моря. Некоторые косвенные данные подтверждают и эту гипотезу.
Наконец, в один прекрасный день англичанин Артур Кейт высказал мысль о том, что "черты, характерные для древних шумеров, можно и поныне проследить на Востоке у жителей Афганистана, Белуджистана и еще более дальних мест вплоть до долины Инда".
Не успел он высказать эту мысль, как при раскопках в долине Инда, где удалось обнаружить следы высокоразвитой древней культуры, были найдены прямоугольные печати, чрезвычайно напоминавшие своей формой и выгравированными на них надписями печати, найденные в Шумере.
И все же вопрос о том, откуда прибыл этот таинственный народ, стегается открытым до сих пор. Наберемся терпения. Вспомним, в какую даль веков уводят нас находки, сделанные в стране "черноголовых", и удовольствуемся пока тем, что "царские списки" открывают нам еще более далекие перспективы.
В древнем Вавилоне счет велся по наиболее примечательному событию прошлого года, однако уже во времена первой династии Исина (примерно XX век до н. э.) была предпринята попытка составить хронологию прошедших веков. От этих времен и ведут свое начало известные нам копии "царских списков" схематических, но тем не менее очень ценных для нас таблиц; мы также располагаем составленной, правда значительно позднее (IV–III века до н. э.), и весьма приукрашенной историей Вавилона, принадлежащей перу вавилонского жреца Бероса, который писал на греческом языке.
Согласно "спискам", история шумеров начинается со времен сотворения человека. В Библии идет речь о десяти праотцах, если считать от Адама; у шумеров они называются "древнейшими царями" и их тоже десять. Израильские праотцы отличались необыкновенным долголетием. Адам, которому было сто тридцать лет, когда родился его первенец, прожил после этого еще восемьсот лет. "Мафусаилов век" стал нарицательным для обозначения долголетия. Шумерские владыки отличались еще большим, поистине фантастическим долголетием. Согласно одному сообщению (в нем, кстати говоря, идет речь только о восьми царях), они царствовали 241 200 лет; согласно же другому (в нем упоминаются все десять царей) — 456 000!
Потом был потоп. После потопа вновь возродился человеческий род — он повел свое начало от Утнапиштима, и вавилонские ученые, составляя свои хроники примерно около 2000 года до н. э., внесли в них своих древних царей, которые были для них реально существовавшими людьми. Поскольку в число этих правителей попали и такие, о которых легенды тех времен говорят как о богах и полубогах, а вдобавок в самих хрониках утверждалось, что тридцать три царя первой после потопа династии процарствовали в общей сложности 24 510 лет три месяца и три с половиной дня, нет ничего удивительного в том, что первые западноевропейские исследователи отнеслись к "царским спискам" с полнейшим недоверием. К тому же до нынешнего столетия археологам не удавалось найти ни одного документа, где бы содержалось упоминание хотя бы об одном царе, принадлежавшем к первым семи династиям после потопа.
Однако по мере того, как перед Вуллеем обнажался в процессе раскопок один древний слой за другим, его доверие к древним спискам росло. В этом смысле он очутился в том же положении, в каком некогда находился Шлиман, веривший в Гомера и Павсания. И так же как в свое время великий дилетант Шлиман, крупнейший специалист-археолог Вуллей смог найти подтверждение своему предположению благодаря одной счастливой находке.
На холме аль-Убайд, возле Ура, в Халдее, Леонард Вуллей нашел храм богини-матери Нин-Хурсаг с его лестницами, террасами, вестибюлем, деревянными, обитыми медью колоннами, богатой мозаикой, скульптурами львов и оленей. Это был древнейший в мире храм, в котором огромные размеры соединялись с тонкой художественной отделкой деталей. В этом храме наряду со многими драгоценными и бесценными предметами он нашел золотое украшение, а в надписи, выгравированной на нем, Вуллей нашел первое упоминание о человеке, построившем храм. Имя этого человека было А-анни-падда!
Он нашел также известняковую плиту, которая дала ему еще более важные сведения. На ней клинописью было высечено, что этот храм был построен А-анни-паддой, царем Ура, сыном Мес-анни-падды, царя Ура. В "царских списках" Мес-анни-падда числился основателем третьей династии после потопа, так называемой первой династии Ура; он был одним из царей, реальное историческое существование которых до сих пор подвергалось сомнению.
Эта глава, в которой рассказывается о том, как археологи нашли целый народ — древних шумеров, — началась с вопросов о черной кошке, платках, которые продают на дюжины, и о циферблате. Этим же мы хотим ее и закончить.
Мы связаны с культурой шумеров одной нитью, до нас она прошла сквозь те цивилизации, которые родились и умерли в разделяющий нас промежуток времени. Влияние шумерской культуры распространилось на все страны без исключения все, что впоследствии достигло своего расцвета в Вавилоне и Ниневии, выросло на шумерской почве. Приведем лишь несколько примеров, показывающих, насколько вся вавилонская культура в целом обязана шумерской и какое значение имели ее достижения для последующих цивилизаций.
Кодекс Хаммурапи, высеченный на стеле, найденной в Сузе, по своему содержанию представляет собой по сути дела компиляцию старошумерских законов и обычаев. Наиболее удивительно в этом документе, с нашей точки зрения, толкование понятия вины — оно звучит чрезвычайно современно — и подчеркивание чисто юридических моментов (при ограничении религиозных заповедей). Кровная месть, например, сохранившаяся во времена всех последующих цивилизаций, а в некоторых районах Европы вплоть до нынешнего столетия, была в кодексе Хаммурапи почти упразднена. Вместо индивидуальной мести за несправедливость существовала месть государственная — это самое "современное" в законах, начертанных на стеле, найденной в Сузе. Законы были жестокими, а обилие суровых телесных наказаний носило отпечаток восточного деспотизма, но влияние кодекса Хаммурапи чувствуется и в Юстиниановом кодексе и во многих других, даже в кодексе Наполеона.
Искусство врачевания у вавилонян, тесно связанное с магией (для римлян слово "вавилонянин" или "халдей" было синонимом колдуна, мага, волшебника), возникло в Шумере. У вавилонян были медицинские школы, находившиеся под покровительством государства; во многих случаях врач руководствовался в своем искусстве религиозными предписаниями, в других случаях он нес ответственность перед государством, очень часто юридическую. Так, например, согласно параграфу 218 закона Хаммурапи, "если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть этому человеку или, снимая бронзовым ножом бельмо у человека, повредит глаз, ему следует отрубить руку".
Божества шумеров, поклонявшихся небесным светилам, мы находим под другими именами, нередко лишь слегка измененными, в Вавилонии и Ассирии, в Афинах и даже в Риме. В прямом влиянии шумерской истории и шумерских легенд на Библию мы уже имели случай убедиться. Изучение шумерами небесного свода и движения планет превратилось у них в точную науку, оно послужило им основой для создания карты звездного неба, создания календаря и определения времени. Башни-зиккураты были одновременно обсерваториями. Вавилонские жрецы вычислили движение Меркурия более точно, чем Гиппарх и Птолемей; им даже удалось вычислить время обращения Луны вокруг Земли, причем они определили его всего лишь на 0,4 секунды менее точно, чем современные астрономы, вооруженные новейшими приборами.
Вся математика в Вавилоне основывалась на шумерской шестидесятиричной системе, которую аккадцы скрестили с десятичной. Возникшие из-за этого затруднения устранялись с помощью счетных таблиц — своего рода счетных линеек древности. С помощью такой системы счета вавилоняне сумели достигнуть удивительных результатов. Достаточно вспомнить, что для древних греков, которые были в какой-то степени нашими учителями и в области математики и в области астрономии, понятие 10 000 связывалось с понятием "тьмы народа", понятие миллиона возникло на Западе лишь XIX веке, а клинописный текст, найденный на холме Куюнджик, приводит математический ряд, конечный итог которого выражается числом 195 955 200 000 000, то есть такими числами, которыми не могли оперировать даже во времена Декарта и Лейбница. Однако надо сказать, что вся математическая наука вавилонян пагубным образом переплеталась с астрологией и пророчествованием, которые тоже нашли путь в Западную Европу — через поздний Рим в мавританскую Аравию.
Леонард Вуллей, которому мы обязаны большинством наших сведений о таинственном народе "черноголовых", приводит пример из области архитектуры, свидетельствующий о том, что одно из шумерских изобретений продолжает жить и поныне.
"Арка распространилась в Европе лишь со времен Александра Македонского. Греческие архитекторы жадно ухватились за нее, видя в ней новое слово в строительной технике, и… ввели ее в западный мир… Затем то же сделали римляне. Однако арочные конструкции были широко распространены еще в Вавилоне. Навуходоносор использовал их при восстановлении Вавилона еще за 600 лет до н. э.; в Уре и поныне можно увидеть арочную конструкцию в храме Кури-Гальзу — вавилонского царя, который правил примерно в 1400 году до н. э. Арочные перекрытия ворот, весьма близкие к современной арочной архитектуре, встречались в домах шумеров еще 2000 лет назад. Сооружение сводчатого стока воды в Ниппуре следует отнести к третьему тысячелетию до н. э., а сводчатые потолки в царских гробницах Ура свидетельствуют о том, что этот вид сооружений возник по меньшей мере еще на 400–500 лет раньше. Таким образом, здесь четко прослеживается единая линия от зари шумерской культуры вплоть до нашего времени". Подводя итог, Вуллей пишет: "Если судить о заслугах людей только по достигнутым ими результатам, то шумерам должно здесь по праву принадлежать почетное, а может быть, и выдающееся место. Если же учитывать и воздействие, которое они оказали на последующее развитие истории, то этот народ вполне заслуживает еще более высокой оценки. Их цивилизации, которая, словно факел в ночи, осветила еще погруженный в варварство мир, выпала высокая честь стать одной из первых движущих сил истории человечества. Мы выросли в такое время, когда началом всех начал в искусстве считалась Греция, когда думали, что сама Греция, словно Паллада, появилась из головы Зевса-олимпийца. Но нам удалось
убедиться в том, что свои жизненные силы она черпала в культуре лидийцев, хеттов, финикийцев, жителей Крита, Вавилона, Египта — им всем она в немалой степени обязана своим расцветом, корни ее уходят еще дальше в глубь веков: за всеми этими народами стоят шумеры".
Проделав шаг за шагом вместе с археологами путешествие в Двуречье, страну потопа и древнейших царей, прослеживая истоки нашей истории, мы почувствовали дыхание прошедших тысячелетий. Многое из того, что окружает нас сегодня — и доброе, и злое, существовало еще пять тысячелетий назад; когда мы вспоминаем об этом, нам кажется, что эти столетия пронеслись, как один день.
До сих пор мы, прослеживая успехи археологов, ограничивались территорией, не выходящей в основном за рамки Средиземноморья. Настало время совершить прыжок в другой мир, весьма отдаленный, культура и цивилизация которого относится примерно к той же эпохе. Вместе с археологами мы совершим путешествие в малоизвестный нам мир; он исчез всего лишь несколько столетий назад, но по сравнению с тем миром, с которым мы познакомились в предыдущих главах, он покажется нам более чуждым, варварским, во многом более жестоким и непонятным. Итак, мы отправляемся в джунгли Мексики и Юкатана.
КНИГА СТУПЕНЕЙ
"Разрушенный город лежал перед нами, словно потерпевший крушение корабль: мачты его потеряны, название неизвестно, экипаж погиб, и никто не знает, откуда он шел, кому принадлежал, как долго длилось его путешествие, что послужило причиной его гибели; лишь по едва заметному, скорее даже предполагаемому сходству с известными нам типами кораблей можно с трудом догадаться о том, из каких краев был его экипаж; впрочем, ничего достоверного о нем мы, вероятно, так никогда и не узнаем".
Джон Д. Стефенс
Глава 27 СОКРОВИЩА МОНТЕСУМЫ
"С первыми лучами солнца испанский военачальник был уже на ногах и принялся собирать свой отряд. Тревожный звук трубы прокатился по водам и лесам и замер где-то в горах, отозвавшись далеким эхом. Люди становились под знамена; сердца их бились от волнения. Расположение города угадывалось лишь по священным огням на алтарях бесчисленных ступенчатых храмов Теокалли, едва видных в предутренней дымке. Но вот наконец первые лучи солнца, поднявшегося на востоке над горной грядой, пробили туман и осветили храмы; башни и дворцы стали видны во всем своем великолепии. Было 8 ноября 1519 года знаменательный день в истории: в этот день европейцы впервые вступили в столицу западного мира".
Так один из историков прошлого века, В. X. Прескотт, о котором мы еще будем говорить, описывает тот момент всемирно-исторического значения, когда испанский авантюрист Эрнандо Кортес вместе с четырьмя сотнями воинов получил наконец возможность бросить первый взгляд на Мехико — столицу царства ацтеков. Армия Кортеса прошла дамбу, соединявшую с сушей столицу ацтеков, расположенную на острове посреди озера, и миновала большой деревянный подъемный мост; испанцев сопровождал шеститысячный отряд союзных племен, главным образом тлашкаланцев — заклятых врагов ацтеков. Каждому из испанцев было ясно, что им предстоит иметь дело с весьма могущественным правителем; об этом свидетельствовали не только бесчисленные отряды войск, которые окружали их со всех сторон, не только колоссальные строения, возвышавшиеся перед ними, но и рассказы местных жителей. Однако все это не поколебало их решения, и они продолжали свой путь.
Вступив на главную улицу города, они увидели большую группу людей в пестрых, ярких одеждах; она медленно двигалась им навстречу. Впереди шли три важных сановника с золотыми жезлами в руках, за ними медленно плыл сверкающий золотом паланкин, его несли на своих плечах ацтекские вельможи. Над паланкином возвышался украшенный драгоценными камнями и серебром балдахин из разноцветных перьев. Придворные были босы; они двигались размеренным шагом, опустив глаза. На определенном расстоянии процессия остановилась. Паланкин опустили на землю, и из него вышел высокий худощавый мужчина лет сорока. Цвет кожи у него был чуть светлее, чем у его соплеменников, лицо обрамляли гладкие, не очень длинные волосы и реденькая бородка. На нем был расшитый жемчугом и драгоценными камнями плащ, завязанный у шеи шнурами, на ногах — золотые сандалии; украшенные золотом ремни обхватывали щиколотки. Он шел к Кортесу, опираясь на двух придворных; чтобы ноги его не касались земли, слуги расстилали перед ним покрывала, вытканные их хлопковой пряжи.
Так предстал перед Кортесом Монтесума II, царь ацтеков.
Кортес соскочил с коня и двинулся навстречу Монтесуме, также опираясь на двух своих офицеров. Пятьдесят лет спустя Берналь Диас, один из тех, кто сопровождал завоевателя, вспоминая об этой встрече, написал: "Я никогда не забуду этого зрелища; хотя прошло уже много лет, оно и сейчас стоит у меня перед глазами, словно все это было лишь вчера".
Когда эти двое глянули друг другу в глаза и выразили свои дружеские (лишь на словах) чувства, в их лице столкнулись два мира, две эпохи.
Впервые в истории великих открытий, которой посвящена эта книга, человек христианского Запада столкнулся не с остатками чужой цивилизации, которую надо было бы реконструировать, а с самой этой цивилизацией во плоти и крови. Встреча Кортеса с Монтесумой равносильна, например, встрече Брупп-бея с Рамсесом Великим в Деир аль-Бахари или Кольдевея с Навуходоносором, которого он повстречал бы вдруг, прогуливаясь по висячим садам Вавилона, и с которым вступил бы, как Кортес с Монтесумой, в беседу.
Но Кортес был завоевателем, а не ученым. Красота привлекала его только в том случае, если она воплощалась в каких-то материальных ценностях, а величие интересовало его лишь в сравнении с самим собой. Он интересовался только тем, что могло принести пользу лично ему, испанской короне, на худой конец церкви, но отнюдь не науке. (Если только не относить его географические открытия за счет жажды знаний.)
Не прошло и года после этой встречи, как Монтесума был мертв, а блистательный город Мехико — разрушен. Только ли Мехико? Приведем слова Шпенглера: "Эта история дает единственный в своем роде пример насильственной смерти цивилизации. Она не угасла сама по себе, никто не заглушал и не тормозил ее развития — ей нанесли смертельный удар в пору ее расцвета, ее уничтожили грубо и насильственно, она погибла, как подсолнух, у которого случайный прохожий сорвал головку".
Чтобы разобраться во всех этих событиях, необходимо бросить ретроспективный взгляд на те освещенные заревом пожаров, занавешенные сутанами и отгородившиеся мечами кровавые десятилетия, которые вошли в историю христианского Запада под названием "Эпохи конкистадоров".
В 1492 году генуэзский капитан Кристобаль Колон, который приобрел мировую известность под именем Христофор Колумб, открыл во время своего путешествия в Индию острова Гуанахани, Кубу и Гаити, а в последующие свои путешествия — Доминику, Гваделупу, Пуэрто-Рико, Ямайку. В конце концов он доплыл до побережья Южной и Центральной Америки. В эти же годы Васко да Гама проложил истинный, то есть самый близкий морской путь в Индию, позднее Охеда, Веспуччи и Фернан Магеллан исследовали южное побережье Нового Света. После путешествия Джона Кабота и кругосветного плавания Магеллана существование Американского континента, протянувшегося от Лабрадора до Огненной Земли, перестало быть тайной. А когда Нуньес Бальбоа с пафосом, который не был чужд ни одному великому исследователю, вошел в воду Тихого океана и со шпагой в руке торжественно объявил этот океан на вечные времена владением испанской короны, когда Писарро и Альмагро вторглись с западного побережья в страну инков (Перу), величайшая в истории Европы авантюра была завершена.
Вслед за открытием началось исследование, а за исследованием пришло завоевание, ибо Новый Свет таил в себе колоссальные богатства и как новый рынок и как сокровищница, которую можно было грабить. Справедливо будет отметить (отвлекаясь от всякого рода морально-политических макиавеллизмов), что последняя причина была основной побудительной силой, заставлявшей все новые и новые группы людей пускаться в самые рискованные путешествия, причем на таких суденышках, которые ныне и на реке-то не встретишь. Впрочем, несправедливо было бы видеть в манящем блеске золота единственную побудительную причину экспедиций. Стремление к обогащению сочеталось не только с жаждой приключений, а корыстолюбие — не только со смелостью, граничащей с безумством. Исследователи и завоеватели предпринимали походы не только в своих, личных интересах, не только для Фердинанда и Изабеллы, а впоследствии для Карла V, но и для папы Александра VI Борджиа, который в 1493 году поделил мир между Португалией и Испанией. Они отправлялись в путь как посланцы его апостолического высочества под знаменами св. Девы, как миссионеры, борцы против язычества, и не было такого корабля, который отправился бы в путь без священника, призванного водрузить в новых землях крест.
С началом походов исследователей конкистадоров в Америку мир впервые в истории человечества стал глобальным. Религия, политика, приключения в равной мере внесли в это свой вклад.
Немалую службу экспансионистской политике этой поистине всеевропейской державы, в которой "никогда не заходило солнце", сослужили астрономия, география и их отпрыск — навигационная наука.
Идальго устали от пустых мечтаний — им нужны были дела; этим в первую очередь объясняется тот факт, что фанатической вере удалось собрать под своими священными хоругвями всех, кто жаждал приключений.
Этот краткий обзор вполне достаточен для нашего рассказа. Мы уже неоднократно упоминали о тех случайностях, которые сыграли решающую роль в истории науки об исчезнувших цивилизациях. Поэтому мы с удовлетворением отмечаем, что Эрнандо Кортес — а он, как человек, открывший ацтеков, интересует нас больше всех остальных конкистадоров — должен был стать адвокатом. Он презирал эту специальность, и его первая попытка избежать своей участи, отправившись в путешествие в составе экспедиции Николая Овандо — последователя Колумба, закончилась неудачей лишь потому, что Кортес сорвался со стены, по которой он, цепляясь за малейший выступ, карабкался на балкон, где ему назначила свидание некая красавица. Повреждения, полученные им в результате этого пикантного приключения (первого достоверно известного нам приключения Кортеса), приковали его к постели, и флотилия Овандо отбыла без него. Поневоле напрашивается вопрос, не сложилась ли бы история Нового Света несколько по-иному, если бы стена, с которой упал Кортес, была немного повыше? Впрочем, когда обстоятельства того требуют, люди всегда находятся, даже такие, как Кортес.
Экспедиция Кортеса была беспримерной. За шестнадцать лет до этого, когда девятнадцатилетний Кортес впервые высадился в Эс-паньоле, он высокомерно заявил губернаторскому писцу, который хотел приписать ему земельный надел: "Я прибыл сюда за золотом, а не для того, чтобы копаться в земле, как крестьянин". Однако с золотом нужно было подождать. В 24 года Кортесу пришлось под командованием Веласкеса принять участие в завоевании Кубы; он отличился в этой кампании, но был посажен в тюрьму за то, что примкнул к противникам Веласкеса, назначенного губернатором острова. Ему удается бежать, его ловят, но он бежит снова. Впрочем, в конце концов строптивый идальго мирится с губернатором. Удалившись в свое имение, он первым на Кубе принимается за разведение вывезенного из Европы рогатого скота, добывает золото и таким образом наживает целое состояние — от 2 до 3 тысяч кастелльянос. Епископ Лас-Касас, один из немногих друзей индейцев в Новом Свете, замечает по этому поводу: "Одному лишь Господу Богу ведомо, сколько индейских жизней было загублено из-за этих денег; надо думать, он призовет его за это к ответу".
То, что Кортес нажил свое состояние именно таким путем, сыграло решающую роль в его дальнейшей судьбе. Теперь, когда он мог финансировать или принять участие в финансировании той или иной экспедиции, он добился назначения на пост командующего эскадрой, которую снарядил и оснастил вместе с губернатором Веласкесом. Он поставил себе задачу доплыть до берегов той сказочной страны, о которой самозабвенно рассказывали местные жители. Однако в последний момент у него снова начались распри с губернатором. Когда Кортес со своим флотом, в который было вложено все его состояние и состояние его друзей, находился уже в Тринидаде (на Кубе), Веласкес решил арестовать его. Но Кортес пользовался необыкновенным расположением солдат — они буквально молились на него, и исполнение приказа привело бы к солдатскому бунту. Так Кортес отправился со своими одиннадцатью кораблями (самый большой из них был водоизмещением 100 тонн) в одну из самых авантюристических экспедиций.
В его распоряжении было 110 матросов, 553 солдата — из них 32 арбалетчика и 13 пушечных мастеров (артиллеристов), 10 больших Фальконетов, 4 малых и 16 коней, — с этими силами он собирался завоевать страну, о которой не имел ни малейшего представления. Кортес обратился с речью к своим воинам; он стоял под сенью черного бархатного знамени, на котором был выткан красный крест и золотом вышиты слова: "Друзья, последуем за крестом! Под этим знаком мы, если мы верующие, победим". Вот последние слова этой речи: "Нас немного, но мы сильны своей решимостью, и если она нам не изменит, то не сомневайтесь: Всевышний, который никогда еще не оставлял испанцев в их борьбе с язычниками, защитит вас, даже если вы будете окружены толпами врагов, ибо ваше дело — правое и вы будете сражаться под знаком креста. Итак, смело вперед, не теряйте бодрости и веры. Доведите так счастливо начатое дело до достойного его завершения".
16 августа 1519 года Кортес высадился на побережье неподалеку от того места, где впоследствии был заложен город Веракрус. В этот день началось завоевание Мексики. Кортес думал, что ему придется иметь дело с отдельными, разрозненными племенами, однако оказалось, что ему противостоит государство; он считал, что ему придется помериться силами с дикарями, но оказалось, что ему предстоит иметь дело с высокоцивилизованным народом; он ожидал увидеть на своем пути деревушки, мелкие поселения, а перед ним высились огромные города с храмами и дворцами. Но ничто не повлияло на его решение овладеть этой страной; вероятно, он принадлежал к числу тех людей, которых последующие поколения проклинают только в том случае, если они терпят поражение.
Мы не можем останавливаться на подробностях этого безумного похода, в результате которого Кортес через три месяца очутился в столице Монтесумы. Он преодолел все препятствия: труднопроходимую местность, губительный климат, неведомые болезни. Он вступает в сражения с армиями противника, насчитывающими тридцать-пятьдесят тысяч человек, и разбивает их наголову. Он продвигается со своим отрядом от города к городу, и молва о непобедимости обгоняет его. Точный расчет полководца сочетается в нем с хладнокровием палача; не раз он учинял массовую резню. Но, как дальновидный политик, он не забывал каждый раз одарить очередные посольства Монтесумы. Одновременно он старается натравить вассальные племена ацтеков друг на друга, так ему удается превратить в друзей своих вчерашних врагов — тлашкаланцев. Целеустремленно движется он вперед и вперед, и это продвижение не в силах задержать половинчатые и бесполезные меры Монтесумы, который, хотя и располагает по меньшей мере стотысячной армией, почему-то просит Кортеса не вступать в пределы ацтекской столицы.
Победный марш Кортеса почти не поддается объяснению. Силу его составляли поистине легендарная слава и хорошо организованное и дисциплинированное войско. Здесь, как говорит один историк" "снова греки сражались против персов". Но "греки" были сильны на этот раз не только своей дисциплиной, они были вооружены огнестрельным оружием — неизвестным страшным оружием для тех, с кем им приходилось сражаться. Кроме того, у них были кони, вызывавшие смятение среди индейцев: всадник вместе со скакуном представлялся им единым фантастическим существом. От этого суеверия ацтеки не освободились даже тогда, когда отбили у испанцев одного из коней, разрубили по приказанию своего предводителя его тушу на куски и разослали их по всем городам страны.
Неотвратимо приближался день захвата столицы — 8 ноября 1519 года. До какого-то времени это была только оккупация, но находка сокровищ в мексиканской столице, о которых Кортес мечтал еще в девятнадцать лет, а также несколько поспешное водружение креста на храмах ацтекских божеств привели к целому ряду осложнений, едва не лишивших Кортеса и его солдат всех плодов их завоевания.
10 ноября 1519 года, на третий день после того, как испанцы вошли в столицу ацтеков, Кортес обратился к Монтесуме с просьбой разрешить построить часовню в одном из отведенных ему и его людям дворцов. Монтесума немедленно согласился, более того, он прислал на помощь Кортесу своих мастеров.
Между тем испанцы, осмотревшись в отведенном им помещении, заметили на одной из старых стенок следы свежей штукатурки и с уверенностью, которую они обрели в результате бесчисленных реквизиций, предположили, что здесь скрыта, очевидно, недавно замурованная дверь. Их не смущает, что пока еще они здесь находятся на положении гостей, — не задумываясь, они взламывают дверь и зовут Кортеса.
Взглянув в пролом, Кортес вынужден на мгновение закрыть глаза: перед ним оказалась большая кладовая, вся заставленная изделиями из золота и драгоценностями. Грудами лежали здесь богатейшие великолепные ткани, украшения, драгоценная утварь, чудесные произведения ювелирного искусства, золотые и серебряные изделия, золотые и серебряные слитки. Берналь Диас, оставивший нам описание похода Кортеса, заглянул через его плечо. "Я был, писал он впоследствии, — еще совсем молодым человеком, и мне показалось, что здесь собраны все богатства мира".
Испанцы оказались перед сокровищами Монтесумы, точнее говоря, сокровищами его отца, приумноженными стараниями сына.
Кортес сделал самое умное из всего, что мог сделать: он приказал немедленно заделать дверь. Он не строил иллюзий насчет своего положения, он знал, что находится на краю вулкана, извержение которого может начаться каждую минуту.
При мысли о том, какие шансы на успех имела ничтожная кучка испанцев в этом гигантском городе, где, по примерным подсчетам, было не менее 65 000 домов, поражаешься наглости этих людей. В самом деле, на что они рассчитывали? Как должна была развиваться далее эта авантюра? Наконец, была ли у них реальная возможность вывезти эти сокровища из города на глазах повелителя ацтеков и его многочисленных войск? Неужели конкистадоры были так ослеплены, что всерьез рассчитывали захватить в этой стране власть и поработить ее экономически, так же как они это сделали на диких островах Нового Света? Да, они действительно были ослеплены, впрочем, их ослепление не выходило за рамки реальной политики, хотя сегодня эта политика и представляется в достаточной степени ирреальной. Существовала лишь одна возможность, одно средство получить достаточную власть в столице; изыскать ее могли только авантюристы, а осуществить — только конкистадоры. Кортес достаточно хорошо разобрался в истинном отношении ацтеков к Монтесуме, чтобы понять: если испанцам удастся захватить в плен Монтесуму, любые враждебные действия его подданных будут исключены.
По прошествии некоторого времени Кортес предложил Монтесуме поселиться в том дворце, где жил он, Кортес, и тем самым соединить царскую резиденцию со своей собственной. Он сумел привести убедительные доводы, подкрепив свою сдержанную просьбу завуалированными угрозами — у дверей стояли в полном боевом вооружении его лучшие воины, — и Монтесума, поддавшись на какое-то мгновение ничем не оправданной слабости, согласился.
К вечеру того же дня в одном из дворцов Монтесумы, отведенном Кортесу и его людям, в специально выстроенной часовне патеры Ольмедо и Диас читали мессу. Слева от них лежали отделенные стеной сокровища, в которых были кровно заинтересованы все молитвенно преклоненные испанцы, а справа — в другом, непосредственно примыкавшем к часовне помещении, находился Монтесума — еще царь, сидящий в самом сердце своей державы, но уже не более как заложник в руках кучки бесчестных людей. Окружавшие его придворные пытались утешить своего господина, но он живо чувствовал всю унизительность своего положения. Берналь Диас отмечает, что все испанцы были настроены серьезно и благоговейно "отчасти из-за самой церемонии, а отчасти потому, что месса призвана была оказать поучительное влияние на погрязших во мраке язычников".
Все шло как по писаному, успехам Кортеса, казалось, не будет конца, как вдруг одно за другим последовали три события, резко изменившие всю картину.
Первые разногласия возникли в среде самих испанцев. Захватив в плен Монтесуму, Кортес уже не видел больше оснований скрывать, что ему удалось найти запрятанные сокровища. Несчастный император попытался спасти свое достоинство, "подарив" сокровища великому повелителю Кортеса — далекому испанскому королю — и одновременно принеся ему вассальную клятву; если вспомнить, в каком положении находился Монтесума, этому акту вряд ли можно придать большое значение. Кортес приказал принести клад в один из залов и взвесить его. Весы и гири пришлось принести свои — ацтекам они были неизвестны, хотя подданные Монтесумы отлично владели искусством счета. Клад был оценен в 162 000 золотых песо; выраженная в долларах (подсчет был сделан в прошлом столетии) эта сумма составляла 6,3 миллиона. Для XVI столетия она была колоссальной, по всей вероятности, таких богатств не имел в своей казне ни один из европейских монархов. Стоит ли удивляться тому, что солдаты буквально обезумели, подсчитав, сколько придется на долю каждого?
Однако у Кортеса были свои соображения насчет дележа. Да и так ли уж он был не прав? Ведь он отправился в поход по поручению испанского короля, который имел все основания рассчитывать на часть добычи. Но кто снарядил корабли, кто и до сих пор сидит по уши в долгах, как не он, Кортес? Ведь наступит день, когда придется их отдавать! И Кортес распорядился разделить всю добычу на пять частей: одну от отделил для короля; другую взял себе; третья предназначалась для Веласкеса (ведь, отправляясь в Мексику, Кортес нарушил его приказ и попросту удрал от него, теперь необходимо было его подмазать); четвертый пай был отдан пушечным мастерам, самопальщикам, арбалетчикам и гарнизону Вера-Крус; и лишь оставшуюся часть — одну пятую сокровищ Монтесумы — поделили между солдатами; на долю каждого досталось по сто песо — ничтожная сумма, если учесть все перенесенные ими тяготы, пустяк для тех, кто видел весь клад.
Дело чуть до дошло до открытого бунта. Начались кровавые дуэли. Кортесу пришлось вмешаться; он действовал не строгостью, а обещаниями, уговаривая солдат, как об этом рассказывает один из его воинов, "с помощью красивых слов, которые у него всегда были в запасе на все случаи жизни". Солдаты послушались его. Кортес пообещал им такое вознаграждение, о котором они и мечтать не смели; однако пока солдаты получили лишь пятую часть всей добычи — остальные четыре пятых оставались во дворце.
События, происшедшие спустя несколько месяцев, были куда более серьезными. Во главе гарнизона Веракрус стоял преданный Кортесу офицер; он и сообщил конкистадору, что по приказанию разгневанного Веласкеса в гавань Веракрус прибыла эскадра под командованием некоего Нарваэса. Единственная его цель — захватить Кортеса, отстранить его от должности, арестовать за открытый мятеж и превышение полномочий и доставить в кандалах на остров Куба. От того же офицера Кортес узнает совершенно невероятные подробности: на 18 каравеллах Нарваэса находятся 80 всадников, 80 самопальщиков, 150 арбалетчиков и множество пушек. Так Кортес, который и без того сидит на пороховом погребе в самом центре враждебной ему столицы ацтеков, внезапно приобретает еще одного врага — на этот раз в лице своих соотечественников. Этот враждебный Кортесу отряд не только намного сильнее, чем его собственный, — он представляет собой наиболее мощные вооруженные силы из всех когда-либо вступавших в бой в Новом Свете. И тогда происходит нечто невероятное, настолько поразительное, что каждый, кто до сих пор считал Кортеса просто счастливчиком и объяснял его успехи свойственной ему напористостью и плохим вооружением индейцев, должен был теперь изменить свою точку зрения. Кортес принимает решение выступить навстречу Нарваэсу и разбить его наголову.
Каким же образом он предполагал это сделать?
Он отваживается оставить две трети своих солдат под командованием Педро Альварадо в Мехико — в качестве гарнизона и одновременно для охраны Монтесумы — ценного заложника. Сам же с оставшейся третью, что составляло семьдесят человек, выступает навстречу Нарваэсу. Покидая Мехико, он умудрился до такой степени запугать Монтесуму рассказами о том, каким наказаниям он подвергнет соотечественников, что нерешительный правитель, ожидая от возращения испанцев самого ужасного, не желал слушать свою советников и приближенных, пытавшихся убедить его воспользоваться самым благоприятным для восстания моментом. Более того, стараясь задобрить Кортеса, он дошел в своей кротости до того, что проводил его (разумеется, под охраной Альварадо) до плотины, обнял на прощание и пожелал успехов.
Пополнив свой отряд за счет союзников — теперь он уже насчитывает 266 человек, — Кортес спускается вниз, на равнину, в Tierra caliente. Льет дождь, бушует непогода. Через разведчиков Кортес узнает, что Нарваэс дошел до Семпоалы; таким образом, теперь его отделяет от противника только река.
Тем временем Нарваэс, опытный и рассудительный военачальник, решает идти вечером к реке, чтобы напасть на Кортеса, однако его солдаты выражают недовольство: кому захочется воевать в такую проклятую погоду? И Нарваэс, уверенный, что в эту темную и дождливую ночь Кортес не решится на переправу, возвращается в город и спокойно располагается на отдых, целиком положившись на превосходство своих сил.
Но Кортес все-таки переправляется через реку. Он застает врасплох часовых противника, и вот уже немногочисленные, плохо вооруженные солдаты с кличем "Espiritu Santo!" ("Святой дух!") врываются под командованием Кортеса в лагерь Нарваэса, до отказа набитый солдатами и вооружением. Это случилось в ночь под Троицын день 1520 года. Нападение застает Нарваэса врасплох; в коротком, но ожесточенном ночном бою, озаряемом лишь пламенем пожарищ и вспышками орудий — впрочем, пушкари успевают сделать не более одного выстрела, — Кортес захватывает лагерь. Нарваэс сражается на вершине одного их храмов. Метко пущенное копье попадает ему в глаз. Стоны Нарваэса перекрывает торжествующий возглас Кортеса: "Победа!" Впоследствии рассказывали, будто за правое дело Кортеса вступились кокуйо — светляки фантастических размеров: целыми роями слетались они к лагерю, и людям Нарваэса казалось, что их окружает огромная армия, движущаяся при свете факелов. Однако совершенно очевидно, что заслуга победы принадлежала Кортесу; все ее значение можно было оценить лишь тогда, когда большинство побежденных согласилось принести Кортесу клятву верности и когда он подсчитал трофеи — пушки, ружья, коней. Только теперь, впервые за все время экспедиции Кортеса, в его распоряжении оказались действительно мощные вооруженные силы. Впрочем, то, что Кортесу каким-то чудом удавалось до сих пор с маленьким отрядом, ему не удалось сделать, имея большую армию.
Глава 28 ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Испанцы вторглись в страну с мечом и крестом: под сенью креста маршировали они, призывая на помощь Espiritu Santo — Святой дух. Кресты, а затем и церкви поднимались там, где испанцы утверждались более или менее прочно. Священники исповедовали воинов перед каждой битвой, служили торжественные мессы после каждой победы и пытались обратить в христианскую веру ацтеков.
Здесь не место исследовать значение и правомочность миссионерской деятельности. Для нас важно одно: вторгшись в царство ацтеков, испанцы впервые столкнулись не с дикими племенами, вся религия которых сводится к нескольким обрядам и примитивному анимизму, к обожествлению природы и духа, а с древней религией, которая хоть и была в целом политеистичной, но в почитании двух своих главных богов — Хуицилопочтли и Кецалькоатля проявляла явно монотеистические тенденции; кроме того, благодаря тесной связи с астрономией эта религия наложила определенный отпечаток на всю цивилизацию страны, что до сих пор было характерно во всяком случае, в известном тогда мире — для всемирных и искупительных религий.
Ошибка испанцев и их священников заключалась в том, что они слишком поздно это заметили. Но могли ли они это вообще заметить? Необходимо вспомнить, какое значение имела церковь в начале XVI века. В те годы, когда Кортес маршировал по Мексике, Мартин Лютер был всего-навсего мятежным монахом, автором нескольких крамольных статей, Коперник еще не возвестил миру о своей теории, а Галилео Галилей и Джордано Бруно еще не успели родиться. В те времена не существовало искусства, науки, да и самой жизни вне церкви. Все западноевропейское мышление было христианским. Ограниченность такого представления о мире, абсолютная вера в его правильность, в вечность его существования и его очистительную силу неизбежно порождали нетерпимость. Все, что не было христианским, объявлялось языческим; все, кто жил и мыслил по-иному, считались варварами.
Эти представления, присущие людям XVI столетия, мешали им признавать право на существование каких-либо иных воззрений даже в тех случаях, когда эти воззрения являлись следствием совершенно другого взгляда на мир, другого восприятия окружающего. Эти представления были весьма ограниченными, и они не могли быть поколеблены даже тогда, когда завоеватели Мексики столкнулись с очевидными признаками высокоорганизованной и высокоразвитой в социальном отношении жизни ацтеков, познакомились с их системой образования и воспитания, узнали о некоторых поистине поразительных открытиях, сделанных ацтекскими жрецами в области астрономии.
Уверенности завоевателей в том, что они имеют дело с дикарями, которые нуждаются в обращении в истинную веру, не могли поколебать даже явные признаки цивилизации: большие города, образцовая система дорог и связи, великолепные здания и храмы. Богатейший город Мехико с его лагунами, прудами, улицами, плавающими островами цветов (чинампами, которые видел еще Александр Гумбольдт) был для них всего лишь дьявольским наваждением.
К несчастью, религия ацтеков включала один обряд, который и в самом деле должен был вызывать у каждого, кому приходилось об этом узнать, чувство отвращения и мысли о кознях дьявола: в государстве ацтеков богам приносились бесчисленные человеческие жертвы; жрецы вспарывали обреченному грудную клетку и извлекали из нее еще трепещущее окровавленное сердце. И только теперь мы имеем, быть может, право напомнить испанцам, которые со всей страстью восстали против этого кровавого обычая, о заживо сожженных на бесчисленных кострах людях — жертвах их собственной инквизиции.
Таким образом, в цивилизации ацтеков высокая нравственность сочеталась с варварскими обычаями и традициями. Само собой разумеется, что испанцы не сумели увидеть в этой двойственности единства своеобразной культуры; они не смогли понять, что ацтеков в отличие от дикарей, с которыми приходилось иметь дело Колумбу, Веспуччи и Кабралю, можно было запугивать только до тех пор, пока дело не касалось их религии. Испанцы не отдавали себе отчета в том, что благодаря страху ацтеков перед оружием они могли творить безнаказанно любые злодеяния и насилия, совершать любые недостойные поступки — все, кроме одного: кроме святотатства и осквернения храмов. Но именно это они и сделали. В результате Кортес чуть было не лишился всех плодов своих побед — и военных и политических.
Интересно, что наиболее ревностными миссионерами в окружении Кортеса были как раз не священники. Патеры Диас и Ольмедо (в особенности последний) действовали очень осторожно, с большим тактом.
Скорее всего, первым, кто предпринял попытку обратить в христианство Монтесуму, был сам Кортес — это подтверждается всеми сообщениями; быть может, он сделал это, повинуясь бессознательному желанию искупить свои грехи. Монтесума выслушал его весьма вежливо, но когда Кортес стал противопоставлять кровавым жертвоприношениям религии ацтеков чистую и простую службу католической мессы, он дал понять конкистадору, что, по его мнению, человеческие жертвоприношения — обряд более невинный, чем христианский обычай вкушать плоть и кровь бога. Трудно сказать, был ли Кортес настолько силен в споре, чтобы противопоставить что-нибудь этой точке зрения. Впрочем, это его не остановило. Он попросил разрешения осмотреть один из больших храмов ацтеков. Монтесума посоветовался со своими жрецами, и после долгих колебаний разрешение на осмотр было дано. Кортес тотчас отправился в Большой Теокалли — храм, расположенный в центре города, неподалеку от того дворца, который был отведен испанцам. Он высказал патеру Ольмедо мысль, что это самое подходящее место для водружения креста, но тот отговорил его. Потом оба они очутились перед большим камнем из яшмы, на котором производилось заклание жертв: их убивали с помощью ножей из обсидиана — вулканического стекла, — и увидели статую бога Хуицилопочтли. Он был ужасен: с точки зрения испанцев, Хуицилопочтли был похож на настоящего дьявола, такого, каким его издревле малевала их собственная церковь. Тело этого безобразного бога — бога войны ацтеков — было опоясано змеей, сделанной из жемчуга и драгоценных камней. Берналь Диас, который и здесь не отставал от Кортеса, отвел взгляд; и вот тут-то он увидел нечто еще более страшное: все стены этого обширного помещения были залиты кровью. "Смрад, писал он впоследствии, — был сильнее, чем на бойне в Кастилии". Он бросил взгляд на алтарь: там лежали три сердца, которые, как ему показалось, еще трепетали и дымились.
Спустившись по бесчисленным ступенькам вниз, испанцы обратили внимание на большое здание, стоявшее на холме. Войдя в него, они увидели, что оно до потолка заполнено аккуратно сложенными черепами: то были черепа бесчисленных жертв. Один из солдат принялся их считать и пришел к выводу, что их должно здесь быть по меньшей мере 136 тысяч.
Вскоре после этого — время просьб уже миновало, настало время приказаний, подкрепленных угрозами, — Кортес занял одну из башен Большого Теокалли. После первого посещения башни Кортес разразился непристойной и грубой богохульной речью, вызвав на этот раз замешательство Монтесумы. Впервые он пришел в волнение и посмел возразить, обратив внимание Кортеса на то, что подобных речей его народ не стерпит. Но Кортес продолжал упрямо проводить свою линию: он приказал очистить помещение башни, соорудить там алтарь и крест, а также поставить изображение св. Девы. Золото и драгоценные камни, находившиеся в храме, были вынесены (не будем уточнять, куда именно), а стены украшены цветами. И когда здесь наконец грянуло "Те deum", собравшиеся на лестнице и на площадке Большого Теокалли испанцы, по словам очевидцев, заплакали от радости.
Теперь до того злодеяния, которое переполнило чашу терпения жителей Мехико, оставался один шаг.
Вот как это случилось. В отсутствие Кортеса — он в это время отправился навстречу Нарваэсу, чтобы одержать свою блестящую победу, — ацтекские жрецы обратились к его заместителю Альварадо с просьбой разрешить им провести в Большом Теокалли (в одной из башен которого, как мы уже упоминали, находилась часовня испанцев) ежегодный традиционный праздник с массовыми плясками, торжественными богослужениями и обрядовыми песнями, посвященными богу войны Хуицилопочтли.
Альварадо разрешил, но поставил два условия: 1) ацтеки не должны приносить при этом человеческих жертв; 2) при них не должно быть оружия.
В день празднества в Теокалли собралось примерно 600 ацтеков, в большинстве своем представители самых знатных родов (сведения об их численности разноречивы), все они были безоружны. Надев лучшие наряды и украсив себя драгоценными камнями и ожерельями, они приступили к совершению религиозных обрядов. Вскоре с ними смешалось множество испанцев в полном вооружении; в разгар празднества раздался условный сигнал, по которому испанцы бросились на ацтеков и безжалостно перебили их.
Злодеяние это совершенно непонятно; оно осталось необъяснимым и исторически, ибо какое этому, собственно, можно дать объяснение? Один из свидетелей этой бойни писал: "Кровь текла ручьями, словно вода в сильный ливень".
Когда Кортес, одержав победу, возвратился со своим войском в Мехико, город был уже совсем другим. После неслыханного злодеяния весь народ восстал. Одного из братьев Монтесумы, Куитлауака, восставшие поставили во главе войска вместо плененного повелителя и начали штурмовать дворец, в котором укрепился Альварадо. Кортес прибыл как раз вовремя, но, сняв осаду с дворца, он, таким образом, попал в западню сам. Более того, каждая вылазка, которую предпринимал Кортес, была Пирровой победой: он разрушил триста домов — ацтеки уничтожили все мосты, по которым он мог бы отступить из города; он сжег Большой Теокалли — ацтеки с новой яростью бросились на штурм его укреплений. Непостижимый Монтесума, человек с несомненно богатым военным прошлым (насколько известно, он принимал участие в девяти сражениях), при котором государство ацтеков достигло наивысшего расцвета и могущества, стал после вторжения испанцев совершенно безвольным монархом; теперь он предложил выступить посредником между испанцами и своими соотечественниками. Облачившись в парадные одежды и надев все свои регалии, он взошел на стену дворца и обратился к своему народу. И тогда народ свершил свой суд над ним в него полетели камни и стрелы. 30 июня 1520 года Монтесума, который до последних дней своей жизни оставался пленником испанцев, умер. Опасность, угрожавшая испанцам, достигла, казалось, наивысшей точки. Последний козырь авантюристов в игре, где на карту была поставлена Мексика, был бит: плененный ими правитель страны Монтесума — мертв. Наступила самая страшная ночь Кортеса, ночь, которая вошла в историю под названием "Ночь печали".
Мы уже упоминали, что при дележе сокровищ Монтесумы дело дошло чуть ли не до мятежа.
Когда Кортес отдал ночью приказ готовиться к прорыву, приказ, на который его толкнуло отчаяние (ведь он собирался пробиться с кучкой своих людей сквозь армию, насчитывающую десятки тысяч солдат), он велел снести в одну комнату все золото, все драгоценности Монтесумы и презрительно сказал: "Пусть каждый возьмет сколько хочет", а потом добавил: "Смотрите, не перегружайтесь, помните: темной ночью налегке ехать — вернее доехать". И только ту часть добычи, которая предназначалась для испанского короля, он приказал навьючить на лошадей, идущих в середине колонны; он рассчитывал, что в случае поражения сокровища помогут ему оправдаться перед монархом.
Старые сподвижники Кортеса знали цену его советам и не стали жадничать, но новички — те, кто присоединился к нему после победы над Нарваэсом, оставили этот совет без внимания; они нацепили на себя все украшения, какие только могли унести, наполнили золотыми слитками пояса и сапоги, привязали покрытые жемчугом и драгоценными камнями предметы обихода прямо к телу, одним словом, нагрузились так, что уже после первого получаса пути еле плелись в арьергарде. И все-таки, несмотря на их жадность, большая часть сокровищ Монтесумы осталась во дворце.
В эти первые полчаса ночи на 1 июля 1520 года испанцам удалось, не возбудив подозрений ацтеков, питавших какую-то удивительную неприязнь к ночным боям, пройти через мертвый город и достигнуть плотины. Однако здесь их заметили; раздались окрики часовых; загудел огромный барабан — сигнал жрецов Теокалли, и с этого момента начался ад.
Это действительно был ад в полном смысле слова. Испанцам удалось преодолеть с помощью переносного моста, который они сами же соорудили, первый пролет плотины. Тут пошел дождь, и шум падающей воды смешался с шумом весел бесчисленных пирог. Крики отчаяния испанцев, которые скользили по мокрой земле и не могли ни на метр продвинуться дальше, перекрыл боевой свист ацтеков. В испанцев полетели камни и стрелы, а вслед за этим, едва различимые в темноте и за стеной дождя, на испанцев обрушились ацтекские воины, которые пустили в ход свои боевые топоры и палицы с остриями из твердого, как железо, обсидиана.
Между тем передовой отряд испанцев, достигший второго пролета, недоумевал, почему задерживается переносной мост. Но вот пришла весть, ужаснее которой трудно было себе представить: переносной мост под тяжестью сражавшихся настолько ушел в землю, что не было никакой возможности его вытащить. До этого момента можно было еще говорить об организованном отступлении, теперь же началось бегство. Паника овладела и солдатами и офицерами. Отряда больше не существовало — осталась кучка обезумевших от страха людей. Каждый думал лишь о своем спасении. Вплавь, цепляясь за хвосты лошадей, за доски и бревна, пытались они достигнуть берега. Оружие, вещевые мешки, а в конце концов и золото, которым были наполнены карманы и пояса испанцев, — все кануло в пучину.
Здесь не место описывать подробности этого проигранного испанцами сражения, достаточно упомянуть, что все они, включая и Кортеса, который, по единодушному свидетельству очевидцев, проявил настоящие чудеса храбрости, были изранены, покрыты ссадинами и синяками. Наступило утро, хмурое, дождливое. Плотина осталась позади; ацтеки не торопились преследовать испанцев — они занялись подсчетом трофеев. Теперь Кортес мог наконец произвести смотр остаткам своего отряда. Сведения современников о потерях, понесенных испанцами в эту ночь, разноречивы. Сопоставляя их данные, можно прийти к выводу, что отряд Кортеса потерял не менее трети своего состава. Численность войск его союзников тлашкаланцев уменьшилась, по одним сведениям, на одну четверть, по другим — на одну пятую часть. Армия потеряла все ружья и боеприпасы, часть аркебуз, много коней. Теперь отряд Кортеса представлял собой лишь жалкое подобие того отряда, который девять месяцев назад вошел в столицу ацтеков.
Впрочем, их путь еще не был закончен. Долгие восемь дней брели они, стараясь идти как можно быстрее, — не следует забывать, что все они едва держались на ногах от усталости, к тому же им не хватало еды; не раз во время пути им приходилось отбиваться от преследователей. Так шли они, стремясь поскорее достигнуть Тлашкалы — земли своих союзников, заклятых врагов ацтеков. И когда наконец 8 июля 1520 года они перевалили через хребет, окаймлявший долину Отумбы, их глазам представилась картина, которая, казалось, не оставляла никакого сомнения в дальнейшей судьбе отряда.
Вся долина, через которую пролегал их единственный путь, была, насколько простирался взор, заполнена ацтекскими войсками, построенными в строгом боевом порядке. Впереди боевых колонн были видны предводители племен; в разноцветных одеяниях и украшениях из перьев они резко выделялись на белоснежном фоне хлопковых панцирей рядовых воинов — словно пестрые птицы на белом снегу.
Положение было отчаянное, но у испанцев не было выбора. В самом деле, что они могли предпринять? Вернуться? Но позади их ожидал плен, а участь людей, попавших в плен к ацтекам, была известна: их некоторое время откармливали, нередко посадив на это время в деревянные клетки, а затем приносили в жертву богам. Оставалось одно: попытаться пробиться вперед. Другого выхода не было.
Горстке испанцев, лишенных огнестрельного оружия, благодаря которому они одержали свои первые победы, противостояла армия ацтеков, насчитывавшая, по приблизительным подсчетам, не менее 200 000 человек. И в этой безнадежной ситуации, когда, казалось, у испанцев не было ни малейших шансов на успех, внезапно происходит чудо.
Разделив свой отряд на три группки, прикрыв их с флангов остатками кавалерии (в отряде оставалось всего лишь 20 всадников), Кортес врезался в бушующее море ацтекских войск, которое, казалось, вот-вот захлестнет его воинов. Кавалеристам удалось пробить узкий коридор в толще неприятеля, но ацтеки сомкнули свои ряды позади атакующих, словно гибкие травы позади плуга. Кортес сражается в первых рядах; под ним убивают коня — он пересаживается на другого, его ранят в голову, но он продолжает сражаться. Однако его окружают новые силы. Отражая и нанося удары, он внезапно замечает впереди, на небольшом холме, группу великолепно одетых всадников, окруживших паланкин. Кортес сразу же догадался, что среди них находится вражеский военачальник Сихуаку — он узнал его по возвышающемуся у него над головой боевому штандарту с золотой сеткой, который являлся одновременно и знаменем и знаком главнокомандующего. И вот тут-то происходит чудо, которое совершает не пресвятая Дева и не какой-нибудь святой, а Эрнандо Кортес. Забыв о ране, Кортес вздыбил коня и, рассыпая направо и налево удары, расчищая себе дорогу копьем и мечом, врезался вместе с двумя-тремя своими ветеранами во фланг ацтеков. Вражеские воины не в состоянии его задержать; на полном скаку он подлетает к паланкину… и вот уже вражеский главнокомандующий падает, пронзенный копьем Кортеса. С ликующим возгласом выхватывает у него Кортес золотое знамя и высоко поднимает его над головой.
И тогда поражение оборачивается победой. Увидев в руках белого завоевателя, который в этот момент, вероятно, казался ацтекам еще более могущественным, чем их собственные боги, свое знамя, свой символ победы, ацтекские воины бросились бежать. В тот миг, когда Эрнандо Кортес поднял над головой вражеское знамя, судьба Мехико была решена — царство последнего Монтесумы перестало существовать.
Предоставим в заключение слово историку: "Как бы мы ни оценивали это завоевание с точки зрения моральной, с точки зрения военной оно достойно восхищения. Кучка авантюристов, плохо вооруженных, с весьма скудным снаряжением, высадилась на побережье мощной державы, населенной горячим, воинственным племенем… не зная ни языка, ни страны, не имея ни карты, ни компаса… не ведая того, что принесет им следующий шаг, — попадут ли они к враждебно настроенным племенам или же угодят куда-нибудь в пустыню; во время первых стычек с местными жителями они чуть было не терпят поражение, но им все-таки удается продвинуться вперед и дойти до столицы. Знакомство с высокой культурой и моралью этого народа не только не поколебало их намерения, но даже еще более укрепило его; они умудрились захватить в плен правителя, убить на глазах его подданных его министров и, будучи с большими потерями изгнаны из города, сумели вновь собраться с силами и благодаря искусно разработанной и бесстрашно осуществленной операции возвратиться в этот город вновь, утвердив тем самым свое господство над всей страной. Разве не удивительно, что все это смогла осуществить жалкая кучка авантюристов? Этот факт действительно похож на чудо, во всяком случае, он является беспримерным в истории".
Для полноты картины следует добавить, что в последовавшие за сражением при Отумбе месяцы ацтекский народ сумел в последний раз перед своей гибелью вновь подняться, проявив при новом властителе такую твердость духа, какую во время правления Монтесумы в нем трудно было даже подозревать; впрочем, для "американских римлян", кем ацтеки и являлись до прихода Кортеса, она была вполне естественной. Брат Монтесумы Куитлауак правил всего лишь четыре месяца — он умер от оспы; его преемником был двадцатипятилетний Куаутемок. Он ожесточенно защищал столицу своего государства и нанес большой урон получившему солидные подкрепления Кортесу — значительно больший, чем все ацтекские полководцы до него. Однако в конце концов Мехико был разрушен, его дома сожжены, боги низвергнуты, каналы засыпаны. (Сегодня город Мехико уже не "Венеция".) Куаутемока испанцы захватили в плен и повесили.
Вслед за этим началась христианизация и колонизация страны. На месте Теокалли, по крутым ступеням которого жрецы сбрасывали во время последней осады попавшихся к ним в руки испанцев, предварительно вырвав у них из груди сердце, был воздвигнут видный издалека храм св. Франциска. Дома были отстроены заново, и уже через несколько лет в городе жили несколько испанских (нередко смешанных) семейств и не менее тридцати тысяч индейских. Земля была захвачена испанцами и разделена по принципу так называемого репартимьенто; для всех народов, некогда входивших в царство ацтеков, а также для всех племен, покоренных испанцами впоследствии, это означало рабство; исключение, и то временное, было сделано только для тлашкаланцев, которым Кортес был так многим обязан. Да и кто мог ожидать, что они останутся свободными?
Впрочем, успех, от которого выиграла далекая Испания, омрачало одно обстоятельство — потеря сокровищ Монтесумы. Испанцы рассчитывали, что, возвратившись в Мехико, они сумеют разыскать оставленную ими в бурную "Ночь печали" часть клада, но клад исчез бесследно и не найден вплоть до настоящего времени. Пытаясь выведать, куда ацтеки его запрятали, Кортес, прежде чем повесить Куаутемока, подверг его пыткам, но так и не сумел ничего добиться. Тогда он приказал обыскать все плотины и лагуны. Были найдены кое-какие драгоценности и золото на общую сумму около 130 000 золотых касталльянос, что составило примерно одну пятую часть всех сокровищ Монтесумы, то есть именно ту сумму, которую Кортес собирался преподнести в дар испанскому королю. Но золото ацтеков так и не попало в испанскую казну: корабль, на котором оно было отправлено (об этом писал в своем письме от 15 мая 1522 года Кортес), был захвачен французами, и обладателем золота нежданно-негаданно стал вместо Карла V Франциск I Французский, разумеется, не ожидавший такого поворота событий. Вспоминая об этом, невольно испытываешь какое-то злорадное удовлетворение.
Пора, однако, прервать наше повествование для того, чтобы сделать кое-какие выводы.
Книга наша не является рассказом о великих географических открытиях и уж тем более не историей военных и политических завоеваний прошлого. Нас интересует история открытий древнейших цивилизаций, и нам пора наконец разобраться в том, какое значение имеют завоевания Кортеса для изучения истории древнейших цивилизаций Центральной Америки. То, что такая древняя цивилизация существовала здесь до вторжения Кортеса, ясно из всего нами рассказанного.
Если рассматривать Кортеса не как конкистадора, а просто как одного из первооткрывателей цивилизации, которая была мертва уже для человека XVII столетия, а для нас и подавно мертва, так же как любая из тех цивилизаций, о которых мы уже рассказали, возникает вполне закономерный вопрос: какие сведения оставили об этой цивилизации ее современники или их ближайшие потомки?
И вот тут выясняются удивительные вещи; так же как и все остальные свидетели, Кортес никогда не упускал случая подчеркнуть лишний раз силу и могущество того народа, который он поработил, иначе он бы проиграл в глазах критически относившихся к нему современников. Однако он никогда не обмолвился и полусловом о том, что он не просто разрушил варварско-языческую державу, а фактически походя обезглавил целую цивилизацию. Ничего не говорил он также и о том, что, собственно, эта цивилизация собой представляла, каково было ее истинное значение. Если это еще можно объяснить духом времени и мировоззрением столетия, которое знало хронистов, но еще не знало историков, то совершенно необъясним другой, прямо-таки беспрецедентный факт: потомство, которое вступило в жизнь в начале XVI века, не только не удержало в памяти подробностей о жизни и культуре ацтеков, но позабыло даже о самом их существовании. И по мере того как Новый Свет все сильнее втягивался в орбиту политической и хозяйственной жизни Европы (его связь с Европой была значительно сильнее, чем, скажем, у Месопотамии), тот факт, что в Америке некогда существовали государства с самобытной культурой, был настолько прочно забыт, что вплоть до недавнего времени наука не уделяла изучению этих цивилизаций того внимания, которого они заслуживали. О пробеле в данной области науки свидетельствуют не только наши собственные недостаточные знания, но хотя бы и тот факт, что в большинстве энциклопедий и во многих специальных трудах по всеобщей истории о цивилизациях тольтеков, майя и ацтеков либо вовсе не говорится, либо едва упоминается.
Объясняется это нередко тем, что древнеамериканские цивилизации не были так тесно связаны с нашей цивилизацией, как, скажем, вавилонская, египетская и греческая, однако этот довод нельзя признать состоятельным. Вспомним хотя бы, что не менее далекие цивилизации Китая и Индии гораздо более знакомы нам, чем древнеамериканские, несмотря на то что и в экономическом и в политическом отношениях они гораздо более далеки от нас, чем Мексика, полностью испанизированная еще четыреста лет назад и включенная впоследствии в континентально-американскую сферу влияния. Вспомним еще об одном факте: первый американский научно-исследовательский археологический институт, основанный в 1879 году, занимался на протяжении нескольких десятилетий только раскопками в Европе. И даже сегодня из тех колоссальных сумм, какие американские научные институты расходуют на археологические изыскания, лишь ничтожная доля попадает в руки нескольких ученых, занимающихся археологическими раскопками в той части света, где эти институты расположены.
Таким образом, цивилизация ацтеков — это не только исчезнувшая, но и забытая тотчас после открытия цивилизация; мы имеем все основания это утверждать.
Мы так часто упоминали о могуществе и величии цивилизации ацтеков, что пора уже перестать ее переоценивать. Но мы должны были столь упорно вбивать это сознание потому, что среди других американских цивилизаций она была открыта первой и тем самым обеспечила себе место в этой книге, где излагается история археологических исследований. Далее мы увидим, что в Америке были и другие, гораздо более значительные цивилизации и что цивилизация ацтеков сама является всего лишь отблеском еще более высокой, более древней культуры.
Так мы снова входим в русло нашего рассказа. Мы приходим ко второму открытию древней Америки. Оно связано с именами двух людей — один из них, не переступая порога своей комнаты, открыл существование древних ацтеков; другой, пробиваясь сквозь джунгли с мачете в руках, открыл еще более древний народ, впервые обнаруженный одним из сподвижников Кортеса.
На этот раз ученый отнесся к нему с тем почтением к прошлому, которому научились лишь в XIX веке. Впрочем, и второе открытие в общем ничего не дало: для того чтобы древние американцы могли занять подобающее им место в истории цивилизации, понадобилось еще и третье, которое было сделано уже в наши дни. Обо всем этом мы поговорим в одной из последующих глав.
Глава 29 МИСТЕР СТЕФЕНС ПОКУПАЕТ ГОРОД
Однажды, ранним утром 1839 года, через долину Камотан вдоль гондурасско-гватемальской границы ехала группа всадников: впереди двое белых, на некотором расстоянии от них — несколько индейцев. Хотя они были хорошо вооружены, прибыли они сюда с самыми мирными намерениями. Впрочем, несмотря на все их уверения в миролюбии, они уже к вечеру того же дня оказались запертыми в "ратуше" одного небольшого городка под охраной пьяных солдат, которые всю ночь напролет ссорились между собой и развлекались стрельбой.
Таково было не слишком ободряющее начало исследовательской деятельности Джона Ллойда Стефенса, который вторично открыл древнюю Америку.
Стефенс родился в Шрюсбери (штат Нью-Йорк) 28 ноября 1805 года, получил юридическое образование и в течение восьми лет работал в нью-йоркских судах. Однако его истинным призванием была не юриспруденция: он увлекался древностями, в частности поисками следов древнейших цивилизаций. В предыдущей главе мы уже — упоминали о том, что американские археологи начали свои исследования с изучения древних цивилизаций Старого Света. Не составил — исключения и Стефенс: хотя он был американцем, он отправился не в Центральную Америку, а в Египет, Аравию и Палестину, а на следующий год — в Грецию и Турцию. О том, что в Центральной Америке были бесчисленные памятники: древнейшей цивилизации, он не имел ни малейшего понятия. Лишь впоследствии, когда ему пошел уже тридцать второй год и он выпустил в свет две книги, ему случайно попало в руки описание одного путешествия, где содержались сведения, взволновавшие его до глубины души, — это во многом определило всю его дальнейшую научную деятельность.
Книга эта была официальным отчетом некоего полковника Галиндо, который в 1836 году обследовал по поручению правительства положение местного населения. В своем отчете Галиндо упоминал об остатках самобытной и, судя по всему, чрезвычайно древней архитектуры, с которыми ему пришлось столкнуться в лесах Юкотана и Центральной Америки.
Эти сухие заметки наблюдателя необычайно взволновали Стефенса. Он стал искать дополнительные сведения и наткнулся на историю Гватемалы, написанную Хуарросом, где были приведены высказывания некоего Уэнтеса, утверждавшего, будто в его время, то есть около 1700 года, возле Копана в Гондурасе существовал целый комплекс еще хорошо сохранившихся древних построек; он называл его цирком.
Этих скудных данных оказалось для Стефенса вполне достаточно. Кажется почти невероятным, что он не стал узнавать подробностей и лишь весьма поверхностно ознакомился с источниками времен конкистадоров. Но мы вынуждены повторить: открытия испанских завоевателей, во всяком случае в той их части, которая относилась к древнейшим цивилизациям, попросту выпали из общественного сознания. Не мог Стефенс знать и того, что где-то, совсем недалеко от него, живет человек, тоже американец, который как раз в то время, когда Стефенс начал готовиться к своему путешествию по Центральной Америке, занялся собиранием и подбором документов об одном из древних народов, населявших в свое время этот район. Он не знал, что этот человек мог, не выходя из своего кабинета, не только много рассказать об этих древних народах, но и предсказать в общих чертах, что именно может быть обнаружено Стефенсом во время путешествия.
Стефенсу нужен был спутник, и он нашел его в лице своего друга, англичанина Фредерика Казервуда, рисовальщика по профессии. Здесь мы вновь встречаемся с тем рабочим Содружеством, которое не раз наблюдали и ранее; вспомним, как Виван Денон с помощью карандаша запечатлевал находки Египетской комиссии Наполеона или как Эжен Фланден зарисовывал готовые разрушиться памятники, найденные Ботта среди развалин Ниневии.
В самый разгар подготовки к путешествию внезапно появилась возможность возложить основное бремя расходов на Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что к этому времени Центральная Америка вошла в сферу экономических интересов США, и, когда внезапно скончался американский поверенный в делах, Стефенсу благодаря его знакомству со времен службы в нью-йоркских судах с Мартином ван Буреном — президентом США и губернатором штата Нью-Йорк удалось получить назначение на этот пост. В результате Стефенс начал путешествие не только с кучей рекомендательных писем, он сумел прибавить к своему имени звучный титул Encargado de los negocios de los Estados Unidos del Norte — поверенного в делах Соединенных Штатов Америки. (Сколько пионеров археологии мы уже встречали в роли дипломатов!)
Все это, однако, не спасло его от нападения пьяной солдатни. В 1839 году с ним произошло в Центральной Америке примерно то же самое, что случилось шесть лет спустя на берегах Тигра в Месопотамии с Лэйярдом: тот и другой попали в страну в самый разгар мятежа.
В те времена в Центральной Америке существовали три большие партии: партия Морасана, экс-президента республики Сан-Сальвадор, партия мулата Ферреры в Гондурасе и партия индейца Карреры в Гватемале. Каррера вместе со своими приверженцами, которых не слишком дружелюбно называли "качурекос" (фальшивая монета), находился в полной боевой готовности. Сражение у Сан-Сальвадора между Морасаном и Феррерой, в котором Морасан получил ранение, закончилось, однако, его победой, и население ожидало вступления его войск в Гватемалу. По той самой дороге, по которой ожидали прибытия войска Морасана, и продвигался со своим небольшим отрядом Джон Ллойд Стефенс.
Страна была разорена. Опереточные генералы и бандитские вожаки сменяли друг друга в руководстве отрядами и отрядиками (в их состав входили индейцы, негры, два-три европейских офицера-авантюриста и беглые солдаты из итальянской армии Наполеона); причем они не столько воевали, сколько занимались грабежами и мародерством. Деревни были разграблены, население голодало, "no hay" ("ничего нет") — таков был постоянный ответ на просьбу Стефенса продать хотя бы немного провизии. Ничего! Кроме воды.
Они остановились на постой в "ратуше" одного городка. Облеченный знаками своей власти — палкой с серебряным набалдашником, алькальд этого городка принял их весьма недоверчиво. Ночью он ворвался с отрядом, состоявшим примерно из двадцати пяти человек, в помещение, занятое Стефенсом и его людьми. Командовал отрядом офицер, сторонник Карреры, которого Стефенс, рассказывая об этом приключении, называет "господином в блестящей шляпе". Последовавшие за этим события приняли несколько шумный характер; Августин, слуга Стефенса, получив удар мачете в голову, стал кричать: "Стреляйте, сэр, стреляйте!" Стефенс предъявил при свете лучины свой паспорт и печать генерала Каскара, дезертировавшего в свое время из наполеоновской армии, который пользовался известностью и влиянием в стране и чьей поддержкой Стефенс успел заручиться. Что касается Казервуда, то он пытался разъяснить подвыпившим солдатам основы международного права, в частности положение о неприкосновенности личности дипломатов, впрочем, на солдат это произвело еще меньшее впечатление, чем паспорта. С одной стороны, ситуация несколько напоминала сцену из "Фра-Дьяволо", с другой — принимала все более и более серьезный оборот, так как на Стефенса оказались направленными дула трех мушкетов. Развязка была оттянута появлением второго офицера, явно выше рангом, чем первый, ибо на нем была еще более блестящая шляпа. Снова были проверены паспорта. Офицер строжайше запретил насилие, но предупредил алькальда, что он отвечает за пленников головой. Пока он говорил, Стефенс успел набросать записку генералу Каскара. Для большего эффекта он запечатал ее американской пятидесятицентовой монетой. "Орел распростер свои крылья, звезды сверкнули при свете лучины, и все подошли поближе, чтобы получше рассмотреть монету".
Маленький отряд Стефенса не мог уснуть. Охранявшие их солдаты, расположившись лагерем вокруг "ратуши", шумели, орали и весьма невоздержанно пили водку. Внезапно перед пленниками вновь предстал алькальд, позади него шествовали изрядно подвыпившие солдаты. В руке он держал письмо Каскара следовательно, оно было еще не отослано! Тут Стефенса прорвало, и то, что не смогли сделать ни дипломатические паспорта, ни уговоры, ни ученые разъяснения Казервуда, сделал грозный тон Стефенса. Алькальд немедленно послал одного из индейцев отнести письмо и исчез вместе со всей своей свитой. Стефенс решил запастись терпением. Впрочем, напряженная ситуация разрядилась сама собой.
На следующее утро, когда солнце уже поднялось, к Стефенсу явился протрезвевший алькальд с официальным визитом примирения. Что касается солдат, то они, повинуясь новому приказу, убрались восвояси еще до восхода солнца.
Копан расположен в штате Гондурас возле реки того же названия — она впадает в Мотагуа, а затем в Гондурасский залив. (Не следует смешивать его с городами Кобан на Рио-Кобане и Кабахон, который находится северо-западнее Копана, уже в Гватемале.)
В свое время этой дорогой шел Кортес, когда он отправился после завоевания государства ацтеков в 1525 году из Мехико в Гондурас для того, чтобы наказать одного предателя; дорога протянулась более чем на тысячу километров сквозь горы и девственный лес,
Продолжая свой путь, Стефенс, Казервуд, проводники-индейцы и носильщики вскоре углубились в лес, и, когда над ними, словно зеленое море, сомкнулись джунгли, они постепенно начали понимать, почему до них здесь побывало так мало путешественников и исследователей.
"Зелень, — писал за триста лет до этого о таких же лесах Кортес, отбрасывала такую густую тень, что солдаты не видели, куда ставить ногу". Мулы по брюхо проваливались в трясину, и, когда Стефенс и Казервуд, пытаясь им помочь, слезали с коней, колючие растения царапали их лица и руки. Томительная жара и духота вызывали усталость и вялость; над болотами плясали тучи москитов — вестников лихорадки. "Этот климат, — писали о тропической низменности еще за сто лет до путешествия Стефенса испанские путешественники дон Хуан и Уллоа, — истощает силы мужчин и убивает женщин при первых родах. Быки теряют в весе, у коров пропадает молоко, наседки перестают нестись". Природа ничуть не изменилась со времен Кортеса, и, если бы не военные события, которые с самого начала обрекли на неудачу дипломатическую деятельность Стефенса и благодаря которым ему не оставалось ничего другого, как отдаться страсти к путешествиям, он, возможно, повернул бы назад.
Стефенс принадлежал к числу людей, которые в самых тяжелых условиях остаются восприимчивыми к очарованию новизны. Этот лес не только изматывал нервы и таил в себе не только неожиданности — он одновременно был и удивительно привлекательным для глаза, для слуха, для обоняния. Из низин тянуло запахом перегноя; каких здесь только не было деревьев: красное, желтое, голубое! Раскинув гигантский шатер из двенадцатиметровых листьев, стояли пальмы. Внимательный наблюдатель мог увидеть и орхидею. Кое-где виднелись ананасы, похожие на горшки с цветами.
А когда к вечеру лес наполнялся звуками, можно было услышать вопли обезьян-ревунов, выкрики попугаев, кваканье, визг, рыканье и даже внезапно обрывающиеся приглушенные предсмертные стоны загнанного хищником животного.
Стефенс и Казервуд пробивались сквозь такие дебри, которые, как говорится, в дурном сне не привидятся. Исцарапанные до крови, покрытые грязью и тиной, с воспаленными глазами, они шли и шли вперед. Неужели здесь, в этих джунглях, в этом заколдованном мире, который, казалось, всегда был таким, находились когда-то каменные здания, большие каменные постройки?
Стефенс не кривил душой, он сам честно признавался, что по мере того, как он углублялся в это зеленое царство, им все сильнее овладевало неверие: "Должен сознаться, мы оба — и господин Казервуд и я — несколько сомневались в успехе и приближались к Копану, скорее надеясь, нежели ожидая обнаружить там чудеса".
Но скоро наступил момент, когда чудеса стали явью.
Разыскать где-нибудь в незнакомом лесу остатки какого-то сооружения немого свидетеля давно прошедших времен, — конечно, интересно, такая находка дает пищу уму. Тем не менее никому не придет в голову называть это чудом. Однако Стефенсу, который объездил чуть ли не половину Востока и посетил почти все места, где были найдены остатки цивилизаций древних народов, было теперь суждено при всем отсутствии надежд найти нечто особенное, увидеть нечто такое, что в первый момент буквально лишило его дара речи. Когда же он пришел в себя и подумал о том, какое большое значение для науки будет иметь сделанное им открытие, он едва не уверовал в чудо.
Добравшись до Рио-Кобана, путешественники зашли в расположенную неподалеку деревушку, чтобы познакомиться с местными жителями — обращенными в христианство метисами и индейцами. Затем они продолжили свой путь в джунглях, пока внезапно не наткнулись на сложенную из четырехугольных каменных плит крепкую и хорошо сохранившуюся стену; рядом с ней они увидели множество ступеней, которые вели к террасе, настолько заросшей, что определить ее размеры было невозможно.
Взволнованные этим зрелищем, но еще опасаясь дать волю своим чувствам (кто мог поручиться, что перед ними не просто остатки какой-нибудь старинной испанской крепости?), они свернули с тропинки и увидели, что их проводник, яростно работая ножом, прокладывает себе дорогу среди сплетения лиан. Сделав несколько взмахов, он раздвинул лианы, словно занавес перед началом спектакля, и, как бы отдавая на суд критики свое собственное произведение, указал рукой на высокий темный предмет — deus ex machina в истории этого открытия. Когда Стефенс и Казервуд при помощи мачете пробились к нему поближе, они увидели стелу — высокий обелиск, какого им еще никогда не приходилось видеть. Этот обелиск был к тому же выполнен в такой художественной манере, с которой им не доводилось встречаться ни в Европе, ни на Востоке и о существовании которой в Америке они не могли даже подозревать.
Перед ними был каменный монумент с совершенно поразительной орнаментикой. Великолепие орнамента заставило их в первый момент даже усомниться в том, сумеют ли они этот памятник описать. Четырехугольный обелиск (мы приводим данные последующих измерений) имел в высоту 3 м 90 см, в ширину — 1 м 20 см и в толщину — 0,9 м. Он был строить покрыт скульптурными изображениями. Эти крупные, массивные скульптуры резко выделялись на фоне сочной зелени, окружавшей обелиск; в их выщербинах еще сохранились следы краски, некогда, вероятно, покрывавшей эти изваяния, снизу доверху.
На фасаде выделялось рельефное изображение какого-то мужчины. "Его лицу было придано торжественно-серьезное выражение, способное внушить страх". С боков обелиск был весь испещрен какими-то
загадочными иероглифами, сзади украшен скульптурами. "Ничего похожего нам видеть еще не приходилось".
Стефенс был очарован и околдован, но он принадлежал к числу настоящих ученых и не был склонен делать поспешные выводы. Он позволил себе высказать только предварительное заключение, и впоследствии оно оказалось абсолютно правильным!
"Этот неожиданно найденный монумент… убедил нас в том, что предметы, которые мы разыскиваем, представляли бы существенный интерес не только как остатки цивилизации неизвестного нам народа, но и как памятники искусства; наряду с вновь открытыми историческими документами все это явилось бы свидетельством того, что народ, некогда населявший континент Америки, вовсе не был диким.
Но когда Стефенс, расчищая себе дорогу при помощи мачете, проник в сопровождении Казервуда в гущу джунглей, когда он обнаружил второй, третий, четвертый — в общей сложности четырнадцать этих диковинных, украшенных скульптурами обелисков, один удивительнее другого, он пошел в своих выводах значительно дальше. Тогда он (вспомним, что ему были хорошо известны памятники страны на Ниле; он видел их собственными глазами и знал, какой высокой цивилизации они обязаны своим существованием) заявил, что многие из тех: монументов, которые он нашел здесь, в джунглях Копана, "выполнены с гораздо большим вкусом, чем самые красивые монументы египтян, другие же по своим художественным достоинствам по меньшей мере равны им".
Для того времени это утверждение было чудовищным. Когда в одном из своих писем Стефенс поделился новостью о находках, его сообщения вызвали не только недоверие, но и смех. Был ли он в состоянии доказать то, что утверждал?
"С чего начать?" — спрашивал он себя, смущенный размерами этих монументов и непроницаемостью зеленых стен, которые их окружали. "Предприятие почти совершенно безнадежное. Руины разбросаны по всему лесу. Здесь, правда, есть река; она впадает в тот же океан, на берегу которого лежит Нью-Йорк, но на реке — стремнины и пороги. Остается одно: распилить ту или иную статую и таким образом перевезти ее в качестве образца, а с остальных снять слепки". И добавляет: "Ведь слепки из Парфенона, хранящиеся в Британском музее, считают ценными памятниками".
Однако впоследствии он отказался от этой мысли. Ведь с ним был Казервуд, и он обратился к художнику с просьбой приступить к делу. Казервуд, автор великолепных зарисовок египетских памятников, пришел в замешательство; хмурясь, он щупал каменные лица изваяний, таинственные иероглифы, причудливый орнамент, проверял вновь и вновь освещение, смотрел, как ложатся тени на великолепно изваянные рельефы, и качал головой…
А в это время Стефенс, не успокаиваясь, посылает проводника назад, в деревню, расспросить, не может ли кто-нибудь сообщить что-либо об этих таинственных статуях. Таковых не находится. Кто мог создать эти высокохудожественные произведения? "Quien sabe?" ("Кто знает?") — таков стереотипный ответ.
Вместе с метисом Бруно, деревенским портным, он забирается все дальше и дальше в джунгли и находит все новые и новые статуи, стены, ступени и террасы.
"Огромные корни опрокинули с постамента один из монументов, вокруг другого обвились ветви, и он висел в воздухе, третий был опрокинут на землю и весь опутан вьющимися растениями. Еще один, наконец, стоял вместе с алтарем посреди целой рощицы деревьев, словно охранявших его покой и защищавших его, как святыню, от солнца. В торжественной тишине леса он казался божеством, погруженным в глубокий траур по исчезнувшему народу".
К тому времени, когда Стефенс вновь встретился с Казервудом, он насчитал по меньшей мере полсотни стел-, статуй и других достопримечательностей, которые необходимо было зарисовать. Но Казервуд, опытнейший рисовальщик Казервуд, вновь качает головой. Здесь рисовать нельзя: слишком мало света. Надо сначала наладить освещение. В этом сумраке из-за теней нечетко видны контуры.
Они решают отложить работу на следующий день. Необходима помощь, а для этого надо сходить в деревню. Но вот идет какой-то метис, он одет лучше и ярче, чем их носильщики, да и другие местные жители, с которыми им доводилось встречаться. Может быть, он хочет им помочь? Однако, приблизившись, этот смуглый человек неожиданно представляется им как дон Хосе-Мария и предъявляет документы на право владения всем участком — от реки Копан и дальше, включая и тот район, в котором находятся найденные Стефенсом и Казервудом монументы. Стефенс хохочет. Мысль о том, что эти руины в джунглях могут кому-то принадлежать, кажется ему абсурдной, и, когда дон Хосе-Мария начинает рассказывать, что ему приходилось уже слышать об этих монументах. Стефенс прерывает его на полуслове и отсылает назад.
Однако вечером, лежа в своей маленькой хижине, Стефенс вновь возвращается к этому вопросу. Кому же в самом деле принадлежат эти руины? И, уже засыпая, он приходит к следующему категорическому выводу: "По всей справедливости они принадлежат нам; хотя я не знал, как скоро нас могли отсюда попросить" а все-таки решил, что они должны принадлежать именно нам. Потом перед моими глазами замелькали какие-то неясные видения, мысли о славе и благодарности… я натянул на себя одеяло и уснул".
На следующий день в джунглях раздались резкие короткие удары мачете. Индейцы пометили всего десяток деревьев; когда одно из них срубали, оно, падая, увлекало за собой остальные, разрывая сеть лиан и других вьющихся растений.
Стефенс наблюдал за индейцами. Он искал в их лицах следы той творческой силы, которая могла породить эти каменные изваяния. Этой чуждой, незнакомой творческой силе были присущи зловеще гротескные черты, однако она нашла свое выражение в такой высокохудожественной форме, которая не могла возникнуть вдруг, из ничего: она могла формироваться лишь постепенно и: на соответствующей почве.
Пока Казервуд устанавливал свой мольберт, чтобы воспользоваться полученным благодаря стараниям индейцев освещением, Стефенс вновь углубился в джунгли. Он дошел до стены, находившейся на берегу реки. Она была гораздо выше, чем ему показалось в первый раз, и ограждала большую площадь; стена очень сильно заросла, казалось, что на нее нахлобучена огромная шапка из дикого терна. Пробиваясь сквозь заросли, Стефенс и сопровождавший его метис услыхали крики обезьян. "Мы впервые встретили здесь этих человекообразных; в окружении великолепных памятников они показались нам духами усопших, принадлежавших к исчезнувшему племени, духами, охранявшими развалины своих бывших поселений".
Затем Стефенс увидел строение, напоминавшее по форме пирамиду. Он пробился к широким ступеням лестницы; они были искривлены, сквозь щели проросли молодые побеги. Лестница вела из сумрака кустарников ввысь, туда, где зеленели кроны деревьев, к террасе, которая находилась не менее чем в тридцати метрах над землей. Стефенс почувствовал головокружение. Какому народу принадлежали все эти сооружения? Когда он вымер? Сколько веков назад он построил эту пирамиду? В какую эпоху, с помощью каких орудий, по чьему поручению и в честь кого были изваяны все эти бесчисленные скульптуры? Одно представлялось несомненным: ни один город, какой бы он ни был, не мог создать все эти творения обособленно — за ними должен был стоять сильный и могущественный народ. И когда он представил себе, как много подобных никому не ведомых городов-развалин еще, быть может, ждут своего исследователя в джунглях Гондураса, Гватемалы и Юкатана, его бросило в дрожь при мысли о величии стоявшей перед ним задачи.
Его обуревали тысячи вопросов, и он не мог ответить ни на один из них. Он взглянул вниз, туда, где сквозь листву виднелись монументы. "Разрушенный город лежал перед нами, словно потерпевший крушение корабль: мачты его потеряны, название неизвестно, экипаж погиб, и никто не знает, откуда он шел, кому принадлежал, как долго длилось его путешествие, что послужило причиной его гибели; лишь по едва заметному, скорее даже предполагаемому сходству с известными нам типами кораблей можно с трудом догадаться о том, из каких краев был его экипаж; впрочем, ничего достоверного о нем мы, вероятно, так никогда и не узнаем".
Когда он, возвратившись назад, захотел посмотреть, каковы успехи Казервуда, его глазам представилась странная картина. Художник стоял перед той самой стелой, которую они обнаружили первой; около него валялись бесчисленные листы бумаги. Стоя чуть ли не по щиколотку в болоте, забрызганный с ног до головы грязью, надев из-за москитов, которых здесь была тьма-тьмущая, перчатки и закутав лицо, так что неприкрытыми оставались только глаза, он работал с сосредоточенной настойчивостью человека, решившего во что бы то ни стало, любой ценой преодолеть препятствия. Казервуд, один из последних великих рисовальщиков, традиции которых в какой-то мере отразились еще в английских гравюрах начала нынешнего века, заглохнув затем в формалистических экспериментах, очутился перед задачей, разрешить которую, казалось, был не в силах.
Дело в том, что мир образов, с которыми он здесь столкнулся, был совершенно не похож на все то, с чем ему приходилось встречаться до сих пор; этот мир был настолько далек от европейских представлений, образов, идей, что карандаш буквально отказывался повиноваться: не удавалось соблюсти пропорции, углы сдвигались, и даже с помощью саmега lucida — обычного в те годы вспомогательного средства — Казервуд не мог добиться результатов, которые хотя бы в какой-то степени удовлетворили его. Пойди разбери, что там, собственно, такое — орнамент или какая-нибудь часть человеческой фигуры? А вот здесь — глаз, солнце или просто какое-то символическое изображение? А это? Голова животного? Допустим. Но где же водились такие звери, продуктом чьей фантазии явились эти ужасные морды, на какой почве возникли эти! причудливые представления? Используя в качестве материала камень, неизвестные скульпторы и художники создали уникальные образцы подобных им мировое искусство еще не знало. "Казалось, — писал Стефенс, будто идол чванится своим искусством, а две обезьяны, расположившиеся на соседнем дереве, смеются над ним".
Казервуд трудился с утра до вечера; наконец настал день, когда рисунок удался. Ему было суждено вызвать громкую сенсацию.
Но тут случилось нечто странное. Рассчитывая на помощь, Стефенс вступил в более близкий контакт с населением деревушки. Отношения развивались на дружеской основе, ибо Стефенс мог в свою очередь помочь местным жителям, как это нередко бывало с исследователями, медикаментами или добрым советом. Потом начались распри. Вновь и вновь с редкой настойчивостью появлялся дон Хосе-Мария и предъявлял свои документы на право владения тем участком джунглей, где вели свои изыскания Стефенс и Казервуд. Из разговоров с ним выяснилось, что обнаруженные исследователями развалины совершенно не интересуют его и никогда не будут интересовать, что ему наплевать на всех наиденных идолов, — его надоедливость объяснялась просто-напросто тем, что он чувствовал себя ущемленным в своих правах собственника.
Понимая, что он находится в стране, где политические страсти накалены до предела, Стефенс хотел любой ценой сохранить хорошие отношения с местными жителями. Это привело его к неожиданному решению. "Сколько вы хотите за руины?" — напрямик спрашивает он дона Хосе.
"Я думаю, — пишет Стефенс, — что это было для него не менее неожиданно, чем для меня, и ввергло его в не меньшее смущение, чем если бы я выразил пожелание приобрести в собственность его бедную старую жену, которую мы лечили от ревматизма… Казалось, он никак не мог решить, кто из нас двоих рехнулся. Приобретаемое владение не имело никакой цены, и потому мое предложение показалось ему подозрительным".
Для того чтобы убедить дона в солидности своего предложения, Стефенсу пришлось предъявить все свои документы, из коих явствовало, что он, Стефенс, человек безупречного поведения, ученый-путешественник и одновременно поверенный в делах великих и могучих Соединенных Штатов Америки. Все это вслух зачитал дону Хосе некий грамотей, по имени Мигель. Бравый дон Хосе долго переминался с ноги на ногу, а потом, сказав, что он обо всем этом поразмыслит на досуге, отправился восвояси.
На следующий день все началось сначала. Мигелю вновь пришлось читать дону Хосе документы, впрочем, и после этого дело не сдвинулось с места. Тогда Стефенс, который видел в покупке древнего города Копан единственную возможность сохранить спокойствие и мир в этой заброшенной в джунглях деревушке, разыграл следующую поистине комическую сцену. Притащив чемодан, он вынул свой мундир дипломата. Дипломатическую миссию он, правда, уже давно считал неудавшейся, но зачем же мундиру пропадать? И поверенный в делах США торжественно облачается на глазах у изумленного метиса в свой парадный мундир. Правда, этот мундир не очень гармонировал с клетчатой рубашкой, белыми, забрызганными до колен желтой грязью панталонами и помятой, отсыревшей от дождя панамой, правда, дождь, который лил весь день, еще не прекратился полностью — с деревьев еще капало, а по земле растеклись грязные лужи, но прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч заплясал на больших пуговицах с изображением орла и осветил золотую тесьму, придав тем самым всем дальнейшим словам Стефенса ту авторитетную силу убеждения, которая не может не принести результатов.
Этот спектакль не мог не оказать воздействия на дона Хосе-Марию! Сопротивление его было сломлено, и Джон Ллойд Стефенс, который впоследствии писал, что в этом странном одеянии он "был похож на негритянского царька, встречающего прибывших к нему с визитом британских офицеров", становится владельцем древнего города Копан.
Позднее он добавил:
"Читателя, быть может, заинтересует, каким образом в Центральной Америке приобретаются древние города. Так же как и любой другой товар, они котируются в зависимости от спроса на рынке и предложения; однако, поскольку они все же не являются предметом широкого потребления, как, например, хлопчатобумажные ткани или индиго, цены на них устанавливаются самые произвольные. В то время как раз дела шли весьма вяло, и поэтому знай, читатель, что я уплатил за Копан 50 долларов! Торговаться мне не пришлось: я предложил эту сумму, а дону Хосе-Марии она показалась такой неправдоподобно высокой, что он, вероятно, посчитал меня дураком, а если бы я предложил большую сумму, он принял бы меня не только за дурака, но и еще за кого-нибудь похуже".
Само собой разумеется, что столь значительное и, можно сказать, необыкновенное событие, хотя оно и осталось для всей деревушки непонятным, необходимо было соответствующим образом отпраздновать. Стефенс устроил официальный прием. В торжественном шествии участвовали все жители деревни, весьма солидно были представлены и старые дамы. Гостей угощали сигарами. Присутствующие любовались рисунками Казервуда, а в заключение осмотрели руины и памятники, которые вызвали всеобщее удивление, ибо, как выяснилось, никто из жителей деревушки никогда их не видел — никто не испытывал потребности углубляться в малярийные дебри джунглей, даже сыновья дона Грегорио, самого могущественного человека в селении, известные своей храбростью знатоки здешних мест.
И все-таки те немногие среди них, кто были чистокровными индейцами, принадлежали к тому же самому народу и изъяснялись на том же языке, что и давно исчезнувшие из этого мира ваятели и скульпторы, строители пирамид, лестниц и террас!
Когда в 1842 году в Нью-Йорке была издана книга Стефенса "Путевые впечатления от поездки по Центральной Америке, Чиапасу и Юкатану" ("Incidents of travel in Central America, Chiapas and Jucatan"), а немного позднее появились и рисунки Казервуда, в газетах разразилась буря. Одна дискуссия сменяла другую — историки увидели, как рушились их, казалось бы, совершенно твердые представления, профаны выступали с бесчисленными гипотезами, одна смелее другой.
Преодолевая все трудности, Стефенс и Казервуд отправились из Копана в Гватемалу, посетили Чиапас и Юкатан. Везде они встречали на своем пути монументы майя, и то, о чем они рассказали в книге и в рисунках, неожиданно породило бесчисленное множество вопросов. Внезапно вспомнили об испанских источниках, где наряду со всевозможными историйками о первооткрывателях и завоевателях Юкатана, наряду с описаниями деяний Эрнандеса де Кордовы и Франсиско Монтехо содержались первые, самые ранние упоминания об этом удивительном народе. Потом вдруг заговорили о книге, вышедшей еще четыре года назад; в свое время на нее никто не обратил внимания, хотя в ней рассказывалось то же самое, что и в "Путевых впечатлениях…" Стефенса, а сейчас вокруг нее разгорелась целая дискуссия.
На первый взгляд это может показаться даже странным: книга Стефенса вызвала сенсацию, вышла в короткий срок несколькими изданиями, была переведена почти тотчас после своего появления в свет на многие языки, короче говоря, оказалась у всех на устах, а сообщение господина фон Вальдека, опубликованное в 1838 году в Париже под заглавием "Романтическое археологическое путешествие в Юкатан", прошло почти незамеченным, и даже сегодня эта книга почти никому не известна. Несомненно, отчет Стефенса был более основательным, он был блестяще написан: чтение его и сегодня может доставить удовольствие. Кроме того, он был снабжен рисунками такого прекрасного рисовальщика, как Казервуд, отличающимися наряду с высоким художественным мастерством поразительным сходством с оригиналом — перед ними бледнеют даже фотографии. Рисунки Казервуда еще и сегодня не утратили своего документального значения: ведь многое из того, что удалось когда-то в них запечатлеть, в последующие годы вновь заросло, пропало, выветрилось или разрушилось. В книге Вальдека ничего подобного не было, но дело было, очевидно, не только в этом. Беда Вальдека заключалась в том, что в те времена, когда его книга появилась, Франция была воодушевлена открытием совсем иной древней цивилизации, с которой в какой-то мере оказались связанными тогда совсем недавние события ее национальной истории. Еще живы были участники египетской экспедиции Наполеона, еще не остыло внимание общества к дешифровке иероглифов. Франция, да не только она — вся Европа и даже Америка (вспомнив маршрут первых поездок Стефенса) интересовались только одним: Древним Египтом. Чтобы пробить брешь в устоявшихся представлениях и добиться каких-то успехов, необходима была планомерная и сильная атака.
Разумеется, после того как к истории майя было внезапно привлечено внимание общественности, дело не обошлось без тех авантюристических толкований, которые всегда порождают то или иное новое открытие. Но, несмотря ни на что, теперь, после сообщения Стефенса, можно было бесспорно утверждать: древние майя были представителями цивилизации, которая ни в чем не уступала древним цивилизациям Старого Света. (К этому выводу специалист мог прийти хотя бы на основании их сооружений; выдающиеся же успехи майя в области математики были в полной мере оценены значительно позднее.)
Если это признать, то вполне закономерен и следующий вопрос: каково же происхождение этого народа? Принадлежал ли он к той же ветви, что и все остальные племена, обитавшие на севере и на юге, которые так и не сумели подняться выше кочевого образа жизни? Если да, то в силу каких причин именно майя достигли таких высот? Что здесь послужило толчком? Да и могла ли вообще в Америке, отрезанной от Старого Света, находившейся в стороне от основных районов великих цивилизаций древности, возникнуть своя собственная, совершенно оригинальная цивилизация?
Именно данный вопрос вызвал первые, наиболее смелые толкования и гипотезы. Разумеется, это исключено, говорили одни. Несомненно, в незапамятные времена здесь имело место переселение из стран древнего Востока. Каким же путем? Согласно одной из точек зрения, через существовавший, вероятно, в диллювии перешеек на Крайнем Севере. Сторонники другой точки зрения отвергали это предположение: их смущало то, что обитатели тропиков пришли чуть ли не из районов Полярного круга, и они предполагали в майя потомков тех, кто населял легендарный остров Атлантиду. Поскольку, однако, ни то ни другое толкование не было достаточно убедительным, раздались голоса (их было не так уж мало), что майя — одно из колен детей Израиля.
А разве некоторые скульптуры, о которых теперь благодаря стараниям Казервуда мог судить весь мир, не напоминали изваяния индийских богов? Да, возражали другие, но такие сооружения майя, как пирамиды, совершенно определенно свидетельствуют о влиянии Египта. Помилуйте, говорили третьи, в испанских источниках сохранились ясные доказательства того, что в мифологии майя были сильны христианские элементы! Были найдены изображения креста, есть данные, что майя имели представление о потопе и, кажется, даже приписывали своему богу Кукулькану роль некоего мессии — разве все это не свидетельствует о влиянии священной земли Востока?
В самый разгар этой дискуссии (несколько забегая вперед, следует сказать, что она и поныне не закончена, хотя современные ученые располагают гораздо более основательными данными, чем Вальдек и Стефенс) появилась книга, принадлежавшая перу человека, который в отличие от Стефенса был не исследователем, а кабинетным ученым. Этот полуослепший человек сумел, не покидая четырех стен своего кабинета, одержать с помощью силы своего интеллекта и остроты ума такую же победу над джунглями, как Стефенс с помощью своего мачете. И если Стефенсу удалось открыть древнее государство майя, размещавшееся на территории современного Гондураса, Гватемалы и Юкатана, то этот человек совершил вторичное открытие древнего царства ацтеков, царства Монтесумы в Мексике. Вот теперь-то наступило полное замешательство.
Вильям Хайклинг Прескотт происходил из старинной пуританской семьи Новой Англии. Он родился 4 мая 1796 года в Салеме; с 1811 по 1814 год изучал право в Гарвардском университете. Через несколько лет после начала своей карьеры этот подававший большие надежды юрист вынужден был прибегнуть к помощи ноктографа. Ноктограф. был изобретен неким Уэджвудом и напоминал аспидную доску, разница была лишь в том, что вместо линеек здесь были медные штифты. Они не давали руке уходить в сторону, и поэтому, пользуясь этой доской, можно было писать с закрытыми глазами; к тому же при пользовании ноктографом не было никакой необходимости обмакивать ручку в чернила достаточно было выдавить заостренной палочкой соответствующие буквы на копировальной бумаге, которая была подложена под штифтами. Иначе говоря, с помощью этого приспособления мог писать слепой.
Вильям Прескотт и был почти слеп. В 1813 году он потерял вследствие несчастного случая левый глаз. Напряженные занятия сильно ослабили и правый глаз; зрение было почти полностью потеряно, лучшие врачи-окулисты Европы, которых он посетил во время своей двухлетней поездки по Старому Свету, не смогли ему ничем помочь. Так внезапно оборвалась его карьера юриста.
Тогда этот человек удивительно настойчиво занялся историческими исследованиями. Плодом этих занятий явилась написанная с помощью ноктографа книга "Завоевание Мексики" — увлекательнейший рассказ о завоеваниях Кортеса. Впрочем, не только о них; собрав с поразительной тщательностью все, даже самые отдаленные свидетельства современников конкистадоров, он сумел воссоздать широкую картину жизни государства ацтеков до и после вторжения испанцев. А когда в 1843 году его труд увидел свет, перед изумленным миром, так же неожиданно, как и только что открытая цивилизация майя, предстала еще одна, не менее загадочная культура — цивилизация ацтеков.
Что же, собственно, выяснилось? Прежде всего то, что между майя и ацтеками, несомненно, существовали какие-то связи. Так, к примеру, были во многом близки их религии; их постройки — храмы и дворцы, — казалось, были проникнуты одним духом. А как обстояло дело с языком и с возрастом обоих народов? Уже при беглом ознакомлении стало ясно, что ацтеки и майя изъяснялись на различных языках, и если цивилизация ацтеков, по-видимому, была обезглавлена Кортесом в момент ее наивысшего расцвета, то майя достигли своих наивысших успехов в области культуры и политики еще за несколько столетий до того, как испанцы высадились на побережье их страны.
Пользуясь тем же методом, с помощью которого умудрились приплести к истории древней Америки колена Израилевы, можно было бы и здесь легко объяснить все противоречия, но некоторые замечания, приведенные Прескоттом в его книге, породили по меньшей мере дюжину новых загадок. Так, например, в одном месте он прерывает свой рассказ об ужасной "Ночи печали", той ночи, когда Кортес бежал с остатками своего разгромленного отряда из Мехико, для того чтобы подробнее остановиться на описании некоего поля развалин, которому преследуемые испанцы по вполне понятным причинам не уделили должного внимания. На этом поле возвышаются пирамиды Теотихуакана и прежде всего Пирамида Солнца и Пирамида Луны — колоссальные строения, не уступающие по своим размерам знаменитым гробницам фараонов. (Пирамида Солнца вздымается ввысь на 60 с лишним метров. Каждая сторона ее основания имеет в длину более 200 метров.)
Эти гигантские храмы расположены на расстоянии всего лишь одного дня пути (а сегодня — часа езды поездом) от Мехико; таким образом, они находились ранее в самом сердце ацтекского государства. Впрочем, их географическое положение отнюдь не помешало Прескотту, который следовал в этом вопросе за индейскими преданиями, настаивать на том, что эти руины не имеют ни малейшего отношения к ацтекам — они уже застали их здесь, когда вторглись, в качестве завоевателей в страну. Иначе говоря, Прескотт утверждал, что, помимо ацтеков и задолго до майя, в Центральной Америке жил еще какой-то третий народ, создавший свою собственную цивилизацию, предшествовавшую цивилизации ацтеков.
Он пишет: "Какие мысли должны одолевать путника… когда он шагает по земле, где покоится прах целых поколений, прах тех, кому обязаны своим существованием эти гигантские сооружения… которые как бы переносят нас в седую древность! Но кто были эти строители? Были ли это легендарные ольмеки, чей след, подобно истории древних титанов, теряется в легендах и сказках, или же ими были, как это обычно утверждают, мирные, трудолюбивые умельцы тольтеки, все сведения о которых почерпнуты из едва ли более достоверных источников? Какова была судьба племен, создавших эти сооружения? Остались ли они на прежнем месте, смешавшись с ацтеками, своими преемниками?.. Или же они отправились дальше, на юг, найдя там широкое поле для распространения своей культуры, о которой свидетельствуют великолепные остатки строений в дальних областях Центральной Америки и Юкатана".
Подобного рода замечания и предположения, которые слышались со всех сторон и которые мы простоты ради приводим по Прескотту, вызвали вполне понятное замешательство. Впрочем, знакомясь с такими заявлениями Прескотта, как "все это — тайна, на которую безжалостное время набросило непроницаемое покрывало", и "завесу эту не суждено приподнять смертному", нельзя не отметить, что этот историк, сам немало сделавший для того, чтобы вернуть жизнь "теням минувшего", излишне пессимистичен. Пользуясь выражением Прескотта, мы можем сказать, что смертные все же успешно продолжили раскопки и уже сейчас выяснили многое из того, что еще сто лет назад было глубокой тайной. Все говорит за то, что со временем они откроют и многое другое, пока еще скрытое из наших глаз.
Глава 30 ИНТЕРМЕДИЯ
Примерно через двадцать лет после путешествий Стефенса, в 1863 году, некий посетитель Королевской библиотеки в Мадриде, роясь в государственном историческом архиве, нашел в один прекрасный день пожелтевший старый манускрипт, который, судя по его виду, никто еще не читал. На манускрипте стояла дата: 1566. Назывался он "Сообщение о делах в Юкатане", и в нем было множество странных, на первый взгляд совершенно непонятных рисунков. Автором этой книги был Диэго де Ланда.
Любой обычный читатель положил бы манускрипт на место, и, несомненно, так поступали уже многие. Но случаю было угодно, чтобы на этот раз манускрипт попал в руки человека, служившего в свое время на протяжении десяти лет подряд духовником во французском посольстве в Мадриде. В 1855 году этот человек стал священником в индейской деревушке Рабиналь (округ Салама) в Гватемале, посвятив себя глубокому изучению индейских языков и остатков местной древней цивилизации. (Этот же священник, миссионер и ученый, опубликовал под псевдонимом Этьен Шарль де Равенсберг целый ряд рассказов и исторических романов; мы упоминаем об этом лишь для того, чтобы показать широту его интересов.)
Заинтересовавшись пожелтевшей книгой и принявшись ее рассматривать, этот священник, имя которого было Шарль Этьен Брассер де Бурбур (1814–1874), сделал одно важное открытие, чем внес значительный вклад в исследование цивилизаций Центральной Америки.
Вильям Прескотт был девятью годами старше Стефенса, Брассер де Бурбур девятью годами моложе, и, хотя де Бурбур совершил свое открытие лишь в 1863 году, можно считать, что все они делали общее дело. Стефенс откопал монументы и памятники, принадлежавшие майя, Прескотт собрал материалы и впервые описал целый отрезок ацтекской истории (хотя бы и самый последний), а Брассер де Бурбур подобрал пусть маленький и не ко всем замкам, но все же ключ, с помощью которого удалось разобрать целый ряд совершенно непонятных до того орнаментов и иероглифов. Однако прежде, чем пояснить важность сделанного им открытия, необходимо разобраться в той ситуации, в которой оказались в данном случае археологи, — проблемы, с которыми им пришлось здесь столкнуться, были совершенно иными, чем в Старом Свете.
Когда китайцы принялись в третьем тысячелетии до н. э. — после своего великого потопа — заселять земли, на которых основали впоследствии свое государство, они начали с районов, расположенных вдоль двух величайших рек Китая — Хуанхэ и Янцзы. Индийцы основали свои первые поселения на берегах Инда и Ганга. Вторгшись в Месопотамию, шумеры основали свои поселения, в которых позднее выросла вавилоно-ассирийская культура, между Тигром и Евфратом. Цивилизация Египта не только была связана с Нилом — она была бы невозможна без Нила. Тем, чем для этих народов были реки, для греков стало узкое Эгейское море. Это означает, что великие цивилизации прошлого были цивилизациями великих рек, и исследователи привыкли рассматривать реку как предпосылку для возникновения той или иной культуры. Но американские цивилизации отнюдь не являлись речными цивилизациями, и тем не менее в их процветании не приходилось сомневаться. (Культура инков, существовавшая на плоскогорье Перу, также не была речной культурой; мы скажем о ней несколько позднее, так как она не связана непосредственно с цивилизациями Центральной Америки.)
Следующую предпосылку возникновения той или иной цивилизации видят в склонности и способности народов к земледелию и разведению скота, к содержанию домашних животных. Майя занимались земледелием (хотя оно и носило у них весьма своеобразный характер). А скотоводством? Цивилизация майя это, пожалуй, единственная в мире цивилизация, которая не знала ни домашних, ни вьючных животных, а следовательно, не знала и колеса. Впрочем, о своеобразии цивилизации майя говорит еще многое другое.
Большинство древних цивилизованных народов Старого Света давно уже вымерло, бесследно исчезло с лица земли; с ними вместе умерли и их языки; эти мертвые языки нередко удается изучить лишь в результате кропотливой и длительной дешифровки. Но майя живут и ныне — их в общей сложности насчитывается не менее миллиона; они не изменились внешне (разве что их одежда), вряд ли намного изменились и условия их материальной жизни. Ученый, обратившись с тем или иным поручением или вопросом к своему слуге, может вдруг увидеть перед собой то же лицо, которое он только что скопировал со старинного рельефа. В 1947 году два журнала, "Лайф" и "Иллюстрейтед Лондон ньюс", напечатали снимки новых археологических раскопок. На одной из фотографий в Центральной Америке рядом с двумя старинными рельефами были засняты мужчина и девушка майя, — казалось, они послужили моделью для рельефов. И если бы головы на рельефах обрели дар речи, они заговорили бы на том же языке, на котором изъясняется современный слуга майя, когда получает жалованье у своего ученого хозяина.
На первый взгляд кажется, что это обстоятельство особенно благоприятствует исследованиям. Но только на первый взгляд! Ибо, несмотря на то что со дня гибели культуры майя (опять-таки в противоположность всем древним цивилизациям Старого Света) прошло не два и не три тысячелетия, а всего какие-нибудь четыреста пятьдесят лет, пути ее изучения значительно более сложны, чем любой другой давным-давно исчезнувшей с лица земли цивилизации.
Дело в том, что о Вавилоне, Египте, о древних народах Азии, Малой Азии, Греции мы имеем сведения с давних пор. Многие из них были утеряны, но очень много данных и свидетельств — и устных и письменных — сохранилось. Эти цивилизации умерли очень давно — это верно, но, умирая, они передавали своим преемникам все созданное ими, к тому же угасали они в течение долгого времени. Американские же цивилизации, как мы уже об этом упоминали, были "обезглавлены". Вслед за конкистадорами, которые вторглись с конем и мечом (а конь, как мы помним по походу Кортеса, был для ацтеков страшнее меча), двинулись священники, и тоща запылали на кострах книги и рисунки, которые могли бы дать нам необходимые сведения об этой стране. Дон Хуан де Сумаррага, первый архиепископ Мехико, уничтожал на гигантских аутодафе все попадавшие ему в руки манускрипты; епископы и священники следовали его примеру, а солдаты с неменьшим рвением уничтожали все оставшееся на их долю. Когда в 1848 году лорд Кингсборо закончил собирание своей коллекции древнеацтекских документов, среди рукописей не оказалось ни одной, которая была бы приобретена в Испании. А что осталось от документов майя, относящихся к доконкистадорской эпохе? Всего три манускрипта.
Один из них находится в Дрездене, другой — в Париже, а остальные два, составляющие, собственно, один, — в Испании: "Codex Dresdensis" (наиболее старый), "Codex Peresianus" и кодексы "Тгоапо" и "Cortesianus".
Поскольку мы уже занялись перечислением, не следует забывать и о трудностях, связанных с самими археологическими изысканиями в этих районах. Археолог, путешествующий по Греции или Италии, находится в цивилизованных странах, исследователь Египта работает в самых здоровых из существующих на этих широтах климатических условиях, но человек, решившийся отправиться в прошлом столетии на поиски новых следов майя и ацтеков, имел дело с поистине адским климатом и попал в район, далекий от всякой цивилизации.
Исследователи Центральной Америки сталкивались с тремя трудностями: во-первых, с совершенно необычной проблематикой, вызванной своеобразием этих культур; во-вторых, с невозможностью проводить те сравнения и обобщения, которые делаются только при наличии разностороннего материала, так как здесь не было ничего, кроме развалин; в-третьих, с препятствиями, связанными с местными особенностями ландшафта и климата, которые затрудняли и замедляли исследования.
Приходится ли после этого удивляться тому, что майя и ацтеки после их вторичного открытия Стефенсом и Прескоттом вновь оказались забытыми, а знания о них, накопленные на протяжении добрых четырех десятилетий, сохранялись в памяти лишь нескольких ученых? Разве не поразительно, что за сорок лет (с 1840 по 1880 год) в этой области не было сделано ни одного настоящего открытия, хотя отдельные мелкие исследования по частным вопросам проводились; что даже "раскопки" Брассера де Бурбура в Мадридском архиве привлекли внимание лишь немногих специалистов?
Книга Диэго де Ланды, которая на протяжении трехсот лет лежала доступная всем, но никем не использованная, хранила волшебные слова, с помощью которых можно было, хотя бы частично, понять смысл тех немногочисленных документов и начертанных на памятниках и скульптурах письмен майя, которые имелись в распоряжении ученых. Однако этих документов — каменных плит, рельефов и изваяний — было слишком мало, чтобы эти волшебные слова применить, чтобы проверить в сопоставлениях и сличениях их справедливость.
Глава 31 ТАЙНА ПОКИНУТЫХ ГОРОДОВ
Если мы соединим одной линией Чичен-Ицу на севере Юкатана и Копан (в Гондурасе) на юге, а Тикаль и Ишкун (в Гватемале) на востоке через город Гватемалу с Паленке (Чиапас) на западе, мы очертим примерные границы цивилизации майя. Одновременно эти линии ограничат ту территорию, которую в 1881–1894 годах, то есть через сорок лет после Стефенса, объездил англичанин Альфред Персифаль Моудсли.
Моудсли сделал гораздо больше, чем Стефенс, — он сделал то необходимое, что помогло сдвинуть исследование с мертвой точки. Он проделал семь походов в джунгли и привез с собой не только описание этих походов и зарисовки, но и оригинальные материалы: тщательно сделанные оттиски и гипсовые слепки с рельфов и надписей.
Его коллекция попала в Англию, первоначально в Музей Виктории и Альберта, затем в Британский музей. Когда коллекция Моудсли стала доступной исследователям, наука получила материалы, с помощью которых можно было заставить все эти памятники рассказать и о своем возрасте и о своем происхождении.
Здесь мы вновь возвращаемся к Диэго де Ланде. Этот второй архиепископ Юкатана был человеком, в котором самым причудливым образом уживался ярый фанатизм с любовью к науке, с жаждой знаний. Приходится сожалеть, что в этой борьбе сторон его души в конечном итоге победил фанатизм, ибо дон Диэго де Ланда был одним из тех епископов, по приказанию которых собирали и сжигали на кострах все документы майя — эти "творения дьявола", — какие только удавалось раздобыть. Вторая же сторона его души смогла подсказать ему только одно: использовать некоего оставшегося в живых местного царька в качестве своеобразной Шехерезады. Выяснилось, однако, что новоявленная Шехерезада умела рассказывать не только сказки. Так Диэго де Ланда написал свою книгу. В ней он рассказал о том, как жили майя, об их богах и снабдил свои записки рисунками, из которых явствовало, какими знаками майя обозначали месяцы и дни. "Вероятно, это не безынтересно, — может сказать читатель, — но почему этому нужно придавать особое значение?"
Дело в том, что этих немногочисленных рисунков оказалось вполне достаточно для того, чтобы вдохнуть жизнь в монументы майя, которые до этого казались со своим устрашающим орнаментом лишь мертвыми и мрачными каменными глыбами. Теперь ученые, стоя с рисунками де Ланды в руках перед храмами, статуями, стелами маня, вооруженные знаниями иероглифических цифр майя, сумели увидеть, что на всех этих сделанных из камня и с помощью каменных орудий памятниках древнего народа не было ни одного орнамента, рельефа, фриза или изображения животного, которое не было бы связано с какой-либо датой. Каждое строение майя было окаменевшим календарем. Случайности здесь не оставалось места: эстетика была подчинена математике. Казавшееся до сих пор бессмысленным нагромождение каменных ликов или отсутствие их приобрело определеный смысл: выяснилось, что все эти звероподобные лики изображали либо какую-то цифру, либо даже целую календарную схему. Теперь выяснилось, что повторяющийся пятнадцать раз на лестнице иероглифов в Копане орнамент означал количество прошедших циклов времени, а сама лестница, насчитывавшая семьдесят пять ступенек, означала число прошедших после окончания цикла дней (пятнадцать раз по пять). Другого подобного примера полного подчинения архитектуры и искусства календарю нет нигде во всем мире. По мере того как наука все глубже проникала в тайны календаря, изучению которого ученые подчас посвящали всю свою жизнь, эта и без того богатая неожиданностями цивилизация поразила исследователей еще одним открытием. Календарь майя был лучшим на свете! Он был построен совсем по иному принципу, чем все известные нам календари, и тем не менее был самым точным. Его структура, если оставить в стороне тонкости, которые и поныне еще далеко не выяснены, выглядит следующим образом.
Он состоял из нескольких циклов: первый — 260-дневный цикл, в котором повторялись названия дня и числа недели (необходимо иметь в виду, что дни недели у майя обозначались числами от 1 до 13, то есть неделя была тринадцатидневной, а дни месяца имели 20 названий и, кроме того, тоже обозначались числами от 0 до 19 — первый день считался нулевым). Этот цикл называется "цолькин" (ацтекское "тоналаматль"). Второй — 4-летний цикл, в котором повторялись названия дня и числа месяца. Год майя — "хааб" — состоял из 365 дней (18 двадцатидневных месяцев и 5 добавочных дней). Наконец, существовал еще и третий цикл, представлявший своего рода комбинацию "цолькина" и "хааба". Это так называемый календарный круг — 52-летний цикл (тринадцать 4-летних). Этот цикл состоял из 18 980 дней; он играл особенно важную роль в жизни майя, в этом мы еще будем иметь возможность убедиться. Наконец, майя пользовались и "длинным счетом" по "к'атунам" двадцатилетиям, который велся от определенной начальной даты.
Исходная дата майя "4 ахау, 8 кумху" соответствует по своей функции дате начала христианского летосчисления, мы подчеркиваем — только по своей функции, отнюдь не по дате.
Пользуясь своим способом летосчисления, настолько разработанного в деталях и сложного, что подробный рассказ о нем занял бы целую книгу, майя превзошли по точности все остальные календари на свете. Мы не правы, считая (во всяком случае, так считают еще многие), будто современный календарь является наилучшим; он всего-навсего несколько лучше предшествующих календарей. Так, в 238 году до н. э. Птоломей III несколько исправил древнеегипетское летосчисление; с именем Юлия Цезаря связан так называемый Юлианский календарь, который просуществовал вплоть до 1587 года, когда папа Григорий XIII заменил его новым, так называемым Григорианским календарем. И если мы сравним данные о протяженности года всех этих календарей с данными астрономических исчислений, то увидим, что наиболее точным календарем был именно календарь майя.
Длина года составляет:
согласно Юлианскому календарю 365,250 000 дня
согласно Григорианскому календарю 365,242 500 "
согласно календарю майя 365,242 129 "
согласно астрономическим исчислениям 365,242 198 "
Однако этот народ, который вел точнейшие астрономические наблюдения и оперировал самыми сложными математическими выкладками, что говорит о рационалистическом характере его мышления, в конце концов погряз в мистицизме: народ майя, создатель самого лучшего на свете календаря, стал в то же время его рабом.
Над открытием тайны календаря майя бьется уже третье поколение ученых. Работа началась с того момента, когда был найден манускрипт де Ланды; первые успехи были достигнуты при обработке материалов коллекции Моудсли; исследования продолжаются еще и сегодня. Что касается дешифровки письменности майя, то достигнутые здесь успехи связаны с именами Е. В. Ферстемана (по специальности германиста, который первый составил комментарии к "Codex Dresdensis"), Эдуарда Зелера (преподавателя, затем директора Берлинского музея народоведения, который собрал, пожалуй, самый значительный после Моудсли материал о майя и ацтеках), Томпсона, Гудмена, Боаса, Прайса, Рикетсона, Вальтера Лемана, Баудича и Морли. Упоминая имена одних, мы совершаем несправедливость по отношению к бесчисленному множеству других, менее известных ученых — тех, кто занимается копированием знаков и изображений или же посвящает свой труд разрешению отдельных вопросов этой проблемы. Наука об американских цивилизациях является плодом общего, коллективного груда. Так же коллективно был преодолен последний, самый тяжелый участок, позволивший перейти от календаря к хронологии истории майя, ибо изучение календаря не должно было стать самоцелью. Знаки, обозначающие месяцы, дни и циклы, были на фасадах, колоннах, фризах, на лестницах храмов и дворцов. Дата окончания строительства того или иного сооружения была, так сказать, запечатлена у него на лбу. Задача заключалась в том, чтобы, сгуппировав памятники во времени, расположить их в хронологическом порядке, разобраться в воздействии и влиянии одних групп на другие — короче говоря, увидеть историю. Но чью же историю? Разумеется, историю майя. Ответ ясен. Тем не менее вопрос вовсе не так наивен, как это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что все полученные учеными сведения имели один недостаток: они позволяли видеть только историю майя, точнее говоря — даты истории майя, безотносительно к нашему собственному летосчислению.
Ученые снова очутились перед проблемой, которая никогда еще не стояла так остро при изучении истории древнего мира. Для того чтобы лучше представить себе существо вопроса, попробуем, например, предположить, что Англия осталась бы на протяжении своей истории изолированной от континента и жила по собственному летосчислению, начальной датой которого считалось бы не рождение Христа, а какое-нибудь иное, неизвестное нам событие, неизвестно к какому времени относящееся. Но вот появляются историки с континента: они видят основную цепь событий — от Ричарда Львиное Сердце до королевы Виктории, однако не знают начальной даты летосчисления и поэтому не в состоянии разобраться, когда же, собственно, жил этот Ричард Львиное Сердце — был ли он современником Карла Великого, Людовика XIV или Бисмарка?
В аналогичном положении очутились и исследователи памятников джунглей. Они довольно быстро разобрались в том, насколько, скажем, строения Копана древнее, чем строения Киригуа, но не могли даже приблизительно себе представить, к какому веку европейского летосчисления относится сооружение этих городов.
Было ясно, что ближайшая задача заключалась в установлении соотношения между нашей хронологией и хронологией майя. Но, когда эта проблема была в основном решена, перед учеными встала в связи с уточнениями отдельных дат новая проблема. Речь идет об одном из самых загадочных явлений в истории великого народа — о тайне покинутых городов.
Попытка объяснить методы корреляции, то есть методы, с помощью которых были в какой-то степени удовлетворительно приведены в соотношение обе хронологии — современная европейская и хронология майя, — заставила бы нас выйти за рамки этой книги и нарушила бы течение нашего рассказа. Тем не менее нельзя не упомянуть об одном открытии, которое в немалой степени осложнило и без того весьма сложные методы корреляции хронологий. О нем следует рассказать хотя бы потому, что оно подводит нас к периоду поздней истории майя и тем самым к тайне мертвых городов.
Во многих местах Юкатана в прошлом столетии были обнаружены так называемые книги "Чилам Балам". Это были красочные описания политических событий колониального периода; их немалая ценность состояла в том, что они, во всяком случае частично, основывались на подлинных документах майя.
Наиболее значительный из этих манускриптов был обнаружен в шестидесятых годах прошлого столетия в Чумайеле и передан епископу и историку Крещенсио Карилльо-и-Анкона. Впоследствии Филадельфийский университет опубликовал фотокопию этого документа. После смерти епископа рукопись попала в библиотеку Сепеда в Мериде, откуда она и исчезла при таинственных обстоятельствах в 1916 году. Эта рукопись — сохранилась ее фотокопия весьма примечательна. Она написана на языке майя, но (испанское влияние!) латинскими буквами. Жрецы майя, однако, не имели понятия о разделении слов по европейскому образцу и о пунктуации; поэтому многие слова совершенно произвольно разделены, а другие, нередко даже не имеющие ни начала, ни конца, соединены вместе, образуя какие-то слова-чудовища. Отдельные звуки языка майя, которых не было в испанском языке, переданы путем соединения латинских букв, но какие именно звуки передают эти сочетания, нам неизвестно. Разумеется, расшифровка этого и без того сложного текста представляла немалую трудность.
Каким бы радостным при скудости материалов это открытие ни являлось, оно доставило в то же время немало хлопот, ибо в книгах "Чилам Балам" летосчисление велось не по так называемому "длинному счету", как в древнем государстве майя, а по "к'атунам" — двадцатилетиям, то есть по так называемому "короткому счету". И, хотя довольно скоро выяснилось, что речь идет лишь о модификации "длинного счета", теперь, помимо выяснения соотношения между "длинным счетом" и христианским летосчислением, необходимо было еще установить соотношения между ними и счетом по "к'атунам".
Это была тяжелая дополнительная работа, которую облегчало только одно: по мере того как она подвигалась к концу, расширялись наши знания о последнем периоде истории майя: она не только облекалась в плоть и кровь, но прежде всего становилась датированной. И если все то, что мы знали о древнем народе майя, казалось над до сих пор чуждым и далеким прошлым, застывшим в памятниках архитектуры, то теперь, по крайней мере, последний отрезок истории майя предстал перед нами так же, как история любого известного нам народа с ее войнами, изменами и революциями.
Мы узнали о соперничавших друг с другом родах Шиу и Ица, о великолепии столицы Чичен-Ица, ее роскошных постройках, в которых, если сравнивать их с соответствующими постройками более древних городов на юге Юкатана, явно чувствуется отпечаток какого-то чужого своеобразного влияния. Мы знакомимся с Ушмалем, который в своей монументальной простоте дает великолепное представление о возрождении традиций Древнего царства, с Майяпаном, в котором были живы оба стиля. Мы узнаем о союзе между Майяпаном, Чичен-Ицей и Ушмалем и о том, как предательство разрушило этот союз. Войска Чичен-Ицы предприняли поход против Майяпана, но Хунак Кеель, правитель Майяпана, заручился поддержкой тольтекских наемников. В результате Чичен-Ица была разгромлена, а ее князья уведены в Майяпан в качестве заложников;
впоследствии они становятся там вице-королями. Живые силы союза были подорваны. В 1441 году дело дошло до восстания угнетенных, во главе которого становятся представители правившей в Ушмале династии Шиу. Майяпан был взят. Его гибель ознаменовала не только конец призрачного союза городов, но и самого государства майя. Шиу все-таки основали еще один город — они назвали его Мани, что означает, по мнению некоторых ученых, "все позади". Завоевание этого города далось испанцам значительно легче, чем Кортесу — завоевание Мехико.
Знакомство с датированной историей Нового царства было во многих отношениях волнующим, но, чтобы не создавать ложного представления о ходе исследований, необходимо еще до того, как мы приступим к рассмотрению, пожалуй, самого загадочного периода истории майя, лишний раз подчеркнуть следующее. Не всегда события развивались здесь в той последовательности, в которой мы, руководствуясь задачами нашего повествования, их излагаем, то есть, иначе говоря, за тезисом не всегда следовали антитеза и синтез. Чтобы прийти к соответствующим выводам, исследователь, корпевший над книгами "Чилам Балам", использовал и то, что кто-либо из его коллег разыскал за тридцать лет до этого во время раскопок, и выводы, к которым за десять лет до него пришел другой ученый в области языкознания, и, наконец, открытия, сделанные недавно при расшифровке календаря.
И вот именно таким образом была в один прекрасный день восстановлена картина некоего беспримерного в истории события, которое еще и сегодня не нашло себе достаточно убедительного объяснения, во всяком случае, тем объяснением, которое мы можем ему дать, удовлетворится далеко не каждый.
Мы только что употребили впервые в этой главе термины "Новое" и "Древнее царство", забежав тем самым несколько вперед. Мы кое-что уже слышали о Майяпане, Чичен-Ице и Ушмале (мы перечисляем только самые крупные города Нового царства). Позволим же себе привести здесь воображаемую беседу с учеными, изучающими хронологию майя.
Вопрос. Почему вы называете города, возникшие на севере Юкатана, Новым царством?
Ответ. Потому, что эти города возникли очень поздно, примерно в VII-Х веках н. э.; потому, что это Новое царство во всех характерных своих проявлениях, равно как и в архитектуре, скульптуре и календарном счете, резко отличается от Древнего царства.
Вопрос. Что означает в данном случае слово "возникли"? Ведь обычно новое царство является преемником старого?
Ответ. Этот обычный порядок был здесь нарушен, ибо Новое царство майя действительно возникло заново, на новой, девственной почве, то есть, иначе говоря, все эти города были совершенно новыми городами. Древнее царство находилось на юге полуострова, на территории современных Гондураса, Гватемалы, Чиапаса и Табаско.
Вопрос. Следовательно, Новое царство было колонией Древнего царства, основанной пионерами?
Ответ. Не отдельными пионерами, а всем народом майя.
Вопрос. Не хотите ли вы сказать, что в один прекрасный день весь народ майя покинул свое хорошо организованное царство и свои прочные города для того, чтобы, отдавшись на милость девственной природы, основать Новое царство?
И исследователи, теперь уже улыбаясь, отвечают: да, именно это мы и хотим сказать. Мы знаем, это звучит совершенно неправдоподобно, и тем не менее это факт, ибо… тут они начинают перечислять целый ряд дат. А мы в свою очередь должны напомнить читателям, что народ, создавший лучший в мире календарь, превратился в раба этого календаря. В частности, майя строили свои великие сооружения не тогда, когда они были им необходимы, а тогда, когда им это приказывал календарь; иначе говоря, они воздвигали каждые пять, десять или двадцать лет новое сооружение и обязательно указывали год постройки. Иногда они сооружали вокруг уже воздвигнутой пирамиды вторую, если новый календарный цикл требовал ее увековечения. Они делали это на протяжении веков абсолютно регулярно, об этом свидетельствуют сохранившиеся на сооружениях даты, и эту регулярность могла прервать только катастрофа или миграция. Ведь если мы видим, что в определенное время в том или ином городе строительство прекращается, а в другом оно примерно в эти же годы только начинается, то вывод здесь может быть один: население внезапно покинуло свой город и основало другой.
Отдельные случаи подобного характера, хотя и вызывают целый ряд недоуменных вопросов, могут тем не менее быть объяснены, но то, что произошло примерно начиная с 610 года н. э., объяснить не так-то просто.
Целый народ, состоявший в основном из жителей городов, внезапно покинул свои добротные и крепкие дома, распрощался с улицами, площадями, храмами и дворцами и переселился на далекий дикий север. Ни один из этих переселенцев никогда не вернулся на старое место. Города опустели, джунгли ворвались на улицы, сорные травы буйствовали на лестницах и ступенях; в пазы и желобки, куда ветер принес мельчайшие кусочки земли, заносило лесные семена, и они пускали здесь ростки, разрушая стены. Никогда уже больше нога человека, не ступала на вымощенные камнем дворы, не поднималась по ступеням пирамид.
Чтобы наглядно представить себе чудовищный и совершенно непонятный характер этого происшествия, вообразим, к примеру, что французский народ (весь народ, без исключения), имевший уже за своими плечами тысячелетнюю историю государства, вдруг нежданно-негаданно переселился бы в Марокко, чтобы там основать новую Францию, что он покинул бы свои храмы и свои большие города, что жители внезапно ушли бы из Марселя, Тулузы, Бордо, Лиона, Нанта и Парижа! Более того, едва успев прибыть на место, они принялись бы за сооружение того, что только что оставили на произвол судьбы, — храмов и городов.
У майя это так же непонятно, как было бы непонятно и у французов. Когда этот факт был впервые обнаружен, он вызвал немало поспешных толкований. Самым простым представлялось то объяснение, что майя были изгнаны иноземными захватчиками. Но какими, откуда они взялись? Государство майя находилось в расцвете сил, и никто из соседей не мог даже отдаленно сравниться с ним в военной мощи. Впрочем, эта гипотеза несостоятельна в корне: в оставленных городах не обнаружено никаких следов завоевания.
Но, может быть, всему виной была какая-нибудь катастрофа? И вновь мы вынуждены задать тот же самый вопрос: где следы этой катастрофы и что это, собственно, за катастрофа, которая могла заставить целый народ покинуть свою страну и свои города и начать жизнь на новом месте?
Быть может, в стране разразилась какая-нибудь страшная эпидемия? Но у нас нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что в далекий поход отправились лишь жалкие, немощные остатки некогда многочисленного и сильного народа. Наоборот, народ, выстроивший такие города, как Чичен-Ица, был, несомненно, крепким и находился в расцвете своих сил.
Может быть, наконец, в стране внезапно переменился климат и потому дальнейшая жизнь сделалась здесь невозможной? Но от центра Древнего царства до центра Нового царства по прямой не более четырехсот километров. Перемена климата, о чем, кстати, также нет никаких данных, которая могла бы так резко повлиять на структуру целого государства, вряд ли не затронула бы и тот район, в который переселились майя.
Какие же еще существуют гипотезы?
Создается впечатление, что наиболее правильная из них была выдвинута именно в последнее десятилетие; похоже на то, что она даже более приемлема, чем остальные, ибо все большее число исследователей становятся ее сторонниками, а тем самым сторонниками американского профессора Сильвануса Грисвольда Морли, который является ее самым рьяным защитником. Чтобы обосновать эту гипотезу, необходимо, однако, бросить взгляд на историю и социальную структуру государства майя. Мы будем вознаграждены за это тем, что познакомимся с еще одной особенностью этого своеобразного государства: цивилизация майя, единственная среди всех великих цивилизаций, не знала плуга!
Историю так называемого Древнего царства майя подразделяют ради наглядности на три периода, тем более что даты позволяют это сделать. Согласно С. Г. Морли, который занимался выяснением соотношения между датами майя и христианским летосчислением, Древнее царство просуществовало до 610 года н. э. К какому времени относится его основание, пока еще установить не удалось.
Древнейший период. Датировка его установлена лишь с 374 года н. э. Древнейшим городом является как будто Вашактун (во всяком случае, более древний город пока еще не найден), лежащий на северной границе нынешней Гватемалы. Затем неподалеку от него возникли Тикаль и Наранхо. Тем временем в нынешнем Гондурасе был основан Копан, а немного позднее на реке Усумасинта — Пьедрас Неграс.
Средний период. Он длился с 374 по 472 год н. э. В это столетие был основан Паленке (он находится на границе Чиапаса и Табаско и был заложен на рубеже древнейшего и среднего периодов; нередко этот город относят к древнейшему периоду), а также Менче* в Чиапасе и Киригуа в Гватемале. (*Устаревшее название города Йашчилан.)
Великий период. Он датируется 472–610 годами н. э. В этот период возникли города Сейбаль, Ишкун, Флорес и Бенке Вьехо. Заканчивается он переселением.
Читателю, заинтересовавшемуся нашим рассказом, мы рекомендуем именно сейчас заглянуть в карту, так как речь пойдет кое о чем достойном внимания.
Если мы внимательно посмотрим на карту, то убедимся, что Древнее царство занимало своего рода треугольник, углы которого образовывали Вашактун, Паленке и Копан. Не ускользнет от нашего внимания и то обстоятельство, что на сторонах углов или непосредственно внутри треугольника находились города Тикаль, Наранхо и Пьедрас Неграс. Теперь мы можем прийти к выводу, что, за единственным исключением (Бенке Вьехо), все последние города Древнего царства (век их был короток), в частности Сейбаль, Ишкун, Флорес, находились внутри этого треугольника.
Итак, мы столкнулись с одним из самых удивительных явлений в истории.
Майя были, вероятно, единственным в мире народом, у которого расширение государства шло не от центра к периферии, а наоборот. Империализм, направленный к центру! Рост от членов к сердцу! Ведь это был действительно рост, и не только рост, но и расширение. Никто не наступал на границы этого государства — майя были единственной силой во всем районе: государство развивалось в этом противоречащем логике и всему опыту истории направлении само по себе, без всякого внешнего влияния.
Мы не хотим говорить о китайцах с их Великой стеной и не хотим приводить тот слабый довод, что майя в своей заносчивости просто не желали расширять территорию за счет зарубежных районов, мы соглашаемся с тем, что у нас и поныне нет данных для того, чтобы объяснить эту поразительную особенность истории майя. Но поскольку до сих пор исторические проблемы редко оставались нерешенными в течение долгого времени, то, быть может, кто-нибудь из наших читателей и сумеет разрешить данный вопрос. Эта фраза вовсе не является риторической или продиктованной вежливостью, ибо проблема вряд ли будет разрешена с помощью одних только археологических данных.
Во всяком случае, накопленные археологией данные, по крайней мере до сих пор, не помогли разрешению этого вопроса.
Одни лишь археологические данные недостаточны и для разрешения вопроса о том, почему майя, достигнув вершины своего развития, внезапно покинули свои утопающие в роскоши города и переселились в необжитые районы севера.
Мы уже упоминали о том, что майя были горожанами. Они были ими в том сугубо ограниченном смысле, в каком ими начиная с XV века были все европейские народы: в городах жили господствующие классы (знать и жрецы), города были средоточием власти, а также и всей культуры, духовной жизни и этики. Но все эти города были бы нежизнеспособны без крестьянина, без плодов земли и прежде всего без главной земледельческой культуры, которой у нас было зерно, а у народов, населявших Центральную Америку, "индейское зерно", которое известно нам под названием кукурузы или маиса. Маис кормил города и господствующие классы, на нем покоилась вся цивилизация, благодаря ему она существовала. Он создавал и необходимое для нее пространство: города поднимались на отвоеванных у джунглей местах, там, где до этого рос маис.
Однако общественный строй майя знал такие противоречия, каких не знал никакой другой известный нам общественный строй. Характер этих противоречий становится ясным при сравнении города майя с современным европейским городом. Хотя в современном городе и выступают совершенно явно социальные противоречия населения, они в какой-то мере затушевываются наличием множества различных прослоек, многих, так сказать, промежуточных ступеней. В городах майя эти противоречия выступали абсолютно неприкрыто. На холме в большинстве случаев были расположены храмы и дворцы духовенства и знати; они образовывали замкнутый ареал и по своему характеру были похожи на крепости. (Возможно, им часто приходилось оправдывать этот свой характер.) И без всяких промежуточных переходных ступеней вокруг каменного "сити" располагались хижины и деревянные лачуги простолюдинов — народ майя состоял из небольшой кучки правителей и огромной массы угнетенных. Трудно даже себе представить, какая глубочайшая пропасть разделяла оба этих класса. У майя, насколько можно судить, отсутствовало среднее промежуточное сословие буржуазия.
Знать представляла собой совершенно замкнутый класс: "альмехенооб" называли они себя, то есть те, "кто имеют отцов и матерей", обладатели родословных таблиц. К ней принадлежали также жрецы, выходцем из знати был и наследный князь "халач виник" — "истинный человек". А на этих "имеющих отцов и матерей" работал весь народ. Одну треть урожая крестьянин отдавал знати, другую треть — жрецам, и лишь последней частью урожая он мог распоряжаться по собственному усмотрению. (Вспомним, что причиной крестьянских революций в средневековой Европе была пресловутая "десятина", считавшаяся наиболее непосильной податью!)
А в промежутке между посевной и уборкой урожая крестьяне вместе с рабами занимались строительными работами. Без телег и вьючных животных доставляли они каменные блоки; без железа, меди и бронзы, только лишь с помощью каменных орудий высекали великолепные статуи и памятники. В своем мастерстве они не только не уступали египетским строителям пирамид, но, по всей вероятности, превосходили их.
Подобный общественный строй, а он, насколько мы можем судить, оставался неизменным на протяжении веков, таил в себе зародыш гибели. Культура и наука — и в той и в другой области жрецы добились немалых успехов — становились постепенно культурой и наукой лишь избранных. Этой культуре не хватало питательных соков снизу, не было никакого обмена опытом. Ученые все чаще и чаще обращались к звездам, и только к ним, забывая о земле, а ведь только из этого источника они могли в конечном счете черпать свои силы. Они забывали о поисках средств для того, чтобы отвести грядущую опасность. Только этим совершенно поразительным высокомерием духа, свойственным высшим слоям майя, можно объяснить тот поистине удивительный факт, что народ, который достиг таких выдающихся успехов в науке и искусстве, не сумел додуматься до такого важного и в то же время примитивного орудия, как плуг.
На протяжении всей истории майя их земледелие носило крайне примитивный характер. Это было так называемое подсечное земледелие. Облюбовав тот или иной участок в джунглях, они валили все деревья, а затем, когда деревья подсыхали, они их сжигали незадолго до начала дождей. Когда сезон дождей заканчивался, земледельцы выкапывали с помощью длинных заостренных палок ямки и бросали туда зерна маиса. Сняв урожай с этого участка, крестьянин переходил на другой. Поскольку удобрения отсутствовали полностью (если не считать органических, которые использовались вблизи поселений), земля должна была каждый раз длительное время находиться под паром. Так мы подходим к правильному, как нам представляется, объяснению причин, заставивших майя в короткий срок забросить свои прочные города и сняться с насиженных мест.
Поля истощались. Требовалось все больше и больше времени, чтобы то или иное поле отлежалось под паром. Вследствие этого крестьянин был вынужден все дальше и дальше углубляться в джунгли, выжигая здесь все новые и новые участки, и тем самым отдаляться от города, который он вынужден был кормить и который без него не мог существовать; в конце концов между ним и городом оказалась выжженная и истощенная степь. Великая цивилизация Древнего царства майя прекратила свое существование потому, что она лишилась своего базиса. Цивилизация без техники еще возможна, но цивилизация без плуга — нет! Голод — вот что заставило народ тоща, когда между городами оказалась лишь сухая выжженная степь, отправиться в странствование.
Он поднялся, оставив города и пустоши, и, пока на севере отстраивалось Новое царство, джунгли медленно возвращались в свои прежние пределы, окружая покинутые храмы и дворцы, пустоши снова стали лесом, и этот лес, разросшись, окружил постройки, скрыв их на доброе тысячелетие от людских взоров. В этом и заключается разгадка тайны покинутых городов.
Глава 32 ДОРОГА К КОЛОДЦУ
Над джунглями взошла полная луна. В сопровождении одного только проводника по созданному некогда майя Новому царству, которое после появления здесь испанцев тоже успело прийти в упадок, ехал американский исследователь Эдвард Герберт Томпсон. С того времени, как майя покинули свои города и отправились на север, прошло полторы тысячи лет. Томпсон искал Чичен-Ицу — город, который был якобы самым большим и самым красивым, самым могущественным и прекрасным из всех городов майя. И люди и кони были утомлены: им пришлось преодолеть немало препятствий. Томпсон свесил от усталости голову на грудь; при каждом толчке его швыряло из стороны в сторону. Внезапно проводник окликнул его. Он вздрогнул, поднял голову — и увидел сказочный мир.
Над темными вершинами деревьев был виден высокий крутой холм, а на его вершине стоял залитый холодным серебряным светом луны храм. В ночном безмолвии возвышался он над кронами деревьев, словно Парфенон некоего индейского Акрополя. Чем ближе Томпсон к нему подъезжал, тем храм, казалось, становился все больше. Наконец проводник индеец спрыгнул с коня, расседлал его и принялся стелить одеяла, готовясь ко сну.
Томпсон, словно завороженный, не мог отвести от храма глаз; он сошел с коня и пошел вперед. Крутая лестница, заросшая травой и кустарником, кое-где разрушенная, вела от подножия холма к храму. Томпсон был знаком по рисункам с египетскими пирамидами и представлял себе их назначение. Но эта пирамида, сооруженная индейцами-майя, не была гробницей, как сооружения Гизэ. Внешне она напоминала зиккураты, но еще более, чем вавилонские башни, она казалась лишь помостом, каменным основанием для гигантской лестницы, которая вела все выше и выше — к богу, к солнцу, к луне.
Томпсон начал взбираться по этой лестнице. Его внимание привлекли богатые скульптурные украшения, рельефы. Поднявшись наверх, почти на тридцать метров над джунглями, он осмотрелся кругом и тогда увидел одно, другое, третье… по меньшей мере дюжину разбросанных в джунглях, еле заметных за деревьями и кустами сооружений; их присутствие выдавали лишь блики лунного света. Это и была Чичен-Ица. Созданная, вероятно, в начале переселения как далекий форт, она превратилась затем в блистательную столицу, в центр Нового царства.
В последующие дни Томпсон еще не раз возвращался к этому месту. "Однажды утром я стоял на крыше храма, как раз в тот момент, когда первые лучи солнца окрасили в розовый цвет далекий горизонт. Утренняя тишина казалась таинственной. Ночные шумы умолкли, а утренние еще не родились. Небо и земля, казалось, чего-то ожидали, затаив дыхание. Затем, сияя и пылая, выкатилось большое круглое солнце, и в тот же миг все кругом запело, зашумело, защебетало. Птицы в ветвях и насекомые на земле затянули общее "Те Deum". Сама природа научила первобытного человека поклоняться солнцу, и еще до сих пор человек в глубине сердца следует этому древнему почитанию".
Томпсон стоял как зачарованный; джунгли исчезли — перед ним лежали широкие просторы; он видел приближающиеся шествия, слышал музыку; из роскошных дворцов доносился гул веселья, в храмах шло богослужение. Он пытался разглядеть что-то там вдали, в глубине, и вдруг взгляд его остановился: если до этого момента Томпсон был весь во власти волшебства, то теперь пелена фантазии и видений прошлого внезапно исчезла. Исследователь вдруг понял, в чем была его задача, ибо там, впереди, вилась едва заметная в предутренней дымке тропинка, которая, вероятно, вела к Священному колодцу самой жгучей тайне Чичен-Ицы.
Этой последней части нашей книги, которая посвящена археологическим открытиям в Мексике и Юкатане, пока не хватало одного: человека того же склада, как Шлиман, Лэйярд, Питри. В то же время, если не считать первой поездки Джонса Л. Стефенса, ей не хватало сочетания исследования и приключений, научных успехов и кладоискательства, не хватало того романтического звучания, которое родится лишь тогда, когда заступ, воткнутый в землю из страсти к науке, внезапно натыкается на золото.
Эдвард Герберт Томпсон был Шлиманом Юкатана: он отправился в Чичен-Ицу, поверив одной книге, к которой никто не относился всерьез, и оказался прав, так же как некогда Шлиман, уверовавший в "Илиаду" и "Одиссею". В свое время Лэйярд отправился навстречу своему первому открытию в шестьюдесятью фунтами в кармане и всего лишь с одним проводником; таким же бедняком отправился в джунгли и Томпсон. А когда он столкнулся с трудностями, перед которыми капитулировал бы любой другой человек, он проявил упорство и настойчивость, достойные Питри.
Мы, кажется, уже упоминали о том, что в свое время, когда весь мир взбудоражили первые открытия Стефенса, была выдвинута гипотеза, будто майя являются потомками того исчезнувшего народа, который населял затонувшую Атлантиду.
Первой работой Томпсона, в ту пору еще начинающего археолога, была опубликованная им в 1879 году в одном из научно-популярных журналов статья, в которой он защищал эту рискованную концепцию. Но интерес к этой узкой проблеме — проблеме происхождения майя — был оттеснен в его сознании на задний план, когда в 1885 году он, самый молодой, двадцатипятилетний консул США (который же по счету консул в роли археолога!), отправился на Юкатан. Он получил здесь возможность заняться не столько теориями, сколько исследованиями самих памятников; однако теперь уже он не искал доказательств той гипотезы, которую однажды пытался защищать. Его вела здесь та же вера, что вела в свое время Шлимана, не сомневавшегося в правоте Гомера, — вера в слова Диэго де Ланды. В книге епископа он впервые прочитал о "сеноте", Священном колодце Чичен-Ицы. Во время засухи, утверждал де Ланда, основываясь на древних сообщениях, по широкой улице, ведущей к колодцу, двигалась процессия жрецов, а за ними — толпы народа; они вели с собой жертвы, которые должны были умиротворить бога дождя: юных девушек. После торжественной церемонии этих девушек бросали в колодец, такой глубокий, что никогда ни одна из жертв не выплывала на поверхность.
В песнях почти всех народов путь девушки к колодцу всегда связан с радостным утверждением жизни. Путь юной девушки майя к Священному колодцу был всегда дорогой в небытие. Они шли по этому пути в самых лучших своих одеждах и украшениях; потом раздавался приглушенный крик — и они исчезали в затянутой тиной воде.
Что еще сообщал Диэго де Ланда? Он писал о том, что у майя был обычай бросать в колодец вслед за жертвами богатые дары — утварь, украшения, золото: "Если в эту страну попадало золото, большую его часть должен был получить этот колодец". В отличие от всех остальных ученых, которые видели здесь лишь романтические красоты древнего предания, Эдвард Томпсон понял эти слова буквально — он поверил Диэго де Ланде и готов был доказать, что вера его вполне обоснованна. Поэтому, когда он увидел с вершины пирамиды тропинку, он предположил, что она ведет к колодцу; в то же время он не подозревал, с какими трудностями ему здесь предстоит столкнуться.
К тому времени, когда много лет спустя Томпсон вновь очутился возле колодца, он был уже знатоком джунглей, исследовавшим весь Юкатан с севера до юга, вполне подготовленным к раскрытию тайны, но в те первые мгновения он был действительно очень похож на Шлимана. Его окружали великолепные сооружения, которые ожидали своих исследователей, их изучение увлекательнейшая задача для любого археолога; он же обратился к колодцу, к темной дыре, наполненной илом, камнями и скопившейся за многие столетия грязью. Если даже сообщение Диэго де Ланда соответствовало фактам, были ли хоть какие-нибудь шансы разыскать в этой илистой, заросшей тиной дыре остатки тех украшений, которые жрецы швыряли вслед за своими жертвами? Каким образом вообще следовало проводить исследование этого колодца? Ответ Томпсона звучал авантюристично: "Нырять!"
Возвратившись в связи с одним научным конгрессом в США, он принялся направо и налево занимать деньги. Ему охотно ссужали их, хотя все, кому он рассказывал о своих планах, принимали его за сумасшедшего. "Никто, говорили ему, — не может рассчитывать остаться невредимым, опустившись на дно этого колодца. Если уж ты решил покончить с собой, то почему бы тебе не выбрать другой, более подходящий способ?"
Но Томпсон уже давно взвесил все "за" и "против", и его ничто не могло поколебать.
"Следующим моим шагом явилась поездка в Бостон, где я занялся изучением техники водолазного дела. Моим учителем был капитан Эфраим Никкерсон из Лонг Уорфа, который еще за двадцать лет до этого ушел в отставку. Под его умелым и терпеливым руководством я в течение короткого срока превратился во вполне сносного, но отнюдь не первоклассного, как я смог в этом вскоре убедиться, водолаза. Затем я позаботился о приобретении подходящего для моих целей землечерпального снаряда с лебедкой, полиспастом и рычагом длиной тридцать футов. Все это было запаковано в ящики и подготовлено в отправке".
Вскоре Томпсон вновь очутился возле колодца. Наибольшее расстояние от одного края колодца до другого равнялось примерно шестидесяти метрам. С помощью лота он установил, что ил находится примерно на глубине 25 метров. А затем он стал бросать в колодец специально изготовленные деревянные чурбаки, которым была придана форма человеческой фигуры, стараясь проделывать это так же, как, по его предположениям, это делали в свое время жрецы, когда бросали в колодец девушек — невест отвратительного бога. Цель эсперимента была простой: он хотел максимально точно определить место своих поисков. После этого он пустил в ход землечерпалку.
"Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог себе представить то напряжение, которое я испытал, когда стальной ковш землечерпалки… ринулся вперед, на какую-то долю секунды неподвижно повис над серединой колодца, а затем скользнул вниз и исчез в спокойной воде. Прошло две-три минуты — надо же было дать стальным зубьям вгрызться в грунт, — а затем рабочие склонились над лебедкой, и под их темной, коричневой кожей, словно ртуть, заиграли мускулы;
стальной кабель натянулся как струна под тяжестью поднимаемой кверху ноши.
Вода, спокойная до этого, словно зеркало из красного обсидиана, начал клокотать и кипеть, — ковш медленно, но неуклонно поднимался к краю колодца, и между его стиснутыми в мертвой хватке зубьями стекали прозрачные капли. Повернувшись вокруг рычага, он выложил на покрытую досками платформу свою ношу — темно-коричневую массу из гнилых деревьев, прелой листвы, поломанных ветвей и т. п. Потом он отпрянул назад и вновь замер. Один раз ковш притащил в своих стальных зубах ствол дерева, который на вид сохранился так хорошо, будто его только вчера свалило бурей в колодец — было это в субботу, а в понедельник на том месте, где он лежал, можно было увидеть лишь несколько волокон и темное пятно, похожее на пятно от древнего уксуса, — все, что от него осталось. В другой раз ковш принес скелет ягуара и кости серны — немое свидетельство разыгравшейся здесь трагедии джунглей".
День за днем происходило одно и то же: ковш возвращался назад, наполненный грязью и илом, камнями и ветвями, среди которых иногда встречались и кости того или иного животного. Гонимые жаждой, эти животные, вероятно, во время засухи пытались добраться до воды, запах которой доносился до них, и находили здесь свою гибель. Припекало солнце, из колодца несло сыростью; запах прелости поднимался также над кучами ила, которые все выше и выше громоздились у края колодца.
"Так продолжалось день за днем. Неужели, — спрашивал я себя, — я ввел в расходы всех своих приятелей, выдержал все нападки, перенес все насмешки лишь для того, чтобы доказать то, с чем давно примирились многие, а именно: все эти предания не более чем старые сказки?"
Однако настал день, когда в руках Томпсона, ворошившего очередную партию поднятого со дна ила, очутились два странных желтовато-белых комочка смолы. Он понюхал их и даже попробовал на вкус. Затем, руководствуясь счастливой мыслью, внезапно пришедшей ему в голову, Томпсон поднес один из комочков к огню… вокруг распространился дурманящий запах. Теперь все стало ясно:
он выудил благовония, душистую смолу, которую майя жгли во время своих жертвоприношений.
Означала ли эта находка, что он на верном пути? С одной стороны, горы ила и грязи, с другой — два маленьких кусочка душистой смолы. Для человека иного склада это не явилось бы доказательством, но для Томпсона это было больше, чем доказательство: эта находка окрылила его фантазию. "В эту ночь я впервые после многих недель спал крепким и глубоким сном".
Оказалось, что правда была на его стороне: теперь на свет появлялась одна находка за другой, причем те самые, которых он ожидал: орудия и украшения, вазы и наконечники копий, ножи из обсидиана и чаши из нефрита. А затем он нашел и первый скелет девушки.
Диэго де Ланда был прав.
Но, прежде чем Томпсон перешел к "самой проклятой части этого проклятого предприятия", он случайно обнаружил рациональное зерно еще одного древнего предания. Епископ де Ланда указал ему путь к колодцу. Дон Диэго Сармиенто де Фигероа, в 1579 году алькальд Вальядолида, поведал о жертвенных обрядах, происходивших у этого колодца. Вот его сообщение, которое первоначально показалось Томпсону темным и непонятным:
"Знать и сановники этой страны имели обычай после шестидесятидневного поста и воздержания приходить на рассвете к колодцу и бросать в его темные воды индейских женщин, которыми они владели. Одновременно они говорили этим женщинам, что те должны испросить для своего господина благоприятный, отвечающий его пожеланиям год. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом. Вплоть до вечера были слышны крики тех, кто был еще в состоянии кричать. Тогда им спускали веревки и вытаскивали из колодца чуть ли не полумертвыми. Вокруг них разводили костры, их окуривали душистыми смолами. Придя в себя, они рассказывали, что внизу много их соплеменников, мужчин и женщин, и что они их там принимали. Но если они пытались приподнять голову, чтобы как следует разглядеть своих соплеменников, то получали тяжелые удары по голове. Когда они опускали голову вниз, они видели под водой вершины и пропасти, и люди из колодца отвечали на их вопросы о том, какой год будет у их господина — хороший или плохой".
Это на первый взгляд напоминающее сказку сообщение заставило Томпсона, который все еще стремился найти рациональное историческое зерно этих свидетельств, немало поломать голову. Однажды он сидел в плоскодонке, которая впоследствии была использована для подводных работ, а в тот момент тихо скользила по водной глади.
футах в шестидесяти ниже того места, где был установлен кран, он остановился возле нависшей стены. И вот тут-то случайно взглянув поверх лодки, он увидел нечто такое, что заставило его вздрогнуть. "Это был ключ к рассказу о женщинах-посланницах из старого предания",
"Вода в "Колодце жертв" мутна и темна; время от времени она меняет свою окраску от коричневой до бледно-зеленой и даже до ярко-красной, об этом я еще буду говорить. Она настолько мутна, что, словно зеркало, отбрасывает свет, не преломляя его. Глядя с кормы плоскодонки на воду, я видел "вершины и пропасти" — это были отражения вершин и изгибов скалы, нависшей над моей головой. Женщины, приходя в себя, говорили, что внизу много их соплеменников… и что они отвечали на их вопросы. Когда я продолжил путь, наблюдая за вершинами и пропастями, я увидел внизу многих моих соплеменников, и они тоже отвечали на вопросы. Это были мои рабочие, склонившиеся над краем колодца, чтобы взглянуть на плоскодонку. При этом они тихо беседовали, и звуки их голосов, отразившись от водной поверхности, возвращались ввысь: слов разобрать было невозможно. Этот эпизод объяснил мне старое предание.
Местные жители, кроме того, уже давно утверждали, что вода Священного колодца временами превращается в кровь. Мы убедились, что зеленая окраска, которую временами принимает вода, появляется вследствие воздействия мельчайших низших растений, буквально микроскопических размеров. Ее обычная бурая окраска — результат воздействия гниющих листьев, а некоторые ярко-красные семена и цветы время от времени придают воде кровавый оттенок.
Я упоминаю об этом открытии, чтобы показать, почему я верю, что все аутентичные предания основаны на фактах и что при достаточно близком ознакомлении с фактами они всегда могут быть разъяснены".
Впрочем, самая тяжелая часть работы была еще впереди. Лишь теперь Томпсону было суждено добиться таких результатов, такого успеха, который затмил всю его предыдущую работу. Когда ковш стал приходить все менее и менее полным, а потом и вовсе лишь с двумя-тремя камнями, Томпсон понял, что наступило время самому, собственными руками обшарить все щели и трещины на дне, исследовать те места, куда не могли проникнуть стальные зубья землечерпалки. Предоставим, однако, слово этому необычному археологу:
"Николай, водолаз-грек, с которым я заранее обо всем договорился, прибыл с Багамских островов, где он занимался собиранием губок.
Он привез с собой ассистента, тоже грека, и мы начали готовиться к подводным исследованиям.
Прежде всего мы погрузили в лодку — теперь это уже был не плот, а крепкий понтон — воздушные насосы; оба грека превратились в наставников: они показали специально отобранным мной матросам, как следует обращаться с насосами, от которых теперь зависела наша жизнь, и обучили их сигналам. Когда водолазы убедились в том, что люди хорошо подготовлены, мы начали готовиться к погружению. Мы опустили ковш нашей землечерпалки на понтон, облачились в водолазные доспехи из водонепроницаемой материи, надели круглые водолазные шлемы — тяжелые, медные, с круглыми стеклянными глазами-иллюминаторами, с клапанами для воздуха над ушами, и обулись в брезентовые сапоги с тяжелыми коваными подошвами. Захватив переговорную трубку, мешок с запасом воздуха и старательно привязав спасательный трос, я проковылял с помощью ассистента к короткой широкой лестнице, которая вела под воду. Пока я стоял на первой ступеньке, ко мне один за другим подошли все члены экипажа, мои верные туземцы. Со строгим выражением лица трясли они мне руку, а затем отходили назад, на свои места, ожидая сигнала. Нетрудно было угадать их мысли: они прощались со мной, не рассчитывая более увидеть меня в этом мире. Я отпустил поручни и свинцом пошел ко дну, оставляя за собой цепочку серебристых пузырьков. Не успел я опуститься и на десять футов, как вода превратилась из желтой в зеленую, а потом сделалась темно-пурпурной. Затем я очутился в кромешной тьме. Из-за усилившегося давления воздуха у меня сильно болели уши. Я сделал глотательное движение и открыл клапаны для воздуха: в ушах раздался шорох — нечто вроде "фт, фт", и боль прекратилась. Мне пришлось повторить это несколько раз, прежде чем я достиг дна. И еще одно странное чувство пришлось мне испытать во время спуска. Казалось, я быстро теряю в весе, и, когда наконец под моими ногами очутился плоский конец большого каменного обелиска, некогда стоявшего на разрушенном ныне памятнике возле колодца, мне почудилось, будто я совсем лишился веса. Я совершенно не чувствовал тяжести своего костюма, ощущение было такое, словно у меня за плечами был привязан рыбий пузырь.
Совершенно особое чувство охватило меня, когда я осознал, что я первое живое существо, которое не только проникло сюда, но и рассчитывало вернуться назад целым и невредимым. Потом ко мне спустился Николай, и мы взяли друг друга за руки.
Я прихватил с собой подводный прожектор и подводный телефон. Впрочем, и то и другое я в следующие погружения оставлял наверху. Прожектор был рассчитан на светлую, в худшем случае лишь слегка мутную воду, а та среда, в которой нам пришлось работать, не была ни водой, ни илом, скорее это было какое-то смешение обеих этих субстанций, взбаламученных землечерпалкой. Это была плотная масса, похожая на гущу, отстой или смесь, и сквозь нее не проходил ни один луч света. Поэтому нам пришлось работать в абсолютной темноте. Впрочем, вскоре это нам почти перестало мешать: мы освоились, и осязательные нервы наших пальцев, казалось, не только различали вещи на ощупь, но даже помогали узнавать их окраску. От подводного телефона польза тоже была небольшая. Поддерживать связь с помощью переговорной трубки и спасательного троса было проще и быстрее.
И еще одно поразило меня — мне об этом никогда не приходилось слышать от других водолазов: мы с Николаем убедились, что можем и на той глубине, на которой мы работали, — от шестидесяти до восьмидесяти футов, — усевшись нос к носу, спокойно переговариваться, во всяком случае, вполне понимать друг друга. Наши голоса звучали приглушенно и безжизненно, словно они доносились откуда-то издалека, но я все же был в состоянии давать ему необходимые указания и довольно ясно слышать его ответы.
Удивительная потеря веса под водой послужила, пока я к ней не привык, причиной многих комических происшествий. Для того чтобы перейти на дне с места на место, мне нужно было только встать и оттолкнуться ногой от скалистого дна: я тотчас, словно ракета, вздымался ввысь, величественно проплывая сквозь кашеобразную субстанцию, нередко, впрочем, на несколько футов далее намеченной цели.
Грубо говоря, колодец представляет собой овал в 187 футов в поперечнике. Расстояние до уровня воды 67–80 футов. Это определить было несложно, гораздо труднее было сказать, где кончалась вода и где начинался ил: никакой границы между ними не существовало. По моему мнению, общая глубина воды и ила составляла 65 футов. Слой грязи и ила, достаточно плотный для того, чтобы выдерживать ветки, сучки и довольно большие корни деревьев, имел толщину 30 футов. Там и сям в иле торчали, словно изюминки в пудинге, скалы и камни самой различной формы и величины. Нетрудно себе представить, каково было нам в темноте обшарить в этих волнах грязи трещины и расселины известкового дна в поисках тех предметов, которые не могла захватить землечерпалка. К тому же на нас время от времени сваливались в кромешной тьме каменные глыбы, которые подмывало водой. И все-таки дело обстояло совсем не так плохо, как это может показаться на первый взгляд. Это верно, что тяжелые глыбы падали нам чуть ли не на голову, когда им заблагорассудится, и что мы не могли ни увидеть их, ни воспрепятствовать их падению, однако до тех пор, пока наши переговорные трубки, воздушные мешки, спасательные веревки и мы сами находились на приличном расстоянии от стены, мы были в относительной безопасности. При падении каменных глыб давление воды настигало нас до того, как успевала обрушиться сама глыба, и, даже если мы не успевали отодвинуться, вода под давлением падающей глыбы отбрасывала нас, словно огромная мягкая подушка, в сторону, нередко головой вниз и ногами вверх. Так мы балансировали и дрожали, словно яичный белок в стакане воды, до тех пор, пока волнение не прекращалось и мы снова не оказывались в состоянии встать на ноги. Если бы мы в эти моменты стояли, прислонившись к стене, нас, словно гигантскими ножницами, разрезало бы пополам, и еще две жертвы были бы принесены богу дождя.
Нынешние жители этого района считают, что в темных глубинах Священного колодца водятся большие змеи и всякие чудовища. Покоится ли эта вера на смутных воспоминаниях о бытовавшем в свое время культе змей или на чем-то другом, действительно виденном теми или иными туземцами, — об этом можно только догадываться. Я видел в воде больших змей и ящериц, свалившихся в колодец, вероятно, во время охоты друг за другом и не сумевших из него выбраться, но нигде в этом пруду мы не видели никаких следов особенно крупных рептилий или чудовищ.
Я не попал в объятия к рептилиям, но одно происшествие заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Мы оба, грек и я, рылись в узкой щели на самом дне, которая была так богата находками, что мы забыли об обычных мерах предосторожности. Внезапно я почувствовал, как что-то тяжелое мягкими обволакивающими движениями прижимает меня ко дну. Что-то гладкое и скользкое неудержимо вдавливало меня в ил. Кровь буквально застыла у меня в жилах. Потом я почувствовал, что грек подоспел ко мне на помощь. Соединенными усилиями нам удалось освободиться от этой напасти. Это был гнилой ствол дерева, который при погружении в воду угодил прямо на меня, распростертого на дне колодца.
Однажды я сидел на дне, ощупывая интересную находку — литой металлический колокольчик, — и так увлекся этим занятием, что позабыл открыть воздушный клапан. Потом я положил находку в карман и встал, чтобы переменить положение, но тут меня внезапно потащило наверх, словно воздушный шар. Это было смешно, но одновременно и опасно, ибо на этих глубинах кровь, словно шампанское, вся в пузырьках газа; подниматься со дна надо медленно, чтобы дать возможность крови приспособиться, в противном случае водолазу угрожает тяжелая болезнь и даже смерть в жестоких мучениях. К счастью, у меня хватило присутствия духа быстро открыть клапаны еще до того, как я успел подняться на поверхность, и тем самым избежать жестокой кары. Но я еще и сегодня страдаю из-за своей неосторожности — у меня повреждены барабанные перепонки и сильно поражен слух.
Даже после того, как я открыл клапаны и стал подниматься все медленнее и медленнее, я продолжал кувыркаться и, еще не придя в себя от потрясения, стукнулся головой о днище понтона. Лишь тогда я понял, что произошло. При мысли о том, как, должно быть, перепугались мои парни, когда они услышали, как я стукнулся о дно понтона, я рассмеялся, выкарабкался из-под понтона и протянул руку к палубе. Вслед за этим показался мой шлем, я почувствовал, как две руки обвились вокруг моей шеи и чьи-то взволнованные глаза впились в мои, спрятанные за иллюминаторами шлема. Когда с меня сняли водолазный костюм и я, сидя на стуле, постепенно приходил в себя, потягивая горячий кофе и греясь на солнышке, юный грек рассказал мне, как все это произошло.
"Парни, — сказал он, — буквально позеленели от страха, когда они услышали удар о днище, возвещавший наше неожиданное прибытие. Когда я им объяснил, что это такое, они печально покачали головами и один из них, верный старый Хуан Мис, сказал: "Это бессмысленно, эль амо (хозяин) умер. Его проглотил и отрыгнул бог-змея. Мы его уже никогда больше не увидим". И глаза его наполнились слезами; но когда ваш шлем появился на поверхности и он увидел вас сквозь стекла, он поднял обе руки над головой и сказал, полный благодарности: "Слава богу, он еще жив и даже смеется"".
Что касается результатов наших ныряний и работы нашей землечерпалки, то первым и самым главным из них является следующий: мы сумели доказать, что предание о Священном колодце во всех важнейших его положениях подтверждается фактами. Кроме того, мы нашли большое число фигурок из нефрита, золота и меди, нашли кусочки копала, душистой смолы, множество остатков скелетов, несколько копий для метания с добротно выделанными наконечниками из кремния, кальцита и обсидиана, пару остатков старых тканей. Все это представляло значительную ценность для археологии. Среди находок были предметы чуть ли не из чистого золота, литые, кованые и выгравированные. Но большинство так называемых золотых предметов было изготовлено из сплавов с большим содержанием меди, чем золота. Главную ценность им придают выгравированные или литые символические знаки. Большинство находок представляло собой лишь фрагменты. Вероятнее всего, речь вообще идет о приношениях по обету, которые жрецы, согласно соответствующему обряду, прежде чем бросить в колодец, разбивали и разламывали. При этом, однако, линии разлома никогда не затрагивали головы или лица изображенных на золотых дисках или высеченных из нефрита фигурок.
Есть основания предполагать, что нефритовые подвески, золотые диски и другие орнаментированные украшения из металла или камня считались, после того как их разбивали, как бы убитыми. Известно, что древние цивилизованные расы Америки, так же как и еще более древние их предшественники в Северной Азии, были убеждены, что в нефрите и других освященных предметах есть жизнь. Эти украшения разбивали, разламывали, одним словом, убивали для того, чтобы их дух служил украшением тому, кто его посылал, и тогда его дух, появившись наконец перед Хунаб-Ку, верховным божеством на небе, будет соответствующим образом украшен".
Когда первые сообщения Томпсона о его находках в Священном колодце стали достоянием общественности, заволновался весь мир. Слишком уж необычными были обстоятельства находки, слишком богатым клад, извлеченный из заросшего илом колодца. Это меньше всего относится к материальной ценности клада.
"Сами по себе эти золотые украшения, которые с таким трудом и с такими затратами удалось извлечь из Священного колодца, — говорит Томпсон, — не представляют особой ценности в денежном выражении. Но ценность всех вещей относительна. Историк пытается проникнуть в прошлое, побуждаемый теми же соображениями, что и исследователь земных недр… Можно предположить, что на поверхности многих этих предметов запечатлены выраженные в символах идеи и представления, которые ведут через тьму времен к прародине этого народа, в страну за морями. Над доказательством этого стоит, пожалуй, потрудиться всю жизнь".
Тем не менее золотой клад, найденный в Чичен-Ице, превзошли по ценности лишь сокровища Тутанхамона. Но золото фараона находилось возле мумии, которая в величественном спокойствии лежала в гробнице. А золото сенота лежало возле останков девушек: жертвы свирепого бога и бесчеловечных жрецов, они с душераздирающими воплями прыгали в небытие. Удалось ли кому-нибудь из них увлечь за собой и жреца — среди многочисленных черепов девушек был найден один-единственный череп, принадлежавший пожилому мужчине. Жрецу? Но кто может ответить на этот вопрос?
Эдвард Томпсон скончался в 1935 году. У него не было оснований жалеть о прожитом, хотя, как он сам выражался, он растратил на службе исследования майя всю свою "субстанцию". В течение тех двадцати четырех лет, что он был консулом на Юкатане, и почти пятидесятилетней деятельности археолога он редко сиживал в конторе.
Он путешествовал по джунглям, жил среди индейцев и вместе с индейцами в буквальном смысле этого слова; он ел их пищу, спал в их хижинах, говорил на их языке. Вследствие заражения крови у него была парализована нога; на память о Священном колодце он получил расстройство слуха, но он ни в чем не раскаивался. Его труды несут на себе отпечаток порой чрезмерного энтузиазма; в своих первых сообщениях и выводах он иногда заходил слишком далеко. Когда он нашел в одной пирамиде несколько гробниц, а затем под основанием пирамиды в скале обнаружил главную гробницу, он вообразил, что ему удалось найти место покоя Кукулькана, легендарного первоучителя народа майя; а когда он нашел драгоценные украшения из нефрита, который добывается в районах, далеко отстоящих от Юкатана, он, несмотря на то что был уже опытным исследователем, вновь вернулся к своей юнощеской теории об Атлантиде. Но разве подобный энтузиазм является излишним? Разве воодушевление не в состоянии сломить сковывающий скептицизм? В последнее время на Юкатане, в Чиапасе и Гватемале было произведено немало раскопок, В конце концов на службу науке встала авиация. Полковник Чарльз Линдберг, который первым перелетел через Атлантику, впервые увидел с высоты птичьего полета страну, которая была древней уже тогда, когда Кортес открыл Новый Свет. В 1930 году П. К. Мадейро-младший и Дж. А. Мэсон летали над джунглями Центральной Америки; они сфотографировали с воздуха и нанесли на карту неизвестные до этого древние поселения майя.
В последние годы, в частности в 1947 году, одна экспедиция отправилась в Бонампак в Чиапасе. Она сумела как будто добавить к богатым находкам прошлого вполне достойную новую находку. Научное руководство экспедицией взял на себя Институт Карнеги в Вашингтоне. (Этому институту вместе с Институтом Смитсона в Вашингтоне принадлежат, пожалуй, наибольшие заслуги в деле исследования истории майя. Последний осуществляет свои исследования на проценты от одного учреждения, которые англичанин Джеймс Смитсон около ста лет назад предоставил для научных целей в распоряжение Соединенных Штатов.) Руководителем экспедиции был Джайлз Гревилл Хили; в короткий срок эта экспедиция нашла одиннадцать богатых храмов Древнего царства, относящихся к временам, непосредственно предшествовавшим переселению. Она нашла три великолепные стелы. Одна из этих стел — вторая по величине из всех до сих пор найденных. Эта стела имеет примерно шесть метров в высоту и покрыта скульптурными изображениями. Но самым поразительным из всего найденного Хили в джунглях были настенные росписи. С помощью технических средств удалось восстановить некогда блестящие краски — красную, желтую, охру, зеленую и голубую, — а также изображения воинов, правителей, жрецов в торжественных облачениях. Аналогичные рисунки до этого были найдены только в Чичен-Ице, в Храме воинов.
Но главные археологические изыскания производились в Чичен-Ице, в последней столице майя. Сегодня перед наблюдателем развертывается совершенно ясная картина, более ясная, чем та, которую в памятную лунную ночь увидел Томпсон. Руины освобождены от джунглей, остатки зданий видны со всех сторон, а там, где в свое время приходилось прорубать дорогу при помощи мачете, курсируют автобусы с туристами; они видят Храм воинов с его колоннами и лестницей, ведущей к пирамиде, они видят так называемую Обсерваторию круглое строение, окна которого прорублены таким образом, что из каждого видна какая-то определенная звезда; они осматривают большие площади для древней игры в мяч, из которых самая большая имеет сто шестьдесят метров в длину и сорок в ширину, — на этих площадках золотая молодежь майя играла в игру, похожую на баскетбол. Они, наконец, останавливаются перед Эль Кастильо — самой большой из пирамид Чичен-Ицы. Девять уступов имеет она, и на вершине ее расположен храм бога Кукулькана — Пернатой змеи.
Вид всех этих ужасных изображений отвратительных змеиных голов, рож богов, шествий ягуаров действует устрашающе. Пожелав проникнуть в тайны орнаментов и иероглифов, можно узнать, что здесь нет буквально ни одного знака, ни одного рисунка, ни одной скульптуры, которые не были бы связаны с астрономическими выкладками. Два креста на надбровных дугах головы змеи, коготь ягуара в ухе бога Кукулькана, форма ворот, число "бусинок росы", форма повторяющихся лестничных мотивов — все это выражает время и числа. Нигде числа и время не были выражены таким причудливым образом. Но если вы захотите обнаружить здесь хоть какие-нибудь следы жизни, вы увидите, что в великолепном царстве рисунков майя, в орнаментике этого народа, возделывавшего маис, народа, жившего среди пышной и разнообразной растительности, очень редко встречаются изображения растений — лишь немногие из огромного количества цветов и ни один из восьмисот видов кактусов. Недавно в одном орнаменте разглядели цветок Bombaxs aqualicum'a — дерева, растущего наполовину в воде. Если это даже действительно не ошибка, общее положение все равно не меняется: в искусстве майя отсутствуют растительные мотивы. Даже обелиски, колонны, стелы, которые почти во всех странах являются символическим изображением тянущегося ввысь дерева, у майя изображают тела змей, извивающихся гадин.
Две такие змеевидные колонны стоят перед Храмом воинов. Головы с роговидным отростком прижаты к земле, пасти широко открыты, туловища подняты кверху вместе с хвостами, некогда эти хвосты поддерживали крышу храма. И, глядя на эти колонны, на Храм воинов, на многие другие сооружения в Чичен-Ице, ученые все больше и больше приходят к убеждению, что эти сооружения и постройки отличаются от однотипных строений в Копане, Паленке, Пьедрас Неграс и Вашактуне значительно больше, чем обычные памятники архитектуры Нового и Древнего царств. Ученые занялись определением этого стиля; они проверяли и сравнивали — здесь линию, там орнамент, здесь маску божества, там знак, и в конце концов они сказали: "Здесь работали чужие руки, здесь чувствуется чужое влияние и чужие знания".
Откуда же взялись эти чужие мысли, чужие идеи? Кто их принес? Ученые обратили свой взор к Мексике, но не к царству ацтеков (которое было намного моложе, чем царство майя), а к сооружениям, которые были старыми еще в те времена, когда ацтеки вторглись в страну.
Неужели не было никаких сообщений, которые помогли бы разобраться в этом удивительном факте, суть которого сводилась к тому, что мощная цивилизация майя поддалась чужому влиянию? Неужели никто не мог в этом вопросе сыграть ту роль, которую в ряде других вопросов истории майя сыграл Диэго де Ланда? Неужели больше ни у кого нельзя было найти хотя бы намека на таинственный народ великих архитекторов?
Человек, в сообщениях которого можно было найти немало сведений по этому вопросу, был давно известен, но его слова не принимали всерьез. Этот удивительный человек был ацтекским вождем, и его звали Иштлилшочитль.
Глава 33 СТУПЕНИ ПОД ЛЕСОМ И ЛАВОЙ
"Он был, — писал Вильям Прескотт сто лет назад о принце Иштлилшочитле, — прямым потомком тескокского царского рода, находившегося в эпоху завоевания в зените славы. Прилежный и способный, он никогда не упускал возможности пополнять свои знания, и если написанная им история несколько приукрашена, то это понятно: ведь он повествует в ней о былой славе древнего, но пришедшего в упадок рода, которую он хотел бы воскресить. Тем не менее его все хвалили за искренность и справедливость; испанские писатели, в руки которых попали его сообщения, без всякого недоверия следовали ему в своих книгах".
Однако ученый мир более позднего времени оценил этого принца совсем по-другому. "Век критики источников" видел в нем романтического сказителя, индейского барда, благосклонно внимал его рассуждениям о величии своего народа, но не верил ни единому его слову. И в самом деле, то, о чем он рассказывал, было не только удивительно, но зачастую просто невероятно. Первыми, кто поверил в "рациональное зерно" этих сообщений, были два, пожалуй, самых выдающихся немецких исследователя истории Мексики — Эдуард Зелер и Вальтер Леман.
Мы уже неоднократно встречались с такими периодами в истории археологии, когда вновь полученные факты нарушали все прежние представления и ставили под угрозу сомнения всю, нередко с большим трудом воссозданную, картину того или иного исторического периода. Не раз мы уже видели, как эту угрозу пытались весьма боязливо предотвратить (предотвратив тем самым и создание новых толкований), стараясь не обращать внимания на новые факты или же бродя вокруг них, как кот вокруг горячей каши, — в этом как бы "самозащита" науки. Археологическая похлебка тоже должна остыть, прежде чем за нее можно будет приняться. Вот так ученые и ходили вокруг древнемексиканских построек и развалин; можно было подумать, что лава, наполовину скрывавшая эти развалины, все еще раскалена. По сути же дела, эти здания, в тени которых жили ацтеки, никак не удавалось втиснуть в ту картину, которая обрела теперь благодаря находкам и исследованиям в областях расселения майя контуры, краски, получила перспективу и фон. А если эти здания и замечали (никто, кстати говоря, их не искал), то их обходили стороной. Однако сделанные еще сто лет назад замечания Прескотта о Теотихуакане, городе развалин, мимо которого прошел Кортес во время своего бегства из Теночтитлана, не заметить или упустить было весьма трудно. Тем не менее "не замечать" их удавалось почти всем исследователям вплоть до начала последнего столетия. Осторожные упоминания и многочисленные вопросительные знаки — вот и весь комментарий, которого удостаивались эти древнейшие развалины до тех пор, пока наконец не последовали одно за другим несколько открытий. В последние три десятилетия внезапно случилось то, что, собственно, могло произойти уже давно.
Самое удивительное, что к этим пирамидам не надо было организовывать экспедиции; для того чтобы добраться до них, вовсе не требовалось прокладывать себе путь в непроходимых дебрях с помощью мачете, бороться с лихорадкой и дикими зверями. До них можно было доехать по железной дороге или же просто дойти пешком, совершив приятную послеобеденную воскресную прогулку; как бы неправдоподобно это ни звучало, это было действительно так, ведь самые большие памятники древнейшей цивилизации Центральной Америки находились всего лишь в часе езды поездом от Мехико, столицы Мексики, а иные даже в пределах ее городской черты.
Иштлилшочитль, принявший крещение принц, был другом испанцев. Высокообразованный человек, обладавший обширными познаниями в жреческой науке, он взялся после окончания войны за написание истории своего народа. В те годы еще были свежи древние предания, и его история, которой никто не хотел верить, начинается со времен седой древности, с основания тольтеками города Тула (Толлан в современном штате Идальго). Он рассказывает, что тольтеки знали письменность, числа, цифры и календарь, умели строить храмы и дворцы. В Туле жили не только их правители, но и мудрецы, и законы, которые они издавали, были справедливы для всех. Религия тольтеков не была жестокой, она еще не знала тех мерзостей и гнусностей, которые стали характерными для нее впоследствии. Государство их, согласно Иштлилшочитлю, просуществовало пятьсот лет; затем начался голод, гражданская война, династические распри. Страну занял другой народ — чичимеки. Те тольтеки, что остались в живых, переселились сначала в Табаско, а потом и еще дальше, на Юкатан.
Когда же все это случилось? Ученые определяют некоторые даты этих событий, но мы не будем их здесь упоминать, ибо все они недостоверны. Мы вообще не будем больше приводить даты при описании находок доацтекских времен, а также и времен, предшествующих появлению майя, — им нельзя верить, ибо вариантов здесь по меньшей мере столько же, сколько специалистов-исследователей по истории Мексики, а таких сейчас уже немало.
Любопытно, что первый из ученых, которому было суждено подтвердить своими находками сообщения Иштлилшочитля, француз по национальности, нисколько не заботился о том, чтобы индейскому историку начали верить. Ни один археолог не верил в существование города Тула, о котором рассказывал Иштлилшочитль; этот город, о котором он сообщал столько конкретных сведений, сравнивали с мифическим Туле. Даже тот факт, что на севере Мексики и поныне существует городок Тула, ни о чем не говорил археологам, так как нигде — ни в самом городе, ни в округе — не было ни одной развалины, которая в какой-то мере подтверждала бы легендарные сведения индейского принца. И даже тогда, когда француз Дезирэ Шарнэ в восьмидесятых годах прошлого века задел (скорее как кладоискатель, чем как ученый) одну из пирамид около этой Тулы де Альенде, наука не сделала из этого никаких выводов.
Только во время последней войны, когда почти весь мир был занят разрушением современных цивилизаций, мексиканские исследователи принялись за изучение своей древней цивилизации.
И что же!
В 1940 году археологи всего мира вынуждены были склонить голову перед индейским принцем. А разве в свое время им не пришлось сделать то же самое перед Гомером (раскопки Шлимана!), перед Библией (исследования Лэйярда!). Их коллеги — недоверчивые, скептически настроенные коллеги — нашли древнюю Тулу, первый город тольтеков! Они нашли Пирамиду Солнца и Пирамиду Луны! Они нашли под слоем земли в метр толщиной хорошо сохранившиеся рельефы, красивые скульптуры.
Эгон Эрвин Киш, лучший в мире репортер, который провел как немецкий эмигрант несколько лет в Мексике, был первым, кто "проинтервьюировал" Пирамиду Луны.
"И пока пирамида и интервьюер ведут между собой беседу, — писал он, очарованный видом этого вновь возникшего мираг — к ним склоняется, прислушиваясь, типично индейское лицо. Неужели это Иштлилшочитль, вставший из земли, чтобы после четырехсотлетней ссылки и изгнания восстановить свою научную честь?"
Итак, шаг за шагом на свет появлялась новая культура — цивилизация легендарных тольтеков, предшествовавшая цивилизации ацтеков. Верно ли это? Да, действительно, население Мехико жило между этими пирамидами и рядом с ними, даже не подозревая об этом. Люди проезжали мимо них, когда ехали к себе на пашню, они располагались чуть ли не у самого подножия той или иной пирамиды во время обеденного перерыва, чтобы пропустить глоток-другой пульке — убийственной водки, которую гнали из агавы и которая была известна еще тольтекам. Если бы они хоть один раз пошли прямо, они ткнулись бы носом в пирамиду.
Теперь обратимся к археологическим исследованиям. На протяжении всего лишь трех десятилетий здесь были проведены значительнейшие раскопки; в 1925 году возле северной окраины столицы археологи обнаружили Змеиную пирамиду и выяснили, что это не одна пирамида, а целых восемь — настоящая каменная луковица, в которой один слой покрывает другой. Судя по данным календаря, такие пирамиды возникали примерно каждые пятьдесят два года, так что постройка одного только этого комплекса сооружений, этой "луковицы", должна была продолжаться более четырехсот лет (своего достойного соперника эти сооружения имеют в храмах и соборах Западной Европы, постройка которых зачастую тоже длилась столетиями). В самом центре Мехико принялись искать руины Большого Теокалли, того самого, который был так основательно разрушен Кортесом, и нашли остатки его цокольного этажа. Археологи не ограничились раскопками в Мехико, они добрались и до нынешнего Сан-Хуана — до Теотихуакана, находящегося в пятидесяти километрах от столицы, величайшего поля пирамид, великолепного памятника древней тольтекской культуры, города, "в котором приносятся молитвы богу". (Таков смысл его названия; следует отметить при этом одно курьезное совпадение: по-мексикански "тео" так же, как и по-древнегречески, означает "бог"; необходимо сказать, что подобные случайные совпадения не могут служить основанием для каких-либо выводов.)
Эти руины занимают площадь в семнадцать квадратных километров, и только незначительная часть ее пока что расчищена археологами. Насколько об этом можно судить, жители, перед тем как покинуть город, завалили его целыми пластами земли, толщиной в несколько метров — работа по меньшей мере столь же удивительная, как и сами сооружения, если учесть, что некоторые пирамиды (характерные ступенчатые пирамиды) имели не меньше шестидесяти метров в высоту.
Наконец, исследователи отправились в глубь страны. Эдуард Зелер был первый, кто описал крепость-пирамиду Шочикалко, находившуюся в восьмидесяти километрах южнее столицы. Другие археологи принялись раскапывать Чолулу. Там, где некогда Кортес осуществил одно из своих кровавых злодеяний, теперь работали ученые, они открыли внутри самой большой из пирамид, занимавшей в свое время большую площадь, чем пирамида Хеопса, целый лабиринт ходов общей протяженностью в несколько километров. Продвинулись они и еще дальше на юг. В 1931 году мексиканский археолог Альфонсо Касо производил по поручению правительства раскопки в Монте Альбане около Оахаки, и именно здесь произошло то, о чем, может быть, никто из археологов не говорил вслух, но, весьма вероятно, всегда мечтал: был найден клад.
Клад Монте Альбана! Предоставим же слово лучшему рассказчику, чем мы, Эгону Эрвину Кишу.
"Есть ли на земле какой-нибудь другой клочок земли, — спрашивает он, история которого была бы столь же темна? Где еще все ваши вопросы так неизменно оставались бы без ответа? Какое чувство берет в нас верх: восхищение или замешательство? Что вызывает эти чувства — комплекс строений, устремившихся в бесконечность, или, быть может, пирамиды, похожие на роскошные лестницы, ведущие во внутренние покои неба? А быть может, двор храма, который наше воображение наполняет тысячами индейцев, погруженных в неистовые молитвы? Может быть, обсерватория, в которой имеется наблюдательный пост с кругом меридиана и углом азимута, или гигантский амфитеатр, каких Европа не знала ни в древнейшие времена, ни в двадцатом веке, — здесь было сто двадцать каменных наклонно поднимающихся рядов!
Быть может, чувства эти вызваны расположением склепов: они размещались так, что занимаемая ими площадь не превращалась в кладбище и в то же время одна могила не мешала другой. А может быть, их вызывает пестрая мозаика, фрески, изображающие различные сцены жизни, самые разнообразные фигуры людей, символы, иероглифы? Или глиняные сосуды, жертвенные чаши с их благородным звоном, геометрически прямые урны на четырех ножках с бубенчиками внутри — стоило какому-нибудь злоумышленнику попытаться унести урну, как бубенчик сразу же звал на помощь.
Но может быть, украшения? Разве не поблекла выставка древних и современных произведений ювелирного искусства на Нью-йоркской всемирной выставке перед украшениями из Монте Альбана? Небольшая часть этого клада сверкает в одной из витрин Национального музея в Мехико.
Кто бы подумал, что "дикари" могли добиться такой точности в обработке горного хрусталя, что они изготовляли из золота и драгоценных камней ожерелья, состоявшие из 854 совершенно одинаковых звеньев, расположенных в двадцать рядов! Брошь с изображением бога смерти, которого и сам Лукас Кранах не мог бы изобразить
более апокалипсически; серьги, словно сотканные из слез и шипов; головной убор — тиара, достойная папы из пап; подвязки, напоминающие английский орден Подвязки; ажурные наперстки для украшения ногтей; браслеты с выпуклым орнаментом; застежки и пряжки из нефрита, бирюзы, жемчуга, янтаря, кораллов, обсидиана, зубов ягуара, костей и ракушек; золотая маска, у которой нос и щеки обтянуты человеческой кожей; табакерка из позолоченных тыквенных листьев; опахало из перьев кецаля… Какая византийская императрица, какая индийская принцесса, какая американская миллионерша обладала такими великолепными драгоценностями, которыми многие из индеанок были украшены даже в гробу!"
"В Монте Альбане — одни вопросы" — так озаглавил Киш эту главу своего мексиканского репортажа. Только лишь в Монте Альбане?
Если мы хотим быть честными, мы должны признать, что о народе-строителе доацтекских времен нам сейчас известно меньше, чем ничего. Меньше, чем ничего, — это значит масса ошибочного, неверного, ложного. Мексика и Юкатан — районы джунглей, и, словно в джунглях, запутывается археолог, когда начинает заниматься здесь определениями и интерпретациями. Но что же известно достоверно?
Достоверно известно лишь одно: цивилизации всех трех народов теснейшим образом связаны между собой. Все эти народы занимались сооружением пирамид, ступени которых вели к богам, к Солнцу или к Луне. Все эти пирамиды, как мы теперь знаем, были приспособлены для астрономических наблюдений и сооружены под прямым воздействием календаря. Американец Рикетсон-младший в 1928 году доказал это по отношению к пирамиде майя в Вашактуне; сегодня у нас есть доказательства, относящиеся и к более поздним временам — ко временам Чичен-Ицы и к древнейшей эпохи — к Монте Альбану. Все эти народы жили под дамокловым мечом своих больших календарных циклов, словно верили, что через каждые пятьдесят два года наступает конец света. На этих представлениях и покоилась власть жрецов, ибо считалось, что они одни в состоянии предотвратить грозящую опасность. Средства, которыми пользовались жрецы для поддержания своей власти, с течением времени становились все более жестокими и постепенно вылились в чудовищные жертвоприношения, в праздник Шипе Тотеха — бога земли и весны, в честь которого жрецы занимались живодерством, они сдирали кожу с живых людей и натягивали ее на себя, зачастую еще кровоточащую.
Тесные связи этих народов наглядно видны и при знакомстве с их богами; сравнивая божества, можно увидеть, что их объединяло примерно то же, что объединяло римских и греческих богов. Один из главных богов, великий и мудрый Кецалькоатль, в Гватемале был известен под именем Кукумаца, а в Юкатане как Кукулькан. Его изображение в виде пернатой змеи можно обнаружить и на древних и на более новых сооружениях. Даже образ жизни, который вели все эти народы Центральной Америки, был в основном одинаков, и, хотя языки их весьма многочисленны, все они принадлежат к двум большим группам.
Однако установить родство этих народов (оно подтверждается буквально необозримым материалом) — это еще полдела: возникает вопрос о связях и взаимосвязях, о их влиянии друг на друга, то есть об их истории, и здесь мы, во всяком случае в области древней истории, бредем еще в абсолютной темноте. Несмотря на выдающиеся успехи в исследовании, которые привели, насколько мы можем об этом судить, к совершенно верной корреляции календарей майя и современного, мы до сих пор не знаем начальной, отправной даты истории майя. Расчищая джунгли вокруг пирамид и дворцов древней Америки, мы высвобождаем строения, но не прошлое, получаем даты, но не историю; мы можем строить разные гипотезы, но у нас мало фактов, на которые мы могли бы ссылаться.
Мы сказали, что будем остерегаться приводить цифры и даты. Нарушим, однако, один раз наш зарок, чтобы дать представление о тех исторических периодах, с которыми приходится иметь дело археологам. Так, к примеру, некоторые исследователи, основываясь на ряде признаков, относят начало сооружения тольтеками больших пирамид в Мексике к IV веку н. э.
Мы уже упоминали о некоторых из этих пирамид начиная от Тулы и кончая Монте Альбаном. Но об одной пирамиде мы еще не говорили. Это возвышающаяся на семиметровом холме у южной окраины Мехико пирамида Куикуилько. Она находится в чрезвычайно мрачной, унылой на вид местности, словно тронутой заморозками. Некогда вулканы Ахуско и Шитли (может быть, даже только последний) обрушили огненные потоки лавы на это сооружение, которому бог, обитающий в нем, помог только наполовину. Археологи обратились за консультацией к своим коллегам в другой области науки — к геологам. "Сколько лет этой лаве?" — спросили они.
И геологи, не подозревая, что они своим ответом перевертывают всю сложившуюся до этого картину, ничтоже сумняшеся ответили: "Восемь тысяч лет".
Читатель, совершивший в процессе чтения этой книги путешествие в глубь веков вплоть до эпохи шумеров, может понять, что кроется за этими словами. Если ответ был справедлив (а судя по новейшим исследованиям, почти все говорит об обратном), то это означало бы, что ранняя американская цивилизация по меньшей мере на тысячу лет старше, чем все известные ныне благодаря стараниям археологов цивилизации Старого Света, старше, чем Шумер и Аккад, Вавилония, Египет, намного старше, чем Греция, которую мы считаем страной классической древности.
Гипотезу, согласно которой американские народы являются потомками монгольских племен, переселившихся в Америку через Сибирь или Аляску по какому-то сухопутному мосту или же на лодках двадцать или тридцать тысяч лет назад, мы, правда, сейчас принимаем, но точных данных у нас нет. Откуда, из среды каких кочевых племен появились строители теотихуаканской цивилизации и тольтеки, почему именно эти племена, кочевавшие между Аляской и Панамой, оказались в состоянии положить начало той или иной из этих цивилизаций, мы не знаем.
Более того, мы даже не знаем точно, действительно ли все это построил в основном народ тольтеков. А какова была, к примеру, роль сапотеков или, скажем, ольмеков, следы которых мы постоянно находим в Мексике? И если мы сейчас повсеместно употребляем слово "тольтеки", подразумевая под ним предшественников цивилизаций майя и ацтеков (в настоящее время наука отделила цивилизацию тольтеков от цивилизации теотихуаканцев), то мы должны себе отдавать отчет в том, что мы пока что нашли всего лишь общий термин для творцов центральноамериканских цивилизаций. Весьма может быть, что слово "тольтеки" и в самом деле всего-навсего означает "строители".
Но может быть, для того чтобы в какой-то мере представить себе связи, существовавшие между этими тремя большими царствами, и то влияние, которое они оказывали друг на друга, следует в качестве аналогии привести пример из истории Старого Света — тот самый, который приводит в своей работе о Мексике немецкий исследователь Теодор Вильгельм Данцель.
"…Для того чтобы охарактеризовать своеобразие цивилизаций ацтеков и майя, прибегали к аналогиям, почерпнутым из истории древнего мира, сравнивая ацтеков с римлянами, а майя с греками. Сравнение это в общем и целом верно. Майя и в самом деле представляли собой народ, состоявший из отдельных враждовавших между собой племен, которые лишь изредка и на короткое время когда речь шла о том, чтобы выступить против общего врага, — объединялись в единый союз. И если политическая роль майя была не слишком значительной, то в области изобразительного искусства, архитектуры, астрономии, арифметики они добились выдающихся успехов.
В отличие от майя ацтеки были воинственным народом, который создал свое царство на развалинах государства другого народа — тольтеков, не сумевших отразить их натиск. Тольтеков, если продолжить наши сравнения, можно уподобить этрускам".
Мы можем подсказать читателю, мало-мальски внимательно читавшему нашу книгу, еще одно сравнение. Тольтеки (возможно, и более ранние) напоминают по своей исторической функции изобретательных шумеров. Майя тогда будут вавилонянами — теми, кто, воспользовавшись превосходными изобретениями своих предшественников, создал цивилизованное государство, а ацтеки — это воинственные ассирийцы, которые еще, правда, пользуются духовными плодами предшествующей эпохи, но превращают их в чисто материальное средство усиления своей военной мощи. Продолжая сравнение, следует сказать, что столица Мексики была обезглавлена в расцвете своего могущества испанцами, так же как столица ассирийцев, великолепная Ниневия, — мидийцами.
Но оба эти примера не сходятся в одном. Речь идет о том почти необъяснимом факте, что тольтеки совершенно неожиданно после того, как их государство уже давно исчезло, вторглись в Новое царство майя, что наложило на культуру майя, в частности в Чичен-Ице, весьма заметный отпечаток. Этому не подберешь аналогий в древней истории! Но так ли это было? Ведь все могло быть совсем иначе. Существует даже легенда, в которой все рассказано совсем по-иному; в ней даже предсказывается испанское нашествие, правда, в виде мифа. Кецалькоатль, говорится в этой легенде (о котором мы до сих пор говорили лишь как о боге), прибыл из "страны восходящего солнца". На нем было длинное белое одеяние, и он носил бороду; он научил народ наукам, правильным обычаям и установил мудрые законы, он основал государство, в котором початки кукурузы были в рост человека, а хлопок рос уже окрашенным. В силу каких-то причин он, однако, был вынужден покинуть это государство. Он забрал свои законы, свои письмена, свои песни и отправился по той же дороге, по которой в свое время пришел. В Чолуле он сделал остановку и еще раз объявил о своей мудрости. Затем он отправился к морю, принялся там плакать и сжег сам себя. Его сердце превратилось в утреннюю звезду. Другие утверждают, что он сел на свой корабль и отправился в ту страну, из которой он приехал. Но все легенды сходятся на том, что он обещал вернуться.
На протяжении нашей книги мы уже столько раз убеждались в рациональности многих легенд, что и на этот раз остережемся сразу отмести как поэтические выдумки то, что представляется таковыми на первый взгляд. Может быть, белое одеяние следует заменить белой кожей? Вспомним, что Кецалькоатль носил бороду — подробность весьма интересная для племен, которые сами были почти безбородыми.
Может быть, мы можем пойти еще дальше (мы приводим здесь лишь вполне серьезно высказанные гипотезы) и увидеть в нем миссионера дальней, чужой страны, так же как некоторые хотят увидеть в нем одного из самых ранних католических миссионеров — миссионера VI века, а другие даже самого апостола Фому? А может быть, эта легенда дает пищу той теории, в которую уверовал юный Томпсон, считавший, что основателями раннего царства майя и его цивилизации были атланты.
Мы этого не знаем.
Мы знаем только одно: испанцы, вторгшиеся в Мексику, которых приняли в память о последнем обещании белого бородатого человека за "белых богов с Востока", эти испанцы (оставим в стороне национальную гордость, обобщим и скажем лучше — европейцы) наверняка не были последователями Кецалькоатля, который проповедовал добрые нравы и справедливость.
КНИГИ, КОТОРЫЕ ЕЩЁ НЕ НАПИСАНЫ
Глава 34 НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О ДРЕВНИХ ЦАРСТВАХ
Мы заканчиваем наш рассказ о великих археологических открытиях, а тем самым и наше путешествие сквозь пять тысячелетий.
Мы далеко не исчерпали эту тему. И если мы все же на этом заканчиваем нашу книгу, то лишь в силу того обстоятельства, что ее объем, как, впрочем, и объем любой другой книги, подчинен своим собственным законам. Отбирая материал, мы руководствовались определенными принципами. Положив в основу не хронологический принцип, а территориальный, располагая материал не в хронологическом порядке, а по тем областям цивилизаций, к которым он относится, мы тем самым получили в наших четырех книгах почти само собой возникшую картину четырех замкнутых кругов культуры, четырех самых значительных в истории цивилизаций. Необходимо иметь в виду, что между этими немногими высшими цивилизациями и бесчисленным множеством первобытных обществ существует примерно такая же разница, как между историей и прозябанием, сознанием и инстинктом, творческим преобразованием окружающего мира и пассивным существованием.
Посвящая это послесловие книгам, которые еще предстоит написать, мы прежде всего имеем в виду три цивилизации, вряд ли уступающие по своему значению тем четырем, о которых мы рассказали в этой книге. Речь идет о цивилизации хеттов, о цивилизации индийцев и о цивилизации инков. Книги о них еще не могут быть завершены, ибо эти цивилизации еще не настолько известны, чтобы можно было восстановить их развитие и историю с помощью тех средств, которыми мы пользовались.
Более того, наша книга называется "Романом археологии". Чтобы оправдать это название, мы избрали темой своего повествования такие цивилизации, исследование которых действительно овеяно романтикой приключений. Об инках нам известно почти столько же, сколько и о майя, но среди исследователей андской цивилизации нет ни своего Стефенса, ни своего Томпсона. С другой стороны, мы довольно неплохо осведомлены об истории Китая, но нашими знаниями в этой области мы лишь в очень незначительной части обязаны археологии. Вот почему вне поля нашего зрения остались и та и другая цивилизации.
В последние десятилетия обширные и успешные раскопки производились в районе расселения хеттов и в долине Инда. Книги об этом, следовательно, рано или поздно придется дописать. Но мы должны отдавать себе отчет в одном: если даже мы к четырем уже написанным книгам присоединим еще три, мы все равно не сумеем рассказать о всех выдающихся цивилизациях мира.
Чтобы дать полное представление о том, с какими цивилизациями, помимо тех, которые мы попытались оживить в нашем романе, приходится ныне считаться археологам, перечислим их в том порядке, в каком они приведены у английского историка Арнольда Дж. Тойнби:
западная японо-корейская
византийско-ортодоксальная минойская
русско-ортодоксальная шумерская
персидская хеттская
арабская вавилонская
индийская египетская
цивилизация Дальнего Востока андская
эллинская мексиканская
сирийская юкатанская
цивилизация Инда майя
китайская
Впрочем, этот список, если бы мы захотели привлечь еще и других исследователей, можно продолжить. Платон оставил нам сообщения о погибшей цивилизации Атлантиды.
Число книг, посвященных этому затонувшему царству (существование которого вообще еще не доказано), в общей сложности перевалило за двадцать тысяч. Среди них — множество таких, в которых доказывается, что история нашего мира без Атлантиды — нелепость. Лео Фробениус тоже остался бы недоволен таблицей Тойнби. Он, несомненно, стал бы настаивать на включении в этот список "некоторых черных цивилизаций". Фробениус также оперирует понятием "цивилизации атлантов". Кто, впрочем, отважится утверждать, что археологам уже больше не суждено открыть такие цивилизации, о которых мы и понятия не имеем? А разве мало на земле памятников, одиноких и загадочных, которые существуют, но до сих пор не раскрыли своей тайны: на почве какой культуры они возникли? Наиболее известные из них — это статуи на острове Пасхи: примерно 260 изваяний из черного туфа, которые раньше имели еще широкие шляпы из красного туфа; споры и дискуссии об этих памятниках продолжаются и поныне. Они молчат. Сохранилось около двадцати табличек, покрытых иероглифами, быть может, они помогут нам разгадать эту тайну. Однако их текст до сих пор не расшифрован.
Нерешенными остаются еще многие вопросы. Бесчисленные сооружения еще скрыты под толщей тысячелетий. Но уже везде пущены в ход лопаты.
По следам хеттов, государство которых в эпоху своего величия включало в себя всю Малую Азию и часть Сирии, отправились немцы: Гуго Винклер и Отто Пухштейн, их младшим ассистентом был Людвиг Курциус, впоследствии блестяще описавший свои раскопки. В наши дни Леонард Вуллей, раскопавший Ур, проводит раскопки близ Алалаха (нынешнего Атчана) в Турции. Он занимается этим с 1937 по 1939 год, а затем начиная с 1946 года. В 1947 году он объявил о важной находке — гробнице царя Яримлима, относящейся ко II тысячелетию до н. э. Примерно в течение двадцати лет там же ведут раскопки два немца, которые, как Ботта и Лэйярд, как Раулинсон и Питри, поселились среди таврических гор, пыльных анатолийских равнин и древнего царства хеттов.
Профессор Курт Биттель с 1931 года ведет раскопки в древней столице этого государства (в первый же год он нашел 832 глиняные таблички и обнаружил остатки храма и одной из самых удивительных крепостей во всей мировой истории). Профессор Гельмут Т. Боссерт, один из шести ученых, известных своими выдающимися заслугами в области подготовки расшифровки хеттской иероглифической письменности, нашел в 1947 году на юго-востоке современной Турции, на Каратепе (Черной горе), двуязычную надпись финикийскую и хеттскую — своего рода Розеттский камень; такое счастье выпадает лишь на долю тружеников. Боссерт еще и сейчас, в 1955 году, занят дешифровкой этой надписи, и его выводы впервые в истории дешифровки хеттской письменности основываются не на гипотезах, а на определенных фактах.
Исследованием цивилизации Инда занялся Джон Маршалл. В 1922 году близ Хараппы, в юго-западном Пенджабе, были сделаны первые находки. В 1924 году начались раскопки в Мохенджо-Даро: на свет появилась новая древняя цивилизация, относящаяся к четвертому-третьему тысячелетию до н. э. Руководителем раскопок в Индии был д-р Ф. Е. Мортимер Вилер. Весьма вероятно, что новейшие раскопки в Хараппе помогут внести ясность в вопросы, связанные с историей этой цивилизации, затерявшейся во мгле времен; крепостные сооружения, обнаруженные здесь в 1946 году, поразительно напоминают месопотамские оборонительные сооружения.
Примерно в то же время, когда Вуллей вел свои раскопки в Алалахе, а Маршалл исследовал Мохенджо-Даро, американец Пауль Козок, совершая полет над Андами, обнаружил возле древнего города Наска целую сеть так называемых дорог инков. Аэрофотосъемка показала, однако, что это не дороги, ибо в большинстве случаев они ведут на вершину гор и там обрываются. Профессор Козок ныне утверждает, что он нашел величайший астрономический атлас мира: он открыл взаимосвязи между этими линиями-дорогами и астрономическими датами, он предполагает, что некоторые из этих линий изображают движение звезд. Если он прав, то мы получим возможность познакомиться с новой для нас областью знаний и цивилизацией древних народов, населявших Анды.
Однако новые открытия происходят не только в новых местах. И поныне в тех местах, где велись раскопки во времена Шлимана, заступ все еще находит себе работу, и с каждой новой находкой углубляются наши знания. Нередко новые находки заставляют нас пересмотреть старые, казавшиеся верными представления. Несколько лет назад вновь разгорелась "борьба за Трою": утверждают, что и Шлиман и Дерпфельд не правы в своих выводах. Американский профессор Блеген еще раз исследовал раскопки на Гиссарлыкском холме, и в результате утверждает, что гомеровская Троя находится не в 6-м слое (точка зрения, которую с упорством защищал Дерпфельд), а в 6-м слое А (согласно Блегену, в слое, датированном между 1200 и 1190 годами до н. э.).
А едва окончилась вторая мировая война, как вновь изучение истории древнего мира переплелось с романтическими приключениями. Чтобы доказать связь между цивилизацией инков и островной цивилизацией Тихого океана, 28 апреля 1947 года молодой норвежский исследователь Тур Хейердал отправляется в дальний поход. За 101 день он пересекает на плоту, построенном им по образцу плотов инков, который он назвал "Кон-Тики", Тихий океан — от перуанского порта Кальяо до острова Туамоту.
Раскопки продолжаются. Они продолжаются в Греции, Италии, на островах Средиземного моря, в Малой Азии, в Египте, Месопотамии — в новых и в давно уже известных местах.
Какие еще сокровища знания, какие еще материальные ценности будут извлечены на свет?


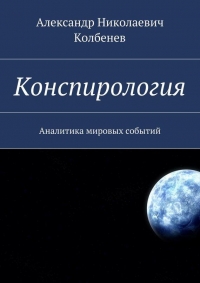
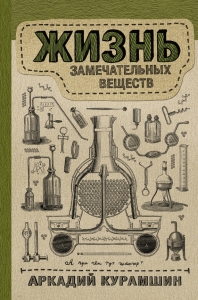




Комментарии к книге «Боги, гробницы и ученые», Курт Вальтер Керам
Всего 0 комментариев