Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Посвящается моей матери
Эта книга основана на моей клинической практике и медицинских репортажах. Некоторые имена и детали, включая личные данные пациентов, были изменены. В нескольких случаях я свела воедино разные истории, чтобы лучше осветить ситуацию и проиллюстрировать мои выводы.
Что еще могу я дать?
Я несу вам мой рассказ,
Неуклюжий, но искренний.
Что еще могу вам дать,
Какие скромные дары
Обернуть иносказанием?
Что еще могу я дать?
Я несу вам свой рассказ.
Рэйчел Хейдас.
Каменные ступени
Введение
Прошло почти десять лет с моего первого ночного дежурства в отделении интенсивной терапии. Некоторые детали потускнели в памяти, но я прекрасно помню свой страх, колотящееся сердце и боль в запястьях при выполнении сердечно-легочной реанимации. Только утром, в полном изнеможении, я осознала, что именно этим и хочу заниматься всю жизнь. Сначала я собиралась просто изучать медицину, чтобы уметь диагностировать даже самые редкие болезни по данным осмотра и результатов анализов. Я встречала родственников у постелей пациентов, но не позволяла себе поддаваться исходящим от них страху и тревоге. Честно говоря, во время учебы в резидентуре у меня просто не было на это времени.
Меня считали врачом, который ни в коем случае не даст никому умереть. Я этим гордилась и, собственно, горжусь до сих пор. Тогда я была уверена: моя работа — сделать все, чтобы сердце пациента продолжало биться, будь то очередная процедура, введение повышающих давление лекарств, экстренная интубация трахеи, установление катетера в центральную вену или проведение срочного диализа. Разговаривая в те дни и ночи с родственниками больных, я не задавала вопросов. Мне было не о чем их спрашивать, и я изъяснялась декларациями вроде «Мы делаем все, что в наших силах», от души надеясь, что это было правдой. Я хотела все делать правильно, и это был известный мне способ. «Мы делаем все возможное».
Достижения медицины ослепляли. Я слышала о невероятных изобретениях: искусственная вентиляция легких, гемодиализ, выполняющий работу почек; казалось, что хирурги способны вырезать практически любой орган у одного человека и пересадить другому. Экстракорпоральная мембранная оксигенация заменяла неработающие легкие, прогоняя венозную кровь через аппарат, насыщающий ее кислородом и удаляющий углекислый газ. Люди, которых всего несколько десятилетий назад болезнь убила бы во младенчестве, теперь могли жить дольше некоторых здоровых сверстников. Ни с чем не сравнимое чувство — знать, что я причастна к этим чудесам.
Но мало-помалу к этому чувству примешивалось что-то еще. На втором году резидентуры мне случилось заниматься пожилым человеком, страдавшим от тяжелой анемии в результате повторяющихся кишечных кровотечений. Специалисты упорно пытались обнаружить их источник, в кишки вводили эндоскоп, коагулировали поврежденные сосуды, но изо дня в день кровотечение повторялось, а анемия прогрессировала. Мы переливали пациенту все больше крови, но он слабел на глазах. По утрам я входила в палату, склонялась над стариком, прикладывала к его груди фонендоскоп, чтобы выслушать сердце и легкие, и каждый раз он смотрел на меня и спрашивал, можно ли ему покинуть больницу. Я отвечала, что пока нет, потому что нам еще не удалось остановить кровотечения. Он кивал, но на следующий день неизменно задавал тот же вопрос. Я снова говорила: «Нет, хотя очень надеюсь, что скоро мы сможем вас выписать».
Время шло, и однажды мой пациент сказал, что решил вернуться домой. «Это невозможно, — подумала я. — Вы каждый день истекаете кровью». Но для старика это уже не имело никакого значения. Он и слышать не желал о новых процедурах и переливаниях. Его руки были в синяках от бесконечных уколов. Каждый раз при переливании крови легкие пациента наполнялись жидкостью и ему не хватало воздуха, пока не начинали действовать мочегонные, которые отводили лишнюю воду. Этому человеку было 90 лет, он бесповоротно слабел, и лучше ему не становилось. Подходя к нему по утрам, я чувствовала себя немного виноватой и все-таки была удивлена его решением. Честно говоря, оно показалось мне в какой-то мере оскорбительным. Я пыталась переубедить своего пациента; призналась, как мне неловко от того, что мы не давали ему есть перед некоторыми процедурами, которые порой приходилось переносить на вторую половину дня. Я предложила приносить ему любую еду из больничного кафетерия — все, что он захочет. Я пыталась объяснить, что, если он останется у нас, ему может стать лучше.
Но он не хотел того «лучше», что мы могли предоставить. Этот человек скучал по своему дому, собственным кровати и телевизору, ночной тишине и солнечным лучам, которые по утрам освещали его спальню. Это был не тот дом, где он жил когда-то со своей семьей, но в гостиной у него было удобное кресло и любимые книги. В ответ на мои уговоры он решительно покачал головой. Он не желал еды из кафетерия. Он хотел домой.
«Что, если это говорит депрессия?» — подумала я и пригласила психиатров, в глубине души ожидая заключения о неспособности моего пациента принимать разумные решения. Врачи долго беседовали с пожилым человеком и убедились, что тот находился в здравом уме. Он вполне осознавал последствия: кровотечения будут повторяться, анемия усилится, он продолжит слабеть и в конце концов умрет от потери крови. Я была потрясена, но составила все необходимые для выписки документы и предоставила пациента его судьбе.
Еще долго я находилась под впечатлением нашего последнего разговора. Я видела ситуацию так: пациент пришел к нам с проблемой, с которой мы не сумели справиться, и ему пришлось вернуться домой, чтобы спокойно умереть. Мы потерпели фиаско. Тем сильнее было мое удивление, когда на сестринский пост в одном из отделений принесли букет сирени, в который было вложено адресованное мне письмо от сына того пожилого человека. Наверняка я сделала что-то не так. Нервничая, я вскрыла конверт и узнала, что с помощью работников хосписа мой пациент провел свои последние дни дома, как и желал. Теперь его сын хотел сказать спасибо врачам, лечившим отца во время последней из многих госпитализаций. Оказалось, тот высоко оценил наши усилия, понимал, как тяжело мы переживали его уход из больницы, и был нам благодарен. Я перечитала письмо. Пожалуй, это был первая весточка, присланная мне пациентом или его семьей после выписки. Я впервые получила благодарность, причем за решение, принятое не мной. Один цветок сирени я вложила в небольшой медицинский справочник, который всегда ношу с собой в кармане белого халата.
Я навсегда сохраню память о том пациенте и неожиданном подарке его сына. Размышляя об этой истории, постепенно я стала видеть ее в новом свете. Мой престарелый пациент сделал выбор и покинул больничную палату, чтобы по-своему прожить отведенный ему срок. Было ли это поражение, как мне казалось поначалу, или своего рода успех? Что вообще означают эти слова? Когда я научилась видеть больше, учитывать долгосрочные последствия и результаты наших решений, то казавшиеся прежде четкими и ясными понятия стали не такими определенными.
Когда я пыталась убедить пациента продолжить лечение, мне казалось, что главное — остаться в живых. Пожалуй, так и должен думать врач, только-только начинающий свою карьеру. Но выживание — только начало. Это не черно-белое противопоставление «смерть или жизнь», на самом деле здесь целый спектр возможных вариантов. Сидя на амбулаторных приемах или проверяя показатели госпитализированных больных, я начала задумываться: с чем придется жить этим пациентам после выписки? Как они приспособятся к новым реалиям? Станут ли жалеть о принятых ими решениях (или о решениях, которые были приняты за них)?
Поиск ответов на эти вопросы стал мотивом написания этой книги. За годы, прошедшие после первой ночи в отделении интенсивной терапии, я прошла интернатуру и резидентуру по внутренним болезням, а затем дополнительное узкоспециализированное обучение пульмонологии и интенсивной терапии. Теперь я работаю врачом отделения интенсивной терапии в больнице, в которой когда-то появилась на свет. Я тот человек, который ставит диагноз, встречается с родственниками пациентов и несет ответственность за результаты лечения. За время учебы я узнала, как работать с аппаратом искусственной вентиляции легких, как лечить сепсис и как диагностировать причины почечной недостаточности. Я научилась смотреть в лицо смерти, видеть момент, когда цепенеет тело пациента, ощущать тяжесть непоправимого и не отводить взгляд. Но я до сих пор толком не знаю, что испытывают те, кому удается обмануть смерть, чьи жизни были продлены на месяцы и годы благодаря новейшим методам лечения и инвазивным технологиям.
По мере прогресса медицины число таких историй увеличивается. Мужчины и женщины с муковисцидозом доживают до зрелого возраста, о чем раньше не приходилось и мечтать; доноров почки ищут в Facebook; некоторые больные после проведения реанимационных мероприятий в отделении интенсивной терапии борются с посттравматическим стрессовым расстройством, другие оказываются до конца жизни прикованы к аппарату искусственной вентиляции легких в специализированных медицинских центрах. Некоторых из описанных в этой книге людей я лечила, с другими встретилась как писатель. Все они столкнулись с болезнью или травмой и не остались бы в живых без достижений медицины. Размышляя о них, можно долго восхищаться совершенством современных лекарств и технологий, но не это находит глубокий отклик в моей душе.
Самое необыкновенное во всех этих историях — то, что при ближайшем рассмотрении они абсолютно заурядны. Если проследовать за этими мужчинами и женщинами в их миры, где они живут с последствиями врачебного вмешательства, наука отступает на задний план. Мы окажемся рядом с обычными людьми, которые преодолевают возникающие трудности, переживают потери и, несмотря ни на что, торжествуют победу жизни над смертью.
1 Можно перестать мычать
Я работала врачом уже почти полгода, когда в Facebook подружилась с молодым человеком, умиравшим в отделении кардиологической интенсивной терапии.
Сэму Ньюмену было 28 лет, и его сердце отказывалось работать. Когда врачи поняли, что он болен слишком тяжело и они не способны помочь, то принялись обзванивать другие лечебные учреждения, надеясь отправить молодого человека в лучше оснащенную больницу. Не знаю, сколько времени ушло на поиск подходящего госпиталя, пока одной зимней ночью автомобиль скорой помощи не привез Сэма в отделение кардиологической интенсивной терапии Нью-Йоркской пресвитерианской больницы, где я тогда была интерном. Следует сказать, что на тот момент я была врачом всего-то, что называется, без году неделю.
Когда привезли Сэма, я не дежурила. Я была дома, в своей квартире, безуспешно пытаясь уснуть. В том году я сильно уставала — это была тревожная усталость, когда засыпаешь, стоя в переполненном вагоне метро, и проезжаешь свою станцию, но, оказавшись в кровати, не можешь сомкнуть глаз и до утра ворочаешься без сна. Эти бессонные ночи были столь мучительны, что звонок будильника в пять утра приносил облегчение. Он означал, что можно вставать, принимать душ и собираться на работу. В то утро, приехав в больницу, я присоединилась к группе резидентов, готовых к утреннему обходу в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Обход всегда начинался с самого тяжелого или с самого сложного пациента, а заканчивался больным, который практически не требовал внимания, — ждал перевода в обычное отделение или в реабилитационный центр. Сэм Ньюмен был самым тяжелым и самым сложным больным, так что обход начался с него.
Принимавший Сэма интерн с затуманенными после бессонной ночи глазами выступил вперед. Вокруг столпились студенты, надеявшиеся блеснуть знаниями. Самоуверенный, с иголочки одетый фармаколог внимательно следил, чтобы мы от усердия не напортачили с дозировкой антибиотиков, калия или седативных препаратов. Я заняла свое место среди интернов (резидентов первого года обучения) и наших наставников — резидентов второго года. Одеты мы все были одинаково — белые халаты с желтыми воротниками, футболки и мятые хирургические штаны. Наша задача была практически невыполнимой: надо было одновременно слушать анамнез нового пациента, делать назначения, вносить в них исправления, сделанные фармакологом, и пропускать мимо ушей неумолчный шум.
Иногда этот фоновый шум становился единственным, что я слышала. Во-первых, это был странно мелодичный, крещендо — диминуэндо, звук ду-ду-ду-ду, издаваемый аппаратом искусственной вентиляции легких, во-вторых, ритмичное стаккато кардиомониторов, в-третьих, вой мощного пылесоса, который, казалось, включали в самые напряженные моменты разговора с родственниками. Оставалось только надеяться, что, несмотря на шум, не пропустишь ничего важного. К тому времени я была врачом полгода и уже забыла, каково это — выслушать целиком анамнез пациента. Вместо этого я научилась составлять для каждого пациента список необходимых дел, с которым буду сверяться в течение всего дня. Данные о больном (результаты анализов и исследований) заносятся в специальную таблицу, в отдельные ячейки вписывают назначения (обследования, процедуры, лекарства), и моя задача — следить за их выполнением. Исчезли всякие представления о «до» и «после»; оставался только лист назначений и необходимость выполнить все пункты списка, прежде чем уйти домой. Связный анамнез, как и спокойный ночной сон, остались в далеком студенческом прошлом.
Но в тот день я все же услышала слова «28 лет», и в тот же миг шум аппарата ИВЛ, пиликанье мониторов и вой пылесоса затихли, исчезли запахи телесных жидкостей, все отошло на задний план. Мы были почти ровесниками. Несмотря на то что коллега-интерн начал повествование лаконичным и сухим медицинским языком, в котором мы поднаторели за лето и осень («Пациенту 28 лет. Год назад на фоне нормального самочувствия отметил развитие отека нижних конечностей»), я впервые после получения диплома слушала анамнез, одновременно воссоздавая для себя историю жизни и болезни этого человека.
Сэм Ньюмен был инвестиционным банкиром. Он много и упорно работал — и однажды стал замечать, что в конце дня у него отекают лодыжки. Сначала он думал, что дело в сидячем образе жизни или алкоголе: работа была напряженной, и вечерами он снимал стресс. Сэм перестал пить пиво и, как только появлялось время, отправлялся на баскетбольную площадку. Но отеки усилились. По ночам Сэм просыпался от удушья, его бросало в пот. Чтобы нормализовать дыхание, ему приходилось садиться. Интерн описал это так: «Отеки нижних конечностей прогрессировали, сопровождаемые ортопноэ». Сэм решил, что это панические атаки, — видимо, слишком нервничает из-за работы. «Как же он был напуган», — подумала я тогда. Приятель сказал Сэму, что тот зря переживает, но на всякий случай посоветовал одного врача. Сэм тянул несколько недель, но в конце концов записался на прием. Терапевт предположил (как и я на его месте), что у молодого человека действительно стресс, спровоцированный трудной работой. Доктор слушал рассказ Сэма и ободряюще кивал головой. Я легко могу представить, как, покончив с анамнезом, он приставил к груди Сэма фонендоскоп, чтобы выслушать легкие, — рутинный осмотр, просто чтобы удостовериться, что все в полном порядке. Но вместо свободного дыхания, какое следовало ожидать у здорового молодого человека, врач услышал потрескивание, какое бывает при расчесывании волос гребнем. Такой звук возникает, когда альвеолы, крошечные пузырьки в легких, заполняются жидкостью. Выражение лица врача изменилось. Он напрягся и перестал шутить. В кабинете повисла недобрая тишина.
«Откашляйтесь», — попросил терапевт, надеясь, что после этого влажные хрипы исчезнут. Сэм прочистил горло. Теперь и он, сам не зная почему, сильно разнервничался. «Все в порядке, доктор?» Но врач не ответил. Он сосредоточенно выслушивал легкие пациента, потом наклонился и ощупал его лодыжки. Они немного отекли. В другой ситуации врач, скорее всего, и не обратил бы внимания, но теперь этот отек приобрел совершенно иной смысл.
Доктор не стал делиться с Сэмом своими опасениями — не стоило расстраивать молодого человека до получения более полной информации. Сэм и без того так встревожился, что не мог задавать вопросы, ведь он боялся возможных ответов. Разговор был кратким. Врач немедленно направил Сэма на рентгенографию грудной клетки. На снимке легкие были затемнены скопившейся в них жидкостью. Тогда молодому человеку сделали эхокардиографию, УЗИ сердца и выяснили, что оно работает едва ли вполсилы. Доктор позвонил Сэму и сказал, что ему необходимо лечь в больницу. Почувствовав волнение молодого человека, врач решил ободрить пациента. Он предположил, что дело в поразившем сердце вирусе, и если это так, то после лечения Сэм почувствует себя лучше. Сэм ухватился за эту идею, позвонил своему начальнику и сообщил, что у него какая-то пустяковая инфекция, нужно лишь отлежаться пару дней. Затем он позвонил матери, и, хотя говорил обтекаемо и изложил ситуацию в самых общих чертах, она встревожилась до дрожи в руках и слез. Чтобы успокоить ее, Сэм заверил: тревожиться не о чем, это банальный вирус, скоро ему станет лучше.
Но лучше Сэму не стало. Его выписали из больницы, назначив целую гору лекарств. Мама привезла ему специальную коробочку для таблеток и разложила в ней лекарства на утренние и вечерние. Так прошли две недели. Потом Сэму сделали биопсию. Он лежал на операционном столе, ступни свисали с края, было неудобно, холодно и страшно. Врачи ввели в крупную внутреннюю яремную вену, которая проходит рядом с сонной артерией, катетер, по которому направили более тонкий катетер с крошечными щипцами, чтобы взять кусочек сердечной мышцы и отправить его на исследование патологоанатому. После этого Сэму наконец поставили точный диагноз. Дело было вовсе не в вирусе, и надежд на скорое выздоровление не было. Иммунная система Сэма атаковала собственный организм, и ни одна из таблеток, которые он держал в купленной для него мамой коробочке, ни высокие дозы гормонов, никакие другие назначенные врачами лекарства со всеми их побочными эффектами, которые Сэм безропотно терпел, — боль в животе, онемение конечностей, подверженность инфекциям — ничто не могло остановить болезнь.
Сердце было поражено настолько, что вместо четкого и синхронного ритма камеры сердца начали сокращаться хаотично — это называется приступами желудочковой тахикардии. Врачи назначили огромные дозы лекарств, чтобы утихомирить внутренний шторм, но это не помогло. Тогда в сердце Сэма имплантировали миниатюрный кардиовертер-дефибриллятор — машину, которая мощным электрическим разрядом прекращает смертельно опасное нарушение сердечного ритма. Когда это произошло в первый раз, Сэму показалось, будто в его груди взорвалась бомба. Потом разряды стали происходить все чаще и чаще, и Сэма направили в нашу больницу, надеясь, что здесь специалисты смогут помочь ему дождаться пересадки сердца. В ночь по приезде дефибриллятор срабатывал в груди Сэма трижды. Это означает, что он три раза мог умереть, если бы не эти электрические разряды.
Мой отец — кардиолог, и в детстве я любила играть с анатомической моделью сердца. Она было очень тяжелой и сложной. Каждую из четырех камер можно было открыть и заглянуть внутрь. Отец научил меня правильно называть все части сердца. Я узнала, как кровь, собранная со всего тела, поступает в правое предсердие, затем через клапан в правый желудочек, потом в легкие, откуда, насытившись кислородом, отправляется в левое предсердие и левый желудочек, после чего цикл повторяется. Много лет спустя в анатомическом классе мы, студенты, извлекали сердца из темниц грудных клеток, поражаясь красоте и фантастической сложности строения этого органа. Однако, стоя в палате Сэма Ньюмена, я понимала, что здесь неуместны красивые метафоры. Все было обыденно и страшно.
Пока мои коллеги, интерны и резиденты, внимательно изучали кардиограмму Сэма, перечисляя нарушения ритма, я поглядела на пациента. Тот потянулся за ноутбуком, лежащим на прикроватном столике. Я ощущала собственное сердцебиение, регулярное и размеренное. Этот молодой человек мог трижды умереть сегодня ночью, но он жив и пытается поймать больничный вай-фай, чтобы выйти в интернет.
Сэм Ньюмен был самым интересным больным нашего отделения интенсивной терапии. «Очень поучительный случай», — в первое же утро сказал мой наставник. Сэм был молод и страдал редким заболеванием в особенно тяжелой форме. Одного этого было достаточно, чтобы стремиться участвовать даже в самых банальных процедурах обследования и лечения. Но этот молодой человек вызывал у меня страх, и я всячески избегала контактов с ним. Сначала это было легко. Когда мы с другими интернами делили задания, внесенные в лист назначений, я вызывалась брать анализы или сопровождать на разнообразные исследования других больных. Но однажды мой наставник попросил, чтобы я удалила у Сэма катетер из центральной вены. У него началась приступообразная лихорадка; мы не знали, что ее вызвало, но источником инфекции мог оказаться катетер, поэтому его следовало извлечь. В тот день я была интерном, отвечавшим за подобные манипуляции, поэтому удаление катетера поручили мне. Я откладывала процедуру, надеясь, что лихорадка пройдет или пустой квадратик у предписания «Извлечь катетер» сам собой заполнится галочкой. В час дня ячейка все еще была пустой. «Пойду вытащу катетер», — сказала я вслух, ни к кому, в общем-то, не обращаясь. Я взяла желтый халат, который следовало надевать перед процедурами, чтобы предотвратить передачу устойчивых к антибиотикам бактерий от пациента к пациенту, и вошла в палату Сэма.
Я видела его каждое утро на обходах, но осмотры всегда были краткими, а сам больной почти всегда спал или дремал. Сегодня я впервые заговорила с ним. Его лицо отекло, руки покрылись синяками из-за стероидов, которые нисколько не помогали в борьбе со взбесившейся иммунной системой. Он был одет в больничную пижаму и компрессионные чулки для профилактики венозного тромбоза. На столе стояли открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления.
— Привет, — сказала я. — Меня зовут Даниэла, я интерн. Сегодня я видела вас на обходе, но вы спали.
Сэм что-то печатал и едва отреагировал на приветствие. Я сказала, что следует удалить катетер из центральной вены, потому что он мог стать причиной лихорадки. Сэм неопределенно пожал плечами, что я истолковала как знак согласия.
— Вот что я собираюсь сделать, — начала я объяснять предстоящую процедуру. — Для начала я сниму швы, это может быть немного больно. Потом вытащу катетер и буду прижимать ранку, пока кровотечение не остановится». Да, у Сэма могла быть несколько повышена кровоточивость — жидкость, которую его сердце было неспособно нормально перекачивать, застаивалась в печени, и в результате страдала система свертывания крови. Сэму я этого не сказала, но попросила его помочь мне во время процедуры.
— Когда я буду тянуть катетер, я прошу вас мычать.
Он оторвался от компьютера.
— Мычать?
Я впервые услышала его голос. Он звучал так нормально и обыденно, что мне стало немного не по себе. Я объяснила, что мычанием он увеличит давление в грудной полости. Тогда в момент, когда я уже извлеку катетер, но прежде, чем прикрою отверстие марлевым шариком, вена с большей вероятностью не засосет пузырек воздуха, который может закупорить сердце и убить его вернее всякой болезни.
— Хорошо, — согласился Сэм. — Буду мычать.
Кажется, мое предложение его даже развеселило. Мы просили его выполнять так много разных действий во время врачебных процедур, что моя просьба могла показаться просто милой глупостью. Он закрыл ноутбук и убрал его на столик.
— С этим я, пожалуй, справлюсь.
Я осторожно удалила повязку, прикрывавшую место, где катетер входил в шею. Пинцетом я приподняла швы и срезала их ножницами — один за другим. Я склонилась так низко, что отчетливо слышала дыхание Сэма. От него веяло теплом и немного пахло потом, но не неприятно. Теперь нужно было извлечь катетер. Я привела в горизонтальное положение изголовье кровати.
— Все нормально? — спросила я.
— Угу, — ответил Сэм.
— Раз, два, три, поехали! Начинайте мычать.
— Ммммммммммм…
Я рывком выдернула катетер и закрыла место прокола марлевым шариком. Капля крови стекла на ворот пижамы Сэма. Я вернула изголовье в вертикальное положение, продолжая прижимать марлю.
— Еще пару минут.
За окном шел снег. Зима обещала быть холодной. Мы молчали.
— Как в Сибири, — я указала на окно, за которым снег укрывал белым покрывалом улицы Нью-Йорка.
Сэм повернул ко мне голову и поморщился от боли.
— Простите, — сказала я, — еще немного.
Он отвернулся, чтобы ослабить давление марлевого шарика на шею.
— Знаете, а я ведь однажды побывал в Сибири.
— Правда?
Я продолжала прижимать марлю. В тот раз я, кажется, провела с больным больше времени, чем за всю предыдущую врачебную практику. Сэм рассказал, что пару лет назад с несколькими друзьями пересек всю Россию по Транссибирской магистрали. Они побывали в местах, о которых я даже не слышала.
— Наверное, было очень интересно, — сказала я.
— Так и есть. Просто потрясающе.
— Как здорово увидеть все это.
— Вы есть в «Фейсбуке»? — спросил он. — Я выкладывал фотографии. Добавлю вас в друзья, чтобы открыть доступ.
Я отняла марлевый шарик от шеи Сэма. Кровотечение остановилось. Я наложила на ранку марлю, закрепила ее пластырем и выбросила внутривенный катетер в специальную корзину для биологических отходов. Надо было сказать сестре, что я испачкала кровью пижаму больного.
— Да, я есть в «Фейсбуке», — ответила я. — Всё, катетер удален, пойду скажу медсестре.
Выйдя из палаты, я вздохнула с облегчением. От волнения я даже вспотела, но с чувством выполненного долга заполнила пустой квадратик на листе назначений.
— Все прошло нормально? — спросил мой резидент.
— Конечно, — беспечным тоном ответила я. Удаление катетера нельзя даже назвать процедурой. — Все отлично. Что еще надо сделать?
Когда вечером я вернулась домой и открыла «Фейсбук», меня уже ждал запрос в друзья от Сэма Ньюмена. Поколебавшись, я кликнула «Принять» и перешла на страницу нового друга. Пациент, из центральной вены которого я сегодня днем удалила катетер, был одутловат от жидкости и стероидов, у него был вздутый живот и покрытые синюшными полосами руки и ноги, но с фотографии в соцсети на меня смотрел красивый молодой мужчина, и я сразу вспомнила о баскетболе и пиве. На странице было указано, что он холост, любит «Радиохед»[1] и Тома Клэнси[2]. Из больницы он продолжал писать в «Фейсбук». По этим записям можно было подумать, что он госпитализирован с чем-то вроде растяжения связок, но я знала правду.
На следующий день я не заходила в его палату и не сказала коллегам, что мы подружились в «Фейсбуке». Сначала я хотела об этом рассказать, но передумала. Это смахивало на нарушение субординации. Прошла неделя. На обходах мы обсуждали его лихорадку, которая исчезла, а затем появилась снова. В конечном счете оказалось, что внутривенный катетер был ни при чем. Вскоре цикл моего обучения в отделении кардиологической интенсивной терапии закончился, и я перешла в отделение общей кардиологии — очередное звено длинной цепи ротаций в программе обучения интернов. Дни были заполнены до отказа. Я редко вспоминала свой разговор с Сэмом, но иногда по вечерам просматривала его фотографии и читала публикации в «Фейсбуке», не переставая поражаться его оптимизму. После того, как спровоцированное инфекцией воспаление на ноге потребовало хирургического вмешательства, он написал: «Вернулся из операционной, чувствую себя СУПЕРРРРР!» Из медицинских записей я знала, что его лихорадка продолжалась, а дефибриллятор срабатывал по нескольку раз в день. Сэм до сих пор ждал пересадки сердца, но ее могло и не случиться. Однажды, приблизительно через месяц после нашего разговора, я получила от него сообщение: «Я уже могу перестать мычать?»
Вариант этой истории: я ответила, дружелюбно, но сдержанно, а на следующий день пошла в ОИТ, чтобы навестить пациента. Наверное, на этот раз мне следовало бы сесть рядом, поговорить с ним подольше, поинтересоваться, где еще он побывал во время своих путешествий, какой была его жизнь до болезни и какой, как он надеется, она будет, если ему сделают пересадку сердца. Наверное, если бы я это сделала, он рассказал бы, каково в 28 лет оказаться в полной неопределенности, в постоянном мучительном ожидании — пересадки, новой инфекции, сообщения в социальной сети. Или все могло быть прозаичнее, и я бы просто немного развеяла его скуку перед полуденным осмотром. Но и этого не случилось. Я начала набирать ответ, но остановилась, сама не знаю почему. Наверное, поняла, что переступаю некую невидимую черту. Может быть, я не хотела, чтобы строки из листа назначений стали реальным человеком. Меня точно не беспокоило, что он мог бы увидеть мои фотографии с друзьями, на которых мы дурачились, примеряли нелепую одежду или пили шампанское из бутылки. Не в этом дело. Думаю, меня остановила недопустимая степень вовлеченности в его жизнь через посты и фотографии. Я отписалась от обновлений его страницы и перестала на нее заходить, опасаясь, что он каким-то образом сможет увидеть там мои следы.
Прошло несколько месяцев. Я перестала думать о нем, но однажды весной по какому-то капризу зашла на его страницу в «Фейсбуке». Фотографии и записи, которые я помнила наизусть, сменились десятками соболезнований. Я прочитала их все. Потом я вошла в электронный архив больницы, прекрасно понимая, что там найду. После того, как закончился цикл нашего обучения в ОИТ, сердечный ритм пациента наладился, и его перевели в кардиологическое отделение. Но сердечная недостаточность нарастала. Отказали почки, и Сэму назначили регулярный гемодиализ. В конце концов, когда стало ясно, что по состоянию здоровья он не перенесет операцию по пересадке сердца, а без нее он точно умрет, родители и врачи сказали: «Хватит».
Сэм умер. Однако его сообщение в моих входящих все еще ждет ответа. Я снова просмотрела его профиль, не зная, как долго хранится аккаунт после смерти пользователя, а потом выключила компьютер и пошла спать.
Весна закончилась, пришло лето. Я стала резидентом и отвечала за группу интернов. Я приспособилась к ритму жизни больницы, привыкла смотреть на пациентов как на списки в листах назначений, чему меня так долго и упорно учили. Я объясняла интернам, как правильно укладывать больных во время рентгенологических исследований, как брать кровь из тончайших вен на кисти и стопе. Я учила их дожидаться подтверждения от страховой, прежде чем вводить антибиотик амбулаторным больным (эти минуты на телефоне казались вечностью), и разговаривать с напуганными родственниками наших пациентов. Я казалась себе кем-то вроде авиадиспетчера, образцом эффективности, когда отвечала на телефонные звонки и оценивала данные лабораторных анализов. О главных целях работы я не задумывалась, памятуя, что наша задача — сохранить жизнь больного до его выписки. Прощание обычно было кратким — мы писали краткий эпикриз или, если реанимационные мероприятия оказывались неэффективны, констатировали смерть. Времени на философские размышления у нас не было. Что говорить, времени едва хватало на уборку палаты до поступления нового пациента.
Время от времени я вспоминала о том оставшемся без ответа сообщении в «Фейсбуке» — во время предрассветных занятий на беговой дорожке или в полудреме между сном и явью. Я даже рассказала эту историю нескольким далеким от медицины друзьям — с тем же подтекстом «как странно все устроено в больнице», с каким описывала один из этапов констатации смерти: марлевым шариком прикасаются к роговице, чтобы удостовериться, что человек не моргает. Но что-то в этой дружбе в «Фейсбуке» все еще тревожило меня, не давало покоя. И однажды поздним вечером, после долгого дежурства, я решила написать об этом. Я изменила имя и диагноз пациента, но все остальное описала как есть. История была закончена тем же вечером, и я была очень удивлена и горда, когда ее опубликовали в разделе «Жизнь» газеты «Нью-Йорк Таймс» весной моего второго года в резидентуре. Через несколько дней меня вызвали к руководству больницы.
В тот день я была на дежурстве и, чтобы не тратить время в случае срочного вызова, решила не переодеваться, отправившись на встречу прямо в операционной форме. Я впервые попала на административный этаж и медленно шла по коридору, глядя на обшитые дубовыми панелями стены и удивляясь чистоте и тишине, особенно в сравнении с запахами и постоянным шумом ОИТ всего несколькими этажами выше.
Секретарь с аккуратной прической и в строгом костюме проводила меня в нужный кабинет, где я уселась за большой деревянный стол. До этого я не слишком задумывалась, зачем меня вызвали. Только сидя в этом кабинете, немного замерзнув в своей медицинской одежде и ощущая ее неуместность, я поняла, что сильно нервничаю. Я уже готовилась получить дисциплинарное взыскание за то, что приняла запрос в друзья от пациента. После публикации я получила много негативных отзывов. Люди писали, что я черствый человек, отказавший в ответе смертельно больному человеку, и ужасный врач. Некоторые предлагали мне уйти из медицины или хотя бы сменить специальность, например стать патологоанатомом, так как он меньше общается с больными. Эти выпады меня не обижали, но я беспокоилась, что моя заметка могла расстроить родителей Сэма. Пожалуй, я поступила неправильно, присвоив историю о моменте, который я разделила с их сыном. От этих мыслей у меня заболел живот. На столе стоял контейнер с жевательными конфетами, я повернула ручку, и полдюжины драже высыпалось в мою ладонь. Я посмотрела на часы: интересно, долго еще это продлится?
Через секунду в кабинет вошел заместитель директора, высокий мужчина в стереотипно безупречном костюме. Мы поговорили о моей резидентуре, о прекрасной погоде — еще не наступила изматывающая жара. Я съела пару липких конфеток, таявших в моей руке. Наконец администратор перешел к истории с «Фейсбуком». Теперь руководству больницы придется думать, допустима ли дружба в социальной сети между пациентом и врачом. Причем я не только приняла запрос в друзья, но и заглянула в историю болезни пациента, почерпнув защищенные конфиденциальные сведения, — надо заметить, когда уже не занималась лечением больного. Это было бы объяснимо, если бы я, например, собирала данные для клинического исследования, но даже в этом случае следовало получить соответствующее разрешение. Мной же двигало исключительно любопытство. Это, конечно, не повод для серьезного дисциплинарного взыскания, но само мое действие вызвало некоторое недоумение руководства. В конце разговора он выразил надежду, что когда я соберусь публиковать следующую историю, — а он надеется, я продолжу писать (я кивнула), — то предварительно согласую содержание с администрацией больницы (я продолжала кивать).
Его слова были справедливы. Я приняла запрос в друзья и действительно отследила перевод пациента из ОИТ в кардиологию и обратно, пользуясь электронной историей болезни. Я хотела знать, что с ним произошло. Тогда я не задумывалась о своих мотивах, но теперь, сидя в кабинете заместителя директора, чувствовала себя неловко. С моей стороны это было чистое, ничем не прикрытое любопытство, и я пересекла черту. По окончании цикла обучения в ОИТ, когда пациент оказался вне сферы моей ответственности, видимо, должен был исчезнуть и мой интерес к нему.
Еще в университете я прошла курс так называемой нарративной, или повествовательной, медицины. В основе курса лежит убеждение в том, что знание личных историй наших пациентов, понимание смысла опыта болезни и выздоровления в контексте жизни человека и его взаимоотношений с другими людьми поможет нам стать лучше как врачи. Мы ходили на экскурсию в Метрополитен-музей, где смотрели на такие произведения искусства, как картина «Смерть Сократа» и античная мраморная статуя раненого воина, в надежде, что созерцание страданий углубит наше понимание ощущений больного человека. Эта идея мне нравится. До поступления на медицинский факультет я работала репортером, освещающим вопросы здравоохранения. Хороший журналист всегда рассказывает историю со связным сюжетом, и мне казалось вполне естественным вплести историю пациента в мои действия по его лечению. Пока мы бродили по залам музея, я неопределенно — как в импрессионистской живописи — представляла себя сопровождающей пациента на его пути к выздоровлению как проводник и друг. Однако по окончании экскурсии мы не размышляли о страданиях, а отправились в ближайший бар опрокинуть по стопке виски. На следующий день в лекционном зале, слегка помятые и сонные, мы в шутку обвиняли нарративную медицину в своем похмелье.
Но втайне я считала, что в этом что-то есть. Может быть, не требовалось посещать Метрополитен-музей, чтобы поразмышлять об этом, но мне и самой хотелось стать таким врачом, который прежде всего видит в пациенте человека и в своих действиях использует не только разум, но и эмпатию. Я всегда буду задаваться вопросами о страхах и надеждах больных. Я никогда не стану назначать лекарство или выполнять даже самую несущественную процедуру, пока не объясню пациенту смысл моих действий. Я никогда силой не прижму руку пациента к кровати, чтобы взять из его вены кровь. Я не подойду к больному, когда он использует судно по назначению, и не стану — даже извинившись — выслушивать его легкие, если он в туалете. Пообещав больному зайти днем, я никогда не забуду об этом и не приду только на следующий день.
Но в реальной жизни все оказалось иначе. Я делала все это, и не один раз. Казалось, что работа резидента заключалась в том, чтобы как можно быстрее выполнить задачу и не тормозить процесс, задавая слишком много вопросов. Чтобы успешно совмещать работу и получение информации, следовало приспособиться к системе, которая требовала эффективности, часто за счет пропуска личной истории пациентов. Перейдя из студенческой аудитории в больницу, я узнала, что социальный анамнез — выяснение условий жизни больного, его окружения, наличия собаки, пристрастия к наркотикам или особенностей работы — хоть и может быть интересен, но, в общем-то, не необходим. К середине первого года резидентуры я начала копировать социальный анамнез из предыдущих записей в истории болезни, порой даже не вчитываясь в слова, всякий раз, когда торопилась или была слишком усталой, то есть почти всегда. Надоедало задавать одни и те же вопросы снова и снова. Да и насколько значимы для меня могли быть ответы, если моя роль естественным образом заканчивалась, как только больные покидали ОИТ или кабинет амбулаторного приема?
В администрации меня отчитали, во-первых, за нарушение границ, когда я приняла запрос в «Фейсбуке», а во-вторых, за желание узнать, что произошло с пациентом потом. Я извинилась. Мне стало стыдно за мое любопытство, которое в тот момент мне самой показалось недостойным. Я не должна заглядывать в историю болезни пациента, если перестала его лечить и нести за него ответственность. Впрочем, едва ли у меня останется на это время — в ОИТ всегда есть чем заняться. Как раз в этот момент раздался пронзительный сигнал моего пейджера, оторвавший меня от раздумий. «Прошу меня извинить, — я кивнула на пейджер. — Мне надо идти». В ОИТ поступил новый пациент, которым мне предстояло заняться. Я повесила на шею фонендоскоп, взяла папку с историями болезни и вышла из кабинета, не оглядываясь.
2 Десять процентов
Я уже несколько месяцев проходила специализацию по интенсивной терапии, ради чего переехала из Нью-Йорка в Бостон, когда одним субботним днем пришла на подработку в отделении респираторной интенсивной терапии (ОРИТ) в Массачусетской больнице общего профиля. Здесь мне должны были платить $80 в час за работу с пациентами, выписанными из отделения интенсивной терапии, но полностью не восстановившимися. Обычно эти больные не могут дышать самостоятельно, и их приходится держать на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие пациенты подвержены инфекциям, часто бредят, возбужденное состояние сменяется затишьем. Достаточно «стабильные», чтобы не нуждаться в постоянном наблюдении, но слишком больные для перевода в общее отделение или дом инвалидов, эти пациенты оказываются в этом специальном подразделении больницы, где проводят недели или месяцы. Я считаю это место настоящим чистилищем. Но у меня оставались свободными выходные, а получая зарплату резидента, я научилась не слишком привередничать с подработками, особенно если работать можно было днем, а не ночью.
На моем попечении было десять больных. Один из них, 75-летний мужчина по имени Джордж О'Брайен, находился в больнице почти год. В отделение интенсивной терапии он поступил с тяжелой инфекцией, спровоцировавшей падение артериального давления, что в конце концов привело к отказу почек. Повторные пневмонии, вызванные устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерий, истощили его легкие настолько, что пациент утратил способность самостоятельно дышать. Согласно истории болезни, за два месяца до этого был единственный день, когда он был близок к выписке. Какие-то незначительные нарушения состояния задержали перевод в отделение реабилитации, где согласились еще сутки подержать для него койку. Но на следующий день ухудшилась функция почек и резко снизился гемоглобин, и пациент остался в своей палате в ОИТ. После этого, как мне представляется теперь, окно возможностей для него захлопнулось навсегда. Прошло более 300 дней, а мистер О'Брайен оставался в больнице без надежды когда-либо ее покинуть.
Я ознакомилась с историей болезни, и почти год жизни человека спрессовался для меня в несколько абзацев и короткий список инфекций и антибиотиков. Я перечитала показатели жизненных функций мистера О'Брайена и направилась в его палату, чтобы начать утренний обход. На двери висело предупреждение «карантин», так как больной страдал диареей, вызванной микроорганизмом Clostridium difficile — особо заразной инфекцией, часто свирепствующей в больницах и домах инвалидов. Я надела желтый противоэпидемический комплект, бахилы, натянула пару фиолетовых перчаток. Теперь я могла войти в палату. Мистер О'Брайен лежал так неподвижно, что сначала я не поняла, жив ли он. Все признаки человека были налицо — руки, ноги, туловище, голова, но все это было лишено чего-то неуловимого, но важного — жизненной силы. Глаза были полузакрыты, а грудь поднималась и опускалась в такт работе аппарата ИВЛ. Ноги отекли, из мелких волдырей на голенях сочилась желтоватая жидкость. В палате пахло тальком, антисептиками и телесными выделениями.
Когда я приложила к его груди холодный фонендоскоп, мистер О'Брайен не шевельнулся. Только склонившись над пациентом, я заметила его жену, тихо сидевшую на стуле в углу палаты. Ну, конечно, она была здесь. Я слышала, что и она живет в больнице последние 300 дней. Это была высокая, худая женщина, чьи одежда и кожа потускнели под стать цвету стен в палате. Она молча следила за тем, как я осматриваю ее мужа.
— Доброе утро, мистер О'Брайен, — громко произнесла я с фальшивой бодростью. Он никак не отреагировал на мое приветствие. — Мистер О'Брайен? — повторила я, потрепав его по плечу. Однако месяцы тяжелой болезни и несколько микроинсультов лишили пациента сознания. Я согнула его руку, и больной поморщился. («Реагирует на боль», — запишу я в истории болезни.)
Я вздрогнула, услышав голос жены.
— Какие у него сегодня показатели крови, доктор? — отрывисто спросила она. Наверное, мне надо было поговорить с ней, спросить, как она жила с мужем до того, как он попал в эту палату, но я работала там первый день, а женщина была явно не настроена разговаривать. Хорошо, что я заранее посмотрела все данные и могла ответить на вопрос.
— Гемоглобин ниже, чем вчера, — сказала женщина, взяла ручку, блокнот, куда она вносила лабораторные данные мужа и записала мой ответ. Что-то неуловимое в этой фразе удивило меня и заставило ощутить неясную вину. Я ненадолго надавила пальцем на голень пациента, чтобы оценить толщину отека. Когда я убрала руку, на этом месте осталось углубление. Жена внимательно смотрела на меня.
— Ему нужно переливание крови, доктор?
Переливание было не нужно; хоть гемоглобин и понизился — может быть, из-за забора крови на анализы, — но не настолько, чтобы переливать кровь.
— Как у него сегодня работают почки, доктор?
Почки работали неважно. Организм еще мог выделять мочу, но недостаточно, чтобы выводить всю лишнюю жидкость. Я до сих пор видела вмятину на коже, оставленную моим пальцем.
— Никаких изменений по сравнению со вчерашним днем, — сказала я.
— Хорошо, — ответила женщина с видимым облегчением. Хорошего в состоянии пациента не было ровным счетом ничего.
Я еще раз посмотрела на пациента, думая, испытывает ли он боль, и надеясь, что нет. Попрощавшись, я выбросила желтый халат и перчатки и тщательно вымыла руки. Теперь надо было зайти к следующей больной, женщине 70 лет с эмфиземой легких, которая так и не начала самостоятельно дышать после операции на открытом сердце. В отличие от мистера О'Брайена, который вообще не реагировал на окружающее, она была в сознании, но тоже прикована к аппарату ИВЛ посредством трубки, вставленной в трахею через отверстие, называемое трахеостомой. В результате она потеряла способность говорить, но, как только я вошла в палату, женщина начала яростно двигать губами, пытаясь что-то произнести.
— Привет, я Даниэла, сегодня я ваш врач, — представилась я, изо всех сил стараясь понять, что пытается сказать больная. — Попробуйте говорить медленно. У вас что-то болит?
Больная изо всех сил отрицательно мотнула головой. Я склонилась к ней, надеясь, что хоть что-то смогу расслышать в ее дыхании.
— Вы хотите, чтобы я позвала сестру?
Больная снова зашевелила губами.
— Простите, но я не понимаю. Попробуйте еще раз.
Больная снова открыла рот. Было такое впечатление, что она кричит, но воздух проходил мимо голосовых связок через расположенную ниже трахеостому, и это лишало пациентку голоса. Если бы у нее были зубные протезы, можно было бы читать по губам, но она больше не могла их носить.
— Вы можете писать? — спросила я.
Пациентка кивнула. «Прекрасно», — подумала я, протягивая листок бумаги, ручку и коробку из-под салфеток, которая могла послужить подставкой. Однако руки пациентки были настолько слабы, что она изобразила лишь неразборчивые каракули. Ручка выскользнула из ее пальцев и упала под кровать. Я подняла ручку и протянула больной, но она отрицательно покачала головой. Кажется, я еще больше ее расстроила. Я никак не могла понять, чего она хочет, и осмотр слишком затягивался. Я снова наклонилась к пациентке. На этот раз я уловила в движении губ что-то знакомое.
— Вы сказали: «Я хочу», — объявила я с торжеством.
Она кивнула. Я внимательно присмотрелась к губам, сложившимся в неслышный звук «в». В слове, которое она пыталась произнести, было два слога.
— Воды? Вы хотите воды?
Она снова кивнула. Да! Она хотела воды. Я просмотрела историю болезни. Разумеется, поить ее было нельзя. Больная была слишком слаба и могла задохнуться от аспирации — попадания воды в легкие. Женщина смотрела мне в глаза. Она получала жидкость в вену и не была обезвожена, но страшно тосковала по ощущению холодной воды во рту. Я собрала в кулак всю свою волю.
— Вам нельзя пить, это опасно, — как можно ласковее сказала я. — Я позову сестру, она смочит вам рот.
Нет. Это совсем не то, что она хотела.
— Мне очень жаль, но это невозможно, — произнесла я пустые слова, которые больная наверняка слышала уже десятки раз. На глаза пациентки навернулись слезы, и мне захотелось отвернуться. Я выслушала ее легкие и сердце, ощупала живот и ноги, и все это время женщина молча наблюдала за мной, пока я не вышла из палаты.
Когда в коридоре я мыла руки, мимо проходила одна из медицинских сестер. Это была похожая на заботливую мамашу женщина средних лет в розовых брюках и расписанной цветами форменной рубашке. Утром я слышала, как она разговаривала с больными, даже с теми, кто находился в бредовом состоянии. Сестра, которая могла бы просто молча перевернуть, подмыть и протереть больных, объясняла им, что она делала, — спокойно и уважительно.
— Сегодня с нами вы в этом сумасшедшем доме, детка? — сказала она, улыбнувшись.
— Да, — кивнула я и посмотрела на часы. Прошло уже два часа. Но кто считает? — И буду с вами еще десять часов.
Сестра держала в руках упаковку таблеток и пакет с густой белой жидкостью — такое питание через желудочный зонд вводят пациентам, неспособным есть самостоятельно.
— В комнате отдыха накрыт стол. Пойдите угоститесь и обязательно попробуйте кофейный торт! Это мой секретный рецепт.
Я очень люблю кофейный торт, особенно когда работаю, устаю или расстраиваюсь. Я заглянула в комнату отдыха, каморку в конце коридора, где вкусно пахло сливочным маслом. Сестра не шутила, здесь был маленький пир. Я вдруг ощутила волчий аппетит. Отрезав добрый кусок кофейного торта, я с удовольствием его съела и запила стаканом прохладного апельсинового сока, наслаждаясь этой маленькой паузой, прежде чем продолжить обход.
Время тянулось невообразимо медленно. В выходной день, будучи совместителем, не зная толком больных и их родственников, я должна была сохранять статус-кво. Я даже двигалась тихо и с деликатностью, будто от резкого движения хрупкое равновесие могло нарушиться, и все бы рухнуло, и в семь вечера мне бы не удалось спокойно уйти домой. Эти пациенты были тяжело и безнадежно больны, и это было ужасно. Но большую часть времени им не грозила никакая опасность. Странное чувство, немного сбивающее с толку и наводящее уныние.
Эта двойственность вообще характерна для больных, находящихся в хроническом критическом состоянии. Этот похожий на оксюморон термин появился в 1980 году для обозначения подобных мистеру О'Брайену больных, которые сумели пережить такие острые критические состояния, как сепсис, инсульт или тяжелую травму, но не поправились и фактически не имели реальных шансов на улучшение состояния. В этом аду продолжающегося острого заболевания, перешедшего в хроническую форму, пребывают около 100 000 человек. Хроническое критическое состояние прежде всего характеризуется неспособностью больного самостоятельно дышать, а следовательно, зависимостью от «вентилятора», аппарата ИВЛ. Это, в свою очередь, означает потребность в трахеостоме, которая обеспечивает надежное соединение с аппаратом и позволяет избежать многих осложнений. Но пациенты страдают от множества сопутствующих проблем. У них ослаблен иммунитет, поэтому они уязвимы перед инфекциями, к тому же такие больные очень слабы и часто находятся в полубессознательном или бессознательном состоянии. У них отказывают почки. Нарушается целостность кожных покровов, образуются язвы и пролежни. Практически ни один орган не работает как следует. Половина таких пациентов умирает в течение года. Только один из десяти в конце концов возвращается домой в состоянии, которое допускает какую-то независимость и самостоятельность.
Мы не любим говорить о хронических критических состояниях. Неудивительно. Я решила заниматься реанимацией и интенсивной терапией, потому что современные технологии позволяют спасать много жизней. И мне не хотелось знать, что происходит, когда удается предотвратить смерть, только не с тем исходом, какого мы ожидали. Хроническое критическое состояние — это, как следует из самого названия, длительное, постоянное страдание. Несмотря на то, что за время резидентуры и специализации мне довелось лечить в ОИТ множество больных, которые впоследствии оказывались в таком пограничном состоянии, несмотря на то, что и мои решения в числе прочих факторов порой приводили к такому результату, хронические критические состояния мало занимали меня, когда я решила стать врачом-реаниматологом. На самом деле я даже не знала термина «хроническое критическое состояние», пока не столкнулась с ним во время получения специализации. Я никогда не обсуждала этот возможный вариант в разговорах с родственниками находившихся в ОИТ пациентов.
Приблизительно за месяц до того первого субботнего дежурства я занималась пожилым больным, который поступил в больницу с гриппом, вызвавшим обострение эмфиземы легких. Заболевание протекало тяжело, и нам пришлось вводить ему большие дозы стероидов и седативных препаратов только для того, чтобы ИВЛ могла работать. Мы и не надеялись, что этот пациент выживет. Тем не менее через две недели ему стало лучше. Это позволило снизить дозировку стероидных гормонов. Пациент пришел в сознание. Однако он настолько ослаб, что был не в состоянии даже поднять руку и у него не хватало сил для самостоятельного дыхания. Вскоре стало очевидно, что необходимо длительное проведение искусственной вентиляции легких, для чего больному понадобится трахеостома.
Наложение трахеостомы — малое хирургическое вмешательство, настолько малое, что его иногда выполняют на реанимационной койке, а не в операционной. Правда, это поворотный момент, когда острое критическое состояние переходит в хроническое. Мы практически никогда не говорим о хроническом критическом состоянии. Вспомните подобные сцены в любом из многочисленных медицинских сериалов. Врачи бегут и везут каталку с пациентом в отделение скорой помощи. Больной едва дышит, тревожная музыка нагнетает атмосферу. Кто-то кричит: «Его надо интубировать!» Как по волшебству, возникают необходимые инструменты. Врач занимает свое место у изголовья. Кто-то запрокидывает голову пациента. Доктор вставляет в рот пациента изогнутый металлический инструмент — ларингоскоп, отводит язык, чтобы увидеть расположенные буквой V голосовые связки. Ассистент передает пластиковую эндотрахеальную трубку, и доктор вводит ее в пространство между голосовыми связками. Музыка затихает. Трагедия предотвращена. Переход к следующей сцене. После рекламной паузы пациент приходит в себя и уже способен дышать самостоятельно.
Действительно, в большинстве случаев те, кому показана интубация трахеи в связи с пневмонией или тяжелой эмфиземой легких, быстро приходят в себя и начинают дышать сами. Как правило, это происходит через несколько дней, и мы удаляем трубку. Но для некоторых больных все не так. Проходят дни, но они по-прежнему неспособны дышать без помощи аппарата. Трубки, которые вводят в трахею через рот, не предназначены для проведения длительной искусственной вентиляции легких. Они мешают больному, причиняют ему боль. Требуются большие дозы обезболивающих и седативных, чтобы пациент мог перенести это достаточно тяжелое вмешательство. Более того, если интубационную трубку оставить на длительный срок, то она может повредить голосовые связки. Именно поэтому по истечении двух недель встает вопрос о трахеостомии. Больной с трахеостомической трубкой может со временем окрепнуть настолько, что начнет самостоятельно дышать и есть, но не сразу. Поэтому обычно трахеостомию сопровождают еще одной операцией: тот же хирург проделывает отверстие в передней брюшной стенке и вводит в желудок зонд для осуществления питания.
Эти процедуры знаменуют ключевой момент: решение взять паузу, во время которой больной может решить, на что готов пойти, чтобы продлить свои дни, и сможет ли смириться с такой жизнью. Но по своему опыту могу сказать, что мы редко думаем о возможности такого исхода. Совсем недавно у меня был подобный случай. Я встретилась с женой пациента и его сыном в небольшой переговорной без окон, где мы обычно беседуем с родственниками, и изложила им ситуацию.
— У нас есть выбор? — спросила женщина. Она рассказала мне, каким человеком был ее муж, активный член прихода. Этому человеку 80 лет, но он был вечным праздником, душой любой компании.
Я сказала, что выбор есть. Мы можем отключить его от аппарата.
— Он не умрет? — спросила она.
— Возможно, — ответила я. Я сразу подумала о том, насколько он слаб, о том, что при пробных отключениях от аппарата он уже через несколько минут начинал дышать часто и поверхностно. — Но мы сделаем все, чтобы ему было комфортно на аппарате.
— Если мы согласимся на эти операции, есть шанс, что потом эти трубки можно будет удалить?
— Мы надеемся. Это наша цель, — сказала я. — Но обещать вам я не могу, мы и сами не знаем.
Вероятно, я должна была ответить на этот вопрос по-другому. Джудит Нельсон, врач-реаниматолог и специалист по паллиативной медицине из Нью-Йорка, предпочитает использовать термин «хроническое критическое состояние», когда обсуждает подобные решения с родственниками больных. Она говорит им, что такие решения зачастую имеют худший прогноз, чем рак. Мало кто слышал этот термин, поэтому Нельсон излагает суть дела понятным языком, чтобы за названиями конкретных процедур люди составили себе точную картину происходящего. При этом Нельсон отнюдь не стремится отговорить людей от агрессивного вмешательства. Цель заключается в том, чтобы объяснить, какая жизнь может ожидать их близкого человека, если они согласятся на интенсивное лечение. Нельсон хочет, чтобы люди принимали решение не только о конкретной операции, например о трахеостомии, но и о всей ситуации и ее возможных последствиях, опираясь на информированное согласие, понимая, о чем идет речь. «Люди хотят видеть долгосрочную перспективу, и я всячески их в этом поддерживаю, — говорила мне Нельсон. — Вопрос заключается в том, как объяснить им пользу от интенсивной терапии и одновременно предостеречь от чрезмерной веры в ее всемогущество».
Когда на следующее утро я вошла в палату пациента, его жена сказала мне, что семья приняла решение. Они согласны на трахеостомию. В расписании операционного блока было окно, и днем пациент вернулся в палату с трахеостомической трубкой и желудочной фистулой.
Я живо вспоминала этот разговор на протяжении моего субботнего дежурства, изредка прерываемого очередной порцией кофейного торта в комнате отдыха. Тот мой пациент до сих пор находился в ОИТ, на этот раз с тяжелой пневмонией. Если он сможет с ней справиться, то, возможно, попадет в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), и я могу увидеть его на одном из субботних дежурств. А что будет потом? Интересно, поняла ли его жена (если вообще возможно это понять), на что она подписалась, когда согласилась на трахеостомию? Вспоминая тот день, я подумала: «Понимали ли все те пациенты и их родственники, которых я проводила в мир трахеостомических трубок и длительной вентиляции легких, что возможен и такой исход? И если бы они это знали, повлияло бы это на их решение?»
Трудность выбора в случае хронического критического состояния заключается в том, что не всегда исход такой, как у мистера О'Брайена. Да, часто случается именно так; медленное угасание, сопровождаемое инфекциями, делирием и постепенным отказом органов. Но бывают и исключения. Сколь бы ни была высока вероятность повторить судьбу мистера О'Брайена, есть возможность и иного развития событий. Вот история другого пациента, Чарли Аткинсона.
Я познакомилась с Чарли одним весенним днем. К тому моменту он не был дома уже девять месяцев. По несчастному стечению обстоятельств этого активного, общительного человека 76 лет на вечеринке в саду укусил комар — переносчик вируса лихорадки Западного Нила. Вирус едва не убил Чарли, но больной уцелел, после длительного лечения в ОИТ он остался жив, но дышать мог только с помощью аппарата. Лихорадка Западного Нила проявляется симптомами, похожими на симптомы полиомиелита, а это значит, что Чарли не мог двигать ни руками, ни ногами. Сознание его было помрачено. Пациенту сделали трахеостомию и установили желудочный зонд, после чего перевели из ОИТ в ОРИТ, где он провел еще несколько недель. К тому времени Чарли находился в достаточно стабильном состоянии, чтобы покинуть больницу. Лабораторные показатели во всяком случае пришли в норму. Но выписать Чарли было невозможно, потому что он мог пошевелить только пальцами, был прикован к аппарату ИВЛ и едва реагировал на свое имя. В результате его перевели в специальное учреждение, предназначенное для ведения пациентов, нуждающихся в ИВЛ и трахеостомической трубке, но не требующих постоянного наблюдения и интенсивного лечения. С такими местами, которые называют учреждениями длительной интенсивной терапии, не знакомы ни члены семей больных, ни врачи, получившие подготовку в обычных больницах.
В резидентуре я часто говорила родственникам пациентов, которых переводили в такие учреждения, что их близкого человека «отправляют на реабилитацию». Я и тогда подозревала, что эти слова вселяют надежду на то, что больной, которого невозможно снять с аппарата, скоро встанет на беговую дорожку для восстановления навыков ходьбы. Я и сама толком не знала, что происходит с пациентами во время так называемой реабилитации, так как ни разу не была в учреждении длительной интенсивной терапии. Чтобы полноценно обсуждать с больными и их родственниками то, что могло их ждать впереди, мне следовало хорошо разобраться в этом самой. И однажды весной я повторила путь многих моих пациентов — отправилась из Массачусетской больницы общего профиля в закрепленное за ней учреждение долгосрочной интенсивной терапии, подразделение реабилитационной больницы имени Сполдинга. Я надеялась, что смогу найти пациентов или членов их семей, которые расскажут, как протекает их жизнь в таких лечебных учреждениях.
Я не знала, чего ожидать, и была приятно удивлена, увидев симпатичный кирпичный особняк, стоявший немного в стороне от обсаженной деревьями дороги, всего в нескольких минутах ходьбы от оживленной Гарвардской площади. Рядом с больницей находилась стоянка для машин скорой помощи, но здание больше напоминало обычный дом инвалидов, чем больницу. Вестибюль был небольшим и странно тихим — не было спешащих врачей и медицинских сестер, как в приемных отделениях клинических больниц, к которым я привыкла, не было писка пейджеров, сигналов тревоги, стука каблуков по кафелю. Лифт поднимался очень медленно, но это, казалось, никого не беспокоило. Когда я наконец оказалась на четвертом этаже, первым, что я услышала, был знакомый звук работающих аппаратов ИВЛ — здесь лежали пациенты, которые не могли дышать самостоятельно. Шум респираторов и писк кардиомониторов подействовали на меня успокаивающе — во всяком случае я находилась в больнице. Врачи и медицинские сестры говорили о лабораторных показателях пациентов, необходимости провести КТ и о предстоящих выписках, а также об обеде и о том, не рано ли в десять утра заказывать пиццу. Возле входов в палаты лежали стопки желтых халатов, пахло испражнениями и антисептиками. Все было очень похоже на отделение интенсивной терапии. Но здесь чувствовалась всеобщая усталость, давящая необходимость смириться с неизбежным. Если здесь и надеялись на улучшения, то через недели или месяцы, а не часы или дни. Время здесь по сравнению с ОИТ и даже ОРИТ словно бы замедлило свой бег.
Я медленно шла по коридору и заглядывала в палаты, где беспомощно смотрела на больных, похожих на мистера О'Брайена, неспособных реагировать на внешние раздражители. Мне хотелось немедленно уйти — не только из-за атмосферы безнадежной подавленности и печали, но и потому, что никто из больных не мог говорить и мое пребывание здесь казалось бессмысленным. И тут один из докторов указал мне палату Чарли Аткинсона. Я заглянула. Несмотря на внушительные размеры больничной койки, было ясно, что Чарли — высокий, рослый мужчина с густой копной седых волос и благородными чертами лица. Мало того, он находился в ясном сознании, глаза его блестели, и, заметив, что я не решаюсь войти, он жестом пригласил меня. В то апрельское утро пациент был одет в больничную пижаму, на ногах были компрессионные чулки, а на одной руке — перчатка. Вирус Западного Нила вызвал нарушения в центральной нервной системе, и согревающая перчатка немного снижала периодическую стреляющую боль в руке. Больной дышал через трахеостомическую трубку самостоятельно, но на ночь его подключали к аппарату. Рядом с койкой я увидела аспирационные катетеры, которые используют для удаления слизи из дыхательных путей, шланг для подачи кислорода и штангу для капельниц. На фотографиях, стоявших на подоконнике, был изображен учтивый джентльмен с коллегами и друзьями на встречах выпускников Гарварда, в кругу семьи. Улыбка Чарли была поистине обворожительной.
Едва я успела представиться, как он зашелся в приступе кашля. Это был глубокий горловой кашель, встревоживший даже меня, врача-реаниматолога. На глазах Чарли выступили слезы, он изо всех сил старался откашляться и вытолкнуть слизь через трахеостомическую трубку. Мне стало неловко, и я уже потянулась к электрическому отсосу, чтобы помочь Чарли, когда в палату решительно вошла его жена Джанет, хрупкая женщина, которая, однако, действовала умело и уверенно. Не теряя времени, она натянула медицинские перчатки, сняла колпачок с трахеостомической трубки и ввела санационный катетер в трахею Чарли. Тот кашлял, давился и задыхался, лицо его покраснело, а затем стало синюшно-багровым, но Джанет спокойно продолжала, пока не извлекла на кончике катетера серый сгусток мокроты, который и вызвал приступ кашля. Джанет закрыла трубку колпачком. Я повторила рассказ о том, кто я и зачем приехала сюда.
— Вы не хотите спуститься в вестибюль? — спросила Джанет, привычными движениями снимая перчатки. — Там мы сможем спокойно побеседовать.
— Конечно, — ответила я. С Чарли я смогу поговорить позже.
Мы вышли из палаты и проследовали в холл, где стояло несколько кресел. Из окна была видна автомобильная стоянка. Снег наконец растаял, на деревьях набухали почки. Джанет рассказала мне, что, когда Чарли перевели сюда из больницы, она не имела ни малейшего представления о том, что ждало его впереди. Тогда она просто была безумно счастлива, потому что он выжил.
— Врачи отделения интенсивной терапии были очень рады, что он остался жив, и говорили: «Мы переводим его на реабилитацию, разве это не здорово?» Да, я тоже была очень рада.
Однако в новой больнице Чарли по-прежнему находился в полубессознательном состоянии и был так слаб, что едва мог шевелиться. Почти все время ему был необходим аппарат ИВЛ. Никто не произносил слов «хроническое критическое состояние», но в течение нескольких месяцев, что Чарли находился здесь, Джанет не раз слышала, что состояние ее мужа достигло плато и следует подыскать подходящий дом инвалидов, где за ним будут осуществлять грамотный медицинский уход. Позже в разговоре с врачом отделения я узнала, что происходит с больными отделения долгосрочной интенсивной терапии, если улучшение не наступает. «Обычно их переводят в дома инвалидов, — ответил врач. — Или они умирают».
В ту зиму Джанет посетила несколько инвалидных домов, стараясь представить, как там будет жить Чарли. Такая перспектива казалась ей удручающей. Несмотря на то что Чарли уже не был привязан к дыхательной аппаратуре, он был очень слаб и заторможен, по-прежнему дышал через трахеостомическую трубку и не мог даже покашлять без помощи аппарата ИВЛ — настолько ослабли мышцы. Все это означало, что Чарли слишком сложный пациент для дома инвалидов, где уход осуществляют медицинские сестры. Джанет хотела было забрать мужа домой — теоретически это было возможно, но цена оказалась немыслимой — уход на дому мог обойтись в полмиллиона долларов в год. «Это был самый тяжелый месяц», — сказала мне Джанет. Но постепенно ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сначала один из врачей решил, что Чарли показана ИВЛ в ночное время. Такое решение может на первый взгляд показаться шагом назад, но это означало, что дыхательная мускулатура могла отдохнуть, и ее сила и работоспособность начали восстанавливаться. Необходимость ИВЛ означала и необходимость мониторного наблюдения, которое было возможно только в отделении длительной интенсивной терапии, и таким образом была устранена угроза перевода в дом инвалидов, по крайней мере в ближайшее время. С помощью самоотверженного физиотерапевта и лечебной физкультуры Чарли стал понемногу двигаться. Весной, когда я видела Чарли, он все еще не мог ходить, но его удалось усадить в инвалидное кресло-каталку, а специалист по лечебной физкультуре научил его стоять, опираясь руками на параллельные брусья. Чарли окончательно пришел в себя и находился теперь в абсолютно здравом уме. Несколько раз в неделю к нему приходил нанятый женой массажист. Чарли стал слушать музыку — иногда Леонарда Коэна, иногда Оливию Ньютон-Джон.
Пройдя поистине адские мучения, Чарли начал ставить перед собой цели, которые проговаривал вслух и записывал на телефон. Когда я вернулась в палату, Чарли сказал, что планирует вернуться домой, — да, ему до сих пор показана ИВЛ, но теперь не нужен баснословно дорогой круглосуточный уход. Он уже начал подыскивать в интернете подходящую функциональную кровать. Он говорил уверенно, несмотря на мешающую трубку. В голосе Чарли я улавливала нотки его прежней личности, предпринимателя, который вначале проектировал, а затем с нуля воплощал в жизнь успешные проекты. Чарли был уверен, что вернется домой осенью, спустя год с того вечера, как был доставлен скорой помощью в Массачусетскую больницу общего профиля. Мне очень хотелось надеяться, что вопреки всему он сумеет совершить почти невозможное.
Через несколько месяцев после этой встречи я вернулась в ОРИТ в ходе ротации резидентов в процессе обучения. Наши дежурства длились по 12 часов каждый день, но зато были и выходные. Некоторые мои коллеги с энтузиазмом обсуждали работу здесь, физиологические особенности пациентов, но я вспоминала свое первое дежурство, печаль и подавленность, которые я тогда испытала. Не знаю, что эти воспоминания говорят обо мне. Я понимала, что не смогу радоваться полученным здесь знаниям о слабости дыхательной маскулатуры, когда запах отделения пропитывал мою одежду и я ощущала его, даже вернувшись домой.
Мой первый рабочий день в отделении начался с пробежки по району, где я тогда жила, — в одном квартале от больницы. Так что я успевала выскочить из душа без четверти семь, а в начале восьмого, с мокрыми волосами и раскрасневшимся лицом, уже быть на работе. У меня оставалось время выпить кофе и изучить листы назначений, переданные дежурившим ночью врачом. Тем утром я внимательно прочитала карты, чтобы узнать, что изменилось в отделении с тех пор, как я была здесь в последний раз. За ночь у кого-то случился приступ бреда, кого-то пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции, а кому-то пришлось внутривенно вводить жидкость, чтобы поднять давление. Имена пациентов были мне незнакомы, за исключением мистера О'Брайена. Прошло несколько месяцев после моего совместительства, но он все еще оставался здесь.
Мой руководитель ждал меня в кабинете, чтобы обсудить план на день. Это был светловолосый худой вежливый мужчина с суховатым чувством юмора. Ежегодно он проводил полтора месяца в лаборатории, исследуя биохимические механизмы развития некоторых редких заболеваний легких. Он будет присматривать за мной, пока мы будем вместе вести больных, — хотя в тот день я осознала, что уже не понимаю, в чем заключается наша цель.
Я легко вошла в ритм. Утром быстрая пробежка на беговой дорожке под самую энергичную музыку, какую только могла подобрать, потом глоток кофе в ординаторской, обход, обед, бронхоскопия с целью удаления мокроты, смена трахеостомических трубок, несколько анализов крови или консультаций с профильными специалистами, и вот уже семь часов вечера — и можно с чистой совестью идти домой. Цикл повторялся изо дня в день до тех пор, пока однажды, когда я сидела в ординаторской за компьютером, заказывая анализы на завтра, не пришел вызов от дежурной медсестры: «Может кто-нибудь зайти в палату 28?»
По тону сестры было понятно, что дело не терпит отлагательств. Палата 28. Я никак не могла понять, почему сестры никогда не называли имен больных, а только номера палат. Я посмотрела на список: это была палата мистера О'Брайена. Мой наставник уже ушел домой. Я взяла историю болезни и быстро, натянув желтую защитную форму и обработав руки антисептиком, вошла в палату. К моему удивлению, выглядел мистер О'Брайен как обычно. Однако картина ЭКГ на прикроватном мониторе действительно должна была встревожить медсестру. У мистера О'Брайена была лихорадка. Пульс его участился, а давление снизилось до опасного уровня.
Каждый день перед обходом я задавалась вопросом, начнется ли обход с этого пациента или он будет последним. Мне не удавалось отвечать его жене с исчерпывающей полнотой. Ее болезненная фиксация на почечной функции мужа и фантастическая уверенность в том, что однажды он вернется домой, заставляли меня нервничать, а то и злиться. Несмотря на то что в состоянии мистера О'Брайена не происходило ничего нового — он был очень тяжело болен, но жив, — функция почек постепенно ухудшалась. Иногда мне начинало казаться, что он бессмертен, но я понимала, что это вопрос времени — когда очередная инфекция или кровопотеря нарушат хрупкое равновесие, которое сохранялось на протяжении многих месяцев.
В тот день, немного помедлив, я отвела миссис О'Брайен в сторону и объяснила, что у ее мужа, скорее всего, очередная инфекция, а возможно, и кровотечение. Но что бы это ни было, ее муж слишком слаб, чтобы мы могли активно вмешиваться. Возможно, это последний удар болезни, которая уводила его все дальше и дальше от возможности вернуться когда-нибудь домой. Я собиралась сказать, что ее муж умирает, но что-то помешало мне произнести эти слова вслух.
Стоя там в наступившей тишине, я вдруг поняла, что, хотя каждый день я видела мистера О'Брайена на обходах, по сути ничего о нем не знала. Каким он был до попадания в больницу, обладал ли чувством юмора, чем занимался по работе, как проводил свободное время. Я знала только, что у него есть дочь, которая иногда навещала его и каждый раз приносила медсестрам пирожные. Жена его, в свою очередь, практически не знала меня и не имела никаких оснований мне доверять. Я была всего лишь последним звеном в бесконечной череде врачей, проходивших через эту палату. Теперь же, когда данные монитора показывали, что сердечная деятельность и давление крови больного достигли опасной черты, спрашивать о чем-то было уже поздно и неуместно.
Миссис О'Брайен посмотрела мне в глаза.
— Есть ли какие-то лекарства, которые могут помочь? — это прозвучало одновременно и как вопрос, и как утверждение. Лекарства были, лекарства есть почти всегда, хотелось сказать мне, но ее муж не способен самостоятельно дышать и не чувствует ничего, кроме мучительного дискомфорта, насколько мы могли судить. Даже если мы сумеем остановить ухудшение, то к чему мы вернем пациента?
— Мы можем ввести ему больше жидкости и назначить новые антибиотики, — ответила я. — Кроме того, мы можем ввести лекарства, которые поднимут его артериальное давление.
Такие лекарства называются вазопрессорами, они действуют непосредственно на сердце, и вводят их через толстый катетер, поставленный во внутреннюю яремную вену. Подобно другим медицинским вмешательствам, введение вазопрессоров может причинить больному и вред — установка катетера является весьма болезненной манипуляцией, существует также небольшой риск повреждения сонной артерии или травмы легкого, а сами лекарства могут вызвать нарушения сердечного ритма. Всеми этими действиями мы лишь немного отсрочим наступление неминуемой скорой смерти. Жена мистера О'Брайена смотрела на меня с надеждой.
— Мы можем начать лечение немедленно, чтобы поднять давление, — добавила я, — но для этого надо будет установить катетер в центральную вену, и больного придется перевести в ОИТ.
Я вздохнула. Мне надо было сказать еще кое-что.
— Боюсь, однако, что, даже если мы это сделаем, пациенту едва ли станет лучше.
Жена отреагировала без промедления.
— Введите ему это лекарство, — сказала она. Давление продолжало падать, и одним введением жидкости обойтись было невозможно. Я подчинилась.
К вечеру мы решили перевести мистера О'Брайена в отделение интенсивной терапии. Жена последовала за ним, неся небольшой пакет с вещами и записную книжку. Она провела в больнице почти год, и мне казалось, что вещей должно быть больше. Через несколько дней я узнала, что мистер О'Брайен умер. Его жена уехала домой. Ночью она позвонила в ОИТ и попросила к телефону врача, который констатировал смерть. У нее была просьба.
К телефону подошел интерн.
— Алло?
На другом конце провода ждала миссис О'Брайен.
— Мне сказали, что сегодня ночью мой муж умер, но я… Я не уверена, что он мертв, — сказала она. — Кто-нибудь может справиться об этом в морге?
Работая в ОРИТ и потом, в течение нескольких месяцев, я порой думала о Чарли Аткинсоне. Узнав, что такое на самом деле хронические критические состояния, я сомневалась, что Чарли сможет жить дома. Мне казалось, что он неизбежно вернется в специализированное учреждение. Он мог подхватить очередную инфекцию, впасть в полубессознательное состояние, снова очутиться в зависимости от ИВЛ и оказаться прикованным к постели. Во время нашего разговора Чарли и его жена оставили мне свои электронные адреса. Чарли тогда сказал мне, что надеется выписаться осенью, поэтому в декабре я отправила ему письмо. Я сомневалась, что получу ответ, но после случившегося с мистером О'Брайеном мне казалось очень важным узнать о судьбе Чарли Аткинсона.
К моему удивлению, Чарли вскоре ответил. Он действительно выписался из реабилитационной больницы и, несмотря на повторные инфекции, слабость и нейропатию[3], оставался дома.
Вот так приблизительно через неделю после получения письма я оказалась у подъезда дома Аткинсонов, перед пандусом для инвалидного кресла, сооруженного специально для Чарли его семьей. Стояла типичная декабрьская погода — в половине шестого вечера было холодно и темно. Я испытывала некоторую неловкость, но все мои опасения рассеялись, когда открывшая дверь Джанет сердечно поприветствовала и обняла меня. Она сказала, что они с мужем с нетерпением ждали меня к ужину и что Чарли очень волновался перед встречей со мной. Чарли ожидал меня в столовой, которую превратили в спальню, чтобы он мог проводить все свое время на первом этаже.
Еще в больнице Чарли говорил мне о своем желании приобрести реанимационную койку, которую он рассчитывал заказать через интернет. Теперь он лежал именно на такой кровати, но вместо больничной пижамы на нем был удобный серый свитер и шорты. Рядом с кроватью стоял портативный аппарат ИВЛ со шлангом, который можно было подсоединить к трахеостомической трубке. Из-под штанины был выведен мочевой катетер. Пока мы разговаривали, Чарли несколько раз прочищал горло. Находиться один он не мог и поэтому нанял двух проживающих сиделок — певицу из кабаре и пианистку местной музыкальной школы, которые посменно ухаживали за ним. Все было хорошо, несмотря на то что несколько недель назад ночью возникли серьезные проблемы с трахеостомической трубкой — у Чарли тогда возникло ощущение, что воздух перестал поступать в легкие. Он думал, что сейчас умрет. Но с осложнением удалось справиться, и Чарли остался дома, с женой, в изысканном кембриджском доме, где они вырастили своих детей и прожили в счастливом браке несколько десятков лет. По просьбе Чарли я смотрела, как он с помощью ходунков перешел в кухню. Джанет приготовила жареную курицу со спаржей и рисом. Мне предложили бокал хорошего вина. Завязался живой разговор. Мы обсуждали хронические критические состояния — больных и их родственников, которые месяцами жили в больницах, надеясь на улучшение, которое могло и не наступить. Хотя в этом сюрреалистическом мире Джанет и Чарли провели почти год, ни он, ни она никогда не слышали самого термина «хроническое критическое состояние», как не слышали и о прогнозе лечения таких состояний. Казалось, что я приобщаю их к странному клубу, членом которого Чарли стал, сам того не зная, в момент, когда ему сделали трахеостомию.
Мы закончили ужин, и пока я говорила, Джанет убрала со стола. Я было встала помочь, но она напомнила, что я гость. Затем Джанет достала из духовки яблочный пирог и подала его с ванильным мороженым. Мороженое таяло на горячем пироге, пока Чарли и его жена внимательно слушали меня. Конечно, легко рассуждать о хронических критических состояниях на кухне, наслаждаясь знакомыми с детства ароматами горячей еды, печеных яблок и корицы. Но это кажется не слишком справедливым. Возможно, благодаря домашней атмосфере Чарли не сказал, что кому-нибудь следовало рассказать ему о хронических критических состояниях еще в больнице. Он был рад узнать, что оказался даже удачливее, чем ему казалось.
— Ты слышала, дорогая, — то и дело восклицал он, — только 10% больных возвращаются домой!
Я решила развить тему. Я спросила Чарли, повлияло бы знание этих цифр на его решение в ту зиму, когда Джанет искала подходящий дом инвалидов, а врачи говорили, что состояние ее мужа достигло плато. Вместо ответа Чарли рассказал, что, учась в колледже, занимался греблей. Он прервался, чтобы откашляться, словно дал мне время оценить уникальное сочетание множества факторов: личной решимости, наличия финансовых средств, поддержки семьи и простого везения, которое позволило ему невзирая ни на что вернуться домой почти через год после поступления в отделение интенсивной терапии Массачусетской больницы общего профиля. Чарли подытожил: «Я знаю, когда следует делать следующий гребок».
После ужина Чарли и Джанет попрощались со мной и направились в ванную. Джанет прочищала трахеостомическую трубку своего мужа перед сном.
Спустя десять месяцев я получила еще одно электронное письмо от Чарли Аткинсона. Он пригласил меня на своеобразный юбилей — год после возвращения домой из больницы. Я позвала с собой подругу, которая, как я узнала чуть раньше, была одним из первых врачей, принимавших Чарли, когда он поступил в Массачусетскую больницу. Она и интерн пытались сделать Чарли люмбальную пункцию — ввести длинную тонкую иглу между поясничными позвонками, чтобы извлечь пробу спинномозговой жидкости. Попытка не удалась, потому что он слишком смущен и напряжен и не мог принять нужную позу — лечь на бок с прижатыми к груди ногами и головой, чтобы увеличить расстояние между позвонками. После нескольких безуспешных попыток врачи позвали неврологов, которым удалось взять пункцию, благодаря чему была диагностирована лихорадка Западного Нила.
В тот вечер у Чарли моя подруга рассказала ему об этом событии, а он с большим интересом слушал. Он ничего не помнил из того периода. Подруга была немало удивлена, видя, как Чарли ест сыр и крекеры и ведет светские беседы с сыном и друзьями. В ее памяти он почти два года назад лежал на койке, едва реагируя на окружающее, в лихорадочном бреду. Тогда она была уверена, что пациент либо умрет, либо из-за серьезных осложнений никогда не сможет вернуться домой.
Для меня и моих коллег знакомство с такими пациентами, как Чарли Аткинсон или мистер О'Брайен, ограничивается временем нашего контакта с ними в ОИТ. Мы снова видим их, только если их состояние ухудшается настолько, что их повторно переводят в интенсивную терапию, и то только когда это происходит во время нашего дежурства. Нам редко выпадает возможность последовать за ними в учреждения длительной интенсивной терапии, где они проходят долгий курс реабилитации, борются с инфекциями и делирием, и, если очень повезет, однажды возвращаются домой.
Чарли Аткинсон и мистер О'Брайен прошли через схожие испытания, но один из них вернулся домой, а второй умер в больнице. Где разошлись их пути? Вероятно, это не единственная развилка. Их состояние менялось постепенно, шаг за шагом, развиваясь в определенном направлении для каждого из них. Оглядываясь назад и вспоминая Чарли Аткинсона дома, в кругу семьи и друзей, я поражалась тому, насколько похожи были эти два пациента. Да, оба находились в хроническом критическом состоянии, но, вероятно, состояние Чарли Аткинсона на всех этапах было легче состояния мистера О'Брайена. Несмотря на энцефалит и слабость дыхательной мускулатуры, привязавшую его к аппарату ИВЛ, другие его органы — почки, сердце и даже головной мозг — остались работоспособными, а мистер О'Брайен медленно сдавал — его органы отказывали один за другим.
Чарли и Джанет — скорее исключение из общего правила; это ясно. И меня занимает такой вопрос: в какой момент течения хронического критического состояния можно определить, кто станет Чарли Аткинсоном (или, лучше сказать, кто мог бы стать Чарли Аткинсоном со всеми его личными ресурсами и простым везением, необходимыми для этого), а кто станет мистером О'Брайеном, которому суждено сойти с дистанции? После первого ужина у Аткинсонов я задала этот вопрос Джудит Нельсон, видному специалисту по критическим состояниям и паллиативной медицине, занимающейся научными исследованиями хронических критических состояний. «Я не знаю, когда становится ясно, что процесс необратим, — ответила Нельсон. — Но порой это и правда очевидно. Иногда это связано с каким-то несовместимым с жизнью изменением в состоянии пациента, тогда нам понятно, что он никогда не вернется домой. Поэтому я думаю, что каждый день нам следует взвешивать пользу и вред от проводимого нами лечения. Повторяю: каждый день».
Для кого-то другого на месте Чарли исход мог бы оказаться совершенно иным, например в те зимние дни, когда миссис Аткинсон искала для мужа место в доме инвалидов и никто не рассчитывал, что в конце концов он вернется домой. Но вот он сидит на своей кухне, протягивая сыну смартфон, и просит запечатлеть происходящее. Я наблюдала, как сын, очень похожий на Чарли, взял телефон и заснял на видео своего отца, общающегося с гостями. Чарли все еще передвигался с помощью ходунков и нуждался в мочевом катетере, но врачам удалось извлечь трахеостомическую трубку, теперь он не зависел от аппарата ИВЛ. Только небольшой шрам напоминал о длительной вентиляции легких. Чарли выглядел отлично. Я живо представила себе вечер в отделении длительной интенсивной терапии всего в нескольких километрах отсюда, с гудящими мониторами и тревожными сигналами дыхательных аппаратов, пациентов, которые отчаянными жестами подзывают медсестер, мужей, сидящих у постелей своих жен. Потом я невольно подумала о миссис О'Брайен. Возможно, тем вечером она тоже ужинала в доме, где прожила с мужем много лет. После года, проведенного среди врачей и их решений, постоянной неопределенности и напрасных надежд, все было кончено. Ее муж никогда не вернется домой. Миссис О'Брайен осталась одна.
3 Жизнь на батарейках
Его сердце отказывалось работать. Мне представляется, что все происходило так: сначала начали отекать ноги. Ходить становилось все труднее, потому что нижние конечности стали тяжелыми, как гири. Он стал быстро утомляться, но стоило ему лечь, как начиналось удушье. Чтобы избежать его, приходилось спать сидя. Он принимал все предписанные врачами лекарства, но от них было мало толка. Вэн Шовен не боялся смерти, но не хотел жить так, задыхаясь по ночам.
Тогда доктора предложили другой выход. Ему порекомендовали воспользоваться устройством, которое называется искусственным левым желудочком сердца (ИЖС). Врачи объяснили, что этот прибор будет забирать кровь из левого желудочка и с достаточной силой проталкивать ее в аорту. Таким образом, ИЖС возьмет на себя функцию, с которой сердце перестало должным образом справляться. В тело больного через отверстие в передней брюшной стенке введут электрический кабель. За отверстием надо ухаживать, чтобы оно не инфицировалось и не воспалилось. Тяжелая инфекция может убить его, предупредили врачи. Электроэнергией устройство через кабель снабжалось от блока питания, который надо носить на поясе, на специальной эластичной ленте. Если устройство не приведет к параличу в результате инсульта или кровотечения, то оно позволит Вэну нормально ходить и спокойно спать по ночам. Некоторым больным ИЖС устанавливают на время ожидания пересадки сердца, но Вэн был хроническим курильщиком и не мог рассчитывать на пересадку, во всяком случае в тот момент. Если он так и не станет кандидатом на пересадку, то устройство станет его судьбой, он будет жить на батарейках и умрет с аппаратом в груди. Днем ИЖС будет работать от блока питания, а на ночь его нужно будет включать в сеть (для подзарядки аккумуляторов).
Эти устройства вызывали у меня восхищение, когда я работала в кардиологическом отделении во время резидентуры. Одно время я работала с кардиологом, который занимался механическими приспособлениями, поддерживавшими кровообращение при хронической сердечной недостаточности. Тогда я думала, что стану кардиологом, как мой отец, но вышло иначе. И я до сих пор помню, какое сильное впечатление производили на меня ясные, высказанные чрезмерно правильным английским языком с отчетливым немецким акцентом, объяснения принципов работы ИЖС. Сидя в кабинете наставника на верхнем этаже медицинского исследовательского центра Колумбийского университета, я перекладывала из одной руки в другую это чудо-приспособление. Это было внушительное устройство, массивное и твердое. Если бы я не знала его назначения, едва ли смогла бы догадаться по внешнему виду аппарата из нержавеющей стали и пластика.
В каком-то смысле это всего лишь одно из множества имплантируемых устройств, вроде инсулиновой помпы для диабетиков или кохлеарного имплантата для глухих. Я знаю, что сердце — всего лишь мышца, мне приходилось держать в руке холодное и неподвижное мертвое сердце, ощущать его безжизненную тяжесть. Но при этом я не могу не верить, что здесь кроется что-то еще, какой-то смысл, который невозможно игнорировать — тот факт, что тысячи людей в наши дни остаются в живых только благодаря тому, что не забывают на ночь включить в розетку поддерживающее жизнь механическое устройство. Этот симбиоз человека и машины казался мне жизнью на пределе возможного, и я хотела понять, где проходит этот предел, с тех пор как начала изучать медицину. Конечно, я врач интенсивной терапии, а не хирург, и мне никогда не доведется самой имплантировать эти устройства больным. Я понимаю, что со временем эти устройства станут меньше, как это происходит со всеми другими устройствами, — внешние детали станут внутренними, и в один прекрасный день ИЖС станут такими же удобными и экономичными, как современные кардиостимуляторы. А потом появятся новые устройства, которые еще на один шаг приблизят нас к преодолению пределов, накладываемых на нас смертностью. Будучи реаниматологом, то есть врачом, который имеет дело с находящимися на грани смерти людьми, я всегда хотела понять, что значит быть в полной зависимости от технологий — не просто среди жужжащих и гудящих аппаратов жизнеобеспечения и мониторинга в отделении интенсивной терапии, а после выписки из больницы, в обычной повседневной жизни.
Вэн Шовен ехал в кресле-каталке по белому коридору кардиологической клиники. Любой госпиталь смахивает на лабиринт, но Вэн и его сестра Донна, которая сопровождала брата в поездке из дома, расположенного в глубине штата, в Бостон, знали эту больницу как свои пять пальцев. Они бывали здесь много раз — пожалуй, слишком много, — с тех пор как у Вэна развилась сердечная недостаточность и врачи имплантировали в его грудную клетку ИЖС. После нескольких врачебных консультаций и обследований он выглядел немного взъерошенным в своей камуфляжной жилетке, купленной несколько лет назад в гипермаркете Walmart. Вместо охоты или рыбалки Вэн использовал эту удобную одежду со множеством карманов для внешних частей аппарата. В каждом кармане лежали запасные аккумуляторы для ИЖС. В камуфляже этот мощного телосложения седовласый 60-летний мужчина скорее походил на стареющего десантника, чем на страдающего тяжелой сердечной недостаточностью больного, чью кровь по жилам гонит электрический насос.
Мне казалось, что, когда врачи рассказали Вэну об этом устройстве, он первым делом задумался о том, какой станет его жизнь. Но, наверное, это было не совсем так. Наверное, сначала Вэн очень хотел — как хотела бы и я на его месте, — чтобы все это просто исчезло. Ему было за пятьдесят, и до того, как его здоровье покатилось в тартарары, он был заядлым курильщиком и любителем выпить. Он легко расстраивался и был подвержен вспышкам гнева. Брак его распался, но у него было трое взрослых детей. Вэн работал на складе стройматериалов, а в свободное время занимался разведением попугаев — ара, серых африканских и корелл. Когда его начала мучить одышка, он и предположить не мог, что виной тому плохо работающее сердце. Он и вовсе не думал о причинах, надеясь, что все пройдет само собой. Способность человека игнорировать, казалось бы, самые важные вещи поистине удивительна. Однако, когда Вэна стали преследовать приступы головокружения — перед глазами вставала серая пелена, и он терял равновесие, — он наконец обратился к врачу.
Терапевт направила его к другому доктору. Кардиолог, осмотрев пациента и выслушав его историю, сказала, что следует немедленно сделать эхокардиографию — ультразвуковое исследование сердца. Наверное, Вэну стало не по себе, когда по его груди растекся холодный гель. Может быть, ему очень хотелось спросить, что означают эти зернистые изображения на экране, но он промолчал. Через несколько дней он узнал, что его сердцу трудно качать кровь. Врач прописала лекарства, которые надо было принимать два раза в день — утром и вечером. Вэн никогда не ходил по врачам и не любил лечиться, но таблетки отчасти помогли, и это было хорошо. Он отказался от спиртного и начал посещать собрания анонимных алкоголиков. Он вернулся на склад, где хотя и медленнее, чем раньше, но все же справлялся с работой. Потом врачи сказали Вэну, что ему надо вживить небольшую машинку, которая будет выдавать электрический разряд всякий раз, когда начнутся угрожающие нарушения ритма. Машинка называлась дефибриллятором, была маленькой и компактной. Вэн без раздумий согласился.
Машинка взрывалась у него в груди не меньше пяти раз. После пятого раза он просто сбился со счета. Каждый раз, когда аппарат срабатывал, Вэн ощущал сильный удар, а потом все проходило. Без дефибриллятора он бы умер, а с ним был до сих пор жив и неплохо себя чувствовал. Вместе с другом он отправился в длительное путешествие по восточному побережью США, продавая футболки и кожаные куртки на мотоциклетных шоу. Наступил праздник Марди гра[4], и, хотя Вэн теперь не пил ни капли спиртного, он отправился в Новый Орлеан и прекрасно провел там время. Все было в порядке, и он задумал новый интересный проект: решил соорудить дом на колесах. Вэн закупил фанеру, листы полиэтилена и платформу от грузовика. Теперь в свободное время он строил трейлер по несколько часов в день в гараже, который делил с другом. Он уставал, и порой ему казалось, что аппарат в груди вот-вот сработает, но все же ему было лучше, чем в начале болезни.
Вэн аккуратно принимал все назначенные ему лекарства. Не бросил курить, но окончательно завязал с алкоголем. Если бы он был склонен к рефлексии, то наверняка счел бы большой несправедливостью то, что у него снова начали отекать ноги, опять возникли головокружения и по ночам перестало хватать воздуха. Недостроенный трейлер покрылся пылью, так как работать физически Вэн был уже не в состоянии. Он не мог даже ездить на озеро рыбачить, хотя погода стояла просто великолепная. Сердце начинало бешено колотиться, даже когда он поднимался со стула, и требовалось собрать все свои силы, чтобы просто стоять. Существовать. Он пошел в больницу и ждал в отделении скорой помощи, пока ему не нашли свободную койку. Вэну поставили капельницу с лекарствами, чтобы отвести жидкость, скопившуюся в легких, в животе и в ногах из-за того, что сердце опять не могло полноценно перекачивать кровь. После капельницы Вэну стало легче дышать, и он отправился домой в полной уверенности, что поправился. Но через несколько дней все началось сначала. Ему становилось все хуже, и казалось, ничто уже не сможет помочь. Именно тогда врачи заговорили о необходимости поездки в Бостон для имплантации в грудную клетку более крупного устройства — искусственного левого желудочка.
С этим приспособлением, объясняли Вэну, он имеет больше шансов пережить следующий год. Однако жизнь будет сопряжена с риском и значительными трудностями. Возможен обширный инсульт или опасное кровотечение. Может быть, придется делать повторные операции для замены насоса. Вэн не сможет плавать или выходить на лодке на открытую воду, так как аппарат нельзя мочить. Если же он откажется, то проживет меньше, но сможет жить дома, изредка посещать врача и не будет рисковать экстренными операциями и частыми госпитализациями. Выбор врачи оставили за пациентом.
Вэн уже слышал об этом устройстве, когда семью годами раньше заболел его брат Пол. Состояние его было тяжелым, и, когда Пол наконец был госпитализирован, врачи сказали родственникам приблизительно то же самое, что и Вэну. Сердце Пола фактически отказывалось работать. Семья выбрала ИЖС. Пол лежал в больнице три месяца, и ему встроили аппарат, но он все равно впал в кому и умер — весь в отеках, с устройством, которое не смогло его спасти.
Естественно, Вэн сразу вспомнил о Поле. Он видел, как умирал его брат. Это видели и мать, и сестры, и они не хотели, чтобы Вэн повторил судьбу Пола. Но они не хотели и говорить «нет». В конце концов, прошло целых семь лет. Наверное, за это время устройство усовершенствовали. И хотя Вэн был довольно крупным мужчиной, он все же был стройнее и в целом здоровее, чем его брат. Несмотря на страх, родственники Вэна верили врачам, верили в прогресс медицины и техники. На их взгляд, для Вэна это был наилучший шанс. Что касается его самого, то он очень хорошо помнил, в каком состоянии Пол пребывал на больничной койке. Потом Вэн подумал, во что превратилась его жизнь: он был неспособен свободно дышать, часто попадал в отделения скорой помощи, не мог лежать. Такая жизнь пугала его по-настоящему. Он решил, что если ему суждено умереть, то это будет все равно что уснуть и все будет кончено. Но если ИЖС сработает как надо, то появится шанс вернуться к полноценной независимой жизни, к которой он так стремился. Кроме того, Вэну нравились его врачи, он доверял им. Так что если они дают добро, то он выбирает ИЖС.
Как-то воскресным днем я взяла напрокат автомобиль и поехала к Вэну, который жил в 100 км к юго-западу от Бостона, недалеко от границы штата Коннектикут. Я познакомилась с Вэном в той клинике, где ему установили ИЖС. Один из врачей посоветовал мне поговорить с пациентом, чтобы порадоваться его перспективам. Когда я сказала Вэну, что я врач-пульмонолог и хочу узнать, каково это — жить с ИЖС, его лицо расплылось в улыбке. Он сказал, что если я на самом деле хочу узнать о его жизни, то мне надо поговорить с ним не здесь, между двумя осмотрами, где он нервничает и отвлекается от разговора, ожидая, когда его вызовут. Для разговора, сказал он, мне стоило бы навестить его дома. Я с энтузиазмом приняла это приглашение. Мне хотелось знать, как и куда он втыкает вилку аккумулятора, хватает ли длины шнура, чтобы, например, сходить ночью в туалет, и что происходит, когда звучит сигнал тревоги, удается ли Вэну хладнокровно реагировать. Мне было интересно узнать, как он приспособился к новым ограничениям жизни с ИЖС и не жалеет ли он порой об имплантации.
Ранее на той же неделе я присутствовала на ежемесячной встрече группы поддержки для больных с ИЖС. Группа собралась в конференц-зале кардиологического отделения. Когда я пришла, люди, одни в обычной одежде, другие в больничных рубашках, уже расселись, и собрание началось. Я пришла как раз в тот момент, когда одна женщина признавалась группе в том, что совсем не была уверена, стоит ли ее мужу согласиться на имплантацию ИЖС, так как она не знала, сможет ли стать для него хорошей сиделкой. Женщине было под 70, она была опрятна, хорошо одета. Когда муж впервые узнал о возможности установки ИЖС, он был только за, так как надеялся, что устройство продлит его жизнь и улучшит ее качество. Но она все еще продолжала работать и даже в больнице каждый день проводила по несколько часов за компьютером, чтобы немного отвлечься и проветрить голову. Хотя эта женщина очень любила своего мужа, ее пугали возможные перемены, она боялась, что ей придется делать перевязки, реагировать на сигналы тревоги, — изо дня в день. Она не знала, достанет ли ей мужества.
Во время выступления я разглядывала ее мужа, который сидел рядом. Болезнь сильно состарила его, и сам он молчал, предоставив говорить жене. Муж был одет в больничную пижаму, рядом с ним стоял штатив с капельницей, а на плече висел футляр с аккумуляторной батареей. Ему недавно имплантировали ИЖС, и теперь он восстанавливался после операции.
Женщина призналась, что ее до сих пор страшит неизвестность. Она знала, что в любой момент что-нибудь может пойти не так. У ее мужа может случиться инсульт, начаться кровотечение, и он будет парализован и навсегда прикован к кровати, не способный ни чувствовать, ни мыслить. Но при этом он будет жить благодаря имплантированному устройству. Что они будут делать тогда? Может быть, муж заболеет раком, и тогда им придется решать, когда и как отключить аппарат. Да и само устройство может сломаться. Возможно, что оно будет работать как надо, но она неправильно наложит повязку, и у мужа начнется инфекция. Что будет, если она оцепенеет при сигнале тревоги и не сможет вовремя поменять аккумулятор? Все это будет очень нелегко. Но они были женаты уже без малого полвека. Если все пойдет хорошо, то устройство позволит мужу прожить дольше и лучше, придаст ему силы, которых не хватало его сердцу для того, чтобы полноценно осуществлять кровообращение. Он хотел воспользоваться этим шансом. А она когда-то дала клятву: в болезни и в здравии. Конечно, она никогда не думала, что станет сиделкой собственного мужа, жизнь которого будет поддерживать работающий на батарейках аппарат, но все же чувствовала, что это ее долг, и смирилась со своей судьбой.
В пути из Бостона к дому Вэна я вспоминала группу поддержки. Что будет с этой женщиной и ее мужем, вернет ли ему ИЖС привычный образ жизни, по которому он тосковал, сможет ли его жена вернуться к работе? После той женщины на встрече выступал общительный молодой человек, которому год назад имплантировали ИЖС, а затем пересадили сердце. Он опоздал, но, как только вошел, оказался в центре внимания, было заметно, что он нравится людям. Очевидно, он был горд тем, что сумел преодолеть все трудности, и, конечно, благоприятным исходом. Я от души надеялась, что у него все будет хорошо и дальше. И у тех, кто не выступал на группе поддержки, а только внимательно слушал других. Я легко могла представить их лежащими в больнице и себя, назначающую им лечение и регулирующую скорость введения лекарств, а затем обсуждающую сегодняшний обед и заполняющую формуляры историй болезни. Я не имела ни малейшего представления о том, что происходило с этими людьми после того, как они покидали безопасную гавань кардиологического отделения.
Вэн жил в комплексе для престарелых и инвалидов, это учреждение состояло из множества отдельно стоявших небольших домов. Я безнадежно заблудилась в этом лабиринте и, отчаявшись, позвонила Вэну. Ответила одна из его сестер. Она вышла к воротам и радостно помахала рукой, увидев мою машину, а когда я вышла, обняла меня, хотя мы прежде не виделись и не были знакомы даже заочно. Когда мы разговаривали с Вэном в больнице, он не знал, найдут ли родственники время заехать к нему во время моего визита, и я ожидала, что на встрече будем только мы и, возможно, одна из его сестер. Я предполагала, что взгляну на внешние части устройства, мы поболтаем, и я откланяюсь. Но стоило мне войти в гостиную, как раздались многочисленные приветствия. У меня было такое впечатление, будто я попала на семейное торжество. Здесь были Дарлин (которая встретила меня на улице) и Донна — другая сестра Вэна, которая регулярно сопровождала его к врачам. Рядом с Донной сидели маленькая старушка — мать Вэна, его сын и племянница, и при этом не все еще собрались! Вся родня горела желанием прийти и рассказать про Вэна.
Я едва его узнала! Вэн выглядел совсем не так, как в клинике, — в окружении семьи он казался спокойным и счастливым. На нем была куртка с карманами для аккумуляторных батарей, под белой футболкой виднелся бугорок — блок управления — который я разглядела, только внимательно присмотревшись. Я представилась и села, а Вэн в это время ушел на кухню за блюдом с печеной картошкой, шнитт-луком и сливочным кремом. Рецепт он нашел в «Фейсбуке» и теперь, волнуясь, ждал нашей реакции. После имплантации ИЖС, сказал он мне с кухни через раздаточное окно, он научился пользоваться интернетом, и «Фейсбук» стал его любимым сайтом.
Аккумуляторы ИЖС истощались после 12 часов работы, а это означало, что каждую ночь Вэн подсоединял блок управления к розетке для подзарядки батарей. При таком подключении он мог отойти от стены не более чем на шесть метров. «Как собака на привязи», — смеялся он. Батареи заряжались до утра, и потом Вэн мог отсоединить блок питания от электросети. Его жилище было совсем небольшим, и он мог выходить из спальни на кухню даже при включенном в сеть аппарате. Туалет был еще ближе, чем кухня.
В то утро его будильник прозвонил в четыре утра. День начинался с душа. Даже после трех лет жизни с ИЖС Вэн так и не привык к этому процессу. Начать надо с того, что батареи и блок управления нельзя мочить, поэтому перед каждой водной процедурой Вэну приходилось вынимать батареи из их чехла, а блок управления из поясной сумочки, сшитой для него Донной, и помещать все это в специальный водонепроницаемый пакет. Пакет герметично застегивался сверху, провода пропускались через специальное отверстие. Все это Вэн из предосторожности укладывал в еще один пакет. Врачи предупредили, что и при соблюдении всех этих предосторожностей душ можно принимать не дольше десяти минут два раза в неделю. Для оборудования это был самый безопасный режим. Вэн соблюдал эту инструкцию — по большей части, но иногда допускал вольность и принимал душ трижды в неделю. Это и был как раз такой третий душ.
После душа надо было уделить некоторое время повязкам, которые прикрывали отверстие в животе, куда уходили провода. Эта процедура была очень проста. Я прошла с Вэном в его спальню, и он показал мне угол, где хранил стопку наборов для смены повязок. В первое время после возвращения из больницы Вэн скрупулезно выполнял все врачебные предписания. Собственно, у него не было другого выбора. В те первые дни ему настоятельно рекомендовали не оставаться одному на случай, если вдруг произойдет какой-нибудь сбой в работе ИЖС. Иногда врачи могут отказать в имплантации больным, у которых нет возможности обеспечить уход за собой — нанять сиделку или заручиться поддержкой членов семьи. В те первые дни рядом с Вэном неотлучно, днем и ночью, находились его сестры или дочь. Пока Вэн находился в больнице, члены семьи учились держать в чистоте повязки и менять аккумуляторные батареи. Родственники заучивали свои действия в случае срабатывания тревожной сигнализации, отрабатывая их до автоматизма в надежде, что моторная память позволит преодолеть панику. Даже Дарлин, которая всегда страшно боялась медицинских процедур, научилась менять повязки, прикрывавшие место, где входили в живот провода устройства.
Поэтому, когда Вэн вернулся после операции, родственники жили с ним. Они меняли повязки, как их учили в больнице, аккуратно следуя всем инструкциям. Сменные повязки подносили к кровати Вэна. Сам он ложился, смачивал старую повязку спиртом и выжидал несколько минут для того, чтобы она хорошенько пропиталась. После этого его помощник осторожно удалял старую повязку, оценивая состояние отверстия для проводов. Довольно часто выявлялось небольшое покраснение, которое обрабатывали спиртом, а затем стерильным физиологическим раствором. Вся процедура занимала около 15 минут. Затем следовало выждать еще столько же до полного высыхания марли, прежде чем наложить поверх еще одну, страхующую повязку.
Ко времени нашего знакомства Вэн приспособился менять повязки самостоятельно. Пожав плечами, он признался мне, что иногда экономил время — например, отдирал старую повязку, не пропитывая ее спиртом. Конечно, все равно приходилось проявлять осторожность и терпение. Если учесть перерывы, которые Вэн был вынужден делать, чтобы отдышаться и прийти в себя, то принятие душа и смена повязок были испытанием, длившимся в среднем около трех часов. Обычно после всех этих процедур Вэн варил кофе и садился с чашкой у компьютера, чтобы пару раз разложить пасьянс. Но вообще Вэн не терпел праздности и всегда находил себе занятия. В тот день он приготовил еду к моему приезду. После основного блюда он собирался подать брауни[5] с клубникой и взбитыми сливками.
Пока мы разговаривали, распахнулась входная дверь, и раздался звонкий детский голос. Обернувшись, я увидела дочь Вэна и ее сына, круглолицего четырехлетнего малыша по имени Дилан, который буквально ворвался в дом в футболке с изображением Супермена. Он бросился к деду и повис на его шее. Через несколько месяцев после того, как Вэн выписался из больницы, дочь позвонила и спросила, не хочет ли он посидеть с Диланом. Вэн обожает своего внука. Фотография Дилана висит на холодильнике, и Вэн очень любит проводить время с внуком, но, поразмыслив, он ответил «нет». Любящий дед опасался, что с ним может что-нибудь случиться, когда он будет один с ребенком. Аппарат может отказать, и он умрет, а младенец сильно испугается, к тому же останется без присмотра — слишком опасно. Поэтому Вэн играл с ребенком только в присутствии дочери или одной из сестер.
— Если я вдруг потеряю сознание, то что он будет делать? Ждать целый день, пока кто-нибудь не придет?
Он делился своими страхами, пока я стояла у входа в кухню, а Дилан весело носился по гостиной.
— Моя жизнь стала другой, и это надо учитывать.
Шли месяцы, а затем и годы, и постепенно Вэн начал проводить с внуком по несколько часов наедине. Из предосторожности ребенка снабдили телефоном с кнопкой экстренного звонка родителям. Тем не менее Вэн без нужды не затрагивает тему сбоев в работе аппарата — не трогай лихо, пока оно тихо.
— Пока мы с Диланом одни, я постоянно об этом думаю, — признался Вэн.
Однажды он проснулся в два часа ночи от громкого электронного гудения. Уверенный, что это тревожная сигнализация ИЖС, Вэн переключил источник питания, выдернув вилку из розетки и подключив шнур к аккумуляторам. Но звук не прекратился. Вэну категорически рекомендовали не пытаться самостоятельно переключать режимы в блоке управления, включать или выключать его, но он сильно растерялся, к тому же была глубокая ночь. И Вэн пытался делать все то, что врачи велели не делать ни в коем случае. Однако гудение не утихло. Вэн с трудом выбрался из постели и подошел к телефону, чтобы позвонить в отделение, где ему имплантировали ИЖС. Только добравшись до телефона, Вэн заметил, что трубка снята с рычага и лежит на столе. Гудел телефон, а не аппарат. Когда Вэн закончил свой рассказ, вся родня добродушно рассмеялась, хотя я понимала, что они не в первый раз слышат эту историю.
Когда смех утих, возникла недолгая пауза. Я воспользовалась тишиной и спросила Вэна, не позволит ли он мне пощупать его пульс. Это предложение позабавило Вэна, и он протянул мне руку. Привычным жестом я положила пальцы на его запястье, на то место, где прощупывается пульс на лучевой артерии. Обычно под пальцами сразу ощущается ритмичная пульсация. Так как устройство проталкивает кровь в аорту не толчками, как это делает сердце, а постоянным потоком, я не смогла уловить пульс. Признаюсь, я была обескуражена, а Вэн хитро улыбнулся. И он, и его семья немало шутили по поводу этого устройства. Когда Вэн начинает действовать сестре на нервы, она говорит, что если он будет плохо себя вести, то она отключит его от розетки.
Сначала доктора намеревались пересадить Вэну новое донорское сердце. Врачи считали, что пересадка возможна (имплантацию ИЖС называли промежуточным решением), но придется подождать, потому что он курил вплоть до установки ИЖС. Вэн очень хотел трансплантации — или ему так казалось. Трансплантат позволил бы обходиться без аккумуляторов и, что еще важнее, дал бы возможность плавать и, например, научить внука удить рыбу с лодки. В первые месяцы после операции Вэну приходилось каждые две недели приезжать в клинику, чтобы врачи могли проверить работу аппарата и при необходимости внести изменения в режим его работы. Оценивали и шансы Вэна стать кандидатом на пересадку сердца. Машину обычно вела Донна, и дорога туда-обратно занимала не меньше двух часов — это если не было пробок и стояла хорошая погода. Визиты к врачам не становились реже, часы, проведенные в автомобиле и очередях, выматывали, а надежда на скорую пересадку после многочисленных анализов и обследований становилась все более туманной и неопределенной.
В конце концов все эти муки были вознаграждены: Вэна внесли в список претендентов на пересадку. Но за время ожидания в клинической картине его болезней на первое место вышла эмфизема легких. Вэн бросил курить в день поступления в больницу, где ему имплантировали искусственный левый желудочек. Дважды в день он пользовался ингалятором, но функция легких продолжала ухудшаться. Теперь Вэн не мог вернуться на работу уже не из-за сердечной, а из-за легочной недостаточности. Ему сказали, что если ситуация не улучшится, то о пересадке сердца даже речи быть не может. Визиты к врачам участились, и увеличилось количество выписанных лекарств. Когда Вэн попал на прием к новому пульмонологу, тот просто и без обиняков сказал, что уже ничем не может помочь. Вэн расстроился и разозлился, но факты — упрямая вещь. Во время очередного посещения клиники доктора сказали, что пересадки сердца не будет. Вскоре пришло официальное письмо, в котором больница извещала пациента о том, что его имя вычеркнуто из списка. Сообщив мне об этом, Вэн пожал плечами.
Донна восприняла эту новость тяжело. Она не чувствовала ничего, кроме опустошения. Сестра прошла с Вэном все круги ада. Она вела дневник его состояния во время госпитализации, она просто-напросто жила с ним там во время самых неожиданных осложнений после имплантации ИЖС. Когда Вэна забрали в операционную, Донна думала, что никогда больше его не увидит. Она возила его в Бостон на осмотры. Однажды вечером ей пришлось сесть за руль, потому что сработала тревожная сигнализация и никто не знал почему. И вот, несмотря на все это, его вычеркнули из списка, и она, Донна, ничего не могла поделать. «Очень тяжело было первые два дня, потому что я никак не могла с этим смириться», — рассказала она.
Сам же Вэн отреагировал иначе. Этот человек никогда ни на чем не зацикливался и не позволял себе тонуть в жалости к себе. Он не раздумывал о вещах, которым не суждено произойти, потому что это верный способ впасть в отчаяние, а этого Вэн хотел меньше всего. Я спросила, каково это — знать, что остаток жизни он проведет с этим аппаратом, что устройство будет работать до самой его смерти, что он никогда не сможет толком принять душ или поехать на рыбалку. Мне казалось, что это очень тяжело — смириться с такой мыслью. Но Вэн смотрел на вещи по-другому. Пока пересадка сердца была возможна, он с радостью и надеждой посещал клинику. Он слушался врачей, дисциплинированно сдавал все назначаемые анализы и проходил дополнительные предоперационные обследования. Ему даже пришлось сделать колоноскопию. Он очень хотел пересадки сердца, чтобы ходить на охоту и на рыбалку, но судьба распорядилась иначе. И вместо сожалений о несбывшемся Вэн принял жизнь такой, какая она есть. «Это лучшее, что они могли сделать», — сказал он, когда узнал, что его вычеркнули из списка кандидатов на трансплантацию. Теперь ему нужно было ездить в Бостон всего лишь раз в несколько месяцев — будто разрубили цепь, приковавшую его к больнице. Так или иначе, Вэн теперь был свободен. «Дело дошло до того, что врачи стали контролировать мою жизнь, — вспоминает Вэн. — Но я не люблю, когда меня контролируют, и сейчас я могу жить спокойно».
Через месяц после того, как Вэн узнал, что пересадки сердца не будет, он решил поехать с семьей на берег моря. Это было первое путешествие, предпринятое им после имплантации ИЖС. Семья забронировала семь комнат в прибрежном отеле в штате Мэн. Они устроили ночной пикник, вся семья — Вэн, его мать, сестры, их дети и внуки. Днем они с удовольствием грелись на солнце, наслаждались бризом и брызгами океанского прибоя. Это были замечательные выходные.
Возможно, до этого у меня было неверное представление. Я думала, что жизнь с имплантированным устройством — нескончаемый ад, и для некоторых больных это так и есть. Я разговаривала с одним пациентом, который жил с ИЖС до тех пор, пока ему не сделали пересадку сердца. Каждый вечер он молился о том, чтобы не умереть во сне, а по утрам молился о том, чтобы благополучно пережить предстоящий день. Он не испытывал ненависти к ИЖС как таковому, он заключил с ним перемирие, но это инородное тело ежеминутно напоминало: он смертен. Тот человек понимал, что жив только благодаря этому устройству, он мог потрогать его, он его ощущал, но все время сознавал, что машины ломаются. Он не мог думать ни о чем другом. Вэн же не воспринимал как ограничение шнур, соединявший его с электрической розеткой. Его не мучила перспектива жизни с ИЖС в ожидании пересадки сердца. Самым страшным было не то, что среди ночи его в любой момент может разбудить сигнал тревоги. Худшим мучением для Вэна было постоянное ожидание и ощущение зависимости от больницы. Вопреки моим предположениям, именно эта зависимость была для него ужаснее всего.
Когда Вэну имплантировали устройство, он спросил врачей, сколько времени ему осталось. Дольше всех с ИЖС прожил пациент, чье сердце аппарат поддерживал на протяжении семи лет. Когда мы познакомились, с момента имплантации прошло уже три года, но Вэн не считал отпущенные ему дни. Он не ждал, когда произойдет что-то страшное, например остановка сердца, и меньше всего переживал из-за необходимости жить с имплантированным ИЖС. Теперь его жизнь стала такой, и он не знал, как долго насос, аккумуляторы и блок питания будут дарить ему жизнь. Конечно, было бы хорошо продержаться еще несколько лет. Проводить время с внуком, видеть, как мальчик растет. Радоваться обществу сестер, поддразнивать их, разбавлять своим присутствием их загородные девичники на выходных. Да, ограниченность даже самых современных технологий делала ощущение неопределенности будущего очень острым. Но Вэн, вероятно, благодаря участию в программе анонимных алкоголиков сумел осознать эту неопределенность и не позволил страху взять верх. Он смог двигаться по жизни дальше.
— Я не беспокоюсь о том, что могу умереть сегодня. Я проживаю каждый свой день ради этого дня, — сказал он мне однажды. После моей поездки к Вэну мы время от времени созваниваемся. Во время того утреннего разговора Вэну позвонили из клиники и сообщили о результатах лабораторных анализов. Дозу антикоагулянтов (средств, разжижающих кровь) можно было на следующую неделю оставить без изменений. «Речь идет не только обо мне, а обо всей моей семье. Они приложили столько усилий ради того, чтобы я мог жить, и я собираюсь радоваться каждому подаренному мне дню».
И он на самом деле радовался жизни. Благодаря ИЖС Вэн смог вернуться к строительству дома на колесах, которое он забросил, когда здоровье ухудшилось. Работая понемногу каждый день, он из фанеры построил автоприцеп длиной два с половиной метра, шириной и высотой по метру с небольшим. Вэн прорезал в стенах окна, поставил две двери, установил кондиционер и обшил корпус пластиковым сайдингом. Через некоторое время он, его мать и Донна с мужем прицепили кемпинг к автомобилю и отправились в гости к брату Вэна в Белые горы Нью-Гэмпшира. Вэн взял с собой зарядное устройство для аккумуляторов и электрогенератор. В течение поездки он обходился без розетки, просто меняя севшие батареи на подзаряженные каждые 12 часов. Это позволило ему ночевать в сделанном им автоприцепе. На природе было тихо и спокойно, спалось Вэну прекрасно. Как сказал он сам, «время я провел очень даже славно».
«Иногда выпадают хорошие дни, иногда — плохие», — заметил он однажды по телефону, когда я спросила, как его дела. Постепенно я полюбила наши разговоры и старалась смотреть на жизнь как Вэн, без переживаний о будущем и сожалений о прошлом. В тот день все было «не просто хорошо, а чудесно» — я была несколько удивлена его эмоциональности. Вэн рассказал, что решил заниматься спортом и купил тренировочную скамью для поднятия тяжестей. Для укрепления сердца он выполнял «Джампинг Джек»[6] без прыжков и повороты туловища. Вэн похудел, ему стало легче двигаться. На последнем осмотре пульмонолог сказал, что у Вэна улучшилась функция легких. Я сразу подумала о пересадке сердца — может быть, вопрос о ней снова встанет на повестке дня. На мой осторожный вопрос Вэн ответил: «Все возможно. Но я не собираюсь ставить свою жизнь в зависимость от пересадки. Все это тянется так давно, что я вполне доволен тем, как живу сейчас».
Вэн даже побывал на нескольких свиданиях. Он хотел бы встречаться с женщиной, но так и не придумал, как объяснить наличие устройства. «Они сбегают, как только узнают, что я живу на батарейках», — иронизировал он. Когда Вэн рассказывал о физических упражнениях и свиданиях, я подумала, как он изменился всего лишь за какие-то несколько месяцев. Наверное, отчасти весь этот позитив был вызван трезвым и спокойным отношением к реальности. Я озвучила свою мысль, и Вэн согласился. «Теперь это всего лишь часть моей рутины, — сказал он, имея в виду ИЖС. — Мне вроде как стало с ним вполне комфортно».
Это ощущение комфорта позволило Вэну начать работу над новым проектом. После строительства автоприцепа он решил отремонтировать свою четырехметровую моторную лодку, в которой намеревался рыбачить на озере неподалеку от дома. Это было большое озеро шириной около 42 километров, и ловить рыбу там непросто: надо знать места, где она прячется. Этому искусству Вэна научил еще в детстве отец. Под его руководством они с двоюродными братьями рыбачили с лодки, а ночью ставили на берегу палатку, разбивали лагерь и под гитару пели песни у костра. Когда у Вэна появились дети, он продолжил эту славную традицию с ними. Прошло уже много лет с тех пор, как он в последний раз был на рыбалке; врачи снова и снова предупреждали его о том, что приближаться к водоемам с ИЖС опасно. Но Вэн решил, что, когда наступит лето, он вспомнит, где в этом озере находятся самые рыбные места. Он забросит удочку, устроится в лодке поудобнее, закинув ноги на борт, и будет наслаждаться ясным днем. Вернувшись домой с лососем или форелью, он приготовит рыбу на гриле. Вэн уже купил маленькую удочку для внука. Он хотел научить Дилана рыбачить, но для безопасности нужно, чтобы с ними был кто-то из взрослых. Вэн был воодушевлен, когда рассказывал об этом. Я поняла, что для него воплощение этой мечты действительно стоит возможного риска. Ради нее он осмелится нарушить правила.
«Уж лучше умереть, чем сидеть на одном месте и трястись от страха. Я рискну, — сказал он мне по телефону. — Такова жизнь. Если аппарат откажет, то я умру. Если меня отключить от розетки, я умру. Вот только у меня нет времени переживать об этом». Прошло больше пяти лет с тех пор, как у Вэна начало сдавать сердце, и больше года с тех пор, как его вычеркнули из списка кандидатов на пересадку сердца. В передней брюшной стенке Вэна по-прежнему остается отверстие, он носит куртку с батареями, а на поясе, сшитом его сестрой, прикреплен блок управления устройства. Над Вэном постоянно висит угроза инсульта, кровотечения или поломки аппарата. Скорее всего, нового сердца ему не видать. Но Вэн собирается жить так, как он живет, до тех пор, пока окончательно не откажет здоровье или не сломается ИЖС. Многие не отважились бы на этот путь, но перед лицом невыносимой альтернативы Вэн решился на такую жизнь и не жалел об этом. В тот день после короткого отдыха он собирался, если повезет с погодой, поехать в Walmart. Я улыбалась, когда он перечислял, что собирается купить: канат, якорь, спасательный жилет и рупор. Приближалось лето, и Вэн хотел успеть приготовиться к рыбалке с внуком.
4 Ночные кошмары после отделения интенсивной терапии
Настало время утреннего обхода. Мы собрались вокруг постели одного больного. Лицо его отекло от избытка жидкости в организме, а сам пациент был зафиксирован с помощью мягких ограничителей и опутан проводами, пластиковыми трубками и катетерами. Один из резидентов приставил фонендоскоп к груди больного, выслушал сердце и легкие, а потом кивнул головой. С каждым днем состояние пациента стабильно улучшалось. Я положила ладонь на его живот и слегка надавила. Глаза пациента открылись, тело выгнулось дугой, а рука, привязанная к раме кровати, потянулась к интубационной трубке. Инстинктивно я схватила его руку и прижала к кровати. Пациент болезненно поморщился.
Я обернулась к его жене, которая наблюдала за происходящим, стоя в дверях. За прошедшие пару недель мы привыкли к ее постоянному присутствию. В самом начале, когда в организме пациента кишели бактерии и мы не знали, выживет ли он, его жена сутками сидела у его постели. Должно быть, она попрощалась с ним в ту первую ночь, а может быть, в следующую, когда один из интернов тихо произнес ее имя, выйдя в комнату для родственников, и сказал, что у ее мужа снижается уровень кислорода в крови. В те дни утренний обход начинался с этого больного, и мы осматривали его еще раз в конце смены.
Постепенно пациенту становилось лучше. Теперь по утрам мы начинали обход с другого пациента, который находился в более тяжелом состоянии. Скоро должен был наступить момент, когда больной начнет дышать самостоятельно, без помощи респиратора. Сознание его, правда, временами путалось, а приходя в себя, пациент был очень беспокоен и на инструкции реагировал с большой задержкой. Я не особенно задумывалась об этом — для нас главное заключалось в том, что он не умрет и не «повиснет» на аппарате ИВЛ. Этому пациенту повезло. Он выпишется из больницы ослабевшим, но живым и способным самостоятельно дышать.
Однако для него самого картина была не столь радужной; он не считал, что все завершилось благополучно. Позже я узнала, что после интубации трахеи он жил в бесконечной схватке со своими невидимыми тюремщиками. Он был уверен, что его дом сгорел дотла, детей продали в рабство, а сам он, голодный, замерзший, был крепко привязан к кровати. Он явственно видел кровь, сочащуюся со стен. Эти образы продолжали преследовать его и позже, после перевода в другое отделение, и даже дома он в холодном поту просыпался от кошмарных сновидений. Иногда и днем страшные видения вспыхивали в его сознании.
— Похоже, что скоро он сможет обходиться без трубки. Мы надеемся, что завтра сможем ее удалить, — сказала я его жене. Она вздохнула с видимым облегчением.
— Ты слышал?
Она посмотрела на мужа, который изо всех сил лягался, взбивая простыни.
— Завтра трубку уберут! — Она снова повернулась ко мне. — Ничего, все будет в порядке, — добавила она с видимым удовольствием. Я кивнула. Я не имела ни малейшего представления о битве, разыгравшейся в его сознании, и не знала, как это повлияет на его личность. Меня не интересовало, сможет ли он вернуться на работу, как долго будет продолжаться восстановление и как он будет жить после интенсивной терапии. С ним все будет в порядке, и это было правдой, насколько я тогда могла судить. Я думала так до тех пор, пока не познакомилась с женщиной по имени Нэнси Эндрюс.
Это случилось в Балтиморе в начале восьмидесятых, за 20 лет до того, как я впервые переступила порог отделения интенсивной терапии. Нэнси Эндрюс, двадцатилетняя студентка, изучающая искусствоведение, собиралась проверить зрение и подобрать новые очки. С деньгами у нее было туго, и она отправилась в офтальмологическую клинику Университета Джонса Хопкинса, где больных принимали врачи-стажеры всего за $30. Врач решил осмотреть глазное дно и посветил в глаза щелевой лампой, обратив внимание на хрусталики. Он удивился: было такое впечатление, что они находились не на своем месте.
— У вас вывих хрусталика, — сказал он. Не было ли у Нэнси травм головы? Это было бы самое удобное объяснение смещения хрусталиков. Нет, травм головы у нее не было. Молодой врач окинул пациентку взглядом, обратил внимание на ее чересчур стройное телосложение, длинные пальцы и гибкие запястья. Здесь крылось что-то другое.
К концу дня Нэнси оказалась в центре генетического консультирования в ожидании диагноза. Подозрение врача-офтальмолога подтвердилось: у Нэнси был синдром Марфана.
Синдром этот назван по имени французского педиатра Антуана Марфана, который впервые описал его на рубеже XX века. У наблюдаемой им девочки были длинные пальцы и нарушения в строении скелета, обусловленные тотальным поражением соединительной ткани, которая удерживает вместе кожу, мышцы, кости и внутренние органы. Симптомы могут варьироваться от сравнительно легких, как вывих хрусталиков, до тяжелых, а иногда и смертельных поражений аорты, самой крупной артерии, которая выводит кровь из левого желудочка сердца. Девушку направили на обследование. Как будто неприятного диагноза самого по себе было недостаточно, Нэнси узнала, что у нее аневризма дуги аорты, то есть участок стенки сосуда опасно истончился. Врач предупредил Нэнси, что если оставить эту аневризму без лечения, то она может разорваться, что чревато очень серьезными, а возможно, и фатальными последствиями.
А ведь Нэнси чувствовала себя совершенно здоровой и вела активный образ жизни! По городу она передвигалась на велосипеде, а на оплату учебы подрабатывала мытьем посуды в ресторане. И вот оказалось, что ее крепкое здоровье — всего лишь иллюзия. Потрясенная Нэнси спросила врача, как ей справиться с этим сейсмическим сдвигом в ее реальности. Врач сказал ей, что каждый из нас может в любой момент умереть.
— Это совсем другое, — возразила она. — Вы же только что сказали мне, что у меня в груди заложена бомба с часовым механизмом.
Врач не нашел ответа.
Нэнси начала принимать гипотензивные лекарства, снижающие артериальное давление. Их назначили, чтобы остановить рост аневризмы. Другого выбора у Нэнси не было. Она уже давно запланировала и подготовила стажировку в Англии и отправилась туда на год согласно плану. По возвращении девушка отправилась к тому же врачу в больнице Джонса Хопкинса. После обследования выяснилось, что аневризма выросла и теперь Нэнси показана операция, так как риск хирургического вмешательства меньше, чем риск присутствия аневризмы. Так в возрасте 21 года Нэнси согласилась на операцию на открытом сердце, в ходе которой участок аорты, пораженный аневризмой, и аортальный клапан будут заменены соответственно пластиковой трубкой и металлическим протезом.
Напуганная перспективой такого обширного вмешательства, Нэнси нашла отдушину в искусстве. Она фотографировала себя по дороге в операционную, продолжила эту фотосессию после пробуждения и в процессе восстановления. Выздоровление было трудным, но Нэнси была молода и здорова и довольно скоро вернулась к своим многочисленным занятиям. Она окончила колледж, а фотографии из больницы стали основой дипломной работы. Конечно, генетическое заболевание никуда не делось, и над девушкой постоянно нависала угроза повторных операций. Когда она приходила на осмотры в больницу, ее показывали студентам, как на цирковом представлении. Но в повседневной жизни все было нормально. В двадцать с небольшим она стала художницей, играла на скрипке и пела в группе авангардного перформанса. Днем она работала продюсером больничного телевизионного канала, где вела такие программы, как, например, лото для госпитализированных детей. Шли годы, у Нэнси пробудился интерес к экспериментальному кино, что побудило ее переехать из Балтимора в Чикаго, где она получила ученую степень и начала преподавать в Университете штата Мэн. Прошло 20 лет. Все это время Нэнси регулярно проходила обследования в больнице Джонса Хопкинса. Врачи следили за динамикой состояния аорты, которая медленно, почти незаметно расширялась. Нэнси стала постоянно носить медицинский браслет, на котором было написано: «Высокий риск расслоения аорты». Аорту надо было реконструировать, то есть делать сложную операцию, чреватую тяжелыми осложнениями — параличом, почечной недостаточностью и даже смертью. И это был вопрос не «если», а «когда».
Нэнси спросила врачей, что она почувствует, если вдруг начнется расслоение аорты и возникнет угроза ее разрыва до запланированной операции. Независимо от места расслоение аневризмы аорты является неотложным состоянием, которое без экстренного лечения может быстро привести к смерти. И явится смерть под маской сильной боли в пояснице. Эта информация пригодилась Нэнси осенью 2005 года.
Нэнси в это время находилась в приемной клиники, куда она регулярно ходила сдавать анализы крови для уточнения дозы антикоагулянтов, которые ей приходилось принимать для профилактики тромбоза искусственного аортального клапана. Она вдруг ощутила боль в пояснице. Сначала она подумала, что просто сидит в неудобном положении. Она встала и прошлась, потом снова села, но боль не прошла, а, наоборот, стала сильнее. Эта боль отличалась от обычной боли в спине.
— Кажется, у меня расслоение аорты, — сказала Нэнси дежурному приемной. — Вы не могли бы вызвать скорую?
Дальнейшее Нэнси помнит смутно. Помнит, как упала. Помнит, как машина скорой помощи мчалась из городской клиники в ближайшую больницу в Бангоре, помнит, как ее вертолетом доставили в больницу Brigham and Women's в Бостоне. Помнит, что в вертолете ей надели на голову наушники с прикрепленным микрофоном, чтобы она могла общаться с бригадой, как Мадонна с публикой на концерте. В операционной хирурги сделали разрез от пупка вверх, под грудью и продолжили его на спину, чтобы получить доступ к аорте. После операции большая часть аорты была заменена пластиковой трубкой. Нэнси выжила.
Седативные препараты в крови успокаивали организм, но не мозг. Мысли Нэнси метались в поиске объяснений необъяснимому. Она находилась то в трюме корабля, то на дне глубокого колодца. Ей удалили семь восьмых мозга. Медперсонал хотел ее убить. Когда врачи, каждое утро приходившие в ее палату, задавали стандартные вопросы: как ее зовут, какое сегодня число, где она находится, — она считала, что это экзамен, и если она его сдаст, то ее отпустят домой. Потом она раскрыла преступную порнографическую организацию, которая фотографировала пациентов и выкладывала снимки в интернет. Когда в коридоре кто-нибудь захлопывал ящик стола, ей казалось, что в холле перестрелка. Образы были яркими, живыми, Нэнси видела себя то в пустыне, то в Арктике. Родственники сидели у ее постели, не догадываясь о глубине и тяжести ее параноидального состояния. Но постепенно Нэнси окрепла, обрела способность говорить и писать, и все эти кошмарные видения выплыли на поверхность.
Приходивших к ней друзей она просила стряхнуть с лиц насекомых. Она писала неизвестно кому письма о том, что у нее удалена часть головного мозга. Близкая подруга, совершенно обескураженная, спрашивала у врачей: «Что с ней происходит?» Она знала, что Нэнси перенесла тяжелую операцию, но видела, что послеоперационная рана быстро заживает, но происходило что-то абсолютно ненормальное. Но, кажется, врачи об этом не задумывались. «Такое случается», — говорили они, словно это был не заслуживающий внимания пустяк. Врачи были уверены, что, когда Нэнси вернется домой, ее психика вернется к норме.
Но даже когда бред прошел и Нэнси достаточно окрепла для выписки (сначала ее перевели в реабилитационный центр, затем она уехала домой, в Мэн), она не стала прежней. Однажды, находясь в отделении реабилитации в Бангоре, она услышала звук летящего вертолета и неожиданно для самой себя расплакалась. Однажды вечером, когда Нэнси уже снова жила дома, к ней пришли друзья с маленьким ребенком. Его родители во время кормления, поднося ко рту ребенка ложку, имитировали звук самолета, и эта невинная игра вызвала у Нэнси настоящую панику. Она вспоминала потом, что от этого звука ей хотелось залезть под стол и затаиться. Но она не сразу связала этот приступ паники с вертолетным путешествием из Мэна в Бостон. На семинаре о документальном кино она обнаружила, что перестала понимать язык кинокритики. Разум ее был замутнен. Она не могла избавиться от убеждения, что с ней что-то не так, что-то посерьезнее обычных проблем послеоперационного восстановления. Какой-нибудь невинный запах вызывал образ изуверских пыток, людей, привязанных к кроватям, крови, насекомых и невыразимых страданий. Было постоянное ощущение, что ее кто-то преследует. «Это шокировало, я не понимала, что происходит», — говорила она мне. Врачи, делавшие операцию на аорте, были рады тому, что спасли ее жизнь. Но Нэнси, которой было 44 года, как бы она ни была благодарна своим докторам, приходила в ужас, представляя, что еще долгие годы проведет в таком состоянии, не понимая, что происходит, и сломленная постоянным страхом.
Через несколько месяцев после выписки Нэнси решилась рассказать о происходящем своему семейному врачу. Она путалась, не зная, как выразить свои ощущения, но все же рассказала о нескольких вещах, например, о запахах, которые провоцировали панические атаки. Слушая пациентку, доктор, бывший раньше военным врачом, сразу понял, о чем идет речь. Все эти симптомы укладывались в картину посттравматического стрессового расстройства, но Нэнси переживала не воспоминания о реальных событиях — к ней возвращались галлюцинации послеоперационного периода. Конечно же, Нэнси слышала о ПТСР. Она знала, что ветераны войн часто переживают, словно наяву, получение своих ранений. Но ей ни разу не пришло в голову, что это расстройство может поразить профессора искусствоведения, недавно прошедшего длительный и сложный курс лечения. Она начала искать информацию в интернете, но находила в основном информацию о бывших военных. И все же чем больше она узнавала, тем сильнее убеждалась в правильности диагноза. Все элементы головоломки сошлись, и клиническая картина стала ясной. Теперь ее мучения получили название. Более того, появилась надежда на эффективное лечение. Нэнси пошла к психотерапевту и начала терапию, которая длилась не один год.
Десять лет спустя одним зимним вечером я опаздывала на встречу. У меня было долгое и трудное дежурство в ОИТ. Утренний обход начался вовремя, но потом поступила больная без медицинских документов в спутанном сознании. Нам пришлось узнавать, кто она и почему ее на вертолете доставили к нам из госпиталя на полуострове Кейп-Код. Только после этого мы смогли вернуться к осмотру остальных пациентов. Обход закончился в два часа дня, и все мы страшно проголодались. Я оставила своих резидентов в ординаторской, где успела остыть заказанная утром пицца, а сама пошла отвечать на срочный вызов. Звонила главная медсестра, которая сказала, что в отделении скорой помощи находятся двое больных, которых уже интубировали и хотят перевести на койки ОИТ. Сестра говорила очень быстро. Нам следовало освободить места, переведя самых легких пациентов в профильные отделения. Я прервала этой новостью обед резидентов, и следующие несколько часов интернам пришлось в спешном порядке писать переводные эпикризы больным, которые находились у нас в течение недель в стабильно тяжелом состоянии, но теперь были признаны достаточно здоровыми для перевода в другие отделения. Я не замечала, как бежит время, пока не увидела пришедших на ночное дежурство медсестер с пакетами еды, которая позволит продержаться до утра, и в дождевиках с капюшонами. (Неужели на улице дождь? В ОИТ не было окон, и я не представляла, что творилось на улице.) Я посмотрела на часы — было уже почти семь, и я поняла, что опаздываю на ужин.
Наверное, мне следовало извиниться и отменить встречу. Я представила себе, как возвращаюсь домой, принимаю душ, включаю телевизор и ужинаю пастой, запивая ее красным вином. Это было единственное, чего мне в тот момент по-настоящему хотелось. Сама мысль о том, что надо торопиться по слякоти зимнего Бостона, чтобы поужинать в обществе незнакомого человека, навевала уныние. Я, собственно, и сама не знала, зачем мне нужна встреча с Нэнси Эндрюс. Все произошло как-то само собой. Однажды я листала журналы по интенсивной терапии в поисках темы, которую можно было бы затронуть на утренней лекции, и наткнулась на статью, описывавшую проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, перенесшие экстренные медицинские вмешательства. Тогда я не знала этого, но исследования доказали, что люди, пережившие лечение в ОИТ (даже те, кто вернулся домой без признаков остаточных нарушений), часто сталкивались с психологическими и когнитивными проблемами, которыми они не страдали до возникновения критических состояний и госпитализации. У некоторых развивалось посттравматическое стрессовое расстройство с воспоминаниями о страшных галлюцинациях об отрубленных конечностях, утоплении, сексуальных травмах и ужасающих пытках. У других больных появлялись тревожность или депрессия. У молодых людей развивались поражения памяти, напоминавшие симптомы деменции. Эта совокупность проблем (ПТСР, депрессия и когнитивные расстройства) получила даже особое название — синдром последствий интенсивной терапии, или ПИТ-синдром. Доподлинно не известно, какие пациенты отличаются самым высоким риском ПИТ-синдрома, но чаще им страдали больные, у которых в критическом состоянии наблюдался делирий или потеря сознания (что раньше казалось мне относительно безвредным), и он редко развивался у больных, сохранявших ясное сознание.
Все это было ново и интересно для меня. Когда я была интерном, главным показателем работы ОИТ была смертность среди пациентов — так учили молодых врачей. Термин «ПИТ-синдром» был введен в клиническую практику в 2010 году, то есть через два года после того, как я окончила интернатуру. Таким образом, когда я постигала науку ведения больных, находящихся на ИВЛ, мы никогда не говорили о том, что с ними будет после того, как их «снимут с аппарата» и переведут в другое отделение. Читая в тот день о ПИТ-синдроме, я не вполне понимала, что, собственно говоря, делать с этими знаниями. Мне к тому времени уже приходилось сталкиваться с людьми, находившимися в хроническом критическом состоянии, и с пациентами, привязанными к аппарату ИВЛ, и это заставило меня переосмыслить понятие успеха в лечении критических состояний. Теперь же я узнала, что даже при успешном исходе больной рискует столкнуться с неожиданными проблемами. Зная, что мне придется вернуться в отделение на следующее утро, я решила не углубляться в смысл прочитанного. Вероятно, я бы перешла к другой теме, чему-то более сухому и менее человечному, например статьям об антибиотиках или режимах искусственной вентиляции легких, если бы не наткнулась на серию черно-белых рисунков. На одном из них отрубленные головы теснились вокруг знамени, на котором было написано: «Я люблю морфин». На другом рисунке некое странное существо, получеловек, полуптица со шрамом на груди, парило над госпитальной койкой. Эти рисунки были просты, но приоткрывали окно в хаос пораженного делирием сознания. Больше всего меня зацепило то, что автором рисунков оказалась женщина, которая перенесла экстренную операцию на аорте в нашей больнице.
Когда Нэнси Эндрюс вернулась из больницы домой, она была слишком слаба, чтобы держать в руках камеру. Она не была уверена, что когда-нибудь сможет снова снимать фильмы, да, собственно, уже и не хотела. Зато она могла держать карандаш. Сначала у нее получались только незамысловатые каракули, но со временем Нэнси окрепла и по-настоящему увлеклась. Она продолжила рисовать, так как испытывала потребность выразить пережитый опыт. Нэнси создала сайт со ссылками на свои рисунки и статьи о посттравматическом стрессе после перенесенного критического состояния и о долгосрочных последствиях делирия. Она предлагала читателям поделиться собственным опытом или задать ей вопросы. Мне настолько понравились рисунки, что я отправила Нэнси сообщение. Мы договорились, что встретимся в ресторане и поужинаем, когда Нэнси в следующий раз приедет в Бостон.
Когда я пришла в тайский ресторан, где мы назначили встречу, Нэнси уже ждала меня. Я не знала, какого человека я увижу, но точно не ожидала встретить рассудительную женщину с прекрасно поставленной речью, в массивных очках, узорчатом пиджаке, джинсах и модных кроссовках. Наверное, меня удивило, что она не выглядела ранимой. Несмотря на то, что я лечила в ОИТ многих пациентов, у которых впоследствии мог проявиться ПИТ-синдром, и к тому времени уже прочитала немало статей о нем, Нэнси была первой, кто поделился со мной личным опытом. Пока она рассказывала свою историю, я ощущала сильное волнение, какое испытывает человек, узнавая вещи, которые могут изменить его взгляд на жизнь. Оказывается, я не имела ни малейшего представления о том, что у многих больных, которых я с триумфом избавила от угрозы смерти, по возвращению домой открывались невидимые раны, которые теперь называют синдромом последствий интенсивной терапии. Мы громогласно объявляли, что им стало лучше, мы говорили, что они достаточно здоровы для того, чтобы покинуть ОИТ, а потом их семейные врачи аплодировали их выздоровлению. «Вы прекрасно выглядите!» — говорили они. Я и сама бессчетное число раз адресовала эти слова больным, которых мы переводили в другие отделения вечером дня поступления в ОИТ. Но мы не признавали, что некоторые из них больше не могли вернуться на работу, что семьи распадались, потому что родные не смогли вынести тяжкого бремени болезни и необходимости ухода, не могли оплачивать бесконечные счета за психотерапевтическое лечение. Сколько таких больных скрывали свои проблемы, боясь показаться слабыми, неблагодарными или даже сумасшедшими.
Нэнси называла себя «самым счастливым из несчастных людей». Ей повезло, что она однажды попала на прием к офтальмологу в Университете Джонса Хопкинса. Ей повезло, что аневризма разорвалась в лечебном учреждении и что она знала симптомы. Ей повезло, что семейный врач поставил ей диагноз ПТСР, хотя в то время его не считали осложнением интенсивной терапии и реанимации. Когда Нэнси рассказывала о своем состоянии другим врачам, она сталкивалась с пропастью, которая отделяла уровень медицинских знаний от ее личной реальности. Когда она однажды на приеме у хирурга сказала, что ей поставили диагноз ПТСР, врач с удивлением переспросил: «ПТС-что?» Послеоперационные рубцы были не видны под рубашкой, и Нэнси было трудно объяснить людям, что она изменилась. «Люди не видят, что со мной что-то не так, — говорила мне Нэнси. — Они видят, что после операции я ходила с палочкой, а теперь обхожусь без нее. Но психологические шрамы им не видны». Собственно, они и не хотят этого видеть. «На самом деле люди хотят слышать, что мне стало лучше, что я счастлива, что осталась жива и очень благодарна врачам и судьбе, — продолжала Нэнси. — Неприятно знать о темной стороне. Но эти вещи сосуществуют».
Нэнси рассказывала о себе, а я мысленно видела перед собой моих нынешних пациентов, находящихся на ИВЛ, одурманенных действием седативных лекарств, и встревоженных родственников у их постелей. Может быть, с завтрашнего дня мне следует обойти все палаты и рассказать больным и их близким о ПИТ-синдроме, чтобы они понимали, что происходит, если период восстановления окажется не таким, как они надеялись. И все же кажется некорректным и в какой-то степени бездумным предупреждать мужа о том, что его жена может стать тревожной или забывчивой, что у нее может развиться депрессия после того, как мы снимем ее с аппарата ИВЛ и удалим интубационную трубку. Что ему делать с этой информацией? Интенсивная терапия породила новый синдром, и иметь с ним дело оказалось совсем не просто. Я продолжала изо дня в день ходить на работу и возвращаться домой и в течение нескольких месяцев так и не решилась воплотить свое желание в реальность.
Однажды у меня было ночное дежурство в ОИТ. Одна больная поступила с диагнозом септического шока, развившегося как осложнение пневмонии. Женщину интубировали, начали проводить ИВЛ, но через неделю артериальное давление почти вернулось к норме, и мы планировали вскоре отключить ее от респиратора и перевести на самостоятельное дыхание. Меня вызвали к этой больной в связи с какой-то не очень существенной проблемой. В палате я увидела ее дочь, сидевшую у постели. Девушка выглядела утомленной, казалось, что она давно не спала.
Я представилась как дежурный врач и сказала, что мне надо уточнить параметры искусственной вентиляции легких. То же самое я повторила пациентке, хотя и не была уверена, что она услышит и запомнит сказанное мною. Ее глаза были закрыты, видимо, под действием седативных препаратов, которые ей вводили в вену. Несмотря на это, я объяснила, что собираюсь делать. Сказала, что она идет на поправку и что через пару дней сможет дышать самостоятельно и без трубки. Закончив, я повернулась к дочери, которая, конечно же, внимательно меня слушала. «Я так боялась, что мама умрет, я думала, что потеряю ее. Но она будет в порядке?» Конец фразы прозвучал как вопрос.
Да, этот вопрос я слышу каждый день по несколько раз. Я и сама часто употребляю это выражение. Я не задаю встречный вопрос: «Что, по-вашему, значит "быть в порядке"?» Чем больше я думаю об этом, тем более сложным представляется мне ответ. После встречи с Нэнси Эндрюс я организовала новую клинику в нашей больнице — специально для больных, прошедших лечение в ОИТ. Идея казалась замечательной, но ее воплощение было трудным и долгим. Простое направление больных в эту клинику оказалось более сложным делом, чем я предполагала. Даже те, кто после ОИТ жил дома, попадали туда после многочисленных переводов между отделениями реабилитации и домами инвалидов. Эти люди страдали от страшных воспоминаний о том, что происходило с ними в больнице, и, конечно, они не хотели возвращаться в место, где им пришлось пережить весь этот ужас. Многие были настолько слабы, что не могли приехать, даже если хотели это сделать. У некоторых пациентов отмечались когнитивные нарушения, ослабление памяти, что мешало им запомнить даты визитов, а иногда они вообще не понимали, зачем им надо ехать в какую-то клинику.
Но нам все же удалось помочь некоторым больным, пусть пока их было немного. Мы анализировали прием лекарств, диагностировали распространенные, характерные для перенесших реанимацию и интенсивную терапию больных расстройства с помощью специально разработанных анкет и личных консультаций. Один бывший фельдшер скорой помощи сказал мне, что не хочет оставаться наедине со своим маленьким сыном, потому что боится, что на них нападут — он не мог сказать, кто именно, — а он не сможет достаточно быстро на это отреагировать. Другая пациентка говорила, что боится готовить, потому что может забыть о том, что поставила на плиту сковородку, и уйти, а вернувшись, обнаружить сгоревшее блюдо. Мы выслушиваем таких больных, при необходимости направляем их к профильным специалистам, составляем краткую памятку, которую больной должен показать своему семейному врачу, чтобы навести мосты от произошедшего в ОИТ к последующей жизни. Но главное — мы рассказываем пациентам о ПИТ-синдроме. Мы даем определение их состоянию и тем самым дарим надежду на улучшение. Это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что мы делаем в ОИТ, но все же и это кое-что.
В ту ночь я стояла перед дочерью пациентки, размышляя о заданном ею вопросе и о пациентах нашей новой клиники. Я думала о растерянности и потере памяти, о печали и повышенной тревожности, о ночных кошмарах и дневных страхах, о галлюцинациях, полных мучений и кровавых сцен. С одной стороны, каждый, кого мы наблюдали в клинике, был в порядке. Эти люди избежали смерти, покинули ОИТ и вернулись домой. Они могли дышать, двигаться и говорить, жить рядом с близкими, ходить в магазины и выбирать ту еду, которую им хочется. Но с другой стороны, в сравнении с тем, как они чувствовали себя до болезни, их состояние никак нельзя было назвать нормальным.
С чем придется столкнуться этой пациентке? Может, она будет в порядке — действительно в порядке. Она пройдет реабилитацию, что наверняка окажется тяжелее, чем я себе представляю, но она вернется домой в ясном рассудке. В ОИТ мы корректируем подход к лечению, уменьшаем дозы седативных лекарств, внимательнее относимся к горячечному бреду, и, возможно, эти маленькие изменения помогут пациентам впоследствии чувствовать себя лучше, чем было бы в противном случае. Но, несмотря на это, моя пациентка может вернуться домой с помраченным рассудком, тенью себя прежней. Возможно, ей не удастся сосредоточиться на газетной статье, она станет неспособной проводить время с внуками или вдруг, придя в магазин, забудет, что собиралась купить. Я не знаю, какой эта женщина была прежде. Но я понимаю, что ее жизнь теперь изменится.
Должна ли я говорить это ее дочери? Я собираюсь с мыслями, набираю в легкие воздух и… останавливаюсь. Даже если я расскажу, как могут пойти дела, даже если она узнает от меня о ПИТ-синдроме и о том, что он может значить для ее матери, едва ли это знание сейчас ей что-то даст. Девушка очень устала и просто радовалась тому, что ее любимая мама не умрет в этой палате. Это все, что она хотела от меня услышать. И, наверное, это все, что она в тот момент была в состоянии понять.
Я улыбнулась и ободряюще кивнула. Я сказала правду. Интубационную трубку извлекут из трахеи, мать начнет дышать сама и будет выписана из ОИТ. Что дальше? Я записала ее фамилию в блокнот, чтобы позже узнать, как пойдут ее дела. Может быть, мы назначим ей прием в нашей клинике. Но пока моя миссия окончена.
5 Пробуждение
Андреа ДеМэйо-Клэнси хлопотала в своей удобной кухне. Стоял знойный летний день, но в доме царила приятная прохлада. Кофемашина готовила утренний эспрессо. Собаки — две из коммерческого питомника, третья из приюта для животных — лаяли и выпрашивали еду, путаясь под ногами. Средний сын Андреа двадцатилетний Грег спустился на кухню, пробормотал приветствие и вытащил из холодильника булочку, чтобы перехватить по пути на работу в местную кофейню.
— Принесешь сегодня кофе, ладно? — попросила Андреа.
Грег кивнул и вышел из дома.
Среди всей этой суеты Бен Клэнси сохранял полное спокойствие и неподвижность.
Бен неподвижно сидел за кухонным столом и молчал, пока пришедшая медсестра обертывала вокруг его плеча манжету тонометра. Результат измерений она записала в блокнот. Частота пульса и давление были в пределах нормы. Еще несколько дней, и медсестра перестанет приходить в этот дом наблюдать за здоровьем Бена. На первый взгляд он казался совершенно здоровым парнем: 24 года, короткие каштановые волосы, одет в футболку и клетчатые шорты, на ногах кроссовки. Но в его неподвижности и молчании было что-то нездоровое — это было заметно и до того, как Бен встал, чтобы пройтись, но пошатнулся и наверняка бы упал, если бы инструктор по лечебной физкультуре не поддержала его. Одно из проявлений мрачной реальности, в которой оказались Бен и его близкие, — реабилитации после поражения головного мозга.
Прошло пять месяцев с тех пор, как у Бена на фоне передозировки произошла остановка сердца. Когда он впервые открыл глаза после реанимационных мероприятий, его взгляд был абсолютно пустым и ничего не выражающим. На смену памяти и разуму пришли пустота и растерянность, но Бена все же выписали из больницы домой. Он жил дома, с мамой, смотрел телевизор, смеялся над комическими шоу. Прошло всего пять месяцев, и Бену очевидно становилось лучше. Но слово «лучше» имеет весьма расплывчатое значение. Означает ли оно, что Бен будет способен жить самостоятельно, водить машину, ездить на работу, по пятницам ходить на свидания? Или за ним кроется что-то более скромное — например, способность ходить без посторонней помощи, приготовление обеда без напоминаний, умение включить и выключить электрическую плиту и, возможно, убирать со стола посуду после еды?
Поражения головного мозга — относительно новая область исследований, в которой в последние годы появились новые диагностические критерии и методы наблюдения за динамикой патологического процесса. Неврологи теперь знают, что значительное улучшение может длиться годами, и это обнадеживает. Процесс может быть мучительным для родных и близких, годами ждущих изменений, — но настанут ли они? В этом кроется тайна повреждений мозга, и эта тайна привела меня в то утро на кухню в доме Клэнси. Какая часть личности Бена — раскатистый заразительный смех, харизма и обаяние, остроумие и интеллект — исчезла навсегда, а что в один прекрасный день вернется к нему?
Когда мы познакомились, я спросила Андреа, чего она ждет. Она ответила: «Чего угодно». Андреа понимала, что жизнь ее сына изменилась необратимо, что он никогда не будет таким, как прежде. Но, закрыв глаза, она позволяла себе заглянуть в будущее, в котором Бен каждый день ходил на любимую работу. Он часто повторял, что когда-нибудь будет ездить на «Феррари», и, хотя этому желанию едва ли было суждено сбыться, мать представляла сына за рулем собственного автомобиля. Приходившая на дом медсестра говорила об интернате и простейшей работе — куда более реалистичные цели. Андреа признавала это, но еще не была готова примириться с таким будущим старшего сына. Прошло лишь несколько месяцев, и мать надеялась на большее.
Бен Клэнси с детства был обаятельным. Он становился лидером в любой компании. Это был парень, который занимал самую непопулярную позицию в дебатах просто ради провокации, чтобы повеселиться. Он мог отстоять даже точку зрения, которую сам не разделял. В старших классах он был членом футбольной команды, а еще он играл джаз, и преподаватели маленькой независимой школы, где он учился, поощряли оба эти увлечения. Родители Бена Андреа и Брайан построили дом на участке площадью 12 гектаров в получасе езды от Бостона, и здесь часто собирались многочисленные друзья Бена. В доме Клэнси было достаточно комнат, и один из приятелей Бена, когда у него были проблемы в семье, прожил у них два месяца. Такое это было место. Андреа в шутку называла его «домом заблудших мальчиков».
Неясно, когда Бен перешагнул черту. Он очень гордился поступлением в гуманитарный колледж, где намеревался изучать государственное управление. Колледж находился у озера в штате Нью-Йорк. Бен вступил в студенческое братство. Однако на третьем курсе его успеваемость стала сильно хромать, и на зимних каникулах родители подняли этот вопрос. Они знали, что Бен стал чересчур много пить. Он признался, что некоторое время экспериментировал с отпускаемыми по рецепту наркотическими препаратами. Конечно, студенты пьют и веселятся на вечеринках, и родители Бена это понимали, но наркотики сильно их встревожили.
— Мы, конечно, поступили жестко, — вспоминает Андреа. — Мы сказали ему: «С колледжем покончено. Мы не будем оплачивать твое обучение». Он страшно разозлился, но выбора у него не было. Он мог вернуться в колледж осенью, но вместо весеннего семестра родители отправили его работать на стройку. Таковы были условия. Теперь Бен возвращался домой вымотанным после целого дня работы лопатой и отбойным молотком. Он слишком уставал, чтобы даже думать о вечеринках, и просто ложился спать.
Андреа и Брайан воспряли духом. Их тактика себя оправдала. После нескольких месяцев тяжелого физического труда Бен, казалось, пришел в себя.
Вернувшись осенью в колледж, он повесил в своей комнате строительную каску, гордясь этим опытом. Работа действительно преобразила его. Он стал отлично учиться и окончил курс зимой, в то время как многие его друзья уже получили дипломы. По окончании учебы Бен вернулся в родительский дом. Наверное, было не слишком приятно снова оказаться в своей старой спальне, без работы и пока без диплома. Официально он должен был получить его весной. Это, конечно, было далеко от идеала, но Бен и его родители думали, что этот период вынужденного безделья не затянется надолго. Но месяцы шли, и зависимость от родителей начала выводить Бена из себя. Ему казалось, что на все, буквально на все, он должен получать разрешение. К тому же он ненавидел просить деньги, а ему приходилось одалживать даже на проезд. Андреа понимала, как раздражает ее независимого и гордого сына жизнь с родителями, без собственного источника дохода, но она очень боялась, что Бен снова начнет пить и принимать наркотики, и не хотела давать ему большие суммы. Поэтому он получал достаточно, но без излишеств. Если же ему нужно было больше, то он должен был объяснять, на что они потребовались. Ни Андреа, ни ее муж не считали, что притесняют сына. Во всяком случае это уж точно не входило в их намерения.
Осенью, примерно через десять месяцев после окончания колледжа, дела у Бена пошли совсем плохо. Работу найти не удавалось. Большинство друзей уже работали и были заняты. Бен завел новых друзей, людей, которые хотели и могли развлекаться в будние дни, а когда он оставался один, то запирался в своей комнате и пил. Никаких сомнений не осталось — у Бена серьезные проблемы. Родители настояли, чтобы он обратился к наркологу, но ему не нравились слова этой женщины, и он перестал к ней ходить. Когда Андреа и Брайан просили его возобновить лечение, Бен уверял, что стоит ему устроиться на работу, как он бросит пить. Когда жизнь войдет в наезженную колею, убеждал он, у него просто не останется времени на алкоголь. Говорил он уверенно, а родителям очень хотелось ему верить.
В конце концов, после месяцев поиска работы, телефонных переговоров и голосовых сообщений, ведущих к одному разочарованию за другим, Бен получил три предложения. Он выбрал работу, связанную с развитием новой компании, занимавшейся оптимизацией потребления энергии. Это была перспективная работа, сложился хороший коллектив, а главное — Бен верил в миссию компании. Он решил приступить к работе в последний понедельник февраля, а на выходные уехал с несколькими друзьями на вечеринку в Бостон.
Это случилось днем в воскресенье. Со вчерашнего дня Андреа и Брайан ничего не слышали о сыне, но он веселился с друзьями, это было в порядке вещей. Брайан был дома, когда раздался телефонный звонок. Незнакомый человек сказал, что с Беном случилось что-то серьезное, его отвезли в больницу в Бостоне. Андреа в это время была в школе с дочерью, на репетиции музыкального спектакля. Она отвечала за костюмы. Когда зазвонил телефон, она не стала сразу брать трубку и перезвонила некоторое время спустя, во время перерыва. Ей сообщили то же, что и ее мужу, и она прямо из школы поехала в Массачусетскую больницу общего профиля. Брайан приехал туда первым и позвонил ей, чтобы объяснить, где лучше припарковать машину, и договориться, где им встретиться. В тот момент Андреа не испытывала особого страха, хотя и не знала, чего ждать. Она вошла в отделение скорой помощи, где ее встретил социальный работник и проводил к мужу. Вместе они пошли к сыну. Он лежал на каталке, неподвижный, подключенный к аппарату искусственного дыхания и обернутый охлаждающим одеялом.
Накануне Бен принимал алкоголь, героин, кокаин и болеутоляющие средства. Эта смертоносная смесь привела к потере сознания. Его друзья, тоже находившиеся под действием разных веществ, не сразу заметили, что произошло. Кто-то хотел позвонить родственнице, медсестре, но звонок отложили до утра. Когда они наконец вызвали службу спасения, Бен перестал дышать и его сердце, лишившись кислорода, перестало биться.
Прибывшие парамедики попытались восстановить сердечную деятельность с помощью лекарств и дефибриллятора. Врачам удалось вновь запустить молодое здоровое сердце, но мозг более чувствителен к гипоксии. За время, проведенное без кислорода, произошло повреждение мозга, и Бен так и не очнулся. Андреа и Брайану объяснили, что тело Бена завернули в гипотермическое одеяло для снижения температуры тела, в надежде уменьшить воспаление и предотвратить дальнейшую гибель клеток головного мозга. Бену ввели большие дозы седативных лекарств и миорелаксанты, то есть вызвали искусственный паралич, чтобы предотвратить мышечную дрожь — она могла спровоцировать повышение температуры тела. Оцепенев, как и их сын, Андреа и Брайан стояли возле него.
«Господи. Он действительно это сделал», — единственное, о чем Андреа могла думать в тот момент. Звоночки раздавались и раньше. Однажды Бена остановили за пьяное вождение. В другой раз он вел машину трезвый, но утомленный после бурной вечеринки и уснул за рулем. Он слетел с дороги, проломив ограждение, и проехал около 400 метров, слетев с 15-метровой насыпи. Свидетель происшествия не мог поверить своим глазам, обнаружив, что Бен остался цел.
Оба раза Бену сказочно везло. Но не теперь. Андреа в тот момент была неспособна думать о будущем, не хотела представлять, что будет, если ее сын никогда не очнется. Сидя возле неподвижного тела, едва замечая работу врачей и медсестер, Брайан отправил работодателю сына сообщение о том, что Бен завтра не приступит к работе. И неясно, приступит ли и позже. Позднее один человек из той компании позвонил Брайану и сказал, что десять лет назад у него тоже было повреждение мозга, но никаких нарушений памяти потом не последовало и он поправился. Он попросил держать его в курсе состояния здоровья Бена.
Врачи поставили перед собой краткосрочную цель — Бен не должен умереть. Потом его согреют, перестанут вводить парализующие и седативные лекарства, и он очнется. Никто не мог сказать, каким он будет по пробуждении. Прошли сутки. Как и планировалось, врачи начали согревать пациента, и температура тела градус за градусом повысилась до нормы. Врачи прекратили введение седативных средств, но Бен продолжал пребывать в коме. Течение времени замедлилось. Сразу после поступления в больницу Бену сделали компьютерную томографию, чтобы исключить инсульт или внутримозговое кровотечение. У пациента не оказалось ни того ни другого. Теперь его направили на магнитно-резонансную томографию, МРТ, чтобы получить более отчетливое представление о природе травмы. Бен неподвижно лежал в томографе, как в саркофаге, а машина стучала, жужжала и рокотала, составляя изображение головного мозга и картину его повреждений.
Когда сердце останавливается и кровь перестает течь по сосудам к мозгу, то сильнее всего страдают те его отделы, которые больше нуждаются в кислороде и глюкозе, — отделы, отвечающие за память, произвольные движения и обучение. Так случилось и с Беном. МРТ-исследование показало, что остановка сердца не прошла для мозга бесследно. Однако полного разрушения коры мозга не произошло, а это означало, что Андреа и Брайан могли надеяться на частичное выздоровление сына. Вопрос заключался лишь в том, насколько значительной будет эта часть.
Через три дня после нормализации температуры Бен открыл глаза. Это был маленький шаг, но родителям он показался огромным. Андреа разблокировала телефон Бена — это было легко, потому что сын не менял пароль со старших классов, — и сообщила новость для родственников и друзей на его странице в «Фейсбуке»: «Сегодня днем Бен открыл глаза. Надеемся на большее завтра». Андреа не отходила от постели сына, ожидая следующего признака улучшения. Может быть, это будет целенаправленное движение или даже осмысленное слово.
Минуты складывались в часы, часы в дни — долгие периоды без изменений, изредка перемежаемые маленькими победами. На следующий день Бен открыл глаза чуть шире, чем накануне, а когда Андреа взяла его руку в свою, ей показалось, что он слегка сжал руку. Об этом Андреа тоже написала в «Фейсбуке». Правда, в остальном никакого прогресса практически не было.
Окно палаты выходило на кондиционер, висевший на стене соседнего здания. Андреа навсегда запомнит этот вид. Не забудет она и звук мониторов. Друзья Бена толпились в холле у дверей ОИТ и приносили постеры с неуклюжими шутками вроде «Узнай меня, детка». В промежутках между сообщениями Андреа они заполнили страницу Бена его детскими и юношескими фотографиями — неуклюжего мальчишки с русыми волосами и широкой улыбкой, смеющегося подростка на танцах. Бывали дни, когда Бен открывал глаза и болезненно морщился, если врач надавливал на ноготь большого пальца ноги, проверяя, сохранилась ли у пациента реакция на болевые раздражители. В остальное время Бен просто лежал без движения.
Однажды он начал приходить в себя и откликаться на воздействия. Бен находился теперь не в вегетативном состоянии, а в так называемом состоянии минимального сознания. В начале марта Андреа сообщила в «Фейсбуке» о череде «хороших дней» — во-первых, Бен стал весь день лежать с открытыми глазами, а во-вторых, он впервые рассмеялся. Смех, правда, был не такой громкий и заразительный, как раньше. Это был не тот смех, который раздавался на весь дом, но для Андреа это был знак того, что Бен теперь «здесь». Однако через два дня у него поднялась температура и началась пневмония. Врачи откачали литр жидкости, скопившейся в одном легком. В плевральную полость установили дренаж для отвода накапливавшейся жидкости. «Он неважно себя чувствует, — написала в «Фейсбуке» Андреа. — Планируйте короткие визиты и ведите себя тихо».
Пневмонию вылечили. Еще одним шагом вперед стала процедура по установлению трахеостомической трубки и зонда в желудок. Бен пока еще не мог говорить, но после удаления трубки изо рта и ее установления в трахеостомическое отверстие на шее он начал улыбаться и морщиться, прямо как прежний Бен. Через несколько недель, когда он обрел способность дышать без помощи аппарата, его наконец перевели из ОИТ в профильное неврологическое отделение. «Бена перевели из интенсивной терапии!» — поведала Андреа в «Фейсбуке». Это произошло в середине марта. Теперь у Бена была отдельная палата, и Андреа сразу же украсила ее фотографиями. Здесь, в обычной палате, реабилитация ускорилась. Бен начал есть крекеры и пить яблочный сок. Врачи сначала заменили большую трахеостомическую трубку на меньшую, а затем и вовсе ее удалили. Позже Бен обнаружил маленький рубец на месте трубки и часто с удивлением проводил пальцем по вспухшему розовому участку на горле. В конце марта у Бена начали проявляться некоторые личностные черты. Он стал подмигивать инструктору по лечебной физкультуре и даже пытался флиртовать с медсестрами.
Андреа старалась сохранять оптимизм и надежду на лучшее. Сначала адреналин несколько приглушал тревогу. В первые часы и дни она не знала, выживет ли Бен, и просто испытывала грандиозное облегчение, когда смерть отступила. И все, что она могла делать, — это вставать в несусветную рань, чтобы успеть до утренних пробок приехать в больницу, где она ежедневно оставалась до позднего вечера, наблюдая за Беном и слушая врачей. Она предпочитала задерживаться до прихода ночной смены — так она знала, кто будет ухаживать за сыном ночью, а дежурные сестры и врачи знакомились с ней. Но постепенно Андреа одолели новые тревоги.
Да, ее сын жив, но что с ним будет дальше? Прошли недели, но никто не мог сказать, чего ждать в отдаленной перспективе, и никто не объяснял, как может выглядеть лучший или худший вариант. Она смотрела на сына, сидя на краю его постели. Он мог открывать глаза, иногда ел, но все еще не мог говорить. В душу матери закрадывалось сомнение: что, если Бен останется таким навсегда?
Она понимала, что своими вопросами ставит врачей в трудное положение — они не хотели хоронить надежду и не могли давать нереалистических обещаний. Но Андреа от этого было не легче. «Если бы я позволила себе все время думать об этом, то будущее превратилось бы… — Андреа сделала паузу, по лицу пробежала мимолетная тень. — Даже говорить не хочу об этом». Она продолжала делать то, что могла: обновлять страницу Бена в «Фейсбуке». Она призвала подписчиков скачать и заполнить бланк медицинской доверенности, даже если они молоды и здоровы, потому что никогда не знаешь, что может случиться в следующую минуту. Андреа не хотела, чтобы другие столкнулись с бумажной волокитой, как она. Бен не подписал такую доверенность, и это долго мешало Андреа стать опекуном своего совершеннолетнего сына. Теперь мать сосредоточилась на новой цели: пришла пора покинуть больницу и перейти на следующий, более обнадеживающий этап — этап реабилитации.
В сравнении с серым бетоном госпиталя реабилитационный корпус выглядел сияющим дворцом. Он располагался в нескольких минутах ходьбы от больницы и там работали по большей части те же врачи, и все же отделение реабилитации казалось Андреа другим миром. Высокое здание со стеклянными стенами, из палат открывался вид на реку Чарльз. Казалось, здесь случаются хорошие вещи, и Андреа была очень рада, что Бена перевели сюда. Родственники всегда радуются, когда их близких переводят в отделение реабилитации. Выписка из больницы означает, что больной уже не балансирует на грани жизни и смерти, самое страшное миновало. Настало время собирать камни и стремиться к выздоровлению.
Но этот период влечет другие сложности. Бен не мог остаться в отделении реабилитации навсегда. После перевода начинается отсчет времени страховки (большинство страховых компаний оплачивает пребывание пациента в отделении реабилитации в течение 6–10 недель). Эти временные рамки вынуждают родственников считаться со своими реальными возможностями и с тем фактом, что улучшения могут оказаться не такими значительными, на какие они рассчитывали. Собственно, улучшения могут вовсе не наступить.
Прошел месяц с той субботы, когда у Бена остановилось сердце, и машина скорой помощи перевезла его в современное здание, где Бену предстояло провести ближайшие месяцы. В то время Бен был не в состоянии выполнять даже элементарные инструкции. Но он мог тянуться за показанными ему предметами. Он мог есть. Он мог артикулировать слова, хотя и не всегда осмысленно. Сохранившаяся способность к членораздельной речи свидетельствовала о достаточно высокой вероятности благоприятного исхода. В тот день, когда Бена перевели в отделение реабилитации, его мать написала: «Перевод проходил довольно медленно. Бен сидел в кресле-каталке, санитар вез его в палату, а мы шли рядом и осматривались. Когда придете к Бену, не волнуйтесь, увидев сетчатый тент над кроватью. Его установили специально, чтобы Бен не смог встать и уйти».
Андреа пропустила только один день в отделении реабилитации — когда ходила на спектакль, в котором играла ее дочь. Она училась в выпускном классе и готовилась к поступлению в колледж. Не так давно Андреа и ее дочь представляли, как будут проводить время вдвоем, когда братья уедут из дома. И вот сложилось так, что сначала домой вернулся Грег, а потом у Бена случилась передозировка. Теперь дошло до того, что Андреа не знала, что изучает в школе ее младший ребенок. Пусть Андреа уже не опасалась за жизнь сына, она все же не хотела оставлять его одного. Он как будто снова стал маленьким ребенком, который требовал ежеминутного присутствия матери, которая следит за ним, подбадривает и при необходимости выступает от его имени. Она была рядом, когда через полтора месяца после передозировки Бен встал с кресла-каталки и сделал свой первый шаг. В тот же день он самостоятельно почистил себе зубы. Мать с трепетом наблюдала за этими действиями. «Вы только посмотрите, что он делает!» — написала она.
«Я запостила лучшие фрагменты дня Бена», — сообщила Андреа в «Фейсбуке» несколько недель спустя. Из состояния минимального сознания Бен перешел в ясное сознание, и мир, в котором он очнулся, показался ему пугающим и непонятным. Жизнь была полна инструкций, только он не знал, как их выполнять. Многие предметы и виды деятельности были Бену знакомы (несмотря на нарушения памяти, он без колебаний открывал свой телефон), хотя и стали какими-то другими. Врачи сказали Андреа, что беспокойство Бена совершенно нормально, и она старалась общаться с ним спокойно и уверенно и ждала проблесков узнавания — улыбки при виде друга, смеха, объятий.
Днем в понедельник, через несколько недель после поступления Бена в отделение реабилитации, десяток врачей собрались в конференц-зале на восьмом этаже реабилитационного корпуса, чтобы обсудить, что происходит с головным мозгом Бена. Такие встречи происходят регулярно, раз в неделю, один час на одного пациента. Разбор начинается после того, как нейропсихолог Джозеф Джачино занимает свое место за круглым столом в центре зала. Присутствующие — специалисты по лечебной физкультуре в медицинской форме и кроссовках, неврологи в строгих костюмах и галстуках, другие специалисты — занимают места вокруг стола и с интересом поглядывают друг на друга, заканчивая завтрак. Коротко изложив историю болезни, доктор Джачино выводит на монитор МРТ-снимок головного мозга пациента, чтобы продемонстрировать степень повреждения мозга. После этого Джачино обращается к присутствующим врачам, медсестрам и психологам, ведущим пациента: какие у них вопросы? Эти вопросы и направляют ход обсуждения.
Потом в зал вкатывают пациента в кресле-каталке. Доктор Джачино приступает к осмотру и опросу больного и при этом ведет себя так, словно в помещении присутствуют только он и пациент. Доктор спрашивает: «Как вас зовут? Знаете ли вы, что с вами случилось?» В некоторых случаях он просит пациента совершить какое-то действие, например, показывает набор из нескольких предметов и предлагает показать предметы одного цвета, или запомнить список предметов, или перечислить какие-то числа в обратном порядке. Обсуждение последует позже. Каждый успех и каждая ошибка имеют значение, и все присутствующие живо следят за происходящим.
К тому времени, когда наступила очередь Бена предстать перед этим советом, он уже полностью пришел в сознание, разговаривал, мог передвигаться с помощью ходунков, но психотерапевт отмечал проблему, которую доктор Джачино в разговоре со мной назвал подавленностью влечений. Если вы обратитесь к Бену, то он ответит или сделает то, о чем вы попросили, но сам он не начинал разговор и не совершал никаких действий по своему желанию. Когда Бена оставляли в покое, он просто сидел неподвижно, безучастно взирая на окружающее. Когда он говорил, голос его звучал еле слышно. Это явление врачи называют гипофонией. Иногда, когда Бен шел по коридору с помощью инструктора, он сбивался с нормального шага на мелкие шажки на цыпочках. Склонность к такой походке называют фестинацией (от лат. festinare — спешить). Если Бена просили что-нибудь написать, он начинал писать нормальным почерком, но постепенно буквы становились все мельче и менее разборчивыми. Это нарушение называют микрографией.
Этот симптомокомплекс — гипофония, фестинация и микрография — характерен для болезни Паркинсона, и именно это хотели обсудить специалисты, собравшиеся в тот день в конференц-зале. Дело было, конечно, не в том, что после повреждения мозга у Бена развилась болезнь Паркинсона. На самом деле Бен мог исправить походку, почерк или говорить громче, если его об этом просили. Видимо, все эти проблемы были связаны с нарушением влечений и двигательных функций в результате повреждения мозга. Возможно, ему помогли бы стимуляторы, но избыточная неспецифическая стимуляция могла лишь усугубить тяжесть состояния. Легкого решения здесь не было, не существовало таких лекарств или устройств, которые сделали бы голос Бена громче, шаги шире, а почерк крупнее. Не было искусственных средств, которые могли бы вернуть Бену его прежнюю личность. На этих встречах по понедельникам редко находят универсальные ответы на трудные вопросы. Повреждение мозга у Бена было тяжелым. Связи между повреждением, поведением и прогнозом часто тоже оказываются далеко не простыми. В результате обсуждение закончилось выработкой плана лечения с учетом всех упомянутых ограничений; была надежда, что со временем, на фоне проведения лечебной коррекции, Бен научится сам распознавать нарушения и устранять их.
С учетом этой цели инструктор по лечебной физкультуре продолжал работать с Беном, прилагая усилия, чтобы указывать ему каждый раз, когда движения становились неправильными. К концу мая Бен стал ходить практически без посторонней помощи, хотя ему до сих пор требовались подсказки. Кроме того, он теперь мог разговаривать и есть все, что ему хотелось. Инструктор вывозил его на реку на лодке, возможно, чтобы продемонстрировать родственникам: пусть Бен не стал прежним, он все же мог наслаждаться занятиями, которые и раньше доставляли ему радость. Следующим шагом должен был стать перевод Бена в другой реабилитационный центр, расположенный в горах Нью-Гэмпшира.
Однако, когда пришло время для перевода, Андреа и ее муж воспротивились. Они хотели, чтобы Бен добился максимального прогресса в течение года после повреждения, когда, как считается, происходит основная доля улучшений, а между тем прошло уже три месяца. Да, Бен научился ходить, говорить и есть, но все еще был очень далек от того, каким он был до передозировки и остановки сердца. Может быть, он никогда и не станет прежним. Андреа и Брайан не считали, что расположенный далеко от дома реабилитационный центр будет лучшим местом для их сына. Каждый день ездить в Нью-Гэмпшир или переезжать туда на время не имело смысла. Все это продлилось бы слишком долго, а они хотели, чтобы сын был рядом. Супруги попробовали понять, смогут ли заботиться о сыне дома.
У Андреа была степень по богословию, и она планировала вернуться на работу, как только дочь осенью поступит в колледж; но это могло и подождать. Основной занятостью снова стало материнство. Она не сможет справляться со всем сама — Бен был взрослый мужчина 24 лет, поэтому в душ его сможет водить сиделка, а контролировать состояние здоровья будет приходящая патронажная медсестра. Андреа организовала маленький отряд медсестер и врачей — физио- и трудотерапевтов, логопедов, которые будут приходить на дом, следить за здоровьем Бена и помогать ему восстанавливать навыки, необходимые для независимой, самостоятельной жизни. Спортзал на первом этаже стал жилой комнатой Бена. Кровать была снабжена тревожной сигнализацией, которая должна была срабатывать в случае, если он вдруг встанет среди ночи. После передозировки прошло чуть больше трех месяцев — и вот весной, незадолго до выпускного вечера сестры, Бен вернулся в родительский дом.
Бен пробыл дома почти месяц. Пока Андреа рассказывала мне историю сына — от проблем с наркотиками до остановки сердца и повреждения мозга, Бен сидел рядом за кухонным столом, а собаки, помахивая хвостами, лениво лежали у наших ног. Сначала мне было неловко говорить о Бене в его присутствии, хотя он и не проявлял ни малейшего интереса к разговору. Он не оживился даже тогда, когда мать рассказывала мне, как близок он был к смерти. Физически Бен присутствовал, но было непонятно, доходит ли до него смысл нашей беседы. Он не помнил обстоятельств передозировки, как забыл и большую часть предшествующего ей года, и Андреа казалось, что сын хочет заполнить пустоты теми данными, какие были в его распоряжении. Бен видел в больнице много пациентов с бритыми головами и шрамами на черепе, и он решил, что либо пережил автомобильную катастрофу, либо был ранен пулей в голову. Когда ему говорили, что произошло на самом деле, он сильно удивлялся, как будто слышал это впервые.
Однако Бен сохранил воспоминания о школе и колледже.
— Во что ты играл? — спросила Андреа, когда речь зашла о его школьных годах.
Ответил Бен тихо, но отчетливо:
— В футбол…
— Ты помнишь, чем еще занимался?
Бен сморщил лоб, словно искал в шкафу фотоальбом, который точно должен стоять где-то тут, на полке.
Андреа дала подсказку:
— Ты ездил в горы?
На этот раз Бен думал еще дольше.
— Кататься на сноуборде с ребятами, — наконец ответил он. Я почувствовала облегчение и едва не воскликнула: «Отличная работа!»
Возможно, Бен не помнил, что с ним произошло, но мне хотелось знать, понимал ли он, что его жизнь радикально переменилась, что он не может теперь позвонить друзьям и запланировать путешествие, не может схватить ключи от машины и уехать, если ему захочется это сделать. Раньше Бен и Грег постоянно подначивали друг друга и иногда делали это и теперь. Только позавчера они над чем-то хохотали, сидя на заднем сиденье машины, и можно было надеяться, что пробудилась еще одна часть прежнего Бена, и это было чудесно. Однако большинство друзей Бена, даже те из них, кто проявлял больше всех внимания и сочувствия во время пребывания Бена в больнице, перестали заходить к нему, потому что нашли работу и переехали на новые квартиры. Некоторые друзья изредка приходили, но чувствовали себя неловко, потому что, даже если Бену и нравилось общаться с ними, это было совершенно неочевидно. Он никогда не вступал в разговор и не строил планы по собственной инициативе.
Мне хотелось знать, не грустит ли он, пусть даже он был не в состоянии внятно выражать свои чувства. Андреа тоже все время об этом думала. Когда Бен отказывался ехать туда, где могли быть его друзья, или отрицательно качал головой в ответ на просьбу матери съездить на кресле-каталке в магазин, Андреа спрашивала себя: происходит ли это от осознанного стеснения? Трудно сказать. С той же долей уверенности можно было предположить, что Бен, сидевший сейчас передо мной, чувствовал себя единственным Беном Клэнси, который когда-либо существовал.
— Ты чувствуешь себя таким же, каким был прежде? — спросила Андреа сына.
— Да… — ответил Бен.
— Ты не чувствуешь, что что-то изменилось?
— Не особо, — пожав плечами, ответил Бен.
Андреа продолжала внимательно смотреть на сына.
— Думаю, ты стал намного тише, — она повернулась ко мне. — У Бена был очень громкий голос и смех, и так было всегда. Думаю, что все это осталось, просто он уменьшил громкость.
Мы продолжали говорить, как вдруг все три собаки вскочили и с лаем бросились к входной двери, за которой стояла пришедшая женщина-трудотерапевт. Когда Бен вернулся домой, она регулярно приходила к нему, помогая восстановить некоторые навыки: приготовления сэндвича, самостоятельного принятия душа. До передозировки Бен был страшным любителем сэндвичей, сказала мне Андреа. Не важно, было ли десять часов утра или стояла глухая ночь — Бен мог состряпать великолепный сэндвич и с большим аппетитом съедал его. Андреа нисколько бы не удивилась, если бы Бен быстро научился делать сэндвичи после болезни.
В тот день у инструктора по лечебной физкультуре был выходной, и терапевт решила заняться с Беном физической подготовкой. Она дала ему две красные гантели в 1,3 кг и держала его за поясницу, пока он десять раз поднимал и опускал их. До передозировки Бен отказался бы заниматься такой глупостью — поднимать столь смехотворный вес, но сейчас это был максимум, на который он был способен, не теряя равновесие. Потом трудотерапевт подвела Бена к кухонному столу, и, держась за него руками, он принялся поочередно отводить ноги в стороны. Андреа стояла рядом и подбадривала его с интонацией школьного тренера по футболу: «Давай, Клэнси!» Бен едва заметно улыбался, но ничего не говорил.
Теперь надо было попрактиковаться в ходьбе. Неделю назад Бен страшно напугал мать, когда она на несколько минут оставила его на кухне одного. Вернувшись, она не увидела сына. Он выбрался из кресла, встал и по лестнице поднялся на третий этаж. Все обошлось, но это было везение. Бен мог получить серьезную травму. Андреа не хотела даже думать о том, что могло бы произойти, если бы Бен вышел на улицу и кто-нибудь увидел его неуверенную походку, решил бы, что Бен пьян, и позвонил бы в полицию, а тот не сумел бы объяснить, что на самом деле происходит.
— Начинаешь представлять себе ужасные вещи, — сказала мне Андреа.
Для того чтобы уменьшить риск, она купила Бену красный браслет, на котором были написаны его имя и адрес, а также информация о поражении мозга. Бен поначалу сильно растерялся, но проникся необходимостью ношения браслета и все время настаивал, что его надо надеть, даже когда браслет уже красовался на его запястье. Андреа пыталась объяснить, указывая на браслет, что тот на месте, и его не надо надевать, но Бен не мог совместить эти два факта. Растерянность и недоумение сына росли, несмотря ни на что, но потом Бен признал свое поражение и смирился, так ничего и не поняв.
— Раньше он никогда не сдавался, — отметила Андреа. — Он вообще был великим спорщиком.
Бен медленно шел по гостиной. Инструктор придерживала его за пояс, когда он был готов пошатнуться. Вскоре Бен торопливо засеменил мелкими шажками, ставя ноги на цыпочки. Эту походку в свое время описал у Бена доктор Джачино. Однако инструктор не замедлила напомнить: «Шире шаг, Бен!» — и походка нормализовалась. Когда они пошли обратно, Бен старался ставить ноги правильно, чтобы скорее вернуться и устроиться поудобнее в кресле-каталке. Особенно сложной оказалась задача повернуть в углу в обратную сторону, а потом мы в течение нескольких томительных секунд наблюдали, как Бен сосредоточенно усаживался в кресло.
После этого занятие окончилось. Длительность его составила ровно 45 минут. Вечером к Бену должен был прийти логопед. В промежутке Бену предстояло заняться сэндвичем, посмотреть телевизор и немного отдохнуть, но время шло быстро, и заметить успехи, происходившие день ото дня, было трудно. Сеансы лечебной физкультуры, трудотерапии и коррекции речи происходили два раза в неделю, поэтому прогресс зависел в большей мере от тех часов, которые Андреа и Бен проводили в доме наедине. Иногда все шло гладко — они читали вслух, играли в настольные игры, а в перерывах Бен выполнял физические упражнения. Но в другие дни Бен бывал не в настроении, и матери было трудно заставить своего взрослого сына сохранять мотивацию к занятиям; в такие минуты у Андреа возникали сильные сомнения в том, что Бен понимает, чего он лишился. Было легко примириться с медленным прогрессом в течение одного дня, но дни складывались в недели, а недели — в месяцы. Андреа и Брайан начали опасаться, что совершили ошибку, забрав сына домой и упустив шанс на улучшение в результате более планомерного лечения.
Они начали искать клинику поблизости от дома, где Бен мог бы получить более квалифицированную и лучше организованную помощь. Им особенно понравилось одно учреждение, где Бен мог бы заниматься лечебной физкультурой в спортивном зале, а также работать над речью, воспроизводя для лучшего усвоения то, чему научился накануне. В этом реабилитационном центре был бассейн, помещение для занятий йогой — и даже маленький магазин, где Бен мог бы практиковаться в приобретении покупок в реальных супермаркетах. Два раза в неделю проводились дополнительные занятия — спортивные игры на площадке, соревнования по плаванию или мини-гольф. Этот реабилитационный центр был предназначен для больных с поражениями головного мозга, и большую часть пациентов составляли пожилые люди, пережившие инсульт. Но, возможно, там будут и пациенты, близкие Бену по возрасту.
Бен посетил одно занятие, и центр ему понравился. Он даже помнил на следующий день несколько деталей, хотя позже он о них забыл. Андреа и Брайан были настроены оптимистично, связав с новой программой реабилитации все свои надежды. Было ли это наилучшим решением? Андреа не знала, да, собственно, и не было никакого способа заранее это узнать. Если до этого весь распорядок жизни Бена был расписан по часам, то теперь у родителей возникло ощущение, что они действуют вслепую. Но Андреа твердо знала одно: в новом учреждении Бен будет все время занят, а регулярные занятия принесут ему только пользу. Может, кто-то сумеет затронуть соревновательный дух Бена и мотивирует его так, как не смогла она.
Андреа любит планировать, и кажется, что продумывание следующих шагов помогает ей держаться на плаву. Она начала собирать документы, чтобы обеспечить Бена помощником, который приходил бы к нему на несколько часов пару раз в неделю. Андреа переживала, что Бен примет помощника за няньку — это бы ему страшно не понравилось, но идея сама по себе была неплохой. Если бы появился человек, который мог бы находиться с Беном дома, Андреа смогла бы отлучаться по делам. Кроме того, возможно, через несколько месяцев Бену надо будет пройти психологическое тестирование — просто чтобы понимать, в какой он точке. Так что много всего происходило, и порой голова шла кругом, но Андреа нужно было все это движение. «Если мы остановимся… нет, нет, я не хочу об этом думать, я не хочу останавливаться, не хочу дойти до точки, где мы перестанем двигаться вперед».
За прошедшие после выписки время Бен проводил с Андреа практически все время. До поражения мозга мать и сын были «керосином и спичкой». Бен мог быть веселым и ласковым парнем, но парнем с характером. Андреа ругалась с ним чаще, чем с кем-либо еще. Это происходило, когда Бен начинал отстаивать противоположные политические взгляды только чтобы позлить родителей или хотел куда-то поехать вопреки их желанию. Теперь находиться с ним рядом было легко и просто. «Больше никакой драмы, никаких постоянных споров и ссор, — сказала Андреа. — Это неплохо». Некоторые друзья и родственники считали, что их долг — заставить Бена говорить, выжимать из него воспоминания о прошлом и получать ответы на вопросы. Но Андреа ставила перед собой другие задачи. Она знала, что все могло быть намного хуже. Когда Бен находился в отделении реабилитации, Андреа видела родителей, ухаживавших за своими взрослыми детьми, не способными самостоятельно ни ходить, ни говорить, ни есть, и без всякой надежды на восстановление этих умений. Бен был дома, и с ним было легко, пребывание с ним было исполнено доброты и нежности.
Но она скучала по своему прежнему сыну, по тому харизматичному молодому человеку с глубоким умом, чувствительному и любознательному, по сыну, который каждый день читал в интернете политические новости, который мог привести ее в ярость, но мог и рассмешить до слез. Как это странно — скучать по человеку, который сидит рядом с тобой, и даже чуть-чуть оплакивать его. «Мне бы очень хотелось поговорить с ним так, как мы разговаривали прежде, — сказала Андреа. — Иногда я смотрю на него и думаю, что будет дальше? Сдвинется ли дело с мертвой точки? Будут ли наши разговоры и отношения такими, как раньше, а не как сейчас: "Хочешь пить?"»
Время даст ответы на все эти вопросы, может быть через год-два, а может, и позже. Пройдет еще пять лет, брат и сестра Бена, скорее всего, уже покинут родительский дом и заживут своей жизнью, а Бену будет уже около 30. Может быть, к тому времени у него появится своя квартира и постоянная работа, а может, ему придется жить в специализированном учреждении. Но может случиться и так, что он будет по-прежнему жить дома, с мамой, в своей комнате на втором этаже.
У Бена остановилось сердце, и он бы умер, если бы не современная медицина, которое заставила его сердце снова забиться. Врачи остудили его тело на несколько градусов, а потом снова согрели, и вот теперь он дома, сидит за кухонным столом в футболке, шортах и кроссовках. При всей неопределенности будущего, сейчас стоит теплый летний день, а Бен сидит на кухне и собирается делать сэндвич. Андреа достала из холодильника ингредиенты. Она предложила Бену холодную индейку, прошутто, сыр, салат, горчицу и, на выбор, булочку или разрезанный батон. Бен, страстный любитель сэндвичей, молча выбирает булочку, делит ее пополам, медленно укладывает на хлеб ломтики индейки, сверху добавляет сыр, а поверх выдавливает из тюбика горчицу. Собаки, роняя слюни, садятся у его ног, надеясь, что им перепадет кусочек мяса. На кухне стоит тишина.
Однажды днем, приблизительно через месяц после того, как я побывала в гостях у Бена Клэнси и его матери, я решила посмотреть, как Бен занимается в амбулаторном реабилитационном центре, расположенном неподалеку от его дома. Бен совсем недолго посещал этот центр, и там не было ни одного пациента его возраста, но Андреа считала, что сделала правильный выбор. Глядя, как Бен отрабатывал равновесие в спортзале под присмотром инструктора по лечебной физкультуре, я была поражена его успехами в сравнении с тем, что я видела, когда впервые с ним познакомилась. Я не преминула сказать об этом Андреа, и она была очень довольна. Она знала, что Бен делает успехи, но она была с ним каждый день, и его прогресс не был для нее столь очевиден. Бен тоже улыбался, но, надо признать, он по-прежнему вел себя тихо и пассивно.
Бен испытывал трудности с памятью, и его врачи снабдил его блокнотом, чтобы он записывал туда все свои действия и свою еду каждый день. В тот день, когда я наблюдала Бена в реабилитационном центре, специалист по трудотерапии отвела его на кухню. Бена мало интересовала еда, аппетит у него был понижен, и он заметно похудел за истекший месяц. В тот раз Бену предстояло поджарить на гриле сэндвич с сыром. Он стоял у печи и ждал подсказок врача. Видя, как он тщательно следует инструкциям, я подумала о том живом, бойком Бене, которого я никогда не знала, о Бене, который мог сделать сэндвич из ничего в любое время дня и ночи. Бен зазевался и оставил одну половину сэндвича слишком надолго на решетке. Кухня наполнилась приятным запахом подгоревшего хлеба. Инструктор посоветовал ему отделить почерневший кусочек хлеба от расплавленного сыра, чем спас добрую половину сэндвича. Бен положил бутерброд на тарелку и сел за стол. Мы все как зачарованные смотрели, как он принялся есть.
6 Там, где кончается мост
Когда мы встретились, я заметила шрамы. Я заметила их не сразу, завороженная энергией этой приятной женщины приблизительно моего возраста. Ее муж, приветливый офицер полиции, здороваясь, крепко пожал мне руку. Уже потом, когда мы сели и начали беседовать, я заметила следы заживших ран на шее, в том месте, где когда-то были вставлены трахеостомическая трубка и катетер, по которому кровь из внутренней яремной вены текла в аппарат, стоявший возле больничной койки.
Других шрамов я не видела до тех пор, пока Синди Скрибнер не подняла рубашку, показав в разгар беседы свой живот. Там были рубцы от разрезов, сделанных хирургами, которые останавливали внутреннее кровотечение. Бледный шрам имел зубчатую форму, как будто живот вскрывали в одном и том же месте несколько раз. На грудной клетке и верхней части живота были другие отметины — свидетельства вмешательств по поводу другого кровотечения и коллапса легкого. Тонкий шрам проходил под молочными железами — след операции, в ходе которой легкие Синди заменили легкими женщины, которая была моложе ее, но умерла.
Не знаю, с чего следует начать историю Синди. В некотором смысле все началось с медицинского устройства. Именно благодаря ему я познакомилась с Синди — этот аппарат поддерживал в ней жизнь, пока она ожидала пересадку легких. Из всех медицинских технологий, которыми мы пользовались в больнице, именно эта производила на меня самое сильное впечатление. Даже само название — экстракорпоральная мембранная оксигенация, или ЭКМО — было футуристическим и напоминало отрывок из научно-фантастического романа, ставший реальностью.
Темная венозная кровь поступает по крупному катетеру из тела пациента, насыщается в аппарате кислородом, становится алой и возвращается по другому катетеру. Пациент жив и находится в ясном сознании, но жизнь эта зависит от работы устройства, и такой больной не может покинуть отделение интенсивной терапии. Он проводит так дни, недели, а иногда и месяцы в ожидании трансплантата, все время находясь под угрозой возникновения осложнений. Как сказал мне один знакомый хирург: «Из всего, что мы делаем с людьми, эта процедура больше всего напоминает дамоклов меч».
Хотя сегодня эта методика находится на переднем крае, я слышала, что уже через несколько лет ЭКМО станет рутинной процедурой в отделениях интенсивной терапии. И мне захотелось узнать некоторые детали. Например, как проводит свое время находящийся в ясном сознании человек, прикованный к аппарату ЭКМО? Когда дни на ЭКМО складываются в недели, начинает ли это восприниматься как жизнь или больной отсчитывает часы до окончания этого чистилища? Что, если пациент ждет трансплантации, но она не осуществляется? Можно ли до конца жизни находиться в ОИТ? И если нет, то какая альтернатива?
Все эти вопросы и привели меня к Синди. Я могла бы начать с рассказа о ней, лежавшей на больничной койке; или с ее мужа Дерека, который лихорадочно переключал телевизионные каналы, стараясь заглушить страх; я могла бы начать с катетеров, трубок и стука деталей аппарата ЭКМО. Но, пожалуй, следует начать с первых симптомов, которые появились лет десять назад.
Я представляю себе молодую медсестру, мать двоих детей, беременную в третий раз. Вероятно, она была так занята своими семейными обязанностями, что не обращала внимания на сухой кашель, который возникал из-за ощущения першения в горле. Сначала это слегка раздражало, и только. Но когда кашель стал будить ее по ночам, а по утрам достигал такой силы и продолжительности, что вызывал тошноту и рвоту, Синди обратилась к врачу. Доктор прописал ингаляции и посоветовал сделать рентген, если ингаляции не помогут. Однако делать рентген было рискованно из-за беременности. И, в конце концов, это всего лишь кашель. Подруга предположила, что он может быть как-то связан с беременностью и после родов исчезнет сам собой. Синди очень на это рассчитывала.
Однако ребенок родился, а кашель так и не прошел. К тому моменту он продолжался уже несколько месяцев, и врач все же настоял на рентгенологическом исследовании грудной клетки. Через пару дней в квартире Синди зазвонил телефон. Она не слишком внимательно слушала, что говорил доктор, потому что едва удерживала трубку, пытаясь при этом не уронить с колен младенца, и старшие дочери верещали, требуя внимания. Но тут слова врача заставили ее отключиться от окружающего: «Синди, рентгенолог увидел на снимке патологию. Вам следует обратиться к пульмонологу».
Синди старалась сохранять спокойствие, даже когда специалист объяснял, что ей показана бронхоскопия, то есть введение под наркозом гибкой трубки с камерой через горло и трахею и взятие кусочка легочной ткани. «Все выглядит нормально», — сказал врач после процедуры. И, хотя кашель никуда не делся, настроение Синди улучшилось. Она все время повторяла ободряющие слова врачей, убеждая себя, что кашель пройдет, все наладится и будет как прежде.
Но кашель не проходил и во время следующей беременности, и после того, как Синди родила четвертого ребенка. Иногда, бегая с дочерями, она отмечала, что дыхание становится неровным и прерывистым, а сердце начинает сильно биться. Тем не менее Синди старалась не поддаваться страху, пока однажды утром ей не показалось, что в комнате не хватает воздуха. В то время Синди уже работала и, придя в больницу, приложила к пальцу пульсоксиметр, чтобы оценить содержание кислорода в крови. Она увидела показатель и не поверила своим глазам. Дрожащими руками Синди набрала номер своего врача, который вскоре направил ее на углубленное обследование в Бостон. Там и был поставлен точный диагноз: идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), который приводит к замещению легочной ткани фиброзным рубцом. Причина этой болезни неизвестна.
Это не рак легких, но прогноз не лучше. Сидя в кабинете бостонского специалиста, Синди и Дерек слушали его слова, но едва понимали их смысл — это было что-то непредставимое! Лечения не существует; половина больных умирает менее чем через пять лет после установления диагноза; единственный способ продлить жизнь — пересадка легких. Синди даже не слышала прежде о легочном фиброзе, но врач говорил, что эта болезнь ее убьет. Сама Синди потеряла родителей очень рано и хорошо помнила свои скитания по родственникам, и понимала только одно — надо защитить своих детей от такой участи. Поэтому, когда врач упомянул трансплантацию легких, она, несмотря на весь свой страх, несмотря на хрупкость надежды, ухватилась за нее, как утопающий за соломинку.
Начинается ли эта история здесь, в день, когда все изменилось?
Или начать надо с палаты, в которой Синди лежала, прикованная к устройству, которое могло спасти ей жизнь или, наоборот, отнять ее? Может быть, эта история началась позже, в тот день, когда хирурги пересадили ей донорские легкие. Выбор точки отсчета произволен, он только задает рамки, в которых рассказ становится связной историей. История Синди не только об экстракорпоральной мембранной оксигенации, как я поначалу думала, а еще и о том, каково быть смертельно больной матерью четверых детей, или даже о том, что это значит — жить с донорскими легкими.
Пожалуй, я просто расскажу историю Синди так, как она сама представила ее мне в день нашей встречи.
Первый шрам, тот, что расположен чуть ниже того места, где находятся голосовые связки, — след от трахеостомической трубки.
После установления диагноза время не помчалось с умопомрачительной быстротой, как ожидала Синди, а наоборот, потянулось удручающе медленно. Теперь жизнь состояла из посещений врачей, сдачи анализов и бесконечного ожидания. Дерек, стараясь поддержать жену, продолжал шутить и надеяться на лучшее, даже когда врачи сказали Синди, что ей необходимо дышать кислородом в течение дня. Синди вежливо улыбалась, но на деле это удручало. Она пыталась сохранять позитивный настрой, но это было сложно со всеми этими любопытными взглядами всякий раз, когда она шла по улице с кислородным баллоном и четырьмя детьми в придачу. Она не хотела пугать своих девочек непонятным медицинским оборудованием, но еще больше она не хотела просить помощи в выполнении таких элементарных вещей, как мытье посуды, уборка пыли или игра с дочерями.
А еще постоянно приходилось ждать. Сначала ждать очереди на внесение в список кандидатов на пересадку — а в течение этого времени постоянные осмотры и изнурительные обследования, одно за другим. После внесения в список началось ожидание вызова, а его все не было. Бостон известен длительным ожиданием трансплантаций; к тому же у Синди была редкая группа крови и найти подходящего донора было нелегко. Месяцы складывались в годы. Мало того, что Синди была привязана к кислородной маске, она теперь стала хуже дышать, потому что процесс в легких неумолимо развивался. Синди утратила надежду и смирилась с судьбой. Она перестала сидеть возле телефона и уже не вскакивала каждый раз, когда он звонил. Она сдалась и перестала ждать трансплантацию.
Хорошо понимая, что ее здоровье отныне будет только ухудшаться, Синди решила, что будет настолько активно участвовать в жизни семьи, насколько позволит ее состояние. Так и на День матери[7], через несколько лет после установления диагноза, Синди заставила себя пойти на футбольный матч, в котором участвовали ее дочери. Несмотря на сильную пульсирующую головную боль, она досмотрела матч до конца, но потом сказала Дереку, что в голове у нее сплошной туман и единственное, чего она хочет, — это спать. Кашель и одышка уже стали привычными, но эти симптомы отличались. Что-то было не так. Не в силах унять тревогу, Синди и Дерек сели в машину и поехали знакомым путем в Бостон. Было уже поздно, когда они пришли в отделение скорой помощи, и прошло еще несколько часов, прежде чем Синди положили в одно из общих отделений. Время ползло ужасно медленно, и Синди отправила Дерека домой, сказав, что она неплохо себя чувствует и уверена, что все будет нормально.
Синди этого не помнит, но через некоторое время после отъезда мужа у нее остановилось дыхание. Врачи бросились к ней и, так как не смогли заставить ее дышать самостоятельно, выполнили интубацию трахеи и начали искусственную вентиляцию легких. Позвонили Дереку, который с полпути развернул машину — повезло, что не случилось аварии, — и помчался назад в больницу. Именно тогда, как вспоминает Дерек, «начался настоящий ад».
Ему сказали, что голова у Синди болела, так как в крови повысилось содержание углекислого газа. Это же состояние, называемое гиперкапнией, вызвало и ощущение спутанности сознания ранее. Когда же уровень двуокиси углерода в крови достиг опасного уровня, дыхание Синди замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Теперь все изменилось, последние проблески нормальной жизни остались в прошлом. В ОИТ врачи пытались в течение нескольких дней вернуть Синди способность самостоятельно дышать, но все усилия были тщетными. Легкие были слишком сильно поражены фиброзом. Врачи предложили Дереку подписать согласие на трахеостомию и установление трахеостомической трубки. Он поставил свою подпись под документом без всяких раздумий. Он был сильно напуган, но доверял врачам и хотел, чтобы они сделали все возможное для спасения жизни его жены. Он бы одобрил любое их решение, они могли даже не спрашивать его согласия.
После трахеостомии Синди медленно пришла в себя. Сначала она пребывала в бреду — ей казалось, что в ее кровати кричат какие-то дети, что с потолка льет дождь, а ее муж изменяет ей с медсестрами. Когда сознание прояснилось, а действие седативных лекарств ослабло, Синди увидела кошмар иного рода. Из ее шеи торчала трубка, соединявшая ее с аппаратом ИВЛ, и постепенно Синди стало все ясно: когда-то она ухаживала за пациентами с трахеостомическими трубками и вот теперь, пока она была без сознания, она сама превратилась в такого пациента. Синди не могла говорить и была слишком слаба, чтобы писать. Она пала духом и страшно злилась на Дерека за согласие на операцию, превратившую ее в беспомощную куклу. Но она не стала ему об этом сообщать. Она хорошо его знала и понимала, что за внешней сдержанностью офицера полиции он прячет растерянность и панику. Она и сама старалась не показывать свой страх. Кроме того, Дереку не предложили никакой альтернативы. Синди держала свои мысли при себе и ждала.
Слово «ожидание», по мнению многих людей, подразумевает нечто статичное, но для Синди оно ассоциировалось с хождением по туго натянутому канату над пропастью, когда малейшее неудачное движение грозит бедой. Когда она ждала — в то время, как Дерек и дети готовились к ее возвращению домой с трахеостомической трубкой и аппаратом, — у нее началась лихорадка. Потребность в кислороде резко возросла. Синди снова перевели в отделение интенсивной терапии, где врачи собрались на экстренный консилиум. Движения их были быстрыми, фразы короткими, никто не шутил. Дерек в страшном волнении мерил шагами коридор перед дверью в ОИТ. Время тянулось невыносимо медленно. Наконец к Дереку вышел врач Филипп Кемп. Мощный, крепкий мужчина, доктор Кемп был не только хирургом-трансплантологом, но и подполковником ВВС США. Он демонстрировал уверенность человека, который в этой жизни видел все. Легко могу представить, как он отвел Дерека в маленькую переговорную с пластиковыми стульями, где многие родственники пациентов слышали плохие новости, и рассказал, что такое экстракорпоральная мембранная оксигенация, или ЭКМО.
Даже при самых высоких значениях параметров искусственной вентиляции легких кислород в крови Синди продолжал угрожающе падать. Доктор Кемп сказал, что если Дерек даст свое согласие, то врачи установят два катетера в самые крупные вены Синди — во внутреннюю яремную и в бедренную. Через один катетер кровь будет покидать тело Синди и пропускаться через аппарат, который установят возле ее койки. После того, как оксигенатор, который заменит Синди легкие, сделает свое дело, насыщенная кислородом кровь вернется в организм Синди уже по другому катетеру. Хирург сказал, что после подключения аппарата ЭКМО его жене уже не потребуется респиратор, она окончательно очнется и, возможно, сможет говорить. Если все пойдет хорошо, то, вероятно, удастся заменить катетер в бедренной вене двухпросветным катетером в яремной вене. Тогда Синди сможет ходить, а это очень важно для кандидатов на пересадку легких. Ходьба позволяет поддерживать силы, необходимые для проведения трансплантации.
Обычно очень трудно решить, стоит ли начинать ЭКМО, — иногда представляется, что еще рано, так как состояние пациента позволяет обходиться без этой тяжелой процедуры, или что уже поздно, потому что болезнь зашла слишком далеко. Есть несколько строгих показаний, но все равно непросто судить о том, не является ли пациент слишком старым или слишком ослабленным для того, чтобы польза от ЭКМО перевесила возможные осложнения. Однако у лечащих врачей Синди никаких сомнений не было. Кроме того, имя Синди стояло в списках кандидатов на трансплантацию, и врачи стремились поддержать Синди в таком состоянии, чтобы она могла выдержать одно из самых агрессивных хирургических вмешательств. Доктор Кемп хорошо знал Синди. Он видел ее на амбулаторных приемах и был одним из тех, кто делал ей операцию, когда потребовалась срочная трахеостома, а еще он знал, как она упорна в своем намерении остаться в живых ради детей.
Когда Кемп говорит родственникам о том, что их близкому человеку показана ЭКМО, когда рассказывает о катетерах и трубках, о бесконечных санационных бронхоскопиях, он понимает, что разговаривает с людьми, переживающими тяжелейший стресс, что они едва ли многое запомнят из его объяснений. В своих разговорах с родственниками доктор Кемп честен и при этом участлив и мягок, когда говорит о возможных последствиях вмешательства.
У больного, находящегося на ЭКМО, возможны кровотечения или, наоборот, тромбозы. И то и другое чревато серьезными осложнениями или даже смертью. В отличие от ИЖС или гемодиализа, ЭКМО не предназначена для постоянного применения. Эта процедура не может бесконечно долго замещать функцию легких. ЭКМО, объясняет доктор Кемп, это мост. Мост соединяет одно место с другим. Это означает, что мост неизбежно заканчивается — либо выздоровлением, либо трансплантацией. Поэтому, если в какой-то момент дела начинают идти не так, как надеялись врачи, и эти цели становятся недостижимыми, то доктор Кемп и его коллеги могут принять решение о прекращении экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В тот момент ясно было только одно: врачам надо что-то предпринять. Палату ОИТ превратили в импровизированную операционную. Пришли операционные сестры со стерильными наборами инструментов, шовным и перевязочным материалом. Прикатили бестеневую лампу. В палате было мало места для операционной бригады, и на первый взгляд там царил хаос. Но, как только доктор Кемп обработал кожу на шее и в паху и сделал первый разрез, время словно замедлило свой бег. Кемп перестал обращать внимание на окружающее и сосредоточился на своих действиях. Он не знал, доживет ли Синди до пересадки легких, но был твердо уверен, что если все пойдет так, как надо, то ЭКМО позволит Синди выиграть то, чего без этой операции у нее не будет, — время на ожидание донорских легких.
Через несколько дней Синди очнулась и поняла, что кошмар снова поменял свое обличье. Она боялась пошевелить головой, так как опасалась сместить катетер, установленный в шее, и спровоцировать кровотечение. Она не хотела двигаться вовсе, но вскоре ей объяснили, что если она не встанет и не начнет ходить, если она поддастся парализующему влиянию паники, то ее могут вычеркнуть из списка кандидатов на трансплантацию.
Проблемой было даже пошевелить головой; не представляю, каких усилий потребовал от Синди подъем. Однако, невзирая на усталость и боль, она сумела встать и начать переставлять ноги. Ее поддерживали медсестры и инструктор по лечебной физкультуре, чтобы она не упала, не получила серьезную травму и не сломала аппарат ЭКМО, который поддерживал в ней жизнь. Она ослабла, ей было страшно, тяжело и больно. Через несколько дней, когда Синди решила, что все это уже слишком, доктор Кемп пришел к ней в палату и сказал, что у Синди есть выбор: «Либо ты сама встаешь на ноги, либо я просто заставлю тебя это сделать». Речь шла не об обычных прогулках. Доктор Кемп понимал, как высоки ставки. Дни будут сменять друг друга, и если Синди не встанет с постели и станет слишком слабой для трансплантации или получит какие-нибудь осложнения, то ее придется исключить из списка, и тогда для нее все будет кончено. Поэтому будет ли Синди ходить по собственной воле или по чужой, но она будет. И Синди начала вставать и шагать, просто из духа противоречия. Эта ежедневная ходьба стала ценой, которую она платила за призрачную надежду на освобождение.
У Синди даже выработался определенный распорядок. Утром, если она хорошо себя чувствовала, то подкрашивала ресницы и накладывала тени на веки, слушая новости по радио. Медсестры мыли ей голову. Дерек проводил все дни с женой, так как его товарищи по работе отдали ему свои больничные дни, и он мог не ходить на службу. Иногда, если Синди чувствовал себя достаточно хорошо, он бегал в кофейню «Данкин Донатс» напротив и приносил Синди кофе со льдом. В течение дня к ней заглядывали другие родственники. Младшая дочь поначалу сильно пугалась и отказывалась слезать с колен сестры Синди, боясь подходить к матери. Во второй половине дня кто-нибудь из родственников или друзей привозил старших детей. Они делали в палате уроки и смотрели телевизор. Иногда Дерек надувал одноразовые перчатки, превращая их в мячики, которые дети гоняли по палате. В палате не переводилась вкусная еда — то замороженный йогурт, то консервированные оливки. Когда все уходили и Дерек с Синди оставались вдвоем, они смотрели кино, стараясь сосредоточиться на происходящем на экране. Потом Дерек садился на стул у больничной койки и ждал, когда Синди уснет. После этого он тихо, чтобы не разбудить жену, выскальзывал из палаты, отправлялся в ближайший бар и выпивал пару кружек пива, чтобы успокоить нервы.
Когда недели, проведенные Синди в ОИТ, превратились в месяцы, граница, обычно отделяющая больных от врачей, начала стираться. Иногда это было невинное баловство. Например, однажды вечером один из врачей сходил в Walmart и купил там огромный водяной пистолет, которым Синди удивила доктора Кемпа во время утреннего обхода. Один раз девушка-резидент расплакалась, увидев, как младшая дочка Синди прыгает на госпитальной каталке. Девочка была так увлечена, что перестала замечать трубки, торчавшие из тела ее мамы. Анестезиолог из команды, отвечавшей за ЭКМО, снял для Дерека номер в бостонской гостинице, чтобы тот хоть раз с комфортом выспался, а не ютился на неудобной кушетке в ОИТ.
Но врачи не могли дать Синди то, в чем она нуждалась больше всего, — они пока не могли дать ей новые легкие. Через несколько недель после начала ЭКМО у Синди началось кровотечение. Сначала оно случилось в животе. Хирургам потребовалось много времени, чтобы его остановить, а потом, так как больная получала антикоагулянты (разжижающие кровь вещества) для успешного проведения ЭКМО, началось кровотечение в груди. Пришлось вскрывать грудную клетку, дренировать плевральную полость и искать источник кровотечения. Вернувшись в ОИТ, Синди очнулась с тяжелой головой и болью во всем теле, опухшем от перелитой в операционной жидкости. Каждый раз она была полна решимости встать с постели и начать ходить как можно скорее. Но проходило несколько дней, и кровотечение возобновлялось в каком-то другом месте.
Синди и Дерек не говорили о том, что, возможно, они так и не дождутся трансплантации, но осложнения становились чаще, и супруги поневоле думали о самом худшем. Когда Синди засыпала, Дерек лежал без сна в комнате для родственников. Он дал себе обещание, что если Синди сделают пересадку легких, то он станет идеальным мужем, не будет раздражаться и станет терпелив. Когда в комнату заходили врач или сестра, у Дерека буквально останавливалось сердце, он замирал и ждал, боясь, что что-то случилось с его женой. Только когда врач выходил, под звук удаляющихся шагов Дерек облегченно вздыхал и на время успокаивался.
Ко всем, кто навещал ее, Синди обращалась с просьбой подтвердить, что она справится. Она не хотела говорить о своем страхе или затевать разговор о том, что, возможно, она и не дождется новых легких. Она просто хотела, чтобы кто-нибудь сказал ей, что все будет хорошо. Поэтому врачи, медсестры и родные, которые слышали ее вопрос, непременно обнадеживали ее и говорили, что все будет в порядке. «Синди, ты это сделаешь, ты справишься». Она удовлетворенно кивала, пытаясь заставить себя поверить этим словам, и на секунду ей и правда становилось легче. Но оставшись наедине со своими мыслями, Синди не могла избавиться от страха, что легких не будет и она никогда больше не увидит своих детей дома, а не в больничной палате.
Дерек ясно видел, что несмотря на решительный настрой Синди, несмотря на то, что она каждое утро красилась и настаивала на приходе детей, она необратимо слабела. Он знал, что кровотечения по-прежнему угрожали его жене, и каждый раз, когда ее забирали в операционную, она возвращалась оттуда с новыми дренажами и трубками. Он никогда не говорил о своих страхах Синди, но начал понимать, что дело идет к трагической развязке, и против своей воли задумывался о том, что может потерять жену. Он решил, что продаст дом, который они купили вместе с Синди, и переедет ближе к работе, чтобы видеть детей в течение дня. Но, когда он начинал думать об этом, в горле вставал ком, а в груди он чувствовал такое стеснение, что казалось, сейчас его хватит инфаркт.
Даже доктор Кемп, сохранявший до сих пор несокрушимый оптимизм, задумался о том, не дошла ли Синди до края моста и не пора ли отказаться от курса, взятого так много недель назад. Он мог до бесконечности привозить больную в операционную, устранять очередной источник кровотечения и, скрестив пальцы, надеяться, что кровотечений больше не будет, но надежды эти становились все более призрачными, и хирург начал сомневаться, что такая тактика отвечает интересам больной. Он говорил: «Ты видишь боль, которую причиняешь человеку, и встаешь перед этой ужасной дилеммой: что, если причиняешь боль уже не ради человека, а человеку. Мне стало казаться, что мы перешли эту черту».
Смена курса означала признание того факта, что Синди может не дождаться своих легких. Это означало, что при следующем кровотечении Синди не поднимут в операционную, а будут облегчать страдания и заглушать страх. В конечном счете это означало прекращение ЭКМО.
Мне случалось удалять интубационные трубки больным, которые не могли без них жить, я стояла у двери палаты, переминаясь с ноги на ногу, пока не прекращалось самостоятельное дыхание, и по экрану монитора не начинала ползти прямая линия. Но в тех случаях больные были уже без сознания, а смерть была неминуема, она наступила бы в любом случае — с трубкой и без нее. В случае ЭКМО речь идет совсем о другом. Мы отключаем продлевающий жизнь аппарат, который перестал служить этой цели. И мы делаем это с человеком, находящимся в ясном сознании, способным полноценно общаться с миром, когда все понимают, что без этого аппарата больной умрет.
Доктор Кемп и его коллеги занимались Синди больше двух месяцев. Они каждый день видели Синди, ее детей и мужа, они сблизились, возможно, сильнее, чем следовало, но так уж вышло. «Если вы отчуждены от пациента, то не задумываетесь о том, стоит ли пройти для него лишнюю милю, — размышлял доктор Кемп, — но если вы сблизились с больным, то неизбежно перестаете видеть, когда аппарат надо отключить».
В канун Хеллоуина доктор Кемп, будучи еще дома, получил сообщение на пейджер. У Синди снова началось кровотечение. Кемп немедленно приехал в больницу, осмотрел больную и составил план действий. В отделении интенсивной терапии, где Синди провела больше 70 дней, доктор Кемп и его коллеги решали ее судьбу. Они могли поднять ее в операционную. Можно было открыть ей грудную клетку и остановить кровотечение, зная, что оно неизбежно возобновится — не здесь, так в другом месте. Или можно было объяснить Синди и Дереку, что врачи перешли за грань возможного и пришла пора остановиться. Несмотря на свои колебания, доктор Кемп все же заказал операционную. Он позвонил Дереку и сказал, что попытается остановить кровотечение, но, видимо, сделает это в последний раз.
Вскоре после принятия этого решения на пейджер доктора Кемпа пришло новое сообщение. Легкие получены. Свершилось! Такое случалось с ним и раньше, когда спасение приходило буквально без пяти двенадцать, когда казалось, что все кончено и надежды больше нет. Доктор Кемп сел за компьютер и принялся оценивать информацию. Легкие выглядели хорошо. Он собрал свою бригаду и позвонил на мобильный телефон Дереку. Дерек как раз был за рулем, направляясь в больницу, но, увидев знакомый номер, поспешно взял трубку.
— У меня для вас новости, — сказал доктор Кемп.
— Что? — встревожился Дерек. — Как Синди?
— Мы берем ее в операционную, но не из-за кровотечения. Сделаем кое-что еще.
— Это поможет ей? — спросил Дерек.
— Думаю, что да, — ответил хирург. — Мы собираемся пересадить ей пару легких.
Дерек едва не потерял сознание. Он все еще вел машину, и доктор Кемп велел ему остановиться. Притормозив на обочине, Дерек взял себя в руки. Ранним утром голос хирурга был другим, в нем не было столь характерного для Кемпа оптимизма. Но теперь Синди могла получить новые легкие. Дерек заехал к тете и сообщил ей новость. Потом он перезвонил Кемпу. Он хотел удостовериться в том, что это правда.
— Насколько это точно? — спросил Дерек.
— Я не стал бы вам звонить, если бы не был уверен, — ответил хирург.
Когда врачи сказали Синди, что операция откладывается и что ночью ей сделают пересадку легких, она не знала, как реагировать на эту новость. Она понимала, что надо радоваться, но она очень устала и страдала от боли, и, если честно, единственное, что ей хотелось услышать, так это заверения в том, что все будет хорошо. И врачи сказали именно это, а потом задали неожиданный вопрос: «Что бы вы хотели выпить?» Синди не была поклонником спиртного, но решила, что с удовольствием пригубит коктейль «Маргарита».
Бригаде предстояло провести всю ночь в операционной, поэтому доктор Кемп и анестезиолог Дэвид Сильвер решили поужинать в ресторане сети «Фрайдис», расположенном напротив больницы. Врачи понимали, что операция сопряжена с высоким риском, учитывая все кровотечения и предыдущие операции. Был реальный шанс, что Синди не перенесет трансплантацию. Но не стоило из-за этого упускать шанс отметить долгожданную пересадку, и они принесут Синди праздничный напиток. В ресторанах «Фрайдис» делают прекрасную «Маргариту», от которой и правда возникает впечатление, что вы наслаждаетесь отдыхом на пляже. Но оказалось, что «Маргариту» не подают навынос. Тогда врачи заказали сок лайма в ресторане, а в соседнем магазине купили апельсиновый ликер и текилу. Все ингредиенты они принесли в больницу в большом коричневом пакете. Перед операцией они открыли одну из бутылок и вылили ликер в сок. Синди, с благословения анестезиолога, сделала глоток. Дерек достал телефон и запечатлел этот исторический момент — его жена перед операцией пересадки легких с торчащими во все стороны катетерами сидит с бумажным пакетом в одной руке и с пластиковым стаканчиком в другой, неуверенно улыбаясь.
Когда наступило время везти Синди в операционную, доктор Сильвер пообещал Дереку звонить и сообщать о ходе операции. Синди нашла в себе силы пошутить, попросив хирургов заодно увеличить ей грудь. К тому времени уже стемнело. Дерек улегся на знакомую кушетку и стал ждать. Он страшно боялся уснуть и пропустить звонок доктора Сильвера. В операционной хирург вскрыл грудную клетку Синди горизонтальными разрезом под молочными железами и удалил из плевральной полости сгустки крови, которые мешали обзору.
Ранним утром следующего дня Дерека разбудил телефонный звонок. Доктор Сильвер сказал, что одно легкое уже пересадили, а сейчас начнут пересаживать второе. Это будет последний послеоперационный рубец.
За время пребывания в больнице Синди перелили около 90 литров крови. Это более чем в 16 раз превышает объем крови, циркулирующей по нашим сосудам. Синди бы умерла, если бы не гемотрансфузии, если бы не ЭКМО, если бы вовремя не появились донорские легкие. Возможно, другие хирурги не стали бы проводить ЭКМО, если бы знали, как долго придется ждать, взвесив все за и против, с учетом всех возможных осложнений, которые сделали благоприятный исход очень маловероятным. Но никто не мог знать это заранее. Хирурги начали ЭКМО, и Синди дождалась новых легких и не умерла.
Перед тем как я познакомилась с Синди, ее врачи рассказали мне, что случай Синди — образцово-показательный случай ЭКМО. За этими словами стоит больше, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, врачи имели в виду, что Синди была на грани смерти и оставалась жива только благодаря высокотехнологичному медицинскому вмешательству. Во-вторых, она не просто выжила — она поправилась и до сих пор хорошо себя чувствует. Она может ходить, говорить, думать. Результат лечения, без всяких сомнений, положителен. Синди следит за успехами своих дочерей в спорте, помогает им делать уроки, они говорят с Дереком обо всем на свете — только не о болезнях. Даже самые обыденные вещи, такие как возвращение Дерека на службу, и тот факт, что Синди каждый вечер чистит зубы, переодевается в пижаму и утром просыпается дома, в своей постели, — стали возможны только благодаря совершенной и ультрасовременной медицине. История болезни и исцеления Синди замечательна, это источник дополнительного финансирования больниц и готовый сюжет для телевизионного фильма. Но быть образцовым пациентом — это и большое бремя, похожее на бремя известности и славы.
Зная это, я вначале сомневалась, стоит ли мне встречаться с Синди. Выбрав для рассказа эту историю, я, возможно, оставила в тени отрицательные стороны применения ЭКМО, не рассказала о том, что оно может просто растянуть агонию, продлить мучения, опустошить семью больного. Я опасалась, что Синди просто несказанно повезло, что ее история чересчур хороша и не является «средней», или, выражаясь языком социологии, репрезентативной. Но во время первого же нашего разговора Синди показала мне свои шрамы. Выживание оказалось не таким гладким, как это могло показаться, когда она вошла, — улыбающаяся, с красивой укладкой, под руку со своим мужем.
Мне вдруг стало понятно, что со своими пересаженными легкими она все еще живет, затаив дыхание, застыв в ожидании. Действительно, потом я узнала, что вскоре после нашей встречи Синди снова попала в больницу. Это была первая госпитализация после пересадки, и оказалась она в том же отделении, куда ее перевели после ОИТ. Она знала всех медсестер и была рада снова их видеть, но, конечно, была встревожена. Здесь, в этом отделении ее постепенно снизили дозы сильнодействующих лекарств от боли и страха, которые помогали ей жить в ожидании трансплантации. Тогда ей было очень больно. После выписки она думала, что навсегда закрыла эту главу своей жизни и впереди только хорошее. Но вот она снова здесь, и снова ей приходится дышать кислородом, через зловеще знакомые маску и носовые катетеры.
Дерек ночевал в ее палате, пристально вглядываясь в колебания кривой насыщения крови кислородом, которая ползла по экрану прикроватного монитора. Он не спал. Это пребывание вернуло их в те месяцы, когда они ждали трансплантации, к постоянным страху и неопределенности. Дети Синди были в панике, думая, что мама никогда уже не вернется домой. Синди, как могла, успокаивала их, но и сама была на грани отчаяния. Ей сделали бронхоскопию, на этот раз для того, чтобы исключить инфекцию или начальные признаки отторжения трансплантата. Она пыталась убедить себя в том, что хорошо ухаживала за своими новыми легкими, береглась от инфекций, никогда не пропускала время приема нужных лекарств и что, следовательно, все будет нормально. Однако после всего, что с ней случилось, она поняла, что не властна над тем, что происходит в ее организме, что происходит с пересаженными легкими.
Только там, в больнице, Синди впервые упомянула возможность отторжения донорских легких. Трансплантат не будет работать вечно, и независимо от того, что она будет делать, возможно, настанет день, когда она оставит своих детей сиротами. Она знала это всегда, но только теперь, во время повторной госпитализации, это знание стало реальным и ощутимым. Даже когда Синди стало лучше и ее выписали домой, без кислорода, — оказалось, что это не было отторжение, — ей было трудно прийти в себя и жить как ни в чем не бывало. Видимо, Синди начала понимать, что это теперь ее новая реальность: периоды относительной нормы, перемежающиеся госпитализациями, когда каждый приступ кашля может стать симптомом начавшегося отторжения трансплантата.
— Может быть, я просто зациклилась, — сказала мне Синди однажды, через несколько недель после выписки. Разговор происходил в гостиной их просторного дома, где на субботний ужин собралась вся семья. Нейропатия, которая возникла после трансплантации, сегодня особенно давала о себе знать, несмотря на неоднократную смену лекарств. Ноги постоянно немели, в них ощущалось покалывание, а каждое прикосновение вызывало острую жгучую боль. Ночью она не могла спать близко от мужа. Младшая дочка Синди, которой уже исполнилось пять, буквально прилипла к ее руке, не желая покидать общество взрослых, хотя по телевизору начались ее любимые мультики. Синди нежно погладила девочку по волосам, мягко удерживая ее от соблазна забраться маме на колени. Дочка и сама старалась этого не делать — она знала, что у мамы «сломана ножка», но иногда забывала об этом.
Вероятно, Синди чувствовала бы себя лучше, если бы могла вернуться на работу. Ей всегда нравилась работа, нравилось ощущение независимости, которое давали самостоятельно заработанные деньги. Но по специальности Синди была гериатрической медицинской сестрой и работала в доме для престарелых — вероятно, нет более опасного места для людей с пересаженными легкими. Одна из старших дочерей полушутя предложила матери поработать школьной медсестрой. Синди всерьез задумалась над этим, но решила, что контакты с простуженными детьми едва ли пойдут ей на пользу. Она могла бы работать секретарем у врача, если ее доктора дадут добро. Конечно, это не совсем то, чего она хотела, но все же что-то. Она обязательно позвонит своим врачам и спросит об этом.
На каминной полке под телевизором стоит фотография в рамке. На ней Синди с доктором Кемпом в отделении интенсивной терапии. Синди тогда была так слаба, что врач поддерживал ее, чтобы она могла устоять на ногах. Синди несколько раз приезжала в ОИТ, где когда-то провела так много времени, встречалась с врачами и сестрами, которые лечили ее, а также говорила с пациентами, присоединенными к аппаратам ЭКМО в ожидании трансплантации. Своим примером Синди показывала им, что все может кончиться хорошо. Синди приносила пациентам кроссворды и судоку, чтобы они тренировали ум, и пыталась немного поднять им настроение.
Я перевела взгляд с фотографии на женщину, сидевшую за столом напротив меня. Теперь Синди была мало похожа на себя на той фотографии, это были, можно сказать, два разных человека. Я сказала об этом Синди, желая сделать ей комплимент, и она мимолетно улыбнулась, но затем покачала головой. Она не была довольна тем, как выглядела теперь. Пусть она и старалась не фокусироваться на своих шрамах, которые в разговоре назвала пустяками, ей было неприятно смотреть на свое тело. Недавно Синди ходила к пластическому хирургу и спросила, нельзя ли что-нибудь сделать с самым большим шрамом — на животе, но хирург сказал, что после множества вмешательств оперировать на этой области очень рискованно.
Она уже достаточно рисковала, поэтому Синди оставила эту идею. Она подождет. Может быть, шрамы со временем станут менее заметны. Или она привыкнет к ним, и они постепенно станут частью ее новой личности.
7 Почки в «Фейсбуке»
Эдди Беатрис двигался быстро и решительно. При встрече он крепко пожал мою руку. Когда мы сели, он вытащил из кармана смартфон и положил его на стол, чтобы следить за временем. У него был назначен визит к врачу в клинику, расположенную через дорогу, и он не хотел опоздать. Я незаметно оглядела его, пока он пил кофе. У Эдди была легкая манера общения, присущая хорошим продавцам, и доброе лицо. Когда он поставил чашку на блюдце, я подумала: отдала бы я этому человеку свою почку?
Знаю, неожиданная мысль, но только если не знать контекст. Когда перед Эдди замаячили перспектива хронического гемодиализа и годы ожидания донорской почки, он решил взять судьбу в собственные руки и нашел себе донора. Поиск в интернете, несколько красноречивых писем и немного везения в придачу, и незнакомка из другого конца страны пожертвовала ему свою почку. Я тоже нашла Эдди с помощью интернета, но совершенно с другой целью. Мне хотелось знать, чего ему стоило трезво оценить то незавидное будущее, которое сулили врачи: постоянный диализ, повышенная утомляемость, нескончаемое ожидание, — и найти иное решение.
Учась в медицинском университете, мои однокурсники и я получили возможность два дня ходить с пейджерами, на которые приходили сообщения о трансплантатах. Это означало, что если в нашем регионе умирал человек, бывший донором органов, то пейджер издавал пронзительный сигнал. Счастливый студент, получивший этот сигнал, вместе с хирургом отправлялся за органом, а потом возвращался с ним в Нью-Йорк.
Когда пришла моя очередь, я надежно прицепила пейджер к поясу. Я прекрасно осознавала, что по сути жду чьей-то смерти, и все же ношение пейджера приятно щекотало мне нервы. Помню, какое разочарование я испытала из-за того, что за 48 часов пейджер не пикнул ни разу. Прошли месяцы, прежде чем мне довелось увидеть настоящий трансплантат.
Однажды ранним зимним утром, стоя у входа в операционную, я заправила под шапочку свои кудри, надела маску, очки, тщательно вымыла руки. Вслед за хирургами я вошла в операционную и наблюдала, как операционная сестра отлаженными движениями подавала врачам стерильные халаты и надевала им на руки перчатки. Пациент уже лежал на столе с интубационной трубкой в трахее. Молочно-белая жидкость, поступавшая в его вену из флакона, висевшего на штативе у изголовья операционного стола, отключила его сознание. Я во все глаза смотрела, как оперирующий хирург выполнил разрез в нижней части живота. До этого мне не приходилось видеть, как скальпелем рассекают плоть. Я непроизвольно проделала то же движение, пытаясь представить, какую силу надо приложить, чтобы выполнить разрез. Потом я смотрела, как хирурги раздвигают мышцы и тщательно отделяют кровеносные сосуды и мочевой пузырь. Я стояла на небольшой металлической подставке, но мне все равно приходилось изо всех сил вытягивать шею, чтобы разглядеть происходящее из-за головы ассистирующего хирурга.
Вглядываясь в глубину брюшной полости, я не заметила, как откуда-то из-за моей спины возникла донорская почка. Я так и не поняла, откуда она взялась, и когда ассистент снова заслонил операционное поле, я дала волю воображению. Я пыталась представить историю человека, который лежал на операционном столе, и гадала, какая болезнь довела его до необходимости трансплантации. Думала я и о почке, которую вшили в его тело. Мне было интересно, кто отдал этому больному свой орган: друг, родственник, а может быть, случайный незнакомец, несколько часов назад погибший в дорожной аварии.
— Студенты-медики непременно должны это видеть, — услышала я слова одного из хирургов; фигуры в операционных халатах расступились, чтобы я смогла в подробностях видеть операцию. Я вернулась к реальности. «Как же круто!» — воскликнула я, когда хирурги вшили культю донорского мочеточника в стенку мочевого пузыря реципиента. Обычно студенты так оценивают филигранную работу хирургов, но на этот раз мой восторг относился к самому факту: только что человеческий орган извлекли из одного тела и прямо у меня на глазах пересадили в другое.
Вскоре после этого, в такое же темное зимнее утро, я видела забор органа у донора. Донор лежал на каталке в операционной. У этого человека была констатирована смерть головного мозга. Члены операционной бригады накрыли стерильной простыней его грудь и живот. Потом пришли хирурги. Они приехали из разных госпиталей, чтобы извлечь органы и отвезти их больным, ожидавшим своей очереди на трансплантацию. Я наблюдала, как хирурги вскрыли тело донора разрезом от грудины до лонного сочленения, выделили и пережали сосуды, по которым циркулировала дающая жизнь кровь, и принялись быстро иссекать органы и извлекать их из тела. Завороженная, я смотрела, как на лед по очереди легли сердце, легкие, печень и почки.
В операционной было холодно, и к моменту, когда хирурги зашили разрез и ушли, тело донора было пустым. Я поколебалась в нерешительности, а потом осталась в операционной, где координаторы донорских органов решали, куда пойти перекусить — в итальянский ресторан или в кафе, где подавали фалафель. Они остановились на первом варианте и ушли, а я, дрожа от волнения, осталась в операционной наедине с выпотрошенным телом.
Тогда, а потом намного позже, но более отчетливо, я поняла, что именно вызвало у меня такой трепет. Это было не что иное, как благоговение. Какая-то часть меня навеки сохранит любовь к театральности всего этого действа, к хирургам, поворачивающимся спиной к операционным санитаркам, которые завязывают им халаты, к человеку в ковбойских ботинках, который подбирал для бригады подходящую музыку, колдуя с магнитофоном. В тот день в операционной звучал классический рок. Но больше всего меня поразило не это, а значимость того, что сейчас произошло и вскоре произойдет в других больницах. Мне хотелось понять, что происходит, когда какой-то орган переходит от одного хозяина к другому, связывая судьбы двух незнакомых, чужих друг другу людей. Мне хотелось больше узнать о тех странных отношениях, которые через почки, печень и группы крови связывают воедино болезнь, крайнюю нужду и невероятный альтруизм. Хирургическая техника операции была отточена до совершенства и потому красива, но, когда я в одиночестве стояла в холодной и пустой операционной, да и потом, много лет спустя, занимало меня иное.
В День Колумба[8] 2011 года, когда я, окончив университет, стала интерном, Эдди Беатрис пришел на прием к врачу в местную больницу. Эдди в то время было около 50 лет, он был счастливо женат и жил в пригороде Бостона с женой, сыном и дочерью. Дела Эдди шли хорошо. Незадолго до визита к врачу он решил начать новое дело — заняться интернет-продажами. Он регулярно тренировался, ходил в походы и был не по возрасту стройным и крепким. К врачу Эдди пришел с жалобами на боль в плече, которая в последнее время значительно усилилась и стала беспокоить его не только при нагрузках, но и в покое. Врач объяснил, что это следствие долгих лет занятий софтболом и хоккеем, и Эдди понадобится операция на вращательной манжете плеча. Конечно, мало приятного, но будущее было вполне определенным: операция осенью, зимой восстановление и отдых, а весной снова командные игры с друзьями.
Хирургическое вмешательство прошло благополучно, и Эдди почти сразу вернулся домой. Однако все выходные он мучился от острой боли в плече. Эдди решил потерпеть, но в понедельник к симптомам присоединились тошнота и рвота, и стало очевидно, что это не банальная послеоперационная боль. Эдди сначала не говорил об этом жене, чтобы не тревожить ее, но на следующее утро он чувствовал такую слабость, что не мог встать с постели. Его жена, оператор-лаборант в кабинете МРТ, уже ушла на работу. Дочь собралась в школу и, уходя, крикнула с первого этажа: «Папа, я пошла. Как ты себя чувствуешь?» «Плохо», — мысленно ответил Эдди. Не просто плохо, а очень плохо. Но волновать дочку он не собирался и сказал, чтобы она шла в школу, но попросил позвонить матери. Вернувшись, жена обнаружила Эдди бледным, потным и трясущимся от озноба. Она помогла ему сесть в машину и повезла в отделение скорой помощи местной клиники. Там Эдди потерял сознание.
В крови Эдди бесчинствовали бактерии. Сосуды расширились, и артериальное давление рухнуло почти до нуля. Врачи ввели Эдди лекарства, стимулирующие работу сердца, чтобы поднять давление до уровня, достаточного для снабжения кровью мозга и других жизненно важных органов. Решив, что причиной падения давления стали тошнота и рвота, возникшие вследствие какой-то проблемы в брюшной полости, хирурги привезли в операционную и вскрыли живот. Однако очага инфекции врачи не обнаружили, и больного отправили обратно в отделение интенсивной терапии.
Шли дни, состояние Эдди не улучшалось. В больницу пригласили священника для последнего причастия и исповеди, в палату пришли дети, чтобы попрощаться с отцом. Но жена Эдди и его сестра решили сделать все, что в их силах, — и первым делом перевели Эдди из загородной больницы в Бостон, в «лучшую в мире больницу».
Даже там врачам не сразу удалось определить, какая инфекция поразила больного изначально, но артериальное давление медленно стабилизировалось и пришло в норму. Эдди начал самостоятельно дышать. Он выжил. Когда туман в голове рассеялся и Эдди начал адекватно воспринимать окружающее, оказалось, что теперь его раз в два дня возят на лифте на другой этаж, в отделение, где ему и группе пациентов делали гемодиализ. Сначала он не вполне понимал, что происходит, но потом врач объяснил Эдди, что у него отказали почки. Эдди подумал, что это со временем пройдет, не стал задавать дополнительных вопросов и предоставил докторам инициативу и свободу действий.
Врачи надеялись, что почки поражены временно в результате инфекции и септического шока и если больному дать достаточно времени на выздоровление, то функция почек постепенно восстановится. Почки — очень чувствительные органы, и, когда артериальное давление сильно снижается, иногда они повреждаются первыми. Когда Эдди впервые помочился сам, врачи воодушевились: «Это добрый знак, Эдди, это добрый знак», — сказал лечащий врач.
Эдди передал эти слова жене и детям. Но улучшение было обманчивым, почки Эдди оказались поражены слишком сильно и не справлялись со своей задачей — очищением организма от вредных шлаков. К концу декабря врачи пришли к окончательному решению: функция почек у него не восстановится никогда. Эдди не хотел в это верить, и гемодиализ ему по-прежнему делали через временные катетеры, так как он отказался от операции по созданию специальной фистулы, которая напрямую связала бы артерию и вену. Через фистулу обычно проводят пожизненный гемодиализ. Однако, несмотря на упрямство Эдди, его надежды потерпели крах, функция почек не восстановилась. Пришлось смириться с беспощадной реальностью: его почки никогда больше не заработают.
Эдди вернулся домой после трехмесячного пребывания в больницах, похудев на десять килограммов. Пришлось распрощаться с мечтами о софтболе и новом бизнесе: сил едва хватало на ожидание очередного сеанса гемодиализа. Когда жена Эдди снова вышла на работу, на процедуру его по очереди возили друзья. В отделении гемодиализа Эдди попадал в какую-то альтернативную реальность, где длинная и скучная процедура перемежалась короткими приступами страха. Многим кажется, что диализ — это сидение у аппарата и пассивное ожидание окончания процедуры. Отчасти это так, но иногда кровь начинала со слишком большой скоростью поступать в аппарат искусственной почки, и тогда артериальное давление падало, Эдди терял сознание и его везли в отделение скорой помощи. Иногда резко повышалась температура, и Эдди начинал бить сильнейший озноб. Правда, чаще процедура проходила спокойно, можно было смотреть телевизор или дремать.
Эдди открытый и дружелюбный человек, и мне кажется, что он оставался таким и во время болезни. Он познакомился с людьми, которые проходили гемодиализ одновременно с ним. Большинство были старше его и находились на диализе дольше. Эдди тогда поразила одна мысль: диализ стал для этих людей неотъемлемой частью жизни, они смирились с ним, ведь без него им не выжить. Иногда кто-то из пациентов исчезал, а позже Эдди узнавал, что тот умер. Человек мог появиться на сеансе диализа, а в следующий раз его уже не было. Эдди понимал, что и его ждет такая же судьба. Он представлял себе, что умрет, а люди, которые в назначенный день приедут на гемодиализ, будут недоумевать: «Куда пропал Эдди?» Потом его место займет другой пациент, и мало-помалу все о нем забудут, как забывали о других, и память о нем канет в небытие.
Но Эдди было всего 50 лет. Как только он достаточно окреп, врачи внесли его имя в список пациентов, ожидающих очереди на пересадку почки. Его имя присоединилось к именам 80 тысяч мужчин и женщин. Одни были старше, другие младше его, кто-то был болен серьезнее, кто-то легче, но все эти люди надеялись однажды получить почку умершего человека. Время ожидания варьируется в разных штатах; в Бостоне этот срок составлял в среднем пять лет, а иногда и больше. Эдди оценил отпущенное ему время и то, каким оно будет: четыре часа диализа три раза в неделю. Недели складывались в месяцы, месяцы в годы. С учетом всех возможных осложнений и при ожидаемой продолжительности жизни на гемодиализе — от пяти до восьми лет — Эдди мог просто не дожить до пересадки.
Позитивное отношение к жизни всегда было главной чертой его характера, и с самого начала госпитализации Эдди твердо решил преодолеть все трудности. Он хотел показать детям, что умеет противостоять беде и не опускает руки. Он хотел воодушевить их, подать пример. Теперь сама мысль о долгом ожидании и понимание, что за это время его может настигнуть смерть, потрясла его. Но он позволял себе проявить слабость и даже плакать, только когда оставался один и его не могли увидеть ни жена, ни дети.
Врачи подсказали Эдди, что он может попросить друзей или родственников пожертвовать ему почку. Это, конечно, был бы отличный вариант для Эдди. К тому же почки от живых доноров функционируют лучше, чем органы, взятые у трупа. Если бы Эдди удалось найти человека, согласившегося отдать ему одну почку, то ему не пришлось бы ждать своей очереди по списку. И единственным человеком, который мог все это организовать, был сам Эдди. Он всю жизнь занимался продажами, и его общительность и харизма делали его успешным предпринимателем. Но Эдди не представлял себе, как вообще можно просить человека согласиться на операцию по удалению почки, чтобы пожертвовать здоровый орган, и сама мысль об этом была ему противна. Он ни о чем и не просил. Он продолжал ждать. Ездил на гемодиализ, раскладывал пасьянс или дремал во время процедуры, а затем возвращался домой. Вызов на операцию не приходил.
Время шло. Наверное, жизнь Эдди будет такой до самой смерти. Оставалось только надеяться, что в конце концов он дождется пересадки, и молиться, чтобы это случилось скорее. А пока он смирился с реальностью, как и большинство тех, с кем он познакомился в центре диализа, и даже находил какие-то плюсы. Он стал подумывать о работе, несмотря на связанные с его состоянием ограничения, чтобы помочь семье. Но в первый день нового, 2013 года Эдди проснулся и понял: что-то изменилось. Он прекрасно себя чувствовал, настроение было боевое, и Эдди решил действовать. Он отправился в гостиную, сел за компьютер и принял решение. «В этом году у меня будет новая почка», — пообещал он себе.
В тот момент у него не было плана. Он просто сделал то, что сделал бы на его месте любой хорошо знакомый с компьютером человек: он открыл Google, поставил курсор в поисковую строку, набрал слова «пересадка почек» и принялся читать о пересадке почек и о донорстве органов. В конце концов он нашел в «Фейсбуке» страницу некоммерческой организации «Сеть доноров живых почек». Там он и наткнулся на поразительное послание.
Всего за несколько часов до этого женщина, жившая на другом конце США, в Калифорнии, смотрела по телевизору парад роз[9]. Тогда Келли Райт и увидела членов организации Donate Life[10]. Мужчины и женщины, стоявшие на проезжавшей платформе, воздавали должное родственникам, которые завещали свои органы для пересадки нуждающимся. Келли смотрела на этих людей и вдруг подумала, что незачем ждать собственной смерти для того, чтобы подарить кому-то один из парных органов.
Келли было тогда 44 года, она воспитывала двоих детей. Мысль о том, чтобы отдать почку, возникла у нее еще раньше, когда у ребенка подруги из-за врожденной болезни развилась почечная недостаточность. Она была готова пожертвовать свой орган, но ребенок быстро дождался очереди на пересадку. Когда Келли узнала, что ее почка уже не нужна, она ощутила не облегчение, а некоторое разочарование, и идея о том, что она может стать донором, прочно засела в ее мозгу. Новогодняя телепрограмма вновь пробудила желание сделать доброе дело. Келли тоже села за компьютер, нашла страницу организации «Сеть доноров живых почек» и отправила туда сообщение.
Она написала: «Я немного боюсь, но мне очень хочется подарить кому-нибудь жизнь!»
Вот оно! Кто-то оказался готов отдать свою почку нуждающемуся. На другом конце страны сидевший в гостиной своего дома в пригороде Бостона Эдди прочел послание Келли. Он начал поиски всего полтора часа назад и засомневался. Он снова прочитал сообщение. «Так это и делается? — думал он. — Я новичок. Надо ответить? Какие тут правила?»
Оставив мысли о правилах и возможных протоколах, Эдди подумал, что если не ответит он, то ответит кто-то другой. До этого он и представить не мог, что совершенно чужой, незнакомый человек может предложить ему свою почку. Невероятно! И чем дольше он думал, тем более привлекательной казалась ему эта идея. Даже если найдется друг или родственник, готовый отдать ему почку, Эдди будет все время жить, зная, что он обрек кого-то на риск операции. А незнакомка сама была готова это сделать. Он не знал почему, но какая разница? Если она изъявила желание стать донором почки, то что мешает ему стать ее реципиентом? Он начал писать ответ, боясь, что за это время может упустить свой шанс. Он не знал, как тут принято, и решил ответить так, чтобы заинтересовать потенциального донора, но не переборщить и не напугать ее.
«Вы очень храбрый и щедрый человек. Мне 51 год, я мужчина, живу в городке Норт-Ридинг, штат Массачусетс. Я женат 22 года, у нас двое детей, они учатся в колледже. У меня терминальная стадия почечной недостаточности, которая требует четырехчасового диализа трижды в неделю. У меня вторая группа крови, резус положительный. Я с величайшей радостью стал бы реципиентом вашей почки. Пожалуйста, напишите, если захотите рассмотреть меня в качестве кандидата, чтобы мы могли поговорить более обстоятельно.
С глубоким уважением,
Эдди»
Отправив письмо, он попытался утихомирить охватившее его волнение. «Я сказал себе: "Какова вероятность, что это сработает?"» Он продолжил поиск. Эдди создал отдельную страницу в «Фейсбуке» и сайт, где изложил свою историю, начиная с операции на плече, инфекции и септического шока до почечной недостаточности. Сайт он назвал «Кампания по пересадке почки Эдди». Он написал свою краткую биографию, а также поместил несколько фотографий — себя и своей семьи, представив себя таким, каким и был в жизни.
И тут раздалось уведомление о сообщении. Это был ответ от калифорнийской незнакомки.
«Привет, Эдди. Думаю, я универсальный донор. Конечно, если смогу, я помогу Вам!»
Вдали от трансплантационных клиник и врачебных кабинетов все больше мужчин и женщин ищут доноров в интернете. Это не черный рынок органов, хотя подпольные площадки купли-продажи органов действительно существуют. Нет ничего противозаконного в поиске сочувствующих в социальных сетях, как и в надежде победить в соревновании за щедрость донора, хотя, наверное, с точки зрения морали это и небезупречно. Некоторые хирурги, смущенные способом, каким формируются такие отношения, отказываются оперировать членов пар донор–реципиент, возникших в результате общения в интернете. Тем не менее я сама видела такие объявления в городских кафе и в нашем больничном кафетерии. Совсем недавно, добавляя сахар в чашку кофе, я увидела самодельное объявление с фотографией большой семьи и текстом: «Любящему отцу и дедушке нужна почка. Пожалуйста, позвоните».
Откройте «Фейсбук», и вы найдете множество таких объявлений, не выходя из собственной спальни. Перед вами пройдет вереница дочерей, мужей, дядюшек, невест — как на каком-то причудливом сайте знакомств. Все объявления сопровождаются фотографиями любящей семьи, собак и маленьких детей и проникнуты то надеждой, то мольбой. Каждый раз, просматривая эти объявления, я задаюсь вопросами: «А если бы мне предстояло выбирать? Кого бы я предпочла и почему?» Некоторые страницы и объявления нравятся мне больше других — такие, где достаточно текста, но не слишком много. Я выбираю хорошие фотографии и грамотный текст — именно на эти критерии я ориентируюсь, совершая оценку, например, на сайтах знакомств. В данном случае я схожим образом ищу истории, которые трогают меня в наибольшей степени. Пожалуй, я отдала бы почку матери восьмилетнего мальчика, отец которого бросил ее, когда она заболела. Или я могла бы помочь обычной двадцатилетней девушке, которая собиралась стать юристом до того, как попала на гемодиализ. А может, я выбрала бы регента церковного хора? Или этого мужчину, ровесника моего отца, с теплой улыбкой, который «славится своей щедростью и любим за добрый нрав». Возможно, следует предпочесть отца пятерых детей, который всю жизнь посвятил помощи ветеранам войн? В таком духе можно продолжать до бесконечности. Потребность в органах для трансплантации очень велика, прочитать весь список просто невозможно. Я пыталась вообразить, что выбираю среди возможных реципиентов, но у меня ничего не вышло.
Келли оказалась совершенно другим человеком. Она не колебалась. История Эдди не была самой трагичной из всех возможных, но Келли и не искала душераздирающих историй. Ее мотивы были гораздо проще: Эдди нужна почка, а она была готова отдать свою. Не требовалось никаких оправданий тому, что она посчитала правильным отдать свою почку именно этому человеку; Келли просто знала, что им надо встретиться. Она верит в предопределение и считает, что все идет так, как должно.
Она не из тех людей, кто меняет свои решения на полпути. Она не отказалась от своего намерения, даже когда отец пытался отговорить ее. Но Эдди пока этого не знал и был огражден от лишних переживаний. Он сосредоточился на своем новом сайте. На заставку он поставил фотографию с выпускного вечера своей дочери. Там он был изображен с женой и двумя детьми. Он стоял, гордо глядя в объектив, в белой рубашке и клетчатом пиджаке. Никаких предложений на сайт не поступало, но Эдди не стал его удалять. Он и так слишком переживал, возложив надежды на незнакомку, которая, возможно, даже не подойдет в доноры. Кроме того, даже если бы она получила добро от врачей на донорство почки, она могла передумать в любой момент до того, как ее введут в наркоз и хирург сделает первый разрез. И Эдди не стал бы ее осуждать.
До сих пор ему не приходилось встречать людей, похожих на Келли. Он прямо спросил, почему она хочет отдать ему свою почку. Она рассказала, как приняла решение, когда смотрела парад роз, сидя перед телевизором в первый день нового года. Это была чистая правда, Келли не собиралась пугать Эдди, но он встревожился еще сильнее. Келли так быстро приняла решение — кто знает, не передумает ли она столь же скоропалительно? Эдди готовил себя к разочарованию, а его двоюродный брат тем временем начал проходить медицинское обследование как потенциальный донор.
Но Келли не исчезла. Она не собиралась отступать, прикрываясь какими-то отговорками. Она часто писала Эдди, иногда по десять сообщений подряд, оповещения о которых то и дело вспыхивали на экране его телефона. Эдди, который никогда не любил ни говорить, ни переписываться по телефону, всегда быстро отвечал Келли. Он все больше сближался с незнакомкой, готовой ради него пожертвовать почкой, и в конце концов проникся осторожным оптимизмом. Когда Келли написала, что планирует приехать в Бостон в конце февраля, чтобы пройти предварительное медицинское обследование, Эдди с женой предложили ей остановиться в их доме. Это было меньшее, что он мог сделать. Он запланировал вечеринку для Келли, зарезервировав зал в своем любимом ресторане в пригороде Бостона. Десятки людей пришли познакомиться с женщиной, которая, возможно, вернет прежнюю жизнь их другу и родственнику. Когда они выстраивались в очередь, чтобы выразить благодарность и восхищение или пожелать удачи, Келли почувствовала себя какой-то знаменитостью. «Я была ошеломлена. Никогда в жизни на меня не выливалось сразу столько любви», — рассказывала она мне.
Ее друзья и родные тем временем испытывали смешанные чувства. Некоторые говорили, что это глупо — жертвовать собственным здоровьем ради того, чтобы отдать почку чужому человеку. Что, если эта почка когда-нибудь потребуется ее собственному ребенку? Что тогда? Но Келли стояла на своем, и никакие предостережения не могли ее разубедить. «Нельзя жить по принципу "что, если", иначе никто не будет способен сделать хоть что-то, — говорила она. — Что, если я погибну, переходя улицу? В жизни всегда много риска».
Келли решила, что пересадка должна состояться как можно быстрее. Она подошла на роль донора, была достаточно здорова для удаления почки и не видела никакого смысла ждать. Эдди сомневался, не следует ли попросить ее замедлиться и еще раз хорошенько подумать, но, насколько он мог судить, Келли была целиком и полностью «за». Она проявляла даже больше энтузиазма, чем сам будущий реципиент. Операция была назначена на апрель, спустя месяц после утверждения Келли в качестве донора почки для Эдди Беатриса.
Когда подошел срок операции, Келли прилетела с другого конца Америки, на этот раз с мужем и матерью. Дом Эдди не слишком большой, и всей семье Райт пришлось поместиться в спальне дочери Эдди. Эти несколько дней перед трансплантацией были довольно напряженными. Две семьи, по существу, были совершенно незнакомы, но оказались вместе, под одной крышей, объединенные нуждой и альтруизмом, одним органом и двумя предстоящими хирургическими вмешательствами.
В сравнении со всеми приготовлениями, медицинскими обследованиями, перелетами, переговорами и переписками, день трансплантации казался совершенно заурядным. Для Эдди и Келли самые сложные переговоры и подготовка к трансплантации не имели, как выяснилось, ничего общего с самой процедурой. Келли отвезли в операционную первой, потом настала очередь Эдди. Я попросила Келли описать впечатление от операции, и она остановилась на полуслове. «Собственно, мне нечего сказать, потому что я ничего не почувствовала». Келли пришла в себя после операции очень быстро, а уже через несколько дней гуляла по Бостону, осматривая достопримечательности.
Для нее самая трудная часть наступила позже, когда она вернулась домой, в Калифорнию. Было столько суеты, приготовлений и планов, столько волнений, а теперь все казалось до странности обыденным. Келли была неприятно удивлена тем, что после операции практически прекратились ее контакты с Эдди. До операции они много общались, говорили по телефону, писали по десятку сообщений в день. Конечно, дома она была сильно занята, так как приходилось наверстывать все дела за время отсутствия. И все же ей хотелось бы, чтобы Эдди проявлял больше инициативы в поддержании их отношений. «Поначалу меня задевало и расстраивало, когда Эдди подолгу не давал о себе знать. Было обидно», — призналась мне Келли.
Дело не в том, что ей не хватало общения. У нее заботливый любящий муж и двое детей, сложная и интересная работа ветеринара. Келли специализируется на лечении кошек. После трансплантации она начала заботиться о больном бездомном в свободное от многочисленных обязанностей время. Келли летала в Бостон отдать свою почку, не прося ничего взамен. Но когда все закончилось и она вернулась домой, оказалось, что все-таки у нее были определенные ожидания. Теперь ее почка живет в теле Эдди. Делает ли этот факт их друзьями или, быть может, даже в какой-то степени родственниками? Могут ли они вместе проводить отпуск или хотя бы созваниваться время от времени? Или это ничего не значит, кроме того, что Келли совершила нечто экстраординарное, а Эдди в результате просто повезло — и все?
Что касается Эдди, то он часто думает о Келли и испытывает бесконечную благодарность, которую не в состоянии выразить словами. Она дала ему возможность не просто обходиться без гемодиализа, а вернуться к полноценной жизни. Надо сказать, это очень насыщенная жизнь, с двумя детьми и женой и с массой обязанностей на новой работе — региональный управляющий в компании промышленного снабжения. Это должно ее успокоить.
Кроме того, Эдди не исчез из жизни Келли. Через несколько месяцев после операции он пригласил ее в Бостон, чтобы вместе принять участие в благотворительной прогулке по сбору средств на исследования в области заболеваний почек. Келли снова остановилась в доме Эдди, и во время пешеходной акции все члены его семьи надели футболки с надписью «Герои Келли». Они сфотографировались все вместе, в обнимку, широко улыбаясь. Это день оставил чудесные воспоминания.
Келли отдала Эдди свой орган. Она сделала это вовсе не для того, чтобы обзавестись другом или новым членом семьи, и, хотя она чувствовала себя немного обиженной, она это понимает. «Донорство не должно сопровождаться подобными ожиданиями», — напоминала себе Келли. Она нисколько не жалеет о принятом решении и без колебаний пожертвовала бы почкой еще раз, если бы это было возможно.
Нотка разочарования в природе ее отношений с Эдди пока остается, но стала слабее с тех пор, как их жизни вошли в обычную колею. Эдди называет Келли «маленькой сестричкой», хотя тут же с улыбкой добавляет, что с родными сестрами, он, бывает, не общается месяцами. Они с Келли время от времени созваниваются, справляются о делах друг друга, поздравляют с днями рождения и праздниками. Они всегда будут связаны между собой. Эдди называет свою почку «она», как одушевленный предмет, часто задумывается о возможности отторжения, ежедневно принимает все назначенные лекарства, чтобы его организм принимал почку Келли как свою как можно дольше.
После трансплантации прошло несколько лет, но Эдди до сих пор получает письма от больных из очереди на пересадку. Они спрашивают, как можно получить почку, минуя ожидание. Эдди старается отвечать на все письма. Он считает это своим долгом и ответственно к нему относится, потому что знает, что эти люди не получат ответов в кабинете врача. Он делится с ними тем, что узнал о человеческих надеждах и страхах, которыми вымощен путь в операционную. За кулисами все выглядит намного сложнее, чем я могла представить раньше. «Начиная кампанию по поиску почки, надо вести себя напористо и решительно, как при поиске работы. Надо рассылать свои "резюме" по самым разным адресам», — инструктирует Эдди. Следует выбрать правильный стиль подачи себя в Сети. Важна общая тональность, и текста не должно быть слишком много. Надо сохранять позитивное отношение к жизни и ни в коем случае нельзя жаловаться и роптать на судьбу. Это ключевой момент. Например, вполне реалистично было бы написать в «Фейсбуке»: «Эх, снова четыре часа на диализе». Но Эдди обязательно добавил что-то более оптимистичное, чтобы не распугать всех читателей. Например: «Конечно, это куда лучше, чем альтернатива».
Самый важный совет, который Эдди может дать относительно поиска донорского органа? Один урок, который он усвоил, работая в сфере продаж. И это не имеет ничего общего с тем, чему меня учили на медицинском факультете годы назад. «На самом деле ключ в нетворкинге, создании сети знакомств, — подытожил Эдди, прежде чем мы допили кофе и он отправился на прием к врачу. — Выстраивайте связи с людьми».
8 Нежданное тридцатилетие
Девочка-подросток переминалась с ноги на ногу, ожидая своей очереди у двери кабинета. Меган Кайли посещала врача раз в три месяца с тех пор, как помнила себя. Когда она была маленькая, эти визиты приносили радость. Врач слушал легкие, нажимал на животик и пользовался яркой маленькой лампочкой, когда заглядывал ей в глаза или в уши. Но кроме этого, доктор спрашивал о том, что нового она узнала в школе или кем хочет быть, когда вырастет. Педиатр пророчил Меган, что когда-нибудь она станет большим начальником, и говорил о ее будущем так убедительно, что она безоговорочно ему верила.
Келли была уверена, что все дети регулярно ходят к врачу, как она, — потому что такой была ее реальность, а родители хотели защитить ее от ненужных страхов и волнений. Ей приходилось каждый день вместе с едой принимать лекарства, но таблетки пила и ее лучшая подруга, которая страдала непереносимостью лактозы. Девочка не чувствовала себя больной или хрупкой. Она не знала, что отец просиживал ночи возле ее кроватки, боясь, что дочка в какой-то момент перестанет дышать. Меган играла в волейбол, ходила в балетную студию, а летом ездила в лагерь.
Когда ей исполнилось 15, Меган уже знала, что страдает муковисцидозом — невидимой болезнью, которая будет требовать от нее неустанного внимания до конца жизни. Она знала, что ее мама, которая ходила с ней на все приемы к врачу, собрала папку с рецептами, заметками врачей и страховыми документами — всем тем, с чем скоро ей придется иметь дело самой. Меган знала: чтобы оставаться здоровой, ей надо аккуратно принимать лекарства и регулярно заниматься лечебной физкультурой, изо дня в день, из года в год. Однажды в знак какого-то юношеского протеста Меган не стала утром пить таблетки, которые возмещали недостаток ферментов поджелудочной железы.
Боль в животе была поистине страшной. Меган поклялась себе, что никогда больше не станет нарушать лечебный режим. Но ей еще предстояло признаться в своем проступке. Ее лечащий врач отсутствовал, его заменял коллега, который должен был разобраться с тем, что произошло.
Дверь открылась. Обычно ее педиатр, как бы загружен ни был, входил в кабинет с теплой улыбкой и шуткой наготове. Этот доктор, наоборот, был серьезен, по-деловому сух и даже казался немного черствым. Он осмотрел Меган — приложил фонендоскоп к груди, пощупал живот. Все шло как обычно. Но когда прием подходил к концу, случилось нечто неожиданное. Доктор взял лист бумаги и ручку и нарисовал простые координаты. Меган смотрела, не понимая, к чему ведет врач. По одной оси он отложил время, а по второй — скорость ухудшения легочной функции. Потом он построил график зависимости функции легких от прожитых лет. Врач отметил точкой состояние в 15 лет, а затем провел линию дальше, до точки, соответствующей 30-летию. В этом возрасте, сказал ей врач, легкие окончательно откажут. Это конечный срок. Врач обвел жирным кружком поставленную им точку. Удивление девочки быстро переросло в ярость. Меган знала, что болеет муковисцидозом, но никто и никогда не говорил ей о смерти. Время, которое казалось ей бесконечным, вдруг съежилось до размеров этой точки. Меган побагровела от злости, ее гнев был сильнее страха.
В тот день она поклялась себе, что в день, когда ей исполнится 30 лет, она отметит победу с таким размахом, какой только могла вообразить девочка-тинейджер. Это будет грандиозная вечеринка. Она пригласит всех врачей, медсестер и друзей и покажет им, что осталась жива, жива, несмотря ни на что.
Меган Кайли родилась на год раньше меня, в 1980 году. Возможно, из-за того, что мы ровесницы, я попыталась воссоздать рассказанную ей историю о том достопамятном приеме, добавив выдуманные подробности — я попыталась представить на ее месте себя пятнадцатилетнюю. Но моя тогдашняя реальность настолько отличалась от реальности Меган, что глупо и пытаться вообразить свою реакцию. Я провела большую часть юности за учебой, готовясь к будущему, которое было далеким и неясным. Точка, поставленная на 30-летнем рубеже, для меня означала момент, когда жизнь только по-настоящему начнется — я начну зарабатывать деньги, обеспечу себя, возможно, создам семью. Если бы кто-то тогда сказал, что в 30 лет я умру, наверное, я все равно бы пошла в колледж, если бы позволяло состояние здоровья. Но, хотя нельзя сказать с уверенностью, я бы не пошла в университет, чтобы, откладывая взрослую жизнь, провести еще несколько лет на студенческой скамье в надежде стать доктором. А может быть, я бы все равно поступила. Может быть, меня побудил бы к дальнейшей учебе прогресс медицины: ведь раньше дети, больные муковисцидозом, не доживали даже до подросткового возраста, а я-то была жива! Я была бы достаточно оптимистична и безрассудна, чтобы поставить на такое будущее.
Меган знала, что пойдет в колледж. Это даже не обсуждалось. Отец хотел, чтобы она училась в их городе и могла остаться жить дома, но Меган мечтала вкусить настоящей студенческой жизни в кампусе. Для нее было важно уехать из родного дома, а еще — не упоминать о своем заболевании в заявлении о приеме в учебное заведение. Но муковисцидоз от этого никуда не делся и вместе с Меган приехал в общежитие Провиденс-колледжа, расположенного в 40 минутах езды от дома. И ей приходилось иметь с ним дело, когда она пыталась построить свою самостоятельную жизнь. Физиотерапевт приходил к Меган пять раз в неделю и отстукивал ей грудную клетку, чтобы она могла отхаркивать накопившуюся в дыхательных путях густую мокроту. Когда подруги спрашивали, не мама ли приезжает к ней почти каждый день, Меган кивала. Ей было легче признаться в частых посещениях нервничающей матери, чем в своей болезни.
Время — очень странная штука. Меган не знала, что думать о приближавшемся двадцатом дне рождения. Если верить графику, который когда-то нарисовал врач, то она вступала в последнее десятилетие своей жизни и времени ей было отпущено очень мало. Но в промежутках между нечастыми госпитализациями, капельницами и курсами антибиотиков ее жизнь практически не отличалась от жизни ее ровесниц — она была обычной девушкой, стоявшей на пороге зрелости. Возможно, поскольку родители никогда не обращались с ней, как с тяжелобольной, или потому, что педиатр всегда побуждал ее смотреть в будущее без страха, или просто благодаря упорному и упрямому характеру, Меган решила двигаться вперед. Другого выбора она просто не видела. Она окончила колледж, запланировала дальнейшее обучение в университете и отправилась в Нью-Йорк, где у нее не было ни одной знакомой души. Людей, с которыми она могла бы вместе снимать жилье, она нашла на «Крейгслисте»[11], как и квартиру на Лонг-Айленде. Семья и знакомые врачи были теперь так далеко, что Меган порой казалось, она переселилась на другую планету.
Тем не менее оказалось, что Меган способна глядеть вперед. Она поразила меня способностью к планированию — Меган из тех, кто начинал откладывать на первоначальный взнос на дом уже в 20 лет. Только она не копила деньги. Сэкономленные деньги Меган тратила на путешествия. В конце концов, думала она, какой смысл откладывать деньги на будущее, если она, скорее всего, не сможет ими воспользоваться? Она встречалась с мужчинами, но никогда не завязывала отношений с серьезными молодыми людьми, которые рассчитывали на долгие отношения и брак. Она всегда любила находиться среди детей. Будучи уверена, что ей не суждена долгая жизнь, она не думала о материнстве и надеялась, что ей удастся удовлетворить материнский инстинкт, работая преподавателем в колледже или помогая другим людям воспитывать их детей. Время шло, и через 15 лет после того, как врач наметил финальную точку в ее жизни, Меган занялась планированием своего тридцатого дня рождения.
Все происходило так, как она задумала в тот далекий день. Праздник был организован на лужайке родительского дома на полуострове Кейп-Код. Мать Меган умерла за несколько лет до этого от рака молочной железы, но на дне рождения был отец, как и друзья, и родственники, и даже многие врачи и медсестры, принимавшие участие в судьбе Меган. Она выбрала цветовую тему: ярко-розовый и зеленый. Диджей ставил музыку, были организованы танцы, официант разносил еду. После ужина автобус для вечеринок отвез компанию в бар, где они продолжали веселилиться до утра. Для Меган, которая смирилась с тем, что никогда не выйдет замуж, этот вечер стал эквивалентом свадьбы. Все прошло идеально. Но, проснувшись на следующий день, и еще через день, чувствуя себя вполне здоровой, она вдруг задала себе странный вопрос: «И что теперь?»
Сколько еще продлится эта отсрочка? Такая неопределенность могла бы напугать кого угодно. Одна болеющая муковисцидозом женщина, когда приближался ее сороковой день рождения, сказала, что в детстве была убеждена, что не переживет своей юности. Такой и была перспектива больных муковисцидозом в те далекие годы. Эта женщина всегда жила сегодняшним днем и не задавалась вопросом, как, собственно, должна выглядеть взрослая жизнь. Она никогда не работала. Она не задумывалась о своей старости, да она даже не надеялась пережить дедушек и бабушек. Но благодаря новым лекарствам и контролю инфекций она дожила до зрелого возраста и сильно растерялась.
Другой человек вскоре после тридцатилетия начал принимать новое лекарство, которое устраняет генетический дефект, определяющий симптомы муковисцидоза. Ему невероятно повезло. У него оказалась как раз та мутация, при которой действует новое лекарство. Этот человек женился, у них с женой родились дети. Но каждый день, принимая таблетку, этот мужчина испытывал страх, что лекарство перестанет работать. Он словно бы ждал того момента, когда исполнятся старые пророчества врача и он умрет.
Одна молодая женщина рассказывала, что переломный момент для нее наступил, когда она приняла решение пользоваться солнцезащитными кремами. Правда, она все еще не была уверена, что ей суждено долго жить, но осознала, что, видимо, проживет достаточно долго, чтобы пострадать от негативных последствий воздействия ультрафиолета. Когда ожидаемая продолжительность жизни изменяется, у человека могут возникнуть трудности с планированием будущего. Такой больной начинает балансировать на грани между тревогой и сдержанным оптимизмом.
Был вечер понедельника. Я приехала в Норт-Эттлборо, городок к югу от Бостона, в гости к Меган, которая живет с мужем Майлсом и чихуа-хуа. Когда Меган открыла дверь, я обратила внимание на ее гладкую кожу, тонкие черты лица и аккуратно подстриженные в каре каштановые волосы. Я никогда бы не подумала, что эта красивая, ухоженная женщина страдает муковисцидозом. До прихода инструктора по лечебной физкультуре оставалось еще несколько минут, и у нас было время осмотреть дом, недавно купленный Меган и Майлсом. Гостиная словно сошла со страницы глянцевого журнала — уютная, но не загроможденная мебелью. Цветовые решения радовали глаз, а на стене висела меловая доска с крупной надписью: «Есть только два варианта: идти вперед или искать оправдания». Спальня, ванная, гостиная и кухня находились на одном уровне — это был критерий выбора дома. Когда Меган будет трудно ходить, ей не придется взбираться по ступенькам.
Она не знает, когда настанет это время, но делает все возможное, чтобы это случилось как можно позже. В детстве ей приходилось принимать несколько таблеток в день. С каждым следующим десятилетием лекарственная нагрузка возрастала, и иногда Меган кажется, что вся ее жизнь заключается в борьбе с болезнью. О такой жизни тяжело даже думать. Например, в том месяце, когда я побывала в гостях у Меган, лечебный режим предусматривал получасовые ингаляции с антибиотиком два раза в день, утром и вечером. Чтобы не тратить время впустую, эти 60 минут Меган вяжет — недавно она как раз закончила шапку. В следующем месяце врач поменяет антибиотик, и число ингаляций возрастет до трех в день. Режимы чередуются давно, из месяца в месяц. Трехразовые ингаляции в какой-то степени легче, потому что каждый сеанс становится короче, но дневную ингаляцию приходится делать на работе, где не всегда удается найти укромное место без посторонних взглядов.
За прошедшие годы Меган пробовала и другие методы лечения. Врачи отменили использование небулайзера[12] с концентрированным раствором соли, когда у нее началось кровохарканье. Приходилось ей и надевать специальный виброжилет, который помогал очищать дыхательные пути. И, конечно же, Меган принимала и принимает таблетки — утром натощак и потом с каждым приемом пищи. Еще нужно иметь дело с массой документов — страховки, компенсации, субсидии. Несколько часов в неделю Меган проводит за заказом лекарств. Она старается добиться предварительного утверждения лечения страховой компанией — это помогает справляться с постоянной тревогой от взаимодействия со всей этой сложной системой. Она хорошо помнит папку с аккуратно подшитыми документами, за которыми следила ее мать, и ведет учет своего здоровья с той же аккуратностью и организованностью. Но и при максимальной оптимизации, сказала Меган, все это смахивает на вторую работу. «И все же это нормальная жизнь — нормальная для меня», — подчеркивает она, пока я конспектирую ее рассказ. Она добавляет, что никто, кроме мужа, не знает, какого труда все это требует.
Пришла Джен, физиотерапевт. Меган принесла несколько декоративных подушек и легла на диван, в то время как Джен устроилась на полу рядом. Сначала это было похоже на простой массаж. Сложенными лодочкой ладонями Джен принялась постукивать по грудной клетке Меган. Пока Джен работала, они беседовали и шутили, как друзья, встретившиеся в кафе. Майлс ушел в подвал, чтобы без помех посмотреть телевизор, следом убежала и собака. Атмосфера была настолько домашней и уютной, что я совсем расслабилась, сидя в удобном кресле в гостиной. Но, когда Джен закончила отстукивание одного легкого, Меган села и откашляла целую чашку густой мокроты, и стало очевидно, что это не легкий массаж, а серьезная медицинская процедура. Потом Меган сменила положение, и Джен начала простукивать второе легкое.
Вторжение медицины в повседневную жизнь Меган неизбежно, и со временем оно будет лишь возрастать. Когда Меган начала встречаться с Майлсом, она не сказала о своей болезни. Ей удалось скрыть даже наличие постоянного внутривенного катетера, и порой она уезжала от Майлса в два часа ночи, чтобы дома поставить очередную дозу антибиотика. Наконец, она собралась с духом и рассказала, что страдает муковисцидозом. Это произошло в баре, и Майлс, услышав ее откровение, лишь пожал плечами — так об этом вспоминает Меган. Впрочем, тогда Майлс мало слышал о муковисцидозе, как он сам мне сказал, и поэтому не особо понимал, как реагировать. Ему еще предстояло узнать больше об этой болезни.
Когда Майлс через несколько месяцев после знакомства заговорил о совместном будущем, Меган попросила его притормозить. Прежде чем строить планы такого рода, считала она, Майлс должен был осознать, с чем придется иметь дело. Ему нужно понять, что муковисцидоз — это нечто большее, чем коробка с таблетками, небулайзеры, лечебная физкультура и вибромассаж. Периодически Майлсу придется навещать ее в больнице. В первую зиму их знакомства Меган заболела и была госпитализирована, как это часто бывало, для внутривенного введения лекарств и активных ингаляций. Обычно ее помещали на один из верхних этажей с обшитыми деревянными панелями стенами и просторными палатами. Медицинские сестры и врачи давно стали хорошими знакомыми. Я посетила Меган в больнице во время одной такой госпитализации. Когда я приехала, Меган вводили в вену антибиотики, и мне пришлось надеть стерильную желтую спецодежду, шапочку, перчатки и бахилы. Сама Меган была в легинсах и безразмерной футболке с портретом Рут Бейдер Гинзбург[13]. Она шутливо пикировалась с отцом, который вдруг решил, что ей очень нужна целая гора кексов (разумеется, для посетителей, объяснял он).
Но той зимой, в первый год знакомства с Майлсом, Меган поместили в палате на другом этаже. Медсестра называла ее муковисцидозницей, и это раздражало. Меган волновалась, понимая, что Майлсу придется узнать, какова ее болезнь на самом деле, и она пыталась сгладить тяжелое впечатление шутками, подчас довольно неуклюжими. Например, однажды, когда он сел на край ее кровати, она вскрикнула, притворившись, что он случайно выдернул катетер из вены. В другой раз она спряталась в туалете, чтобы внезапно выскочить и напугать Майлса. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя… И он остался.
Он влюбился в улыбку Меган, в ее неисчерпаемый оптимизм и невероятную энергию. К тому времени, когда он сделал ей официальное предложение, муковисцидоз стал частью и его жизни. Он рассказал мне, что осознает всю серьезность диагноза жены и понимает, что ухудшение может произойти в любой момент. Майлс, учитель физики в средней школе, обладает редкой невозмутимостью и всегда спокоен (один из лечащих врачей Меган называет его ее скалой), но мне он признался, что безмятежное отношение к болезни жены — всего лишь маска.
Последняя госпитализация Меган не на шутку испугала Майлса. Она заболела, заболела очень серьезно, с температурой под 40 °С и ужасной слабостью. Она не могла самостоятельно встать с постели. Врачи диагностировали абсцесс легкого и назначали один антибиотик за другим, список побочных эффектов становился все длиннее. Обычно через несколько дней после госпитализации Меган уже чувствовала себя настолько хорошо, что Майлс приглашал друзей, заказывал пиццу и устраивал небольшой праздник в палате. На этот раз все было по-другому. У Меган ухудшилась функция почек, а для дыхания ей требовался кислород. Она едва могла ходить. Навещать ее в больнице она позволила только самым близким родственникам.
Домой Меган вернулась слабой и исхудавшей. Произошедшее сильно ее потрясло. Она находилась дома уже несколько месяцев, когда мы встретились, но и к тому времени она не избавилась от ощущения, что балансирует на лезвии бритвы. Что-то непоправимо изменилось. Никто теперь не ставил никаких точек, но Меган и сама почувствовала, что функция легких будет неуклонно ухудшаться. Госпитализации станут чаще, а состояние во время каждой из них будет все хуже и хуже. Это будет случаться снова и снова, как бы тщательно она ни мыла руки, как бы старательно ни занималась спортом и как бы аккуратно ни соблюдала лечебный режим. Это ее будущее. Настанет день, когда придется всерьез рассмотреть пересадку легких. Кроме того, Меган подумывала перейти на неполную ставку или вовсе уйти с работы. Работа стала частью ее личности и самоидентификации и, может быть, давала ощущение, что болезнь не смогла ее сломить. Меган была заместителем директора по учебной работе в Провиденс-колледже, том самом, который она окончила когда-то. Дни в кампусе были трудными и долгими, полными многочисленных встреч со студентами, которые требовали ее внимания. Меган любила свою работу, но не была уверена, что ей хватит сил и работать, и справляться с болезнью.
Что ей отвечать, если кто-то спросит: «Чем ты занимаешься?» Когда-то этот вопрос казался очень простым. Несколько возможных ответов она вслух перебрала при Джен во время лечебного массажа. Говорить, что ничем, или лучше сказать, что она уволилась? Нужно подобрать правильные слова.
Сидя в гостиной, я задумалась под звук ритмичных постукиваний Джен по спине Меган. Я не смогла устоять перед соблазном мысленно поставить себя в подобную ситуацию и понять, как бы это повлияло на мои ожидания от будущего. Конечно, это невозможно, я не могу представить себя на месте этой замечательной женщины, потому что росла с ощущением, что впереди безграничная жизнь, а Меган с раннего возраста знала, что жизнь ее будет короче, чем можно надеяться. Тем не менее она долго оставалась достаточно здоровой, чтобы выбрать интересующую специальность, найти подходящую работу и построить успешную карьеру. К середине четвертого десятка она уже могла пожинать плоды пройденного пути и рассчитывать на дальнейшее продвижение. По существу, как раз сейчас и должно было начаться движение вверх по карьерной лестнице. Но, когда начальник предлагал Меган место в национальном комитете или должность преподавателя на курсах повышения квалификации, она неизменно отказывалась, хотя и хотела бы воспользоваться открывшимися возможностями. Реальность не оставляла выбора. Меган не была уверена, что ее легкие будут так же хорошо работать в следующем году, она не знала, когда случится и насколько долгой будет следующая госпитализация. Да, она всю жизнь жила с заболеванием, требующим регулярно мыть руки и не приближаться к больным, чтобы не заразиться какой-нибудь инфекцией. Однако никогда еще болезнь не ограничивала ее в такой степени, как теперь.
До потрясения, вызванного последней госпитализацией, они с Майлсом задумывались о ребенке. Меган долго считала, что беременность для нее полностью исключена. Трудно планировать рождение детей, если не рассчитываешь долго жить после 30 лет. Но специалист по беременности высокого риска рассказал Меган и Майлсу, что существенных противопоказаний у Меган нет, и пара преисполнилась осторожным оптимизмом. Может статься, у них все же будут дети и полноценная семья. Потом Меган стало плохо, она лежала в больнице, и, хотя она благополучно вернулась домой, вышла на работу и набрала прежний вес, она стала уклоняться от вопросов друзей и коллег о детях. Как отразится беременность на работе легких? Что, если в следующий раз болезнь окажется тяжелее и ей не удастся оправиться?
Когда Меган впервые заговорила об усыновлении ребенка, Майлс, в общем, поддержал ее, но предложил еще подумать, хотя она и сама понимала, что это тоже не выход из положения. Даже без беременности функция легких будет ухудшаться, и она не сможет должным образом ухаживать за маленьким ребенком. Они с Майлсом обсудили и это. Со временем ему придется брать на себя все большую долю заботы о ребенке, и, вполне возможно, в конце концов Майлс будет воспитывать его один. Увидев, как Майлс общается со своими учениками, Меган поняла, что он станет замечательным отцом, и ей хотелось, чтобы он попробовал себя в этом качестве. Но им было трудно оценить свои возможности. Когда умерла мама Меган, это опустошило ее. Как решиться подарить детям семью, зная, что в любой момент она может заболеть и навсегда их покинуть?
Меган пережила срок, отпущенный ей врачом. Она прошла множество этапов, которые когда-то казались невозможными: самостоятельная жизнь в кампусе, а потом в Нью-Йорке; отношения с мужчинами, когда ей нужно было ежедневно вводить антибиотики; замужество. Она даже осмелилась задуматься о празднике по поводу немыслимого ранее сорокалетия (никаких грандиозных вечеринок, просто ужин в приятном местечке). Но, вероятно, ребенка она себе позволить не может. Пока достаточно того, что она каждый день ходит на работу, возвращается домой и ужинает с мужем. Меган сказала, что благодарна судьбе за эти заурядные вещи, которые она так любит. Может быть, ничего большего и не нужно.
На некоторое время она замолчала. Я сидела и слушала хлопки по ее спине. Я слышала ее кашель, слышала, как она сплевывает в чашку мокроту. Эта процедура повторится завтра и послезавтра. «Во всяком случае сейчас я чувствую себя хорошо», — улыбаясь, говорит Меган. Утром того дня она успела позаниматься на беговой дорожке. Требовали внимания предстоящие дела. Через пару месяцев они с Майлсом поедут в отпуск в Мексику. Несмотря на неизбежные опасения (вдруг ей станет плохо во время путешествия, и рядом не будет врачей?), она планировала загрузить несколько бестселлеров в электронную книгу и насладиться отдыхом с мужем. Погода будет солнечной, а песок теплым. «Мне нравится путешествовать, и неизвестно, сколько времени мне еще отпущено, — сказала она. — Так какой еще выбор я должна делать?»
Через несколько дней после посещения Меган у меня было ночное дежурство в отделении интенсивной терапии. Мы с интерном изучали лабораторные данные пациентов, когда в отделение пришла одна из специалистов по муковисцидозу. Я взглянула на часы — было одиннадцать вечера, и врач давно должна была уйти домой. Очевидно, у нее был трудный день: тушь чуть-чуть смазана, юбка помята, плечи поникли. Она села рядом с нами и тяжело вздохнула.
— Хочу перевести к вам больного, — сказала она. Я знаком попросила интерна записывать.
Врач начала рассказывать: пациент — мужчина 37 лет с муковисцидозом. Ровесник Меган, да и мой тоже. Он умирал. Наследственность или невезение и бактерии тому виной, но заболевание перешло в терминальную стадию. Пациент находился в больнице больше месяца, борясь с поражавшими его одна за другой инфекциями. Его легкие, разрушенные почти четырьмя десятилетиями тяжелой болезни, едва работали и были не в состоянии обменивать углекислый газ на кислород без помощи специальной аппаратуры. Но даже с ней состояние его было крайне тяжелым. Больному была показана интубация трахеи и искусственная вентиляция легких. Я медленно кивала, слушая эту историю.
— Вероятно, мы уже ничего не сможем сделать, — сказала нам врач. Нельзя было думать и о трансплантации — больной был слишком слаб и страдал недостаточностью многих других органов. Запасного плана здесь быть не могло.
Сидя в тихой ординаторской ОИТ, я думала, что этот человек подошел к концу своего жизненного пути. Но за пределами комнаты была другая реальность, в которой жил молодой еще человек, и он не хотел умирать. Он поступит в ОИТ, мы назначим ему более мощные антибиотики и, возможно, улучшим его состояние.
— Ситуация и правда почти безнадежная, — подтвердила я, подумав, что мои слова едва ли могут ее утешить. — Спасибо, что ввели в курс дела.
Я представила себе, что этот больной умрет сегодня под моим наблюдением, и тяжело вздохнула.
— Идите домой! — сказала я. — Мы позаботимся о вашем пациенте.
Приблизительно через 20 минут сестры из терапевтического отделения ввезли в отделение каталку с пациентом. Я начала осмотр, как только каталка поравнялась со мной. Это был невысокий истощенный человек, он, скорчившись, лежал на боку. Я подумала, каково ему было в детстве, когда никто не верил, что ему удастся дожить до 30 и тем более до 35 лет, и как он отмечал дни рождения, которых просто не могло быть, один за другим. Шли годы, и он начал надеяться на чудо.
Я шла за каталкой до палаты, где больного переложили на кровать. Руки и ноги пациента были тонкими из-за атрофии мышц, кожа имела сероватый оттенок, глаза обведены синими кругами. Кислородная маска так долго была на его лице, что от нее остались красные следы и вмятинка на спинке носа. Он прожил с муковисцидозом до 37 лет, то есть почти на 12 лет больше, чем ему было отпущено, благодаря непрерывному прогрессу медицины. Но когда я, приложив фонендоскоп к его груди, выслушивала колотящееся сердце, все это не имело никакого значения. Я стояла у постели больного, который уже не мог дышать без аппарата, подключенного к маске. Остались только отчаянное биение сердца, запах пота и болезни и охватившая меня печаль. Как все это внезапно — ведь он еще молод, всего 37, а смерть уже стоит за его спиной.
Когда я собиралась написать о муковисцидозе, я планировала сосредоточиться на генной терапии, которая сулит резкое изменение в лечении этой болезни, и рассказать о новых правилах инфекционного контроля, которые запрещают пребывание больного муковисцидозом в одной палате с другим больным с той же болезнью. Я связалась с несколькими специалистами, и приблизительно через неделю после того, как посетила Меган и приняла в ОИТ больного с муковисцидозом, сидела в кабинете доктора Ахмеда Улуэра, руководителя программы лечения муковисцидоза у взрослых, которая проводится в больнице Brigham and Women's и Бостонской детской больнице. К тому времени я уже размышляла об этом заболевании в более широком контексте, чем новые методы лечения и профилактики инфекций. И все же мне хотелось узнать, какие изменения ожидают этих больных в перспективе.
Мы с доктором Улуэром пили кофе и обсуждали книги и конструкторы Lego, которые стояли в его небольшом уютном кабинете в детской больнице. В тот день доктор Улуэр выглядел более официально, чем обычно одеваются врачи. По дороге в его кабинет он пояснил, что днем собирается на похороны одного из своих пациентов. Он всегда провожает в последний путь тех, кому не сумел помочь. На первые похороны он ходил вместе с женой, но она так разрыдалась (горше, чем мать пациента), что была не в силах сделать это еще раз. Кроме того, доктор Улуэр пишет некрологи, в которых описывает яркие детали биографии больного, а потом рассылает их членам своей команды по исследованию муковисцидоза. Таким образом его коллеги узнают о смерти пациента и запоминают этого человека.
В тот день он собирался на похороны того самого 37-летнего пациента, которого я незадолго до этого приняла в ОИТ. В последний раз я видела его утром, когда закончилась моя смена. Состояние его несколько стабилизировалось, и я не знала, что он умер. Когда доктор Улуэр сказал мне об этом, я сначала не понимала, как реагировать. Я пришла поговорить о достижениях в области лечения муковисцидоза, но теперь он сам напомнил мне о конечном итоге всех наших усилий. Я спросила, как именно это произошло, и узнала, что дыхание мужчины становилось все более затрудненным, и в итоге он отказался от интубации трахеи, предпочтя смерть мучениям.
Мне захотелось больше узнать об этом пациенте. Доктор Улуэр сказал, что у этого человека было великолепное, хотя порой и грубоватое, чувство юмора. Я не увидела этого во время нашего краткого общения той ночью, пациент был слишком слаб. А в этой больнице он лежал так часто, что его знали все врачи команды доктора Улуэра и с удовольствием навещали его на обходах. Хотя тело отказывалось служить ему, невзирая на недомогание и злость из-за того, что он умирал, этот человек продолжал шутить и на грани смерти. Любимым его фильмом был «Крестный отец», и он, лежа на больничной койке, царственно приглашал всех посетителей посидеть рядом, разыгрывая из себя Дона Корлеоне. Он всегда возил с собой в больницу кофеварку. Это был сложившийся за многие годы ритуал. Даже в свой последний день, утром, перед самой смертью, он не отказал себе в глотке кофе.
Я видела, что доктор Улуэр будет тосковать по этому пациенту. Ему недостает их всех. И пусть в разговоре мы перешли к прогрессу в лечении муковисцидоза и к молекулярной терапии, которая в один прекрасный день изменит лицо болезни и преобразит жизнь пациентов, тональность беседы была далека от оптимизма. Да, сейчас среди больных муковисцидозом взрослых больше, чем детей, да, очень скоро появятся гериатрические клиники для таких больных, а потом этот недуг, возможно, станет излечимым. Все это впечатляет и внушает надежду. Но сегодня реальность другая. Доктор Улуэр собирался на похороны. Пока мы говорили, меня вдруг осенило, что все это — только что умерший пациент, Меган и Майлс, их надежды и ожидания, их разочарования — все это муковисцидоз сегодня. Это медицинские открытия и появление меняющих правила игры лекарств — уже синтезированных и тех, которые еще только в разработке. Это дети, которым при рождении отмеряют срок, но чья продолжительность жизни меняется со временем; это люди, которые живут дольше, чем кто-либо мог ожидать всего несколько пару десятилетий назад. Это грандиозный праздник по случаю тридцатого дня рождения, до которого ты не должен был дожить, и это карьера, любовь, замужество и дом к 35 годам; но дом одноэтажный, чтобы, если — вернее, когда — в не очень далеком будущем легкие перестанут хорошо работать, не пришлось взбираться по крутым ступенькам. Это достаточное здоровье, чтобы выносить и родить ребенка, но невозможность его вырастить. Это молодой мужчина моего возраста, умирающий в отделении интенсивной терапии, и врач, собирающийся на его похороны. Это растущие возможности и увеличивающееся время — больше, чем ожидалось, но все еще недостаточно.
9 Начало пути
Первое июля — особый день для больницы.
Это начало и конец, так как в этот день студенты-медики получают дипломы, интерны становятся резидентами, а ординаторы наконец получают право на самостоятельную практику. Первого июля почти 14 лет назад я, робея, вошла в анатомический класс, где вскрыла труп человека по имени Мюррей, чтобы увидеть, как устроено человеческое тело. Четырнадцать лет — достаточный срок для того, чтобы родить ребенка и довести его до окончания средней школы. Это достаточный срок для того, чтобы найти работу, купить дом, разочароваться и сменить сферу деятельности в поисках чего-то нового. За это время можно выйти замуж, развестись и снова выйти замуж. Но я не сделала ничего из вышеперечисленного. В течение этих 14 лет я жила в двух городах и сменила шесть квартир. Я окончила медицинский университет и стала врачом. Я продолжала обучение как резидент, а затем стала ординатором в интенсивной терапии. Я перестала писать, чтобы полностью сосредоточиться на учебе, а потом, когда поняла, как мне этого не хватает, снова начала писать. Я узнала, в каких торговых автоматах на каких этажах больницы есть мои любимые крекеры («Ритц», несоленые) и где можно найти самые свежие тарталетки с арахисовым маслом. Я научилась каждый день ходить на работу, где меня окружали болезнь, смерть и скорбь, научилась понимать эту скорбь, но не позволять ей опустошить меня. Я училась ставить диагнозы и лечить, общаться с пациентами и их родственниками. А потом обучение закончилось. Еще вчера я была врачом в процессе получения узкой специализации, а сегодня стала просто лечащим врачом. Такая далекая цель стала наконец реальностью.
Это осуществилось почти незаметно. Я осталась в той же больнице. Я уже работала дежурным врачом ночной смены в отделении интенсивной терапии. Изменились реквизиты медицинского страхового полиса, но для этого мне не пришлось менять ни коды, ни пароль для доступа в личный кабинет. Мне даже не нужно было менять пропуск в больницу. И тем не менее со мной происходило что-то реальное. Раньше я находилась всего в одном шаге от принятия решений, в роли участвующего в лечении наблюдателя, не ощущающего тяжкого груза ответственности. Это была роскошь, и часть меня хотела, чтобы так продолжалось вечно. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Вот так в начале июля я оказалась в трансплантационной клинике. Как младшего врача меня отправили исполнять обязанности, не связанные непосредственно с интенсивной терапией, — на периферию, где имеют дело с больными до и после высокотехнологичных вмешательств и интенсивной терапии. Каждый год в рамках ротации резидентов и ординаторов я несколько недель проводила с больными, находившимися на ИВЛ, в закрепленном за нашей больницей учреждении долгосрочной интенсивной терапии. Теперь в трансплантационной клинике я должна была принимать пациентов, которых врачи направляли на обследование для решения вопроса о пересадке легких. Это были уникальные приемы, на них отводилось много времени, и можно было спокойно беседовать с пациентом и внимательно изучать историю болезни. На основании универсальных критериев и нескольких относительных показателей решался вопрос о внесении больного в список кандидатов на трансплантацию легких. Я расцениваю этот прием как самый важный, определяющий этап всего процесса. Заболевание уже есть, оно реально, но я встречаюсь с этими пациентами на ранней стадии, перед тем как они примут решение ступить на этот сложный путь.
Часто я узнавала о таких решениях уже после пересадки, имея дело с ее последствиями. Здесь все обстояло иначе, «после» еще не наступило. Независимо от того, состоится ли трансплантация, посещение клиники означает начало пути — к заполнению бланка информированного согласия, операции, трахеостомии и пребыванию в отделении долгосрочной интенсивной терапии, возвращению домой с предписанием принимать гору лекарств и регулярно посещать врача; к жизни с постоянной фоновой тревогой по поводу отторжения. Все это начинается здесь, в приемном кабинете, в обычный будний, я бы даже сказала, будничный день.
Была среда. В маленькой переговорной сидели полукругом шесть человек и смотрели информационный фильм о трансплантации легких. Я устроилась в стороне, приглядываясь к зрителям. У нас еще будет время познакомиться и побеседовать, а сейчас я хотела просто молча побыть здесь. Перед экраном сидели три пациента и три их родственника: мать и дочь, мужья и жены. Ближней ко мне была женщина в кресле-каталке. Тихо шипел кислородный баллон. На середине просмотра, видимо, прозвучал сигнал аккумулятора, потому что женщина, порывшись в сумке, извлекла шнур, похожими обычно подключают к сети компьютер. Ее муж встал, помог распутать провод и окинул взглядом помещение в поисках электрической розетки. «Розетка вон там», — сказал кто-то из пациентов. «А там еще одна», — указал другой. Все они могут оказаться в одном списке претендентов на легкие, которые всегда в большом дефиците. Но сейчас в комнате царила атмосфера товарищества, ощущение общности судьбы, которое связывает этих людей. Шнур подсоединили к сети, аккумулятор начал заряжаться, и все вернулись к просмотру.
В каждой паре именно здоровый смотрит видео очень внимательно, делает пометки в блокноте или на листке бумаги. Для трансплантации наличие способных оказать помощь родственников является обязательным условием. В нашей больнице кандидата вносили в список при наличии трех человек, готовых ему помогать после пересадки легких, а на первых порах и ухаживать за ним. Я попыталась мысленно перенестись в будущее, чтобы увидеть, как распределятся эти роли. Мужу, жене или дочери придется обсуждать с врачами состояние пациентов, записывать лабораторные показатели, запоминать даты визитов к врачу, следить за соблюдением режима и приемом лекарств, а в первое время ночевать в комнате для родственников, лежа на узкой кушетке под колючим и тонким больничным одеялом, в тревожном ожидании. Ожидание станет образом их жизни.
Фильм нисколько не приукрашивал реальность. Здесь не показывали счастливчиков, перенесших пересадку и хвастающих отменным здоровьем. Это время придет куда позже. Из видео пациенты узнавали, что им придется принимать с десяток разных лекарств ежедневно. В течение как минимум нескольких недель после операции им будет нужна сиделка, присматривающая за ними даже ночью, во время сна. Потребуются и другие люди, которые будут готовить еду и возить пациента на обследования. Пациенты узнают, что главной целью пересадки является не продление жизни (после трансплантации легких пациенты живут в среднем пять лет), а улучшение ее качества. Согласие на операцию означает смену знакомых проблем на неизвестные, но все — и врачи, и больные — надеются, что состояние и самочувствие пациента улучшатся.
Сначала я думала, что моей работой будет удостовериться, что пациент имеет четкое представление о том, что с ним будет происходить в процессе подготовки к трансплантации и после нее. В общих чертах это была правильная мысль. В фильме мы приводим статистику выживаемости, объясняем, почему после пересадки приходится принимать так много лекарств, и предупреждаем, что выздоровление может оказаться куда более тяжелым, чем пациенты себе представляли, особенно в первые месяцы или даже год. Мы говорим, что, даже если последуют осложнения, если собственное тело покажется им чужим, если они проведут в больнице месяцы, врачи продолжат делать все возможное и будут подбадривать своих пациентов. Больные будут нести ответственность не только перед собой, но и перед новыми легкими в своей грудной клетке.
Если у пациентов возникают какие-то специфические вопросы об операции или о побочных эффектах лекарств, мы или сами отвечаем на эти вопросы, или направляем к профильным специалистам. Просмотр видео объясняет самое главное: пересадка легких не панацея. Всех проблем не решит ни лечение в ОИТ, ни имплантируемые аппараты и устройства, ни ультрасовременные лекарства. Если наши пациенты думают, что медицина способна творить чудеса, то им предстоит разочарование. Все, что мы можем предложить, — не исцеление, а лишь другое болезненное состояние, возможно, более предпочтительное, — часто только с нашей точки зрения. Мы разбиваем иллюзии и несбыточные надежды. Мы понимаем, что до посещения нашей клиники пациенты практически ничего не слышали о пересадке легких, и едва ли они многое осознают после этого первого визита. Но будут и другие встречи в течение следующих месяцев, а то и лет. Если мы правильно выполним свою задачу, люди действительно будут понимать, о чем речь, когда с ними заговорят о пересадке легких. Наверное, это большее, что мы можем сделать.
Видео закончилось. Все молчат. Медсестра разводит пациентов по смотровым кабинетам, а я остаюсь, чтобы просмотреть истории болезни. Выясняю некоторые подробности про свою первую пациентку: у нее есть собака; взрослые дети живут далеко; в колледже она несколько раз курила марихуану, но ей не понравилось; она любит мороженое, но позволяет его себе не каждый день; уже четыре года дышит кислородом. Я стараюсь уложить в голове факты, которыми она сочла нужным с нами поделиться, чтобы она почувствовала, что врачу, которого она видит в первый раз в жизни, можно доверять.
Взглянув на часы, я поняла, что читала очень медленно и задержалась уже на семь минут. Я представила, как нервничает эта женщина, возможно, собирается уйти, и заторопилась, собрала документы, по дороге протерла руки дезинфицирующим раствором и распахнула дверь в кабинет. Пациентка смотрела в телефон. При моем появлении она хотела было встать, но я, заметив, что шланг от кислородного баллона обвился вокруг ножки стула, жестом попросила ее не беспокоиться. Мы пожали руки, и я представилась: «Доктор Лэймас, рада вас видеть. Мы в этой клинике разъясняем пациентам, что, собственно, происходит. Для начала я задам вам несколько вопросов, потом осмотрю, а затем мы поговорим о пересадке легких и вместе подумаем, показана ли она вам, хорошо?» Женщина кивнула.
Для начала я попросила ее рассказать о себе. Да, я уже прочла ее автобиографию, но хотела услышать ее саму. Женщина заколебалась — рассказ мог занять некоторое время, а она не хотела его отнимать у других, но я убедила ее начать, мы никуда не спешим. Она перевела дыхание и начала повествование. Она рассказала о постоянном кашле, о бесконечных обследованиях у разных врачей, о неверных диагнозах — начиная с астмы и заканчивая рефлюксом[14] и аллергией, об ингаляторах, таблетках и кислороде, и, наконец, о диагностированном фиброзе легких, из-за которого она и оказалась здесь. Я внимательно слушала, иногда задавала уточняющие вопросы, кивала и печатала на компьютере текст. Моя запись будет сопровождать больную при всех остальных посещениях врачей, и поэтому я не могла допустить неточностей.
— И как вы считаете, нужна мне трансплантация? — спросила она, окончив рассказ.
Несмотря на то, что она уже много лет дышала кислородом из портативного баллона, несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния, несмотря на то, что силы ее покидали, сама мысль о пересадке легких казалась ей нелепой и неуместной. Наверное, она надеялась, что я посмотрю на нее и скажу, что она ошиблась дверью, что ей надо уйти и вернуться только когда ей станет по-настоящему плохо. Но вместо этого я сказала, что обычно мы рекомендуем людям с такой болезнью, как у нее, задуматься о пересадке легких как можно раньше. Поэтому ответ — да, ей, скорее всего, потребуется трансплантация. Даже если операция не будет показана прямо сейчас, она может потребоваться в будущем, и ее доктора поступили правильно, направив на консультацию в наше отделение.
— При вашем заболевании легкие могут отказать очень быстро. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда останется только развести руками и сказать, что уже слишком поздно и время упущено.
— Ох, — только и могла произнести пациентка.
— У вас есть вопросы? — мягко спросила я.
Я думала, что она поинтересуется, что будет, если она не получит трансплантат, а если получит, то сможет ли перенести операцию и как изменится ее жизнь после пересадки. Она могла засомневаться, станет ли муж ухаживать за ней или будет злиться на ее болезнь, точнее, злиться на нее за то, что заболела. Возможно, она подумает о доме, о том, как его содержать, если мужу придется оставить работу. Она могла задуматься о том, стоит ли говорить детям, что происходит, или как попросить их бросить все и приехать в Бостон помогать матери. Потом, когда она начнет лучше разбираться в вопросе, ее может заинтересовать, не станет ли она зависимой от респиратора, не пожалеет ли о своем решении, если все закончится муками ИВЛ, не начнет ли злиться на судьбу. Думаю, что, хотя она хотела задать мне все эти вопросы, происходящее все еще казалось ей слишком нереальным. Она была в самом начале этого пути.
— Нет, спасибо, пока у меня нет вопросов.
Мы перешли к следующему этапу обследования. Я помогла пациентке сесть на стол для обследования. Она медленно расстегнула рубашку, чтобы я могла выслушать легкие. У нее была гладкая кожа, без следов от предыдущих операций. Я осмотрела ее руки, обратив внимание на то, что хронический недостаток кислорода привел к изменению формы ногтей и кончиков пальцев. Приподняв штанины, я посмотрела, нет ли отеков на голенях и стопах, а потом прощупала суставы рук и ног. После этого я села и записала результаты. В состоянии женщины не было ничего, что могло воспрепятствовать дальнейшему обследованию. Прямых противопоказаний при осмотре выявлено не было. Она не страдала ожирением, не употребляла наркотики или стероиды. Но она страдала неизлечимым заболеванием легких. Я объяснила, что ей надо найти трех человек — это будет ее группа поддержки — и вместе с ними прийти на часовую встречу с врачом, а затем ей придется переночевать в больнице, чтобы сдать все необходимые анализы. Пациентка сказала, что это не проблема.
На этом моя миссия была окончена. К этой части моей работы не сразу удастся привыкнуть. Я вышла из кабинета, чтобы ознакомить с историей болезни медсестру, которая будет сопровождать больную на всех этапах предоперационного обследования. Это была умная, веселая и добрая женщина, и я была уверена, что она понравится пациентке. Медсестра назначит последующие обследования. Вполне вероятно, что я больше никогда не увижу эту женщину. Моя роль заключалась в том, чтобы встретить ее здесь, в самом начале, и заложить основы, прежде чем направить ее в долгий путь в неизвестность.
Вскоре после этого приема в трансплантационной клинике в рамках ротационной программы я оказалась в реабилитационной больнице имени Сполдинга, в том самом учреждении для больных в хроническом критическом состоянии, где познакомилась с Чарли Аткинсоном. Больница имени Сполдинга пользуется меньшей популярностью, чем отделение интенсивной терапии, поэтому туда направляют лечащих врачей первого года, таких как я. Это превосходное место для начинающего автора, где можно набрать массу интересных сюжетов. Однако я подозревала, что врачу это место помогает лучше понять ограниченность прогнозов, увидеть, как иногда выглядит жизнь пациентов, которые не умерли, но и не обрели способность жить самостоятельно, застряв в промежуточном положении между жизнью и смертью.
Я привыкла ходить по палатам этой больницы в роли наблюдателя и писателя, поэтому было немного странно вернуться туда в качестве врача. Обстановка была знакомой, но я чувствовала себя не в своей тарелке. Я распечатала список моих пациентов и начала утренний обход. На двери палаты первого пациента висел знак, предписывающий надеть маску, стерильную желтую спецодежду и бахилы, и я послушно облачилась в защитную форму. Я постучала — как выяснилось позже, стук в дверь выводил пациентку из себя, потому что она была на аппарате ИВЛ и при всем желании не могла ничего ответить, — и, не дождавшись реакции, вошла. Стены палаты были оклеены фотографиями, словно обоями. Пациентка, женщина двадцати с небольшим лет, сидела в кресле, одетая в шорты и футболку. Тонкие волосы были заплетены в две косички.
— Вы можете снять маску, — беззвучно произнесла она после того, как я представилась. Трахеостомическая трубка лишила ее голоса, но я с облегчением поняла, что могу читать ее речь по губам. — Если, конечно, у вас нет кашля или, ну, я не знаю, вы не собираетесь меня облизывать.
Я улыбнулась.
— Вроде не собираюсь.
Я приложила к ее груди фонендоскоп, послушала, как движется воздух в ее пораженных рубцами легких, и сказала, что сегодня ей стоит попытаться дышать самостоятельно — что она с переменным успехом делала каждый день во время сеансов физиотерапии, — но немного позже. Прежде чем выйти из палаты, я вычеркнула имя пациентки из списка. Мне предстояло осмотреть почти 30 человек. В этот первый день мне удалось лишь поверхностно познакомиться с каждым из них.
В моем списке значилась тихая, похожая на ребенка пожилая женщина, которая не могла выписаться, потому что могла дышать только кислородом. Все свое время она посвящала книжкам-раскраскам для взрослых. В той же палате, за ширмой, лежала другая пациентка, с раком легкого, язвительная и нервная уроженка Нью-Йорка, которая мимикой и жестами ясно давала понять, что она просто в ярости от вынужденного молчания из-за проклятой трубки. В палате дальше по коридору лежал полный мужчина с синдромом остановки дыхания во сне, которого подключали к респиратору только на ночь. Этот пациент сказал, что я красива, как кинозвезда, а потом каждое утро спрашивал, замужем ли я («Все еще нет», — отвечала я, даже когда этот вопрос перестал быть забавным).
Были там и больные, с которыми было невозможно общаться, которых я не понимала. Это были пациенты с поражениями головного мозга или находившиеся в бреду из-за тяжелых инфекций. К некоторым больным приходили родственники и целыми днями сидели у их постелей; другие сутками оставались в полном одиночестве. Одна больная отметила свое 85-летие в палате в конце коридора. Она зависела от респиратора, ее перевели сюда из реабилитационной больницы, закрывшейся на ремонт. Этой женщине не было суждено вернуться домой, да, наверное, у нее и не было своего дома. Она проводила дни, решая электронные головоломки. Периодически ее навещал сын, а раз в несколько недель специалист по дыхательной гимнастике вывозил ее в город, когда считал это возможным. Уже в тот первый день, совершая блиц-обход, я поняла, что утону, если начну погружаться в истории всех этих пациентов. У меня просто не останется времени на заполнение историй болезни.
Но первая пациентка, молодая женщина, чем-то сильно меня тронула. В течение дня она около шести часов дышала самостоятельно, и в эти моменты я могла слышать ее голос. Злая ирония судьбы: как такая болтушка могла проводить в молчании большую часть суток? Мне нравилось ее слушать. Не раз она заставляла меня смеяться своими меткими описаниями врачей и медсестер и многочисленными историями. Однажды она заключила с матерью пари, что сможет заставить улыбнуться самого серьезного и строгого врача. (На это ушло несколько месяцев, но пари она все же выиграла, правда, уже не помнила как.) В ее палате я проводила, наверно, больше времени, чем следовало, и постепенно узнала ее историю. Она училась в колледже, когда однажды заболела. Наверняка простуда, в худшем случае инфекционный мононуклеоз. Но как выяснилось, это была не инфекция, а острый лейкоз. С учебой пришлось распрощаться, девушку госпитализировали для проведения экстренной химиотерапии. Врачам удалось добиться ремиссии, пациентка вернулась в колледж и думала, что теперь все будет хорошо, но через несколько месяцев случился рецидив. С тех пор прошло пять лет. Лейкоз был побежден, но в результате побочных эффектов химиотерапии были поражены легкие.
— Это же полный идиотизм, правда? — возмущалась она. Я кивала головой. Я не знала, как вести себя, слушая подобные истории. Только и оставалось качать головой и при каждом чихе подозревать у себя рак легкого, а каждую родинку принимать за меланому.
— Это всего лишь основные пункты, — говорила она. — Было много такого, что вы не прочтете в истории болезни.
И это правда. Я спросила, как она проводит свое время. Она ответила, что перепробовала все. Пока не наскучило, смотрела сериалы на «Нетфликсе»[15]. Потом бродила по интернету, проверяла обновления друзей в «Фейсбуке». Когда ей стало лучше, она даже какое-то время вязала. Но все это рано или поздно надоедало. Часто, заходя в ее палату, я видела, как она бесцельно смотрит в телефон или в окно. Близкие друзья иногда навещали ее, и если она была в это время отключена от респиратора, то разговаривала, пока хватало дыхания. Если же был включен аппарат, то она тщательно артикулировала слова, подкрепляя их жестами, чтобы посетители ее понимали. За неделю до нашего знакомства ее впервые за много месяцев вывезли на улицу. Физиотерапевт отвел ее по улице в магазин медицинского оборудования, чтобы опробовать новые ходунки. Она очень устала, но была страшно довольна этой прогулкой.
Однажды на обходе она задала мне вопрос: находится ли она на системе жизнеобеспечения? Я удивилась и не сразу ответила. Может, она уточнит вопрос? Если она хочет знать, что это означает и сможет ли она когда-нибудь вернуться домой без респиратора, я бы ответила, что мы очень на это надеемся, но не можем гарантировать. Но она молчала, и я сказала: «Да, вам необходим респиратор, а ИВЛ — это форма жизнеобеспечения. Почему вы спрашиваете?»
Она неопределенно пожала плечами. «Просто так, — беззвучно ответила она. — Получается, я подсоединена к системе жизнеобеспечения через дырку в горле».
Она подалась вперед и подняла футболку, чтобы я смогла приложить фонендоскоп к ее спине. Выслушивая дыхательные шумы, я чувствовала, что этот вопрос был очень важен для пациентки, он продолжал давить на нее, не давал покоя.
Через несколько дней, это было в пятницу, я решила зайти к ней и сообщить, что мы решили немного изменить параметры вентиляции легких, и поняла, что попала на семейный ужин. Приехали родители с одной из подруг, и я остановилась в двери. Следовало бы дать им спокойно поесть и вернуться потом, но было уже поздно: пациентка, заметив меня, энергичным жестом пригласила войти.
— Угощайтесь, — предложила ее мать, протягивая мне тарелку. Я отрицательно покачала головой, объяснив, что мне надо сказать больной об изменении режима вентиляции. Это не займет много времени.
— Мы планируем немного повысить давление на ночь, — сказала я. Мы надеялись, что это позволит ей проводить больше времени без респиратора в течение дня. Девушка рассеянно кивнула, а потом указала на еду и беззвучно произнесла: «Попробуйте, это вкусно».
Я задумалась. Что врачебная этика говорит о подобных ситуациях? Я невольно прислушивалась к ритмичным звукам работающего аппарата ИВЛ, которые не заглушила оживленная беседа. Размышляя о жизнеобеспечении, о заданном тем утром вопросе и о многих других вопросах, которые так и не были заданы, я, поблагодарив, взяла предложенную мне тарелку.
Я опустила маску, чтобы попробовать кусочек. Впервые я свободно дышала в этой палате. Еда была теплая, с острой приправой. Я стояла у стены с маской на шее, удивляясь домашней обстановке. Покончив со своей порцией, я поторопилась уйти, чтобы не мешать их вечеру.
Вернувшись через несколько недель в трансплантационную клинику, как-то я шла по коридору на осмотр первого за день пациента, когда передо мной вдруг остановилась молодая женщина в инвалидной коляске. У нее были коротко стриженные волосы, в ушах серьги-кольца, а одета она была в шелковую блузку и классические брюки. Сначала я не поняла, кто это, но стоило ей заговорить, как я узнала ее по голосу. Это была та самая женщина, которую я принимала здесь несколько месяцев назад. Она ожидала очереди на пересадку легких. Теперь в разговоре с ней я старалась понять, каково ей жить в ожидании трансплантации. Она рассказала, что иногда смотрела телевизор, а порой пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Ее мать почти все время находилась рядом, оставляя одну в палате, только чтобы купить в больничном киоске открытку или какую-нибудь безделушку, чтобы развлечь дочь. Поначалу больная не возражала против моих визитов, и я почти каждый день заходила посидеть с ней, надеясь, что она расскажет больше о своем опыте. Но недели шли, донора не было, и пациентка становилась все более отчужденной. Я подумала, что мои посещения, возможно, тяготят ее, и стала заглядывать к ней намного реже. Однажды утром — сюрприз! — в палату вошли хирурги с новостями. Получены донорские легкие.
Я слышала, что трансплантация прошла успешно, но, хотя время от времени вспоминала об этой пациентке, с тех пор ни разу ее не видела. Спустя еще несколько месяцев, во время ночного дежурства в ОИТ, я обнаружила ее имя в списке пациентов. Она получила новые легкие и прошла курс реабилитации, но потом, подхватив инфекцию, попала в реанимацию, где ее перевели на искусственную вентиляцию легких. Я подошла к ней. Женщина была без сознания, а чтобы она не сопротивлялась респиратору, ей ввели миорелаксанты, расслабляющие дыхательную мускулатуру. Она лежала на кровати, опухшая и неподвижная. Я сразу подумала о долгих месяцах ожидания, вспомнила ее усталую мать, как она сидела в углу палаты и с грустной улыбкой приветствовала приходящих врачей и медсестер. В течение ночи я регулировала параметры ИВЛ и следила за дозировкой вводимых внутривенно лекарств, поддерживавших артериальное давление. Уходя утром из больницы, я не надеялась вновь увидеть эту женщину.
Но мы встретились — вот она собственной персоной, сидит в коридоре клиники рядом с матерью. Пациентка была в маске — для профилактики возможной инфекции, которая могла убить ее из-за подавленного иммунитета, но мне показалось, что под маской я уловила мимолетную улыбку. Я улыбнулась в ответ.
— Как ваши дела? — спросила я.
— У меня выпали все волосы, — ответила она, застенчиво указывая на остриженную голову. А я-то решила, что она подстриглась так намеренно, следуя моде. — Должно быть, действие какого-то из лекарств. Сейчас они снова растут.
После выписки из ОИТ она еще несколько раз попадала в больницу и до сих пор была очень слаба и не могла самостоятельно ходить. Ее мучила почти постоянная тошнота, и, приезжая в больницу даже для планового осмотра, она впадала в панику. Но все-таки теперь она жила дома. Возможно, со временем ее самочувствие улучшится, госпитализации станут реже, а пребывание дома дольше. Или все останется как есть. Есть и другая возможность: я могу снова обнаружить ее в реанимации. Может произойти отторжение трансплантата или развиться тяжелая диссеминированная[16] инфекция, с которой больной не удастся справиться. Вполне вероятно, что полное выздоровление не наступит никогда и она до самой смерти будет пребывать в этом чистилище.
Мне о многом хотелось ее расспросить. Что значит месяцами жить в больнице в ожидании трансплантации, зная, что можешь и не дождаться? Каково это — вернуться к жизни после стольких испытаний, давшихся такой дорогой ценой? Но в тот момент она жила дома, непосредственная опасность, пусть даже ненадолго, была устранена, и эта женщина просто хотела поздороваться со мной и рассказать, какое несчастье приключилось с ее волосами.
— Мне очень нравится ваша прическа, — искренне сказала я. Мне хотелось задержаться и поговорить с ней, но меня ждали другие пациенты, и надо было спешить. — Знаете, я очень рада вас видеть.
Я собрала стопку медицинских записей и рентгеновских снимков больных, которых мне предстояло осматривать и консультировать сегодня. Впереди много дел. Уходя, я оглянулась как раз в тот момент, когда мать вывозила пациентку из клиники на улицу, где светило яркое летнее солнце.
Послесловие
Эта книга не о смерти, хотя, конечно, смерть присутствует на этих страницах — неизбежная реальность, которая всегда прячется за кулисами каждого диагноза, каждого врачебного решения. Даже если больному имплантируют ИЖС, его все равно ждет смерть. Несмотря на респираторы и ИВЛ, несмотря на экстракорпоральную мембранную оксигенацию, профилактику инфекций при муковисцидозе, трансплантацию органов и дефибрилляцию, конечный исход всегда один.
Но эта книга все-таки о жизни. Эта книга о том, как люди живут в тени немыслимых ранее достижений медицины… и благодаря им. В каком-то смысле это книга надежды, хотя я начинала писать ее совершенно с другой целью. Приступая к работе, я хотела найти людей, которые прожили дополнительные дни или даже годы благодаря врачебному вмешательству, и мне хотелось лучше понять, как именно они живут. Я полагала, что встречу людей, чувствующих себя несчастными в этом современном чистилище, тех, чью жизнь продлили вопреки их воле, кто, может статься, предпочел бы своим страданиям смерть. Но я обнаружила не только и не столько это. Сообщения в «Фейсбуке», подготовка к запрещенной врачами рыбалке, тщательное изготовление сэндвича показали мне, что люди движутся вперед, даже если число отпущенных им дней уменьшилось, продолжают жить, находя смысл в такой жизни, о какой они до этого и не помышляли.
Заглядывая в будущее, можно предположить, что каждый из нас однажды может столкнуться с новыми медицинскими устройствами и методами продления жизни, и невозможно предсказать, какую цену придется заплатить, какие наступят последствия. Когда настает время делать выбор, едва ли это будет простое и очевидное решение. Я могу лишь надеяться, что рассказанные в этой книге истории и изложенные далее дополнения, быть может, помогут нам прокладывать путь в этой новой реальности с открытыми глазами, а не вслепую.
Теперь несколько заключительных слов о Чарли Аткинсоне, проживающем в Кембридже, штат Массачусетс. Он отметил свое 80-летие грандиозным вечером в клубе Гарвардского университета, который он когда-то окончил. Это было роскошное мероприятие, тщательно организованное Джанет, на которое я никогда бы не попала, если бы не зашла в палату Чарли в тот памятный день в учреждении длительной интенсивной терапии. Вино лилось рекой, к нему подавали крекеры и сыр, и вскоре гостей пригласили подняться в банкетный зал. Я увидела там несколько знакомых лиц из отделения реабилитации, включая инструктора по лечебной физкультуре, которая снова и снова заставляла Чарли двигаться, несмотря на боль. Однако большая часть гостей не имела никакого отношения к болезни Чарли. Он, в смокинге, белом галстуке и цилиндре, несомненно, был героем этого вечера. Голос его, некогда приглушенный трахеостомой, гремел в зале, когда он, опираясь на ходунки, шел в толпе, приветствуя своих гостей. Несмотря на то, что ему до сих пор приходится пользоваться постоянным мочевым катетером, несмотря на невралгические боли и слабость, Чарли жив и с каждым днем чувствует себя лучше. Ему 80 лет, но он по-прежнему строит планы на будущее. Он основал новую компанию, целью которой является создание «Искусственного интеллекта Аткинсона». Он находит деньги, нанимает сотрудников, создает сайт и собирается писать книгу, и все это не мешает ему планировать предстоящую шестидесятую встречу выпускников Гарварда 1958 года. У него поистине амбициозные планы, такие планы обычно строят молодые люди, но это нисколько не смущает Чарли Аткинсона.
Вэн Шовен продолжал наслаждаться свободой после того, как его вычеркнули из списка кандидатов на трансплантацию сердца. Он смог добиться того, что его стали наблюдать в основном врачи близлежащих клиник, что позволило избавиться от утомительных дальних поездок и ожидания в длинных очередях и высвободить время, силы и заряд аккумуляторов для более интересных занятий. В беседах, которые мы вели весной и летом после нашей встречи, не прозвучало ни слова о больницах и трансплантатах. Вместо этого Вэн рассказывал мне о своих семейных планах, о радости в связи с предстоящим рождением еще одного внука, и о вещах, которые он собирался построить своими руками.
Но в прошлом августе, на исходе северного лета, Вэн Шовен умер. Когда спустя несколько дней мне прислали сообщение об этом, я вспомнила наши многочисленные телефонные разговоры. Когда мы общались в последний раз, месяцем раньше, Вэн пригласил меня покататься на лодке и половить рыбу. Помню, как я улыбнулась, — несмотря на все, что я знала о продолжительности жизни таких больных и о реалиях жизни с ИЖС, — и подумала, что это наверняка было бы незабываемо.
Я, конечно, понимаю, что мне уже никогда не удастся увидеть Вэна в его стихии, но я хочу помнить его именно таким. Я хочу представлять его не в кабинете врача, а в лодке, сидящим с удочкой в ожидании клева, с аккумуляторами в наплечной сумке. Я вижу, как он подсекает рыбу и начинает вытягивать ее из воды, забыв о предостережениях ради свободы, хорошего дня и любимого занятия — этих простых и бесценных радостей жизни.
Прошло 11 лет с тех пор, как Нэнси Эндрюс перенесла последнюю операцию и ее последствия, и хотя вдохновленные горячечным бредом рисунки продолжают вращаться в Сети, сама она давно обратилась к другим темам. Недавно она создала серию скульптур, которую описывает словом «катастрофы» — неузнаваемые тела, странные и изуродованные. В веб-сериале, озаглавленном «Странные глаза доктора Майса», она рассказывает историю ученого, который пытается воссоздать глубинную суть связей между людьми, которую сама Нэнси переживала, находясь в состоянии, близком к смерти. Сейчас Нэнси вернулась и к сочинению музыки, освоила укулеле и тенор-гитару.
Но последствия критического состояния не прошли для нее даром. Может быть, пребывание в отделении интенсивной терапии или наличие генетического заболевания, вызвавшего уязвимость сосудов и отслоение сетчатки, заставили Нэнси часто размышлять о собственной смертности. Задумывается она и о долговременных последствиях посттравматического стрессового расстройства. Шум и беспорядок вызывают у нее приступы тревожности — не является ли это следствием делирия, перенесенного в ОИТ?
Она никогда не сможет полностью освободиться от болезненных воспоминаний, связанных с больницей и страшным диагнозом. В недавнем телефонном разговоре она вскользь упомянула, что раз в два-три года проходит обследование в Бостоне. Сейчас визиты к врачу пугают ее меньше, чем раньше, но каждое посещение больницы пробуждает в ней страшные воспоминания о делирии. И все же она аккуратно, без пропусков ездит на осмотры. Она без возражений проходит КТ и все прочие исследования, которые назначают ей в Бостоне. Потом, облегченно вздохнув, она возвращается домой на несколько следующих лет. «Каждый раз для меня — все равно что заходить в пещеру, где живет чудовище, — сказала она мне. — Но я борюсь со своими страхами и встречаю их лицом к лицу».
Я продолжаю следить за судьбой Бена Клэнси, читая записи его матери в «Фейсбуке». Когда я в последний раз разговаривала с Андреа, прошло около полугода после того, как я наблюдала его в амбулаторных условиях, и больше года после передозировки. Мне было интересно знать, насколько он продвинулся в своем восстановлении. Недавно он перенес пневмонию, после которой стал меньше говорить. Врачи назначили КТ головы, чтобы удостовериться, что в мозгу Бена не произошло никаких изменений. До исследования он продолжал получать прежнее лечение. Памятуя о наших прежних беседах, я спросила Андреа, думает ли она о будущем и на что рассчитывает.
Андреа понимает, что ее сын никогда уже не станет прежним, но улучшится ли его нынешнее состояние? Она не могла допустить, чтобы эти мысли пожирали ее. В настоящий момент Бен вернулся к своей старой привычке в течение часа утром читать сообщения агентства «Рейтер». Правда, хотя он прекрасно понимал прочитанное, запомнить его надолго был не в состоянии. Андреа нашла человека, который раз в неделю приходит к Бену и играет с ним на гитаре. Этот преподаватель играет в основном классический рок, а не джаз, который раньше предпочитал Бен, но зато он вспомнил некоторые свои любимые аккорды и получает большое удовольствие от музыкальных занятий. Кроме того, Андреа планирует завести служебную собаку, прогулки с которой могут помочь Бену научиться лучше сохранять равновесие. Когда закончилось лето, Андреа получила письмо из школы Монтессори, где Бен учился раньше. В письме содержалось приглашение время от времени навещать школу. Возможно, Андреа сможет убедить Бена работать с ней в саду. Поэтому да, Андреа думает о будущем. «Но ведь это не значит, что сегодня не имеет никакого значения, не так ли?» — добавляет она.
Синди Скрибнер последнее время не госпитализировали. Она посещает врачей, принимает лекарства и проходит лабораторные исследования, но прошло уже три года после трансплантации, и страх перед отторжением стал меньше. Несмотря на все это, Синди очень переживает, что никогда больше не сможет работать медсестрой. Она знает, что ей не суждено вернуться на работу — ее иммунная система слишком хрупка, но надеется, что ей удастся найти другой род деятельности, которая позволит оплачивать счета и чувствовать себя значимой. Пока же Синди посвящает все время семье и домашнему хозяйству. После всего, что она перенесла, то, что она живет дома и чувствует себя почти нормально, — самое настоящее чудо.
В течение нескольких месяцев после того, как Эдди Беатрис получил свою новую почку, в местных газетах и на телевидении бушевала настоящая буря. В большинстве случаев комментарии были положительными или по меньшей мере исполненными легкомысленного любопытства, но нашлись люди, которые ругали Эдди за то, что он перешел черту дозволенного, взяв инициативу в свои руки и продвигая себя. Такие комментарии обижали Эдди, потому что все, чего он хотел, — снова жить так, как он жил до операции на плече и отказа почек, и Келли подарила ему эту возможность, предложив в «Фейсбуке» свой орган.
Теперь все страсти утихли. Эдди вернулся к той самой жизни, которая была прервана много лет назад неудачной операцией и почечной недостаточностью. Дети окончили колледж. Жена остается красавицей, как говорит сам Эдди. Он не представляет, как бы он выжил без нее. На работе все хорошо, настолько хорошо, что недавно Эдди премировали поездкой на двоих на Багамские острова. Тем не менее он понимает, что на всю оставшуюся жизнь привязан к врачам и обследованиям. Недавно состояние после трансплантации уступило по важности место другому диагнозу — раку предстательной железы. После короткого периода наблюдения и ожидания Эдди предложили операцию и удалили железу. Мы разговаривали с Эдди последний раз, когда он уже находился дома после операции. Я была рада услышать, что метастазы обнаружены не были.
Эдди до сих пор поддерживает отношения с Келли. Недавно они виделись, когда Эдди с женой приезжали на отдых в Калифорнию. Что касается почки, то она функционирует отлично, позволяя Эдди нормально жить и работать.
Меган и Майлс прекрасно провели время в Мексике, но через несколько месяцев после возвращения Меган снова слегла. Обычно она предчувствовала ухудшение, которое неизбежно заканчивалось госпитализацией и внутривенным введением мощных антибиотиков. На этот раз все началось неожиданно. Накануне она чувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы заниматься на велотренажере, а на другой день оказалась в отделении скорой помощи с сильнейшей одышкой и всеми показаниями к экстренной госпитализации. Было самое начало учебного года, и единственное, о чем она могла думать, — что бросила своих студентов на произвол судьбы. Подключились коллеги, и ситуация успешно решилась, но это побудило Меган объяснить семье и друзьям, что однажды она навсегда оставит работу, потому что ей приходится все больше времени уделять своему здоровью. Ей важно, чтобы они не испугались: намерение оставить работу вовсе не означает, что она на пороге смерти.
Произнести все это вслух оказалось полезно и для самой Меган. Все не так уж плохо. Вероятно, она уйдет на пенсию до своего сорокалетия, и это будет совершенно нормально. Нормально и то, что у них с Майлсом не будет ребенка, если они не решатся на усыновление. Когда со здоровьем все хорошо, хочется думать, что так будет всегда, что будешь работать до старости, что родишь детей, но стоит попасть в больницу, как начинаешь понимать, что это не только неуместно, но и безответственно. Лечение и поддержание сносного состояния требуют так много времени. Что же будет, когда ей неизбежно станет хуже?
Поэтому Меган все время напоминает себе, что ее жизнь хороша такой, какая она есть. Каждый вечер она возвращается домой, к Майлсу. У них прекрасный дом, близкие родственники и друзья. Майлс по-прежнему заставляет ее смеяться. Они планируют путешествия, насколько это позволяет здоровье Меган. Кроме того, оба заняты делом. Меган начала вести занятия на велотренажере, чтобы собирать деньги в фонд больных муковисцидозом. Она планирует разбить огород, а еще они с Майлсом хотят купить собаку. «В нашей жизни так много хорошего, — сказала мне Меган. — Мы не можем позволить себе детей, но мы ценим то, что у нас есть».
Что касается меня, то в рамках программы для врачей первого года я работаю в трансплантационной клинике и в реабилитационной больнице имени Сполдинга, но больше всего времени провожу ночным дежурным врачом в отделении интенсивной терапии. Так сейчас устроена моя жизнь. Я стараюсь справиться с тем, что мне не хватает преемственности в работе с находящимися в критическом состоянии больными, — я вижу их только в течение 12 часов, а потом теряю из вида. Это странный мир: я нахожусь среди пациентов на грани жизни и смерти, когда весь остальной мир безмятежно спит, а утром ухожу и вспоминаю то, что делала ночью, как странный и причудливый сон, от которого я пробуждаюсь усталой и голодной. В ОИТ нет времени думать о «до» и «после», но я стараюсь привнести то, что узнала от людей, о которых рассказала на этих страницах, в свою ежедневную работу.
Недавно мы организовали группу поддержки для людей, переживших лечение в отделении интенсивной терапии, и их родственников. Мы работаем по субботам, в утренние часы: социальный работник отделения интенсивной терапии, психиатр, еще один врач ОИТ и я. Встречаясь с пациентами и их родственниками за кофе, я выслушиваю мужчин и женщин. Они живы и находятся дома, их супруги рядом, они знают, что будут счастливы. И все же эти люди признаются, что иногда просыпаются среди ночи от кошмарных сновидений, в которых звучит больничная тревожная сигнализация, и начинают рыдать без всякой видимой причины. Пациенты рассказывают, что до сих пор помнят, как их привязывали к койкам, как устанавливали катетеры в центральные вены, как они пытались говорить и не могли выдавить ни звука. Эти истории давно меня не удивляют. Но, несмотря на схожесть этих рассказов, каждый из них по-своему уникален, и я продолжаю учиться.
Мы продолжаем заниматься и клиникой для людей с ПИТ-синдромом. Она пока небольшая, но растет и развивается. Некоторые наши пациенты говорят, что они постепенно возвращаются к обычной жизни, что они в порядке, и тогда я прошу их объяснить, что значит «быть в порядке». Ответы бывают разными. Для одних это означает, что они спокойно спят ночью, несмотря на наличие трахеостомической трубки и портативного респиратора, или длинного списка лекарств, которые надо принимать ежедневно. Для других «в порядке» означает возвращение на работу, способность заниматься спортом, возможность вновь обеспечивать свои семьи.
Есть и пациенты, которым, хотя они и вернулись домой, не хватает устойчивости, чтобы выйти на работу. Днем они легко пугаются, а среди ночи часто просыпаются в холодном поту. ОИТ был для них адом, а выписавшись, многие пациенты обнаруживают, что теперь оказались в чистилище. Они сами себя не узнают. Мы объясняем, что это не признак безумия. Мы ставим им диагноз — ПИТ-синдром — и честно предупреждаем, что, возможно, не сумеем помочь, но по крайней мере мы готовы выслушать.
Одну женщину я отвела в отделение интенсивной терапии, где она когда-то провела почти две недели в наркозе и с интубационной трубкой. Она не помнила, где находится это отделение, но знала номер палаты. Мы не спеша поднялись на нужный этаж и остановились перед дверью палаты. Штора была опущена — значит, палата занята. Я следила за выражением лица женщины, которая силилась что-то вспомнить, но не могла. «Как вы?» — спросила я, опасаясь, что зря все это затеяла. Пациентка не узнавала ни врачей, ни сестер, как, впрочем, и они ее. Аплодисментов не было, как и триумфального возвращения, какое мне представлялось. Но не было и разочарования, сказала пациентка. Наоборот, она испытала облегчение. Это всего лишь палата. Я попыталась посмотреть на ОИТ ее глазами. Да, оно оказалось меньше и не таким угрожающим, каким она его помнила. Она могла прийти сюда — по собственной воле — и снова уйти. Сама.
В каком-то смысле я тоже сейчас осваиваю незнакомую территорию. Все время моего медицинского образования, с его упором на прогнозируемое будущее, например срок ИВЛ, повторные госпитализации и в конечном счете показатели смертности, я не выходила за рамки именно этих оценок. Да, это необходимый фундамент. Но истории, рассказанные в этой книге, помогли мне увидеть, что это далеко не все. Прогулка по отделению интенсивной терапии, разговор за кофе в группе поддержки или прием у врача, который способен объяснить, что происходило в ОИТ, имеют большую ценность, даже если пока мы не знаем, как ее измерить. Но начинать необходимо, потому что мы продолжаем отправлять людей в неизведанный мир, находящийся по ту сторону выживания.
Прошло уже почти 10 лет с того зимнего дня на первом году резидентуры, когда я удалила катетер из яремной вены молодого человека и приняла его запрос в друзья в «Фейсбуке». В каком-то смысле, думаю, вся эта книга выросла из тех событий. Какие-то детали были немного изменены в рассказе, так как память непостоянна, но суть передана точно. Я до сих пор не знаю, как бы я поступила, если бы снова оказалась в том дне. Возможно, я бы проигнорировала запрос в друзья. Несомненно, это было бы более профессионально. Но даже сейчас, много лет спустя, мне до сих пор в глубине души хочется все-таки ответить. «Да, — написала бы я. Это было бы очень простое сообщение. — Теперь можно перестать мычать».
Благодарности
Путь к получению врачебного диплома ясен и четко очерчен. Совсем не так обстоят дела с написанием книг.
Я благодарна моему агенту и другу Лорину Рису за то, что он первым указал мне нужную дорогу. Несколько лет назад Лорин прислал мне по электронной почте письмо, прочитав заметку, которую я опубликовала в The New York Times. Благодаря профессионализму и поддержке Лорина я получила возможность работать с Трейси Бехар, Йеном Страусом, Пегги Фрейденталь и другими сотрудниками издательства Little, Brown. Все вместе члены этой команды помогли мне превратить мечту в реальность.
Хочу также выразить благодарность моим коллегам и друзьям в больнице Brigham and Women's, Ariadna Labs и больнице имени Сполдинга за поддержку в процессе работы. Большое спасибо Брюсу Леви и Джеральду Уэйнхаузу, которые помогли получить помещение для моего проекта в отделении неотложной пульмонологической помощи в больнице Брайема. Мне несказанно повезло с наставником Сьюзен Блок, без которой я никогда бы не приобрела клинический опыт и склонность к исследовательской работе, что в конечном счете и сделало возможным написание этой книги. Мне повезло и в том, что я смогла поучиться у одного из моих героев — Атула Гаванде, чьи работы помогла мне стать мыслящим добросовестным врачом.
Спасибо Эмили за ее строгий красный карандаш, терпение, энтузиазм и неизменную поддержку.
Спасибо моему брату, который восхищает меня своей немедицинской профессией, никогда не упускает случая пошутить и заставляет меня смеяться. Спасибо отцу, который еще в детстве внушил мне бескорыстную любовь к медицине. Он выступал в роли моего неофициального ночного консультанта-кардиолога столько раз, что я потеряла счет. Без его влияния я никогда не стала бы настоящим врачом.
Но больше всего я благодарна моему самому верному читателю и первому редактору — моей маме. Сколько я себя помню, она всегда верила в меня и побуждала «тянуться к звездам и дальше». Ее гордость, ее безусловная любовь, ее непоколебимая вера в меня значат намного больше, чем я в состоянии высказать. Эта книга посвящается ей.
И, наконец, моя глубочайшая благодарность и признательность пациентам, которые пустили меня в свою жизнь и поделились своими историями. Спасибо вам. Для меня это огромная честь.
Об авторе
Дэниела Ламас — пульмонолог и врач отделения интенсивной терапии в больнице Brigham and Women's и преподаватель в Гарвардской медицинской школе. После окончания Гарвардского колледжа получила диплом врача в Колумбийском колледже врачей и хирургов, где также прошла интернатуру и резидентуру. Затем вернулась в Бостон, где получила узкую специализацию. Работала медицинским журналистом в газете The Miami Gerald и часто публиковалась в The New York Times. Это ее первая книга.
[1] Radiohead — британская рок-группа. — Прим. ред.
[2] Томас Клэнси (1947–2013) — американский писатель, автор книг в жанрах технотриллера и альтернативной истории, а также сценариев к ряду компьютерных игр. — Прим. ред.
[3] Нейропатия — здесь: заболевание периферических нервов. — Прим. ред.
[4] Марди гра (фр. Mardi gras, «жирный вторник») — вторник перед началом католического Великого поста. Самые массовые и пышные празднования Марди гра в США проходят в Новом Орлеане. — Прим. ред.
[5] Шоколадный пирог. — Прим. ред.
[6] Распространенное кардиоупражнение, прыжки с одновременным разведением ног и махом руками. — Прим. ред.
[7] В США День матери отмечается во второе воскресенье мая. — Прим. ред.
[8] Праздник, отмечаемый в США 12 октября, годовщина прибытия Христофора Колумба на Американский континент в 1492 году. — Прим. ред.
[9] Парад роз — ежегодный парад и фестиваль цветов в Калифорнии, который проводится в первый день года. — Прим. ред.
[10] Donate Life America («Пожертвуй жизнь») — некоммерческое объединение организаций, занимающихся просвещением и пропагандой донорства. В США посмертное донорство органов осуществляется в случае прижизненного согласия человека стать донором и/или при согласии ближайших родственников после его смерти. — Прим. ред.
[11] «Крейгслист» (Craigslist, по имени создателя Крейга Ньюмена) — популярная в США электронная доска объявлений. — Прим. ред.
[12] Устройство для проведения ингаляции, расщепляющее лекарственное вещество на сверхмалые части (в отличие от ингалятора, который обращает лекарство в пар). — Прим. ред.
[13] Судья Верховного суда США, сыгравшая значительную роль в защите прав женщин. В 2010-х частью массовой культуры США стал образ 80-летней судьи как «крутой девчонки» от правосудия. — Прим. ред.
[14] Рефлюкс — передвижение жидкого содержимого полых органов в обратном (антифизиологическом) направлении. — Прим. ред.
[15] Американская компания, предоставляющая подписчикам доступ к фильмам и сериалам на основе потокового вещания, также производит собственную видеопродукцию. — Прим. ред.
[16] Диссеминированный — широко распространенный в каком-либо органе или во всем теле человека. — Прим. ред.
Переводчик Александр Анваер
Редактор Мария Прилуцкая
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта О. Равданис
Корректоры Е. Аксёнова, Е. Чудинова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Дизайн обложки Ю. Буга
Фото на обложке The Times / News Licensing
© Daniela Lamas, 2018
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2019
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2019
Ламас Д.
Жизнь взаймы: Рассказы врача-реаниматолога о людях, получивших второй шанс / Даниэла Ламас; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2019.
ISBN 978-5-9614-2898-8
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


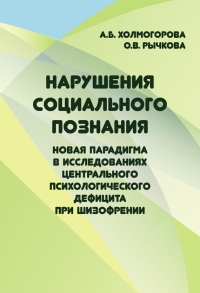
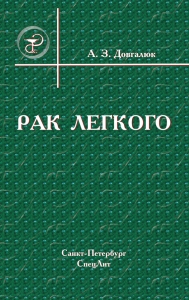
Комментарии к книге «Жизнь взаймы: Рассказы врача-реаниматолога о людях, получивших второй шанс», Даниэла Ламас
Всего 0 комментариев