Михаил Шифрин 100 рассказов из истории медицины: Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия
Научные редакторы
Бадма Николаевич Башанкаев, FASCRS, FACS, член правления Российского Общества Эндоскопических Хирургов, медицинский директор, главный хирург Центра хирургии GMS Clinics and Hospitals, кафедра хирургии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).
Никита Павлович Соколов, к.и.н., заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина по научной работе, председатель совета Вольного исторического общества.
Редактор Антон Рябов
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта О. Равданис
Корректоры М. Ведюшкина, О. Улантикова, Е. Чудинова
Компьютерная верстка К. Свищёв
Художественное оформление и макет Ю. Буга
© Михаил Шифрин, 2019
© ООО «Альпина Паблишер», 2019
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Предисловие Синдром человека, или История во множественном числе
Появление книги Михаила Шифрина – и то, что такая книга написана, и то, что нашелся для нее издатель, – важное и весьма отрадное общественное событие. И не только в смысле популяризации медицинской науки, но прежде всего в отношении общегражданской истории.
«Публичный» образ отечественной истории с ее героями и злодеями – с конца XVIII в. обязательный элемент самосознания гражданской нации. Но, как заметил проницательный Фридрих Ницше в трактате «О пользе и вреде истории для жизни», «…существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к захирению и вырождению жизни»[1]. Именно это наблюдаем мы в современной России. Деградация публичного образа истории в последние полтора десятилетия очевидна даже в сравнении с советским временем, когда выбор траектории движения представлялся результатом «классовой борьбы», исход которой все же не был фатально предопределен в каждом эпизоде. Ныне на исторической сцене практически остался один субъект – благодетельное государство, которое ведет своих подданных от победы к победе. А единственное содержание истории и мерило успеха ее деятелей – увеличение государственной мощи, позволяющей приобретать все новые и новые территории. Такой образ прошлого не только тормозит построение в России открытого демократического общества, но и находится в глубоком противоречии с постулатами современной исторической науки, которая давно сместила фокус внимания с царей и полководцев на массовое творчество, формирующее культуру повседневности.
Книга возвращает нас к правильному представлению о созидательных силах прошлого: она предельно конкретно показывает определяющую роль частного человека в историческом творчестве, демонстрирует, как личные мотивы множества очень разных людей, сложным образом сплетаясь, способствовали прогрессу человечества в области медицины. Ровно так же совершалось это движение и во всех остальных областях человеческой деятельности. В этом смысле нет единой истории с большой буквы – есть наложение бесчисленного множества разноплановых и разноскоростных историй.
Эту мысль отчетливо сформулировал еще в конце 1930-х гг. французский историк Марк Блок в своей блестящей «Апологии истории»: «Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей»[2]. Эта программа Марка Блока произвела в следующие десятилетия радикальный переворот в европейской науке и европейском сознании. В России эта работа в самом начале. И книга Михаила Шифрина, расширяя диапазон «исторического», несомненно внесет весьма значительный вклад в утверждение в нашем отечестве более здравых представлений о механизмах истории и ее реальных действующих силах.
Еще одним дефектом российских публичных представлений о прошлом остается членение истории на «отечественную» и «всеобщую». Это «школьное» разделение принимается за сущностное и создает питательную почву для разнообразных мифологем «особого пути». Между тем прошлое любой общности людей не может быть вполне адекватно понято изолированно от общемировых процессов. История медицины позволяет сделать эту связность в высшей степени наглядной, и большое достоинство книги состоит в том, что автор такой возможностью широко и основательно пользуется.
Наконец, последнее (отнюдь не по значению) замечание. История, если пытаться представлять ее себе только как цепь героических подвигов и достижений, лишается смысла и содержания. Наиболее ценные уроки человечество извлекает из честного анализа провалов и неудач. Именно этот механизм на многих примерах обстоятельно показывает автор. Причем используя в высшей степени увлекательную, иногда прямо детективную форму. И это также важно: в России навык легкого и в то же время корректного научно-популярного письма до сих пор не выработан. Книга Михаила Шифрина вносит заметный вклад и в это «общее дело».
Никита Соколов, кандидат исторических наук, председатель совета Вольного исторического обществаВведение
Эта книга создана усилиями сотен людей, читавших паблик Doktor.ru, который я веду с 2015 г. Тысячеглавая научная редакция с врачами всех специальностей – настоящая роскошь, возможная пока только в «Фейсбуке». Читатели подали массу идей, исправили десятки самых разных ошибок, за что автор им глубоко признателен. С некоторыми комментариями я не расстаюсь и в бумажном издании.
Вообще, писать об истории медицины довольно легко: в сети в открытом доступе журналы, видео, лекции, архивы великих врачей. Отчего историки так осложняют себе жизнь, изучая тиранов и их подручных, которые старательно скрывают свои делишки и не рассекречивают документы даже столетней давности? Допустим, человеку свойственно в первую очередь исследовать потенциальную опасность, и здесь тираны с полководцами заслуживают внимания, потому что способны причинить много зла. Но зачем их именами называют улицы? Почему не увековечить тех, кто сделал жизнь людей длиннее и качественнее? Можете считать мою книгу пояснительной запиской к проекту переименования ста улиц вашего города. Он от этого станет счастливее, вот увидите.
Есть среди тысяч читателей паблика девять человек, без которых этой книги не было бы никогда.
Во-первых, директор компании «Медмедиа» и хозяйка паблика Юлия Миндер. В 2015 г. я поступил к ней на работу как IT-специалист, занимавшийся автоматизацией верстки сайта. Некоторое время мне довелось модерировать форум Doktor.ru, на котором пользователи задавали вопросы врачам-специалистам. В качестве маркетингового инструмента (SMM) этого сообщества я предложил создать медицинский календарь. И хотя весь отраслевой опыт говорил, что подобный SMM-инструмент «дорог-скучен-неэффективен», Юлия пошла на такой эксперимент.
Важную роль в принятии этого решения сыграл наш директор по развитию Александр Амзин, человек весьма влиятельный в Рунете. Он привел на страничку своих знакомых, чьи подписчики из числа медиков стали репостить эти заметки, потому что они приурочены к определенной дате событий в их профессиональной области.
Поначалу их больше привлекали прекрасные иллюстрации, которые обрабатывал молодой дизайнер Роман Вышников. Объяснив мне основы композиции, он фактически стал ведущим соавтором паблика. Содержание приходилось делать все глубже, чтобы контент был достоин своей обертки.
На Ромины картинки обратил внимание самый выдающийся врач в нашей семье, хирург-онколог Михаил Зайцев. Просмотрев первые 40 заметок, он сказал, что это уже серьезно и да, так можно писать о медицине даже без профильного образования.
С благословения дяди Миши в 2016 г. я написал 60 постов, и редактор «Медновостей» Семён Кваша устроил для них особый раздел на сайте, который я тогда автоматизировал. Семён стал первым профессиональным редактором этих рассказов. Он показал мне их эволюцию и слабые места.
Тем временем моя верная читательница и коллега по былой работе в «Вокруг света» Елена Корюкина первой увидела в текстах паблика книгу и предложила издательству «Альпина Паблишер» заняться этим материалом.
Чтобы иметь дело с шальными авторами вроде меня, нужна известная выдержка. Заместитель главного редактора издательства Ирина Гусинская проявляла ее целый год, хотя перспективы были далеко не ясны.
Наконец, мои задачи по части IT были выполнены. Пора было переходить на другую работу и определяться с авторскими правами на публикацию материалов группы отдельной книгой. Взаимовыгодное решение нашла Елена Березина, личная помощница Юлии. На момент подписания договора она после тяжелой травмы временно передвигалась на костылях, но это ее не остановило. Сейчас у Лены все хорошо. Она ушла в длительное плавание по тропическим морям, и я желаю ей семь футов под килем.
А самый главный читатель и первый слушатель каждой истории – это моя мама Татьяна Станишевская. Она воспитала меня в уважении к литературе и медицине. Природа наделила ее тем сплавом ума, фантазии, самопожертвования и здравого смысла, который создает хорошего врача. Мама поступила было на медицинский, но… обстоятельства сложились иначе. Часто думаю, как много потеряли в тот момент и она, и медицина. Компенсация в меру моих сил не будет лишней.
Михаил Шифрин1 Рождение науки Амбруаз Паре 1537 год
13 ноября[3] 1537 г. родилась современная хирургия. При штурме замка Авильяна французская армия понесла огромные потери – такие, что у цирюльника Амбруаза Паре закончилось масло, по учебнику предписанное для обработки пулевых ран. Оказалось, пациентам, оставшимся без масла, гораздо лучше. С этого дня цирюльник стал изучать хирургию не по книгам, а на практике – тем сравнительным методом, который превратил искусство врачевания в медицинскую науку.
Вот уже 50 лет на поле боя царило гладкоствольное ружье – аркебуза, наводившая на военных ужас. Любое пулевое ранение считали смертельным, да еще особо мучительным. Первым раненным из аркебузы, которого встретил Паре, был храбрый капитан по прозвищу Крыса. Получив пулю в лодыжку, он утратил мужество и сказал цирюльнику: «Вот и попалась Крыса». Амбруаз кое-как выковырнул пулю, перевязал рану. Капитан выздоровел. На старости лет Паре вспоминал свое тогдашнее ощущение – как будто по незнанию сделал что-то не то и просто повезло: «Я его перевязал, а исцелил его Бог».
Паре не было и 27 лет, он в прямом смысле еще не нюхал пороху. Даже состоял не в том цехе – не хирург, а цирюльник. Даже не полноправный цирюльник, а подмастерье, которому не хватило денег на оплату экзамена, вот и нанялся в армию.
Отец Амбруаза тоже был брадобрей в небольшом городке Лаваль. На его троих сыновей там уже не хватало бород. Амбруаз нашел место ученика в Париже, где имел приработок: подряжался делать кровопускания по заказу докторов с медицинского факультета. Сами врачи брезговали ручной работой, а давать заказ коллегии хирургов не желали, потому что не ладили с этим цехом. Хирурги жаловались королю, что цирюльники отбивают хлеб, но доктора всегда заступались. Единственное место, где интересы трех цехов сходились, – это городская больница Отель-Дьё. Там врачи лечили, хирурги оперировали. Грязную работу делали цирюльники, для которых больница была чем-то вроде биржи труда.
У горожан Отель-Дьё пользовался дурной славой места, куда свозят умирать бедноту. Состоятельные люди предпочитали звать врача на дом. Отношение к пациентам в больнице было действительно самое пренебрежительное: с ними разрешали делать все что угодно. Они становились жертвами практикантов вроде Паре, которому хотелось освоить медицинские манипуляции, хотя перспектива попасть в коллегию хирургов не просматривалась. Печей в больнице не топили. Паре вспоминал, как в особо суровую зиму четыре пациента отморозили носы и он выполнял ампутацию. При этом двое умерли, но никто не сказал дурного слова. Напротив, ловкого юношу порекомендовали барону Рене де Монжану, который в новом итальянском походе командовал всей французской пехотой, швейцарскими наемниками и ландскнехтами из Германии.
Закрепленных за армией военных врачей или хирургов еще не существовало. Командир являлся предпринимателем, который за казенные деньги нанимал себе на службу добровольцев: солдат, прапорщиков, офицеров и медиков. Ему дела не было, что раненых пользует цирюльник-недоучка. Сам он под пули не собирался, зато лично его будет брить и стричь приятный молодой человек, неженка, не употребляющий бранных слов; грубости на войне и так хватает. А главное – стоит недорого.
Паре нужно было немного – 72 с половиной су на оплату экзамена у докторов с медицинского факультета за право стать мастером-цирюльником. А также несколько больше на угощение других мастеров и ежегодную мессу в цеховой церкви Сен-Люк. 72,5 су в 1537 г. – это цена 100 стогов сена без доставки или полутора сетье (баррелей, бочек по 152 л) пшеницы. Не бог весть что, но таких свободных денег у подмастерьев не водилось. К началу похода все имущество Амбруаза Паре составляли конь, пара сундуков с маслами, бальзамами, мазями, корпией, инструментами и лошадка с обрезанным хвостом для слуги, который ассистировал при операциях.
Помимо денег, на войне были интересны попутчики-ландскнехты. В отличие от французского сброда с колющим и режущим (пиками, протазанами, алебардами), немцы вооружались аркебузами. И нанятые ими хирурги – не мальчишки, а настоящие специалисты: начитанные, со степенями, на счету не один «вояж», как врачи называли свое участие в военных кампаниях. У них было чему поучиться в боевой обстановке.
Первое ЧП случилось еще на французской территории: поваренок барона де Монжана упал в котел с горячим маслом. Паре пошел купить что-нибудь охлаждающее в аптечной лавке. Там была старая крестьянка, которая посоветовала ему простое средство: приложить к ожогу пасту из лука, толченного со щепоткой соли. Сделать нужное количество пасты Паре не успел, но заметил, что там, где ее нанесли, волдырей не возникло. Вскоре это сравнение он повторил уже на войне.
Перед армией стояла задача перейти Альпы и разогнать войска испанцев и итальянцев, осаждавшие занятый французами Турин. Амбруаз первый раз увидел штурм города, когда брали Сузу. «Крики раненых врагов под копытами наших коней разрывали мое нежное сердце. Вот когда я пожалел, что оставил Париж ради этого печального зрелища». Становясь на постой в указанный дом, Паре со слугой завели лошадей в хлев и там увидели трех солдат со свежими пулевыми ранами. Одежда на них еще тлела от пороха. Они подавленно молчали. Паре не знал, что делать. Немецкие хирурги сказали ему, что порох и свинец отравляют рану, поэтому ее для начала надо прижечь кипящим маслом семян черной бузины. Масла под рукой не было, опыта его применения – тоже. Подошел старый французский солдат и спросил:
– Вы можете их вылечить?
– Я? Нет.
Тогда солдат достал нож и спокойно перерезал глотки всем троим.
– Ах ты сволочь! – закричал Амбруаз.
Тот не обиделся:
– Если я буду в их положении, надеюсь, какой-нибудь добрый человек сделает со мной то же самое. Лучше так, чем мучиться.
Этих несчастных подстрелили солдаты из гарнизона Сузы, которые сражались, пока не поняли, что перед ними десятитысячная армия. По обычаю того времени нельзя было трогать противника, если он бросал оружие и выходил из боя с белой палкой в руке. Так итальянцы и поступили, сказав на прощание, что пойдут куда глаза глядят. Но ушли они не слишком далеко. Самые отчаянные закрылись в замке Авильяна, возвышавшемся над дорогой за 24 километра до желанного Турина.
1 ноября (11-го по григорианскому календарю) французский главнокомандующий Анн де Монморанси обнаружил это препятствие. Его можно было обойти, но Монморанси не желал оставлять замок, занятый противником, на единственном пути в тыл. Предложил сдаться. Из замка ответили, что они такие же хорошие слуги императора Карла V, как он – своего короля Франциска I. «40 испанских и итальянских негодяев решились этот замок защищать. Но, по правде сказать, укрепления сильные и подступиться можно только в одной точке», – писал Монморанси королю.
Даже в этой самой точке надо было пробить стену, для чего требовалось втащить на соседнюю горку тяжелую артиллерию. Испанцы были уверены, что это невозможно, потому что дорога наверх простреливалась из замка. Все же ландскнехты сумели в полной темноте на тросах с блоками бесшумно затащить туда пару пушек. Затем доставили порох и ядра. Изготовившись к обстрелу, канониры сели покурить. Кто-то из них во тьме выбил трубку на мешок с порохом.
Сам виновник взлетел на воздух вместе с десятью солдатами. Вокруг орудий все запылало, со стен замка аркебузиры метко били по солдатам, спасавшим от огня боеприпасы. Появилась масса пострадавших с огнестрельными ранениями, которыми тут же занялись опытные хирурги. При взрыве порох опалил руки и лица десяткам французов. Их поручили заботам Паре как специалиста по ожогам. Он умышленно обрабатывал одних луковой пастой, а других – бальзамами из аптечки. И так убедился в воспроизводимости эксперимента и познавательной силе сравнения. Сделав дело, Паре пошел смотреть, как старшие коллеги врачуют огнестрельные раны. Действовали они точно по руководству, которое составил в 1517 г. личный хирург римского папы Джованни да Виго. В медных ковшиках на огне кипятили масло с патокой – считалось, что масло выжигает заразу, а патока нейтрализует пороховой яд. Окунали в ковшики плотные тампоны из корпии и аккуратно, щадя свои пальцы, заталкивали в раны эти тампоны, с которых капало раскаленное масло. Пациенты выли от боли, им в утешение давали вина. После извлечения пуль свежий ожог мазали, согласно книге да Виго, яичным желтком с розовым маслом и скипидаром.
Все это произвело на Паре тяжелое впечатление. Что ж, раз так написано у самого авторитетного хирурга, надо набраться мужества и выполнять это недрогнувшей рукой. Назавтра штурм, будет еще больше раненых, и на долю цирюльника достанется не один десяток.
Весь день 12 ноября и до обеда 13-го французские орудия ломали стену. Наконец в готовую брешь устремились гасконцы, бретонцы и пикардийцы. Защитники понимали, что пощады не будет, и дорого продали свою жизнь, убив и поранив несколько сот человек пулями, дротиками, камнями и арбалетными болтами. Живыми попали в плен лишь капитан, знаменщик и два стрелка. Монморанси велел всех повесить на дымовой трубе, чтобы видно было издалека «в пример другим, кто из упрямства вздумает всерьез оборонять столь маловажные пункты».
Король Франциск I, герой рыцарских турниров, похвалил Монморанси за такое мудрое решение. Но мы с вами обязаны мужеству этих людей. Они нанесли такое количество огнестрельных ранений, что у Паре закончилось масло семян черной бузины и он пошел на исторический эксперимент. С теми, на кого масла не хватило, цирюльник пропустил стадию прижигания и сделал то, что по руководству полагалось дальше: извлек пули и намазал раны желтком со скипидаром. Всю ночь на 14-е он не мог спать спокойно: ему виделись отравленные пациенты, умирающие от яда. Утром, едва забрезжил рассвет, бросился он к своим раненым и был весьма удивлен: оставшиеся без прижигания спокойно спали. Никаких признаков воспаления у них не возникло. А вот обработанные кипящим маслом метались от боли, ожоги причиняли им страшные мучения. Выживаемость в этой контрольной группе была на порядок ниже!
С этого дня Паре поклялся подвергать любые мучительные процедуры проверке опытом. Что бы там ни писал да Виго. Или даже Гален с Гиппократом. Впрочем, их он и так не читал, потому что не знал ни латыни, ни греческого.
Когда пробились в Турин, работодатель Амбруаза барон де Монжан был назначен маршалом Франции и командующим оккупационной армией. Среди праздных воинов то и дело возникали ссоры, в основном из-за азартных игр. Дуэлянты дрались на шпагах, копьях и даже аркебузах. Поединки были, конечно, запрещены. Раненых участников де Монжан в наказание отдавал на опыты своему цирюльнику. Паре отработал извлечение пуль до совершенства, спроектировал массу новых инструментов и заказал их прекрасным итальянским мастерам.
Через два года де Монжан умер от разлития желчи (холецистита). Паре вернулся в Париж. Его сразу же пригласил на обед ученый доктор Жак Дюбуа, до войны основной заказчик Амбруаза. Этот медик был патологически скуп и пользовался услугами подмастерья потому, что Паре брал меньше всех. Послушав его рассказы и осмотрев инструменты, Дюбуа стал уговаривать Паре написать руководство по хирургии огнестрельных ранений.
– Я по-латыни не пишу.
– И незачем. Твои читатели – французские цирюльники.
– Я не ученый доктор!
– Да будет тебе шапочка, сами принесут. Кто публикуется, тот и доктор.
Получив плату за участие в войне, Паре вступил в цех цирюльников. Теперь он мог жениться. Взял приданое, издал свою «Методу лечения ранений, причиненных аркебузами и прочим огнестрельным оружием…». Сразу появились ученики. Когда же он применил перевязку сосудов и отказался от прижигания даже при ампутации, коллегия хирургов вручила ему докторскую шапочку.
Докторская степень полагалась за диссертацию на латыни, но не в случае с Паре. Свои 26 медицинских книг он писал по-французски. Правил текст и вычитывал опечатки только сам, никому не доверяя. Во всех сочинениях проводил три простые идеи:
1. Что наблюдаем – пишем, чего не наблюдаем – не пишем;
2. Чужой эксперимент воспроизведи, потом ругай или хвали;
3. Никаких секретов: сделал – тут же публикуй, больным и раненым ждать нельзя.
Карьера Паре – одна из самых блестящих в истории науки: разбогател; прожил в хорошей физической форме 80 лет; лейб-медик при четырех королях. Он стал образцом для молодых. Бедняк из далеких от медицины кругов, начав с нуля, добился всего, чего может достичь врач, честной работой над своими ошибками и публикацией результатов, в том числе отрицательных. Лучшие медики пошли тем же путем и двигаются по нему до сих пор.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ[4]
Влад Зинченко: Попытка найти что-то о 13 ноября 1537 г. на английском, дабы поделиться со своими коллегами, не увенчалась успехом. Могу ли я узнать, откуда такая конкретика в дате? Просто чувствую, как повод утекает сквозь пальцы…
Ответ: В биографии герцога Монморанси приведена дата переговоров с защитниками замка Авильяна, затем говорится, что полтора дня артиллерия пробивала брешь. Переписка с королем оттуда же. Дата переговоров – 1 ноября. Стало быть, штурм 3 ноября. Разница между юлианским календарем, которым тогда пользовались французы, и нашим григорианским в XVI в. составляла 10 суток. Если, например, от 13 ноября 2017 г. сделать в глубь времен 480 шагов по 365,25 суток, попадаешь в тот самый день.
2 Презерватив в профилактике венерических заболеваний Габриэле Фаллопио 1563 год
13 ноября 1563 г. был опубликован отчет о клинических испытаниях важнейшего изобретения – презерватива, который анатом Габриэле Фаллопио придумал для профилактики заражения сифилисом.
Рассказ Фаллопио – это лекция, прочитанная им в Падуанском университете. Начинается она заманчиво: «Я научу вас, каким образом, если вы увидели прекраснейших сирен и совокупились с ними, уберечься от галльской болезни». Метод работал. Студенты так полюбили своего профессора, что издали записи лекций Фаллопио после его безвременной кончины. Первым вышел курс о галльском поветрии, как называли тогда сифилис.
Эта болезнь казалась страшней чумы: ее эпидемию не мог прекратить карантин. Лекарств от сифилиса не было, кроме ртути, которой пациенты травились без гарантии выздоровления. Особенно беззащитны были женщины. Замужних не спасала верность – в походах и командировках супруг часто встречал «прекраснейших сирен». Поэтому законные жены годами отказывали мужьям в близости. А «сирены» рисковали еще больше. О них Фаллопио заметил: «Куртизанки тоже имеют душу, и негоже их заражать».
Его теория сводилась к одной идее: после секса на коже здорового человека остаются «гнилостные частицы» больного, они въедаются в поры на коже, и здоровый сам начинает гнить. Значит, нельзя пускать «частицы» в свои поры.
Для похода к «сиренам» Фаллопио сшил удобную холщовую сумку по форме бедра, «такую большую, чтобы в ней можно было носить целую аптеку». Перед соитием следует, по его словам, очистить одежду куртизанки, а также при возможности ее лоно. Потом в ход шло главное изобретение – льняной колпачок, который надевался на головку члена и накрепко завязывался. От нежелательной беременности он не спасал, но в сравнении с люэсом это не было проблемой.
Важнее всего был состав, которым пропитывался презерватив. Намучившись с ртутью, европейские доктора поинтересовались, чем лечатся на родине сифилиса – в Америке. Оказалось, что смолой гваякового дерева, которое растет на Ямайке. Фаллопио кипятил опилки гваяковой древесины, смешивал отвар с толченым корнем горечавки, сиропом алоэ и другими традиционными снадобьями. Затем льняной колпачок вымачивался в отваре и сутки сушился в тени. А после использования его нужно было обязательно обработать квасцами и другими едкими веществами.
Секрета из этих манипуляций Фаллопио не делал: важно было скорее распространить презервативы, чтобы ограничить эпидемию. К испытаниям приступили в марте 1555 г. Список всех 1100 участников эксперимента хранился в архиве герцога Падуанского. Известно, что те, кто следовал инструкции, сберегли свое здоровье. Редактируя издание лекций Фаллопио, его коллега Антонио Фракандзани сделал одно замечание: за своим презервативом надо следить, из-за обработки едкими квасцами он может начать пропускать заразу.
Злые языки говорили, что льняной колпачок «защищает от удовольствия, как латы, а от болезней – как паутинка». И все же до латекса, который вслед за гваяковой смолой пришел из Америки, ничего лучше Европа не знала.
3 Старейшая клиническая больница Европы Ото Хёрниус 1636 год
22 декабря 1636 г. приют Святой Цецилии в голландском городе Лейден стал клинической больницей: студенты-медики начали осматривать пациентов и наблюдать их лечение. Теперь это самая старая клиническая больница в мире, ныне преобразованная в Медицинский центр Лейденского университета. Ее открытие предрешила сенсационная хирургическая операция, прогремевшая на всю Европу.
Человек, которому мы так обязаны, был обычным деревенским батраком 22 лет от роду. Он жил в Восточной Пруссии на хуторе у деревни Грюненвальд (ныне польская Зеленица у самой границы с Калининградской областью России). Звали его Андреас Грюнхайде. На праздник Троицы 1635 г. Андреас так объелся, что не мог уснуть. Во вторник, 29 мая, в пятом часу утра, он спросил друга, как ему быть.
Друг предложил засунуть два пальца в рот, чтобы вырвало. Рефлекс не действовал. Тогда друг посоветовал взять нож за кончик лезвия и пощекотать его рукоятью гортань. Тоже не помогало. Андреас продвинул рукоять ножа так глубоко, что она мешала дышать. Тут он невольно сглотнул, и нож провалился в пищевод.
Хуторяне поднялись по тревоге. Андреаса трясли, переворачивали вверх ногами, влили в него бочонок пива. Бесполезно. Тогда наниматель отправил его в Кёнигсберг на медицинский факультет университета. От деревни Грюненвальд до Кёнигсберга (ныне Калининград) – 60 километров. Из них 38 Андреас ехал в телеге, а 22 прошел пешком, поскольку нож внутри уже давал о себе знать.
В Кёнигсберге консилиум во главе с деканом медицинского факультета Даниэлем Беккером госпитализировал Андреаса. Решили выжидать. За 6 недель дождались только жуткой боли. Пациент был готов подвергнуться крайне рискованной операции без наркоза, лишь бы прекратились его страдания.
Операция началась 9 июля в 9:15 утра. Проводил ее военный хирург Даниэль Швабе под наблюдением городских врачей и профессоров. Они нарисовали на коже углем 10-сантиметровую линию разреза там, где Грюнхайде ощущал самую острую боль – примерно на ладонь выше пупа. Больного напоили бульоном и – для укрепления сердечной деятельности – настойкой мускатного ореха. Затем привязали к доске за руки и за ноги, поставили доску вертикально и приступили к делу. Швабе разрезал кожу и сказал, что боится трогать мускулы. Ведь кровь хлынет рекой, или, не дай бог, пересечешь какой-нибудь важный нерв. Наконец, хирурга уговорили продолжать. Когда мускулатура была разрезана, подключился человек с университетским образованием – лиценциат Крюгер.
Чуть ли не полчаса Крюгер зондировал рану, но никак не мог найти желудок. Вопящий пациент затих и потерял сознание. Его отвязали, положили на стол и стали совещаться. После жаркого спора согласились, что еще не прорезана брюшина. Тем временем больной стал приходить в себя, его снова привязали к доске. Даниэль Швабе прошел брюшину и нащупал желудок. Но этот орган ускользал из пальцев, его было не за что ухватить. После некоторых раздумий догадались проткнуть его полукруглой иглой и так за две точки зафиксировать. Предложивший это хирург Ганс Грёбель был, видимо, рыболов.
Швабе ножницами разрезал стенку желудка. Затем лиценциат Крюгер засунул в желудок правую руку и стал искать нож. Безрезультатно. Тогда Швабе попробовал сделать это левой рукой, нащупал нож и ухватил его за середину. Нож норовил выскользнуть. Чтобы не перебирать пальцами, рискуя упустить проклятый инструмент, хирург повернул его острием к разрезу и своей правой рукой надавил на стенку желудка так, что нож проколол в ней еще одно отверстие, через которое и был вынут. Больной радостно сказал: «Да, это мой нож». Рану зашили, и к 10 утра операция закончилась. 17 июля пациент смог встать с постели и выйти на улицу. Он вернулся к тяжелому крестьянскому труду и прожил еще 10 лет. Успел жениться, оставить потомство и даже пережил хирурга Швабе.
Уже летом 1635 г. в Кёнигсберге напечатали лубок, то есть издали массовым тиражом листовку. На одной стороне помещалось изображение операции, на другой – повествование о ней в стихах. И хотя поэт немного приврал, а художник кое-что напутал, лубок все же стал отличной рекламой Кёнигсбергского университета. Листовка разлетелась по Европе и наделала шума не меньше, чем в 1967 г. известие о первой пересадке сердца.
Ведущим университетом протестантской Европы был тогда Лейденский в Голландии. Тамошние профессора задумались, как быть с новыми конкурентами, до которых всего несколько дней идти под парусом. Лейденский профессор практической медицины и анатомии Ото Хёрниус тут же написал Даниэлю Беккеру поздравление с выдающимся успехом и попросил прислать протокол операции, портрет пациента и тот самый нож, чтобы поместить его в экспозицию при анатомическом театре, которым Хёрниус заведовал.
Этот анатомический театр был в самом деле театром. В зимнее время, когда тела разлагались медленно, Хёрниус проводил там публичные вскрытия, которые любой желающий мог наблюдать за 60 грошей. Первые три ряда отводились профессорам, хирургам и студентам-медикам, которые присутствовали всегда – на это время все лекции и семинары отменялись.
Пустых мест анатомический театр не знал. Каждая аутопсия продолжалась три дня в торжественной обстановке, как месса, да и происходило все в реквизированной церкви. По большому счету такое вскрытие можно считать богослужением, поскольку оно имело целью поразить публику совершенством замысла Создателя. Коль скоро Господь сотворил человека по своему образу и подобию, можно познать Бога, исследуя, как устроен человек.
Профессор-гуманист Хёрниус очень жалел, что ему достаются всего три-четыре тела за сезон. В основном трупы разбойников, казненных на виселице. Реже бесхозные «ничьи бабушки» из больницы для бедных. Разбойники чаще всего не успевали обзавестись хроническими заболеваниями. Выходило, что за все время учебы студенты видели не более 16 трупов, причем на расстоянии, да еще и тела в целом здоровых людей. Вот почему кёнигсбергские врачи никак не могли решить, что перед ними – желудок или брюшина. Ведь и они видели трупы только в театре.
Прочитав описание операции, Хёрниус увидел слабое место своих конкурентов. Чтобы научить студентов тому, чего в Кёнигсберге не знали, нужно дать им вести пациентов в больнице, а в случае смерти проводить вскрытие, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Так в 1543 г. поступал в Падуе знаменитый да Монте, но после его смерти обскуранты-католики то и дело пресекали занятия в больницах. В свое время отец Хёрниуса, тоже профессор, учился в Италии и попал на клиническую практику к бывшим студентам да Монте.
Старший Хёрниус понимал, как это важно, и еще в XVI в. предлагал голландцам сделать то же самое. Но федеральные кураторы университета сокращали расходы, а Лейден за клиническую практику платить не хотел. Город и так с трудом набрал денег на больницу для бедных, применив новую тогда технологию фандрайзинга: была устроена лотерея.
С тех пор минуло 35 лет, больница в реквизированном монастыре Святой Цецилии исправно работала. 45-тысячный Лейден был поделен на четыре участка, закрепленных за одним из четырех городских хирургов. Постоянно обходя свой район, хирург возвращался в больницу и оставлял там адреса тех, кого необходимо госпитализировать. Палаты для выздоравливающих были вдвое меньше помещений для больных, потому что в среднем каждый второй пациент домой не возвращался. Коренные граждане Лейдена обычно отказывались от госпитализации, предпочитая умереть дома. Поэтому больница была забита беженцами и мигрантами, являя собой настоящий клад для патолога. Каких только болезней тут не было!
Хёрниус-младший много лет ходил кругами возле приюта Святой Цецилии, но федеральные кураторы отмахивались от его инициатив. И вот наконец помогли конкуренты. В Утрехте образовали университет, где медицину преподавал бывший студент Хёрниуса Виллем ван дер Стратен. Он тоже находился под впечатлением от кёнигсбергской операции и мечтал о клинической практике. А так как кураторы у него были только местные, быстро получил разрешение и уже 16 марта 1636 г. пришел со своими студентами в больницу.
Вот это и привело в движение лейденское начальство. Теперь Хёрниуса не просто решили «пустить в больницу». В приюте Святой Цецилии открыли новое учреждение – «практический медицинский коллегиум». Помещался он в морге, специально пристроенном к приюту. Городским хирургам вменили в обязанность вскрывать перед студентами тех, кто умер после госпитализации. А профессор должен был объяснять, что к чему.
Хёрниус не просто пояснял учащимся, от чего умер пациент. Уже на первом занятии 22 декабря 1636 г. профессор показывал студентам больных и спрашивал, каков, по их мнению, диагноз и чем нужно лечить. Свое суждение Хёрниус высказывал в последнюю очередь. Студенты молчали, как на допросе в полиции. Они боялись позора. Мало того что можно разойтись во мнениях с наставником, так еще в случае смерти пациента твой ошибочный диагноз опровергнут на вскрытии, и тогда товарищи засмеют. Кончилось тем, что кураторы попросили Хёрниуса не пытать студентов и побыть просто гидом.
Спустя 22 года место умершего профессора занял его ученик Франциск Сильвий, приглашенная звезда из Амстердама. У Сильвия студенты заговорили как миленькие. Молчунов он избегал, не обращаясь к ним в общей дискуссии. Теперь позором для студентов стал не ляп, а невнимание со стороны знаменитого преподавателя. Кроме того, они поняли, что так гораздо интереснее.
Сильвий исследовал не только ту часть тела, где развилась смертельная болезнь, но и те, что интересовали его как ученого. Есть воспоминания, как он изучал ухо человека, умершего от кишечной непроходимости. Заодно ухо изучали его питомцы. Вместе с Сильвием они ставили диагнозы в самых трудных случаях и подбирали новые, еще не опробованные лекарства. Они творили вместе с наставником. Приток студентов в Лейден отовсюду был необычайный. В морге для них теперь стояло не три скамьи, а пять.
И они уже знали, зачем нужна лейденская больница для бедных. Теперь тело человека постигали не во имя Господа, а чтобы сделать карьеру в науке и успешно лечить тех, кто пока не подвергся вскрытию.
4 Знакомство европейских врачей с рефлексотерапией Виллем тен Рейне 1674 год
6 ноября 1667 г. японский сёгун попросил правительство Голландии прислать ученого. Так в Японию попал первый дипломированный европейский врач, который, вопреки желанию хозяев, узнал секреты акупунктуры, прежде известной на Западе понаслышке.
Из европейцев одни только голландцы имели право жить в Японии, и то лишь на крохотном островке Дэдзима в бухте Нагасаки. Раз в год вся голландская фактория отправлялась в столицу на поклонение императору. Тогда сёгун – реальный правитель страны – расспрашивал старшину фактории о политических событиях на Западе и новых европейских изобретениях. В 1667 г. сёгун узнал от голландцев, что в Европе существуют ботаники, собирающие гербарии. И тут же попросил прислать ему ботаника.
Голландская Ост-Индская компания раздумывала несколько лет. Наконец выбор пал на молодого ученого Виллема тен Рейне, который имел к тому же диплом врача. Уже ходили разговоры, что у японцев какая-то особенная медицина. Вот пусть профессионал и разузнает, на чем она основана.
В октябре 1674 г. тен Рейне прибыл в Японию и там увидел сцену, которая глубоко его поразила. Солдат-японец из охраны фактории после бега напился холодной воды, и его скрутила жуткая боль в животе. У европейского врача не было ни обезболивающих, ни методов лечения заворота кишок. Японец выпил саке. Не помогло. Тогда он лег на спину, взял иглу, вымерил себе на животе какие-то четыре точки. Задержав дыхание, молоточком вогнал себе иглу в живот на толщину пальца. Отсчитав 30 вдохов-выдохов, вынул иглу, сменил точку. После четвертой точки боль отступила.
Японцы очень обрадовались, что приезжий ботаник еще и врач. Явился местный лекарь, знаток китайского языка и дальневосточной медицины, и задал гостю 150 вопросов. Один другого удивительней: «Почему вы считаете только левый пульс?», «Чем карбункулы типа инь отличаются от карбункулов типа ян?» и так далее. Тен Рейне не понимал, как отвечать. Стали растолковывать ему про энергию ци, показывать схему каналов с точками воздействия. Голландец про ци не понимал и спрашивал: «Это кровеносные сосуды?» – «Нет, это течет ци».
Тен Рейне подумал, что это вроде древнегреческой пневмы, и гордо заявил, что такая концепция в Европе устарела, с тех пор как Гарвей открыл кровообращение. Японцы ответили, что кровообращение им известно уже несколько веков, и даже показали учебное пособие для будущих врачей – статую, внутри которой циркулировала вода по трубочкам, изображавшим сосуды. Европейские мастера того времени еще не постигли гидравлику настолько, чтобы повторить эту машину.
Кровопускание – любимый на Западе метод снижения артериального давления – привело японцев в ужас: кровь, основа жизни, покидает тело! Какое же это лечение?
Искусство введения иглы в том и состоит, чтобы в ходе процедуры не было ни кровинки. Пришлось объяснить голландцу основы чжэнь-цзю, то есть рефлексотерапии. Через два года тен Рейне стал наконец что-то понимать, и тогда его выслали из страны без объяснения причин. Сёгун хотел приобщиться к европейской биологии – в его планы не входило просвещение «заморских чертей».
Виллем тен Рейне больше не увидел Европы. Он остался в голландской колонии на Яве руководить лечебницей для прокаженных. Там и написал книгу об иглоукалывании, которому дал латинское название «акупунктура». В книге был чертеж иглы и четыре схемы расположения акупунктурных точек, срисованные с китайских и японских картинок. Автор не разделял стремления японцев лечить только так, как в древности. Неудачи они объясняли тем, что по невежеству отступили от канона: «Учитель говорил иначе!» Тен Рейне не сомневался, что со временем европейская наука обгонит чжэнь-цзю. Но список болезней, которые лечили иглоукалыванием, вызывал уважение: эпилепсия, катар и лихорадки, меланхолия, гельминтозы, понос, подагра, болевой синдром и даже гонорея. К тому же рефлексотерапию успешно применяли не только врачи, но и широкие массы населения, которые в отличие от европейцев были грамотны и читали инструкции по чжэнь-цзю. Свою книгу тен Рейне закончил призывом к читателю попробовать акупунктуру на себе. «Тогда, – писал он, – я очень обрадуюсь, потому что в моих путешествиях будет хоть какой-то смысл».
Европейских коллег заинтересовало в этой книге не столько иглоукалывание, сколько прижигание полынными сигарами (моксотерапия). Этот метод в сравнении с уколом не до крови выглядел более «материальным» и на какое-то время вошел в моду. Еще в лазаретах наполеоновской армии врачи старшего поколения практиковали моксотерапию при выхаживании раненых.
5 Первая амбулатория для людей с психическими расстройствами Эдвард Тайсон 1684 год
11 ноября 1684 г. главным врачом Бедлама, лондонского дома умалишенных, стал доктор Эдвард Тайсон – первый психиатр-гуманист, который организовал амбулаторию для людей с психическими отклонениями.
Врач в те времена заведовал также хозяйственной частью, поэтому мог сильно изменить жизнь больных. Осмотрев обитателей Бедлама, Тайсон обнаружил, что все они страдают обычными болезнями: у кого дерматит, у кого водянка или даже некроз, и каждый второй истощен. Новый врач сделал ставку на регулярное мытье и улучшенное питание. Завтракали кашами, в обед давали молочный суп или бульон, мясо с капустой или картошкой и кружку пива. В пять вечера – хлеб с маслом и молоко. От такого питания многие вышли из депрессии. По Англии пошла добрая слава. В других заведениях сумасшедших обворовывали и били, в нетопленых палатах не кормили, а тут – рай земной. В Бедлам выстроилась очередь!
Пришлось Тайсону выписывать больных, которые казались наиболее адекватными. От них требовалось только регулярно приходить и показываться врачу. Так возникла первая психиатрическая амбулатория. Сумасшедший дом перестал быть конечной остановкой.
За 24 года службы Тайсон, по статистике, выписал две трети своих больных, и не просто ради освобождения коек, а по случаю полного выздоровления. Мясо с картошкой и теплые ванны творили чудеса. Люди осознавали, что жизнь бывает прекрасна, и приходили в себя. Однако самому симпатичному пациенту из тех, кто пребывал в Бедламе 11 ноября 1684 г., доктор помочь не сумел. Тайсон оказался бессилен перед алкоголизмом.
Поэт Натаниел Ли, как и другие литераторы того времени, жил в доме богатого аристократа-покровителя: лорды мерились своими поэтами. А Ли был к тому же драматургом, и очень популярным. Собрат по перу Джон Уилмот, граф Рочестер, приучил его к дорогому портвейну. И однажды Ли, будучи в гостях у графа Филипа Пемброка, заперся в винном погребке, чтобы осушить все стоявшие там бутылки. Ущерб он причинил немалый, попал под суд. Такое поведение показалось судье безумным, а безумцу место в Бедламе. Психиатрического освидетельствования тогда не было, юристы ориентировались на свои представления о норме. Во всяком случае, компенсировать графу Пемброку стоимость выпитого Ли не мог.
Тайсон взялся за него как следует. Чтобы поэт и думать забыл о вине, его побрили наголо и намазали лысый череп шпанской мушкой. И так много дней подряд. Жгло ужасно, и, чтобы не было слишком больно, Ли стал сочинять. За четыре года в Бедламе он написал две пьесы, которые шли в театрах и приносили доход. Теперь ему было на что жить среди людей. И доктор Тайсон решил, что раз пьяница перенес годы без вина, то с вредной привычкой покончено.
Но на воле Натаниел Ли запил по-черному. Четыре года просаживал он свои гонорары, не сочинив ни строчки. Наконец голым и босым снова попал в Бедлам. После недели шпанских мушек и молочной диеты поэт поклялся Тайсону: больше – никогда! И был выписан.
Где он достал деньги, непонятно. Ночь напролет Ли кутил и дрался по всему Лондону, а утром упал замертво на мостовую. Прямо посреди улицы. Случилось это в Сити, у ворот Темпл-Бар.
6 Операция свища прямой кишки Шарль-Франсуа Феликс и Людовик XIV 1686 год
18 ноября 1686 г. королю Людовику XIV успешно прооперировали свищ прямой кишки. C тех пор эта операция известна как «королевская». После нее хирургию стали считать полноценной профессией, а хирургов приравняли к врачам.
Врачи были отчасти повинны в возникновении королевского свища. Уже несколько лет Людовик страдал парапроктитом. Военную кампанию 1685 г. он провел в седле, что лишь усугубило течение болезни. Чтобы снять воспаление, придворные медики за полгода поставили королю две тысячи клистиров. По идее, они были правы (промывание нужно), но переусердствовали. Закономерно, что развился парапроктит и транссфинктерный свищ: в трех сантиметрах от ануса возникло отверстие, соединенное свищевым ходом с прямой кишкой.
Теперь Людовик не мог толком ни сидеть, ни ходить. С каждым днем он делался все печальнее. Хотя его состояние держали в секрете, мрачный вид короля и его редкое появление на публике порождали нехорошие слухи. Мази, припарки, свечи не помогали. Тогда первый придворный медик предложил отдаться в руки цирюльника-хирурга. Вызванный Шарль-Франсуа Феликс не смел отказать королю, но заявил, что таких операций еще не делали и нужно полгода на отработку методики.
Идея была ясна: иссечение свища в просвет прямой кишки, а дальше само заживет. Король не стар, ему только 48, выдержит. Но как провести это иссечение быстро, без осложнений и не слишком болезненно? Ведь анестезии еще не существовало.
Со всей Франции повезли к Феликсу страдальцев со свищом. Начали с заключенных из тюрем. Пробные операции часто заканчивались летальным исходом. Хоронили бедняг на заре, чтобы не привлекать лишнего внимания. Потом настала очередь больных из сельской местности. Раз за разом операции проходили все лучше. После семьдесят пятой по счету Феликс почувствовал себя уверенно.
Королевская операция была назначена на 18 ноября. Накануне Людовик спокойно уснул и спал до семи утра, не показывая ни малейшего волнения. Когда его разбудили, он произнес только: «Господи, предаю себя в руки твои», – улегся животом на валик и раздвинул ноги. Феликс волновался куда больше. Людовик сказал ему: «Режь спокойно, как будто перед тобой крестьянин». Феликс ввел в анус ретрактор, а в свищ – зонд. Оба инструмента он лично сконструировал для этой операции, предварительно сняв с короля мерку. Потом ножницами стал разрезать тяжи между кишкой и свищом. Король терпел, не издавая ни звука. Военный министр держал его за руку и объяснял, что происходит. Время от времени Людовик говорил хирургу и аптекарям, которые держали его ноги: «Господа, не надо королевских почестей. Поступайте со мной, как с другими». Через два часа Феликс закончил. Короля перевязали бинтами, смоченными в бургундском вине. На следующий день он уже вел заседание Совета и принимал иностранных послов.
Однако вскоре при перевязке Феликс обнаружил, что не дорезал свищ до конца. 7 декабря пришлось делать еще одну операцию, более болезненную, – разрезать рубец и лезть в зажившую было рану. Король и это вынес, не издав ни звука. Но на сей раз он выдержал неделю постельного режима под наблюдением хирурга. Вполне современный срок.
В феврале Людовик XIV уже гулял в оранжерее, в марте сел на коня, а 1 апреля его морганатическая жена мадам де Ментенон спела в капелле коллежа Сен-Сир сочиненный по случаю удачной операции гимн «Боже, храни короля» на музыку Люлли.
Цирюльник-хирург Феликс в награду получил дворянскую фамилию де Тасси, землю и кучу денег. Он уехал в свое новое поместье и больше никогда в жизни не брал в руки скальпель. Зато его коллеги отлично заработали: придворные наперебой стремились испытать те же страдания, что и король, чтобы стать ближе к своему повелителю. По крайней мере 30 человек заказали себе такие операции и щедро за них заплатили. Свищи вошли в моду и отныне считались благородной болезнью вроде подагры.
На прощание Феликс выпросил у Людовика XIV новую привилегию для своих коллег. Отныне они образовали отдельную от парикмахеров гильдию, могли набирать учеников и даже считать себя медиками. Придворные врачи очень против этого возражали, но король их не послушал.
7 Первая русская больница Николай Бидлоо 1707 год
2 декабря 1707 г. самая старая больница в России приняла первых «убогих людей», как тогда называли пациентов. В этот день открылся Московский госпиталь, ныне Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко. Первым в России главным врачом стал Николай Бидлоо – выдающийся хирург, педагог и художник.
Его завербовал в лейб-медики Петра I русский посол в Амстердаме Андрей Матвеев. Дипломат написал царю: «Слышал у больных, что зело человек искусный». Контракт заключили на 6 лет, по истечении которых Бидлоо мог вернуться домой. Но он остался в России навсегда.
Проведя год рядом с Петром, Бидлоо совершил два открытия:
1. Вокруг царя медики буквально толпятся, хотя Пётр еще молод и здоров;
2. В России вне армии медицина практически отсутствует – ни больниц, ни врачей, ни фельдшеров.
Бидлоо сумел доказать царю, что принесет гораздо больше пользы, если организует первую в стране больницу, где заодно можно выучить первых русских медиков. Такой госпиталь был построен по чертежам Бидлоо и открылся 21 ноября (2 декабря по современному календарю) 1707 г. Первыми пациентами были «монахи, студенты, подьячие, школьники, богадельные, отставные солдаты из Тайной канцелярии, престарелые драгуны». Никаких раненых, хотя вовсю шла кровавая Северная война. В основном хроники. За четыре года госпитализировали 1996 больных, из которых вылечились 1026.
С больницей на 200 коек управлялись всего пять профессиональных медработников: архиатр, т. е. главный врач, – сам Бидлоо, лекарь Андрей Рёпкен, подлекарь, аптекарь, подаптекарь. Роль подмастерьев выполняли 50 учеников: госпиталь изначально задумывался как клинический.
Поскольку ни Бидлоо, ни Рёпкен русским не владели, рабочим языком стала латынь. Среди московской молодежи латынь знали только в Славяно-греко-латинской академии, готовившей образованных священников.
Вооруженным силам требовались врачи, да побольше, поэтому на академию как следует надавили. И тамошнее начальство передало Бидлоо тех, от кого хотело избавиться, – пьющих, лодырей и вообще всех, кто не слишком годился в священники.
Жилось студентам-медикам тяжелей, чем в академии. Учебных пособий не существовало. При госпитале оборудовали анатомический театр, где вскрывали тела «подлых людей», свозимые по царскому указу со всей Москвы. Из этих «подлецов», то есть представителей низов общества, получились первые в России скелеты, по которым изучали анатомию.
Учебников тоже не было. Бидлоо сам написал первый русский медицинский учебник – наставление по хирургии. Но по лечебному делу и фармации существовали только устные «лекционы», которые, оказалось, нечем и не на чем записывать.
Производство чернил госпиталь сумел наладить, гусиные перья ученики по весне собирали вдоль Яузы, где отдыхали летевшие с юга водоплавающие птицы. Но бумага была только импортная, и стоила она, по выражению испанского посла, «дороже глаза». На нее уходили все карманные деньги студентов.
Помимо занятий в анатомическом театре и клинике, студент-медик в теплое время года периодически отправлялся в экспедиции. По всему Подмосковью ученики Бидлоо собирали лекарственные растения и ловили по канавам «пьявиц», то есть пиявок. Это занятие казалось населению подозрительным, и бывало, что мужики гоняли студентов и разбивали их «скляницы» с «пьявицами».
В таких условиях из первых 50 учеников к моменту выпуска осталось 33. Восемь сбежало, шесть умерло, двоих куда-то откомандировали и одного отдали в солдаты за воровство.
Бидлоо понимал, что способности у всех разные. Кто не мог «превзойти» медицину за пять лет, учился десять. Но если уж молодой человек сумел преодолеть «истязание», как называли тогда экзамен, то за такого Бидлоо ручался перед царем, что рекомендует этого хирурга кому угодно, даже Его Величеству.
Первый выпуск поголовно был направлен в вооруженные силы. Если ученик прошел курс полностью, он имел право на диплом подлекаря и затем получал в армии 12 рублей в год. А тот, кто «прилежно с практикою хирургическою упражнялся, и различные операции действовал, и к тому на истязании по хирургии и медицине добре отвечал», получал диплом лекаря на пергаменте, и размер его жалованья составлял 120 рублей.
В 1712 г. два любимых ученика Бидлоо – Степан Блаженев и Иван Беляев – были зачислены лекарями на Балтийский флот. Это первые дипломированные врачи с русскими фамилиями. До них флот был укомплектован только иностранными медиками. Те немедленно организовали выпускникам Бидлоо генеральное истязание сначала в академическом, а затем и в прямом смысле.
Собравшиеся лекари с пристрастием погоняли Блаженева и Беляева по всем разделам медицины, выставили им неудовлетворительные оценки по лечебному делу и фармацевтике, отметив небезнадежность по части хирургии. А потом жестоко избили.
Бидлоо пожаловался командующему флотом генерал-адмиралу Апраксину, и выпускников Московского госпиталя оставили в покое. Но то же самое происходило с другими выпускниками, где бы они ни появлялись. Старшие по званию европейские доктора то их били, то отказывались считать лекарями, то держали при себе как слуг.
Иностранные коллеги давно говорили Николаю Бидлоо: «Ты невозможешь выучить медицине людей сего народа». По их мнению, все русские от природы пьяницы и разгильдяи, а если кто проявляет способности, так тем более нечего его учить, чтобы не растить конкурентов.
Но Бидлоо отказывался «невозмочь». Он в письме предупредил Петра, что такие гнусные истории «всю охоту учащихся и Твое намерение… уничтожат». Это обращение 18 (29) марта 1715 г. прочли в сенате при царе, и тот постановил, чтобы никакой иностранный лекарь или подлекарь никакой обиды выпускникам школы Бидлоо «являть не дерзал». Одновременно он запретил и обратное – отдавать преимущество перед иностранцами русским врачам только за то, что они свои.
8 Лечение кариеса Пьер Фошар 1724 год
12 ноября 1724 г. дантист Пьер Фошар сумел сохранить больной зуб главе парижской гильдии хирургов Тартансону. Благодарный пациент, пораженный новой технологией, сделал все, чтобы вышла в свет книга Фошара – первый в мире учебник для зубных врачей. Рукопись к тому времени была уже готова, но содержала столько новых идей, что для ее публикации требовалось разрешение короля.
Пожилой хирург Тартансон к 1724 г. был отставным главой цеха и пребывал на заслуженном отдыхе. 12 ноября он ощутил острую боль, причем казалось, будто болят все резцы и клыки нижней челюсти. В те времена единственным способом избавления от мук была экстракция зубов, а удалением занимались цирюльники и странствующие специалисты, именуемые не иначе как шарлатанами.
Тартансон знал, что болит обычно один зуб, корни которого поражены кариесом. Шарлатаны не умеют его находить и вырывают все подряд, пока не доберутся до больного. К счастью, в 1719 г. появился в Париже дантист, способный, по слухам, не только рвать зубы, но и сохранять их. Это был Фошар. Он жил и работал в Латинском квартале напротив знаменитого кафе «Прокоп». Тартансон помчался туда, на всякий случай прихватив молодого помощника, уже именитого хирурга Ларрейра.
Фошар усадил пациента в кресло с подлокотниками. Это было новое слово в медицинской технике: прежде сажали на пол, чтобы некуда было падать, когда пустят в ход щипцы. Для почтенного возраста Тартансона зубы находились в неплохом состоянии. С первого взгляда Фошару показалось, что проблема только с клыком справа, внешне самым изношенным. Пройдясь по всем зубам зондом, он убедился, что так и есть.
Дальше началась беседа с пациентом о кариесе. Врачей вообще трудно лечить, тем более хирургов. Особенно пожилых. Они все должны решить сами, потому что все знают. Чего в данном случае больной не знал, так это того, что Фошару позарез нужно сохранить ему проблемный клык.
Лечение кариеса стало для Фошара делом жизни. У него был уже написан трактат о лечении зубов, где половина посвящалась кариесу – болезни, которая в эпоху Просвещения стала массовой. Издать подобную книгу – значит обрести славу, богатых пациентов, учеников и молодую жену: настолько серьезно воспринимали тогда научную литературу. Разрешение на печатание и продажу медицинских книг выдавалось именем короля. Для такого разрешения нужны письменные отзывы специалистов. В данном случае представителей двух недружественных цехов – терапевтов и хирургов. Фошар со своими идеями оказался между ними.
Дантистом он стал волею случая. Родился Фошар 2 января 1679 г. в небогатой семье. Рано потерял мать. В 14 лет, чтобы сбежать из дому, поступил на военный флот. Как раз тогда король Франции Людовик XIV по своему обыкновению воевал со всем миром, не считая денег. Думая поставить своего короля в Англии, сосредоточил на берегу Ла-Манша армию вторжения, но англо-голландская эскадра в сражении при Барфлёре оставила короля без флота. Теперь строили новые корабли, объявили набор молодежи. Фошар поступил помощником хирурга во флотский госпиталь. Для него это был шанс бесплатно выучиться профессии, к которой он всегда ощущал призвание.
Родня оплакивала Пьера, так как морские хирурги вместе с учениками шли прямо в бой. Однако сообразительный парень попался на глаза главному хирургу флота Александру Потлере. И тот оставил его в госпитале – выхаживать опытных моряков, избежавших гибели в бою оттого, что цинга уложила их в постель. Так Фошар впервые столкнулся с болезнями зубов и проникся к ним интересом. Через три года, в 1696-м, он уже самостоятельно проделал сложную операцию с выравниванием криво растущих резцов при помощи винтового пеликана.
Когда деньги у короля все-таки закончились, окончилась и война. Со всеми своими навыками юный Фошар не мог быть самостоятельно практикующим хирургом без денег на патент и круга платежеспособных пациентов. И то и другое он добыл в 20 лет женитьбой на вдове хирурга, которая была 17 годами старше него.
До 1716-го он работал в городе Анже – и сделал его родиной лечения кариеса. Эта болезнь почему-то поражала людей обеспеченных, которых дантисты охотно пользовали. Сильно пораженные зубы удаляли, а на менее пострадавших стачивали изъеденную часть надфилем.
В 1710 г. к Фошару привели 14-летнюю девочку, которой один дантист сточил нижние резцы до самой пульпы. В отчаянии она просила вырвать эти видные зубы, лишь бы не стало боли. Фошар пожалел ее. Он удалил нервы, очистил каналы и запломбировал их золотыми проволочками. Вероятно, такая операция была у него уже отработана.
Если зубы пломбировали еще в Древнем Китае, то в установлении причин кариеса Фошар пошел дальше всех. Прежде считалось, что зубы едят какие-то черви, настолько мелкие, что их не видно глазом. С тех пор как Левенгук под микроскопом изучил зубной камень и разглядел там бактерий, это мнение укрепилось. Фошар купил самый мощный микроскоп и не нашел в кариозных зубах никаких червей. «Это не значит, что их нет», – писал он. Но не только в них дело. Фошар заметил, что жертвами кариеса оказываются сластены. «Кто любит сладкое, редко имеет красивые зубы и даже вообще зубы среднего качества. Вот почему необходимо после того, как поешь конфет, прополоскать рот теплой водой, чтобы растворить то, что могло застрять между зубами и деснами». Сахар из колоний к началу XVIII в. подешевел и стал доступен широкой массе потребителей. Отсюда разгул кариеса: в полости рта сахароза помогает плодиться бактериям, разрушающим зубы.
Все эти изыскания нравились терапевтам, и Фошар надеялся получить от них отзывы. А теперь в его кресле сидел глава другого клана. Старика удалось убедить, что в корне зуба развился гнойный абсцесс и нужно открыть канал, чтобы гной вышел. Больной Тартансон мог наблюдать за действиями дантиста: его молодой помощник Ларрейр держал в руках зеркало. Профессиональный интерес пересилил боль, и Фошар приступил к делу.
Он поставил на острие зуба трехгранное долото и, поворачивая его вправо-влево, проделал отверстие. Потом взял инструмент, который назвал «ножом живодера», то есть длинное шило вроде швайки, которой резали свиней. Расширил и углубил ход. Когда шило достигло абсцесса, из отверстия хлынул гной с кровью. Боль тут же прекратилась, как и предрекал Фошар.
Старик Тартансон добыл полдюжины отзывов на рукопись и от себя добавил, что искусству хирургии не хватало умения лечить зубы, но теперь это в прошлом. В 1728 г. вышло первое издание труда Фошара «Хирург-дантист, или Трактат о зубах». Оно разошлось мгновенно. Были допечатки, а в 1746 г. появилось новое издание с портретом автора.
Фошар получил все, о чем мечтал, – славу, пациентов, учеников и деньги. Он купил за городом замок – шато Гранмениль, расположенное так, что сам король мог заехать туда по пути из Парижа в Версаль. Через год после публикации трактата умерла старая жена Фошара, и он в 50 лет женился на 17-летней дочери актера Жан-Пьера Дюшмена.
Не хватало только наследника мужского пола. В 1737 г. родился мальчик, которого назвали Жан-Батист. Его мать вскоре умерла, так что начало биографии Жан-Батиста напоминало историю старшего Фошара. К огорчению отца, на этом сходство и закончилось. У мальчика совершенно не лежала душа к хирургии, он не мог поднять руку на человека.
Героически пытаясь породить дантиста, Фошар женился еще раз в 78 лет, на 18-летней ровеснице своего сына. Скандальных подробностей мезальянса мы не знаем, но детей в этом браке не было. Третья жена хотела жить пусть и со стариком, но в замке, так что Жан-Батист был предоставлен самому себе в городском доме Фошаров.
Отец воспитывал его письмами. Пытался направлять, но молодому Фошару казалось, будто, по мнению отца, он все делает не так: не так учится играть на скрипке, не так посещает лекции по праву в университете, не так работает адвокатом, все свободное время проводя в театре. И Жан-Батист стал все делать наперекор отцу, показывая, что их разделяют как-никак 60 лет.
Дантист Фошар брил голову и носил пудреный парик – его сын-адвокат собирал собственные длинные волосы в конский хвост.
Отец женился по расчету на женщинах иного возраста – сын по любви на ровеснице.
Отец воспитывал сына указаниями – сын со своими детьми откровенничал за бутылкой.
Отец заискивал перед министрами – сын публично обругал судебную реформу министра Мопу и эмигрировал.
Отец презирал актеров – сын в эмиграции стал актером.
Отец был всегда серьезен – сыну больше всего удавались смешные персонажи.
Отец желал увековечить фамилию Фошар – сын взял сценический псевдоним Гранмениль (в честь своего замка) и под ним вошел в историю как лучший комик театра «Комеди Франсез».
И нужно ли говорить, что во время революции он был самым радикально настроенным во всей труппе!
9 Лечение аппендицита Клодиус Амианд 1735 год
6 декабря 1735 г. была проведена первая документально подтвержденная аппендэктомия. История этой операции началась с того, что хирург решил свести счеты с королем.
Будущему главе британской корпорации хирургов Клоду Амьяну (1680–1740) было около 5 лет, когда король Франции Людовик XIV отменил эдикт, разрешавший французским протестантам совершать свои богослужения. Начались драгунские рейды по лавкам купцов-гугенотов с целью грабежа и насильственного обращения в католичество. Коммерсант Исаак Амьян бумагу о переходе в католическую веру не подписал и уехал в Лондон. Там его сын Клод получил британское подданство. В историю медицины его имя вошло измененным на английский лад – Клодиус Амианд.
Выучившись на хирурга, он тут же пошел служить в армию. Британия вела войну с Францией, так что можно было поквитаться с войском того самого короля Людовика XIV, который вынудил семейство Амьян бросить имущество и бежать на чужбину. И среди прочего с теми самыми драгунами, которые мучили гугенотов по приказу короля.
Одним из первых пациентов Клодиуса стал солдат, раненный в живот. Пуля вошла спереди и застряла в подвздошной кости. Амианд извлек ее через разрез сзади. Сквозь обе раны стали сочиться каловые массы. Несколько месяцев с повязок ежедневно снимали десятки живых и мертвых червей, и все же раненый выздоровел. Вернулся в строй, вскоре отличился и стал капралом, а там и сержантом. Спустя 8 лет они с Амиандом опять встретились, во время кровавой битвы при Мальплаке.
В этом сражении 11 сентября 1709 г. французы потеряли 14 тысяч человек и сдали Монс. Но противник, англо-австрийская армия, потерял 30 тысяч. Утешая своего короля, французский маршал Виллар послал историческое донесение: «Сир, не отчаивайтесь, еще одна такая “победа” – и у противника не останется войск».
Среди раненных при атаке французской батареи был тот самый сержант. Он снова попал на операционный стол к Амианду. На этот раз его задело ядро. Плечевая кость, акромион, ключица были раздроблены, мускулы с лопатки сорваны. В отчете Амианда сказано, что крупнейшие сосуды он оперативно притянул к мышцам шпагатом, и крови пациент потерял немного. Ампутация раздробленного сочленения прошла успешно. Но «утрата плоти», как выражались тогдашние хирурги, была столь велика, что через неделю сержант умер.
С большим интересом Амианд провел вскрытие, чтобы узнать, как именно зажила та самая рана в живот после операции восьмилетней давности. Пуля прошла через толстую кишку в ее самом широком месте. Заживая, кишка подпаялась к подвздошной кости и сузилась так, что просвет стал не более булавочной головки. Казалось бы, о нормальной дефекации и речи быть не могло, но каловые массы как-то проходили, кишечник работал исправно, и сержант ни разу на него не жаловался.
Как бы французы ни смеялись над пирровой победой союзников, битва при Мальплаке решила исход войны. Франция проиграла, и король Людовик XIV испустил последний вздох в очень печальном настроении. Амианд чувствовал себя отмщенным. Его карьера шла прекрасно. Он стал академиком, главой британского хирургического цеха, у него лечилась аристократия и особы королевской фамилии. В 1733-м он основал больницу Святого Георгия, где оперировали представителей всех слоев общества во славу короля и науки.
Через два года туда поступил 11-летний мальчик по имени Хенвил Андерсон с пахово-мошоночной грыжей, осложненной каловым свищом. У этой грыжи была странная особенность – пока больной лежал, она была средних размеров, но, когда он долго стоял, увеличивалась и мешала ходить. Оперировать ее главный хирург решил сам, собрав под рукой остальных врачей своего госпиталя. По словам Амианда, случай мальчика Андерсона оказался самым сложным и запутанным в его практике.
Как только был надрезан сальник, оттуда пулей вылетел какой-то острый предмет, едва не поранив хирурга. Это оказалась стальная булавка, на две трети покрытая солями. Из ранки фонтаном забили каловые массы. Пациент заволновался, его вырвало, а врачи растерялись. Откуда такой напор и что делает кал в грыжевом мешке? Амианд припомнил, что во время войны вскрывал одного солдата, у которого в паховой грыже оказался сложенный вдвое червеобразный отросток. Так могло быть и в этом случае, а воспаленная масса под сальником – это и есть воспалившийся аппендикс. «Но может ли узенький просвет аппендикса пропускать много кала?» – спросили врачи. И тут Амианд подумал о раненном при Мальплаке сержанте – да, кал еще как может проходить через отверстия размером с булавочную головку! И в этом причина увеличения грыжи, когда пациент вставал: она через аппендикс наливалась калом из кишечника.
Решено было аппендикс ампутировать. В здоровой на вид части червеобразный отросток был перетянут лигатурой и пересечен. Амианд с трудом различил сложенный пополам аппендикс, кишку и семенной канатик, тесно спаянные внутри абсцесса. Хотя при подготовке к операции пациента поили обезболивающим маковым сиропом, испытанные им муки были на грани человеческих возможностей. И все же мальчик поправился.
Ему потом показывали заросшую солями булавку и спрашивали, когда и при каких обстоятельствах он ее проглотил. Но юный Андерсон не мог вспомнить. Видимо, это случилось до того, как он научился говорить. Грыжа у него была всегда. Булавка, путешествуя по кишечнику, попала в червеобразный отросток, спустилась в грыжевой мешок и застряла в месте перегиба. С тех пор паховая грыжа, в которой происходит острое воспаление аппендикса, называется грыжей Амианда.
Французы пытались утереть нос беглому протестанту, да еще и в его родных местах. Его бывший сосед-католик и тоже хирург по имени Жан Местивье решил оперировать грыжу Амианда в точно таком же случае, с застрявшей булавкой. Но пациент скончался на столе, и булавку извлекали уже при вскрытии. Местивье не хватило того боевого опыта, который позволил Амианду не перепутать разные органы в воспаленном грыжевом мешке.
10 Клиническое исследование с рандомизированными группами Джеймс Линд 1747 год
31 мая 1747 г. судовой врач британского линейного корабля «Солсбери» Джеймс Линд провел первое в мире клиническое исследование с рандомизированными группами, которым давали несколько разных препаратов и плацебо. Эксперимент показал, что единственное надежное средство против цинги, приводящее к выздоровлению, – это цитрусовые. Апельсины и лимоны.
И раньше были врачи, которые советовали лечить или предотвращать цингу фруктами. Но решающий опыт, развеявший все сомнения, поставили военные моряки. Им эта болезнь наносила урон, какого не мог причинить самый сильный неприятель.
Массовый характер цинга приобрела в эпоху Великих географических открытий. Сотни людей, теснившихся на судах скромного размера, месяцами питались мучным и рыбой либо солониной. В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме «Лузиады» – истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию:
От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали. И у брегов далеких, неизвестных В страданьях беспримерных умирали[5].Действительно, из 168 спутников кавалера Васко да Гамы домой вернулись 55. У берегов Индостана и Африки случались вооруженные стычки, но убитых можно было пересчитать по пальцам. Большинство погибших – на счету цинги. Болезнь разразилась, едва достигли мыса Доброй Надежды и вошли в Индийский океан.
Представь себе, о властелин любезный, Что десны гнить внезапно начинали. И рты страдальцев гниль переполняла И бедных мореходов отравляла.Вот она, клиническая картина цинги. Начинается как простуда: болит горло, повышается температура. Затем распухают, начинают кровоточить и гноиться десны, а зубы шатаются так, что страшно кусать что-либо твердое: кажется, будто они вот-вот выпадут. Больного донимают одновременно слабость, жажда и сильный дурной запах изо рта:
Тяжелый смрад, что исходил от гнили, Грозил нам неизбежным зараженьем. Душой терзаясь, мы не в силах были Своих друзей избавить от мучений.Тут выяснилось, что в составе экспедиции Васко да Гамы нет врача. Его просто забыли взять.
Когда бы мы хирурга захватили, Он удалил бы эти нагноенья, Ведь нож – он жизнь порою пресекает, Порой – жизнь обреченным возвращает.Это воспоминание о Крестовых походах, когда западные европейцы впервые столкнулись с эпидемией цинги. Тогда нагноившиеся части десен просто вырезали. Едва крестоносцы стали брать восточные города с цветущими фруктовыми садами, цинга сошла на нет. Обобщая этот опыт, врач Гильбертус Англикус (Гильберт Англичанин; примерные годы жизни – 1180–1250) советовал воинам и морякам брать с собой мешки сушеных яблок, вишен и груш. Он писал это приблизительно в 1232 г., ровно за 700 лет до того, как было доказано, что цинга возникает исключительно от недостатка содержащегося в овощах и фруктах витамина C.
Но мудрому совету Гильбертуса мало кто внял, потому что причину болезни великий врач определить не мог. Заболевание обычно начиналось между четвертой и шестой неделями плавания. Моряки верили, что в пучине живет некое предвечное зло, отравляющее воздух. Иначе как объяснить, что на берегу недуг быстро проходит? Собственно, путь в Индию не был открыт раньше, потому что экипажи боялись долгих плаваний. Экспедиция Бартоломеу Диаша, достигшая мыса Доброй Надежды, повернула назад из-за бунта. Лишь Васко да Гама, человек исключительно жестокий и беспощадный, сумел заставить своих подчиненных двигаться дальше – и едва не погубил их поголовно. Один из четырех своих кораблей португальцы сожгли, потому что некому стало им управлять.
Важный симптом цинги – жажда – привел к открытию средства ее излечения. Спустя 60 лет после путешествия да Гамы заболел экипаж голландского корабля, возвращавшегося из Испании с грузом апельсинов на борту. Апельсины были по карману только знати. Но тут измученные жаждой больные добрались до ценного груза и выздоровели. Впервые в медицинской литературе этот случай упомянул в 1564 г. голландец Баудевейн Ронсcе, главный врач знаменитого своим сыром городка Гауда: «Случайное открытие, сделанное голландскими моряками, которые питались апельсинами по пути из Испании, вселяет надежды. Хотя лично у меня опыта столь удачного излечения не было».
Как раз у рокового мыса Доброй Надежды, где начиналась цинга, голландцы в 1652 г. основали город Капштадт (ныне Кейптаун) и в первую очередь разбили там цитрусовые сады для снабжения проходящих в Индию судов. Основал эту колонию и существующий до сих пор сад Ян ван Рибек, по первой профессии врач. К тому времени и в голландской, и в английской Ост-Индских компаниях запрещалось пересекать океан без 38-литровой бочки лимонного сока на борту.
Но государственному флоту купцы не указ. Когда судовой хирург Джеймс Линд служил на 50-пушечном линейном корабле «Солсбери», который крейсировал в проливе Ла-Манш с 10 августа по 28 октября 1746 г., никакого лимонного сока там не было. Цинга вывела из строя 80 человек, при общей численности команды в 350. Капитана, сэра Джорджа Эджкамба, никак нельзя назвать равнодушным или вороватым. Это был просвещенный молодой человек, депутат парламента. Он приказал кормить цинготных бульоном из свежей баранины, забил для них последних кур и уток, под конец отдавал больным мясо со своего собственного стола – и все бесполезно.
Когда на следующий год это повторилось, Линд подбил капитана на эксперимент. Отобрали двенадцать больных матросов примерно в одинаковом состоянии. Их разделили на шесть пар. Сверх обычного рациона первая пара ежедневно получала по кружке сидра, вторая полоскала горло разведенной серной кислотой. Это средство пытались применять с XVI в., потому что оно явно имело сильное действие, – не могло же оно не сработать! Третью пару поили на голодный желудок уксусом, по две столовые ложки. Четвертую – просто морской водой, по полкружки ежедневно. Пятой паре давали по два апельсина и одному лимону каждый день, и они поедали эти фрукты с жадностью. Шестая пара получала обычный для больниц того времени общеукрепляющий декокт – водичку с мускатным орехом и другими пряностями, нечто вроде современной колы. Это плацебо лишь несколько бодрило, создавая видимость какого-то лечения.
Эксперимент начался 31 мая 1747 г. Британия тогда еще не перешла на григорианский календарь, и на борту «Солсбери», как и в России, было 20 мая. Такая дата значится в отчете Линда. Положительную динамику демонстрировала только пятая пара. Они ели цитрусовые, пока на шестые сутки фрукты не закончились. Один пациент окреп настолько, что смог нести вахту, хотя у него не прошло ни воспаление десен, ни подкожные гематомы. Второй стал самостоятельно передвигаться и до конца плавания ухаживал за прочими больными, поднося им серную кислоту для полоскания.
Эксперимент Линда дал в руки медикам новый мощный инструмент – клинические испытания. Для начала врачи других стран тем же методом подобрали местные альтернативы цитрусовым. В России Андрей Гаврилович Бахерахт установил, что не хуже лимонов помогает кислая капуста и отвар сосновых шишек. В 1787 г. он уже отмечал, что квашеную капусту английские моряки «у русских переняли». Лимон и капуста сделали возможными многомесячные, даже многолетние плавания. Благодаря победе над цингой удалось колонизировать Аляску и Австралию, прочесать бескрайний Тихий океан, открыть Новую Зеландию, Гавайские острова и, наконец, Антарктиду.
11 Санитарно-эпидемиологический надзор Иоганн Фридрих Струэнзе 1770 год
18 декабря 1770 г. Иоганн Фридрих Струэнзе, личный врач душевнобольного датского короля, стал правителем страны. Впервые в истории Европы неограниченную власть получил профессиональный медик. Результатом его правления стал первый в мире санэпиднадзор.
В наши дни одни психиатры считают, что король Дании Кристиан VII страдал шизофренией, другие – что у него был синдром Аспергера. Когда короля внесли в кабинет Иоганна Струэнзе, «врача для бедных» в пограничном городке Альтона, картина походила на пресловутую «вегетососудистую дистонию»: бледность, спазмы, трудности с речью и полуобморочное состояние. «Врач для бедных», он же муниципальный врач, – невелика птица, ему из соображений секретности не сказали, кто таков пациент. Просто хорошо одетый господин, который отправился на охоту и по дороге занемог. Будь в тогдашней Дании телевидение, Струэнзе узнал бы короля и никаких судьбоносных реформ не случилось.
Но и король не подозревал, что перед ним один из лучших врачей Европы, который даже на своем скромном посту прославился среди коллег. Например, в Альтоне не было оспы – всем детям города была проведена вариоляция (первый вариант оспопрививания). А в 1764 г. Струэнзе сделал первое клиническое описание ящура – инфекции, передающейся от коров человеку.
В кабинете «врача для бедных» Кристиан VII не мог толком объяснить, что именно у него болит. Тогда Струэнзе заподозрил психическое отклонение.
– Вы страдаете? – спросил он.
– Да, я страдаю, – ответил инкогнито.
– Давно?
– Сколько живу на свете.
– И много повидали врачей?
– 20? 30? 40? Не считал. Ну что с них взять? Неучи…
– Да я уж вижу. Так вы несчастны?
– Увы.
– Но, судя по одежде, вы человек небедный. Долги?
– Долги есть (король улыбнулся), но платить пока не заставляют.
– Боже мой! Плохи дела в нашем королевстве, если даже обеспеченные люди так переживают. Что, наследники покоя не дают?
Тут Струэнзе попал в точку. Король от удивления очнулся и сел прямо. У него была королева-мачеха, по слухам отравившая короля-отца и мечтавшая вместо больного Кристиана посадить на трон своего родного сына.
– Да, с некоторых пор я избегаю общения с этими наследниками и их агентами.
– Ну вот что, – Струэнзе встал и положил одну руку на лоб больного, другую на его сердце, – я понял причины вашего недуга: вам скучно и тоскливо.
– До смерти!
– Так ведь при нынешнем правительстве скука и тоска – это не болезнь, а чувства любого человека, наделенного здравым смыслом. Король-то наш Кристиан…
И тут Струэнзе сказал все, что он думает об абсолютной монархии и короле, которому скучно править. Король порозовел, спазм отпустил его, и он представился:
– Я и есть Кристиан. А если бы вы знали, кто перед вами, сказали бы все?
– Да, Ваше Величество. Я же пишу это в нашей альтонской газете.
Так король узнал, что на окраинах Дании есть независимая пресса. Вообще, Струэнзе рассказал ему столько интересного, что Кристиан взял его с собой в дорогу. Там было много приключений, короля приходилось выводить то из ступора, то из алкогольного опьянения, но Струэнзе всегда говорил то, что думал, в отличие от льстивых фаворитов. И поскольку говорил он как врач, получалось необидно.
Кристиан не захотел расставаться с альтонским доктором. По возвращении домой он сделал Струэнзе лейб-медиком и приказал вылечить от меланхолии свою жену, 19-летнюю королеву Каролину Матильду. Причина меланхолии выяснилась при первом же осмотре: Кристиан избегал королевы, несмотря на ее красоту. Король мог испытывать оргазм только со шлюхами. Струэнзе был молод, хорош собой и успешно приударил за Каролиной Матильдой в терапевтических целях – не впервой. Одного он не учел: королева полюбила его по-настоящему. Забыв приличия, она ластилась к Струэнзе на балах и после каждого его визита демонстрировала фрейлинам помятое платье. Лейб-медику выделили во дворце комнату, откуда в покои королевы вела потайная лестница. Разумеется, об этой лестнице знал весь Копенгаген. Как сказал один придворный, «Струэнзе начал обхаживать Матильду ради карьеры, но она сделала из-за него столько глупостей, что он тоже влюбился».
Понимая, что добром это не кончится, Струэнзе подал в отставку. Но королю оказалось все равно – лишь бы выдающийся врач и дальше облегчал его страдания. Вместо отставки была дана власть – с 18 декабря 1770 г. без подписи лейб-медика не исполнялся ни один королевский декрет. Струэнзе собрал в столице своих однокашников, назначил их на важнейшие посты в государстве и принялся за реформы, выпуская по два декрета в день.
Он считал, что чем больше численность населения, тем страна сильнее. Людей нужно было лечить. И учить – ведь образованный человек больше доверяет врачам. Строительство больниц и школ требовало денег. Бюджет пополнили за счет сокращения государственного аппарата. Многолюдные коллегии, где каждое решение согласовывалось до бесконечности, заменили компактными агентствами во главе с уполномоченными специалистами. Первым агентством стала «санитарная полиция», прообраз современного sanitary authority, то есть санэпиднадзора. Эта полиция не дожидалась приказа сверху и действовала на свое усмотрение. Так, в 1771 г. она закрыла порты для русских кораблей, пока в России свирепствовала чума.
Из экономии распустили конную гвардию. Распустили бы и пешую, но ее офицеры арестовали реформатора, его друзей и королеву. Король без лечения стал невменяем и подписал смертный приговор Струэнзе, не понимая, что творит. Королеве оформили развод и выслали ее за границу. Через три года она умерла якобы от скарлатины, а в действительности от тоски по любимому человеку.
Новое правительство собрало комиссию, чтобы решить, что делать с реформами. И многое оставили как есть. Сокращенный госаппарат вновь раздувать не стали, больницы и школы не закрыли, санитарную полицию не разогнали. Пригодился даже вклад реформатора в генофонд королевской фамилии: девочка, которую королева родила от своего врача, стала принцессой. Она выделялась умом и красотой. Ее потомки – нынешние короли Испании и Швеции – тоже наследие Струэнзе, как и санэпиднадзор.
12 Дезинфекция вместо уничтожения Данило Самойлович 1771 год
В августе 1771 г. эпидемия чумы в Москве достигла такого размаха, что люди стали умирать на улицах. Симонов монастырь был переоборудован в «опасную больницу» на 2000 коек. Ее главный врач Данило Самойлович задумал два новшества в эпидемиологии: прививки от чумы и дезинфекцию вместо сжигания.
28-летний полковой лекарь Данило Самойлович из-за «жестокой лихорадки с кровавым поносом» (дизентерии) был признан негодным к полевой службе. Он получил назначение в гарнизон Оренбурга, куда и направлялся из Бухареста проездом через Москву. У Самойловича не было денег на дорогу, он хотел одолжиться у докторов Московского военного госпиталя. Но увидев, что там творится, нарушил приказ и не поехал в Оренбург, а включился в борьбу с чумой.
Эпидемия была объявлена без уточнения, что это чума. Главный врач Москвы Андрей Риндер приезжал в госпиталь, где лежали первые заболевшие. Сознавая, с чем имеет дело, беседовал с докторами через огонь, как во времена «черной смерти», а наверх доложил, будто это «прилипчивая лихорадка».
До поры положение скрывали на всех уровнях. В марте 1771 г. трофейная турецкая шерсть поступила на Большой суконный двор – крупнейшее предприятие Москвы, где трудилось 3260 крепостных. Заразилось несколько десятков рабочих. Не афишируя эпидемию, хозяева фабрики хоронили их как обычно, на церковных кладбищах, отчего чума перекинулась на город. Но тайное стало явным, профессор хирургии Касьян Ягельский нагрянул на фабрику с полицией и обнаружил 16 больных бубонной чумой.
Работников вывели в карантины, устроенные в монастырях. Для простого человека «карантиновать» значило разориться: еда и одежда за свой счет, работать нельзя, торговать тоже, дом со всеми пожитками сжигали. Зачем? Этого население не понимало: моровой язвы в Москве не видали более 100 лет. Официальной информации не было. Изъятые для уничтожения вещи попадали на рынок, и в целом все имело вид обычного полицейского грабежа.
Больных прятали, погибая целыми семьями. В апреле умерло 744 человека, в мае – 851, в июне – 1099. Ответственный за ликвидацию «язвы» генерал-поручик Пётр Еропкин учредил из московских врачей Медицинский совет, выявлявший зачумленных для помещения их в больницу, устроенную в Николо-Угрешском монастыре. Самойлович вызвался руководить больницей и жить в ней безвыездно.
Его помощники – подлекари и студенты-медики, – по словам Самойловича, «испытывали ужасные страдания и в большинстве гибли». А сам он перенес чуму в легкой форме: день болела голова и ощущалась слабость, затем только боль в паху, где возник бубон, который за неделю рассосался.
Лечение чумы было симптоматическим: карбункулы и бубоны обрабатывали припарками, чтобы они скорее отделились от кожи, потом вскрывали. «Особенно часто я делал разрезы чумных бубонов, когда они достигали необходимого созревания, – вспоминал Самойлович. – Выжимая из них гной, я не мог избежать загрязнения пальцев… Хотя очищал от гноя свои бистури (скальпели) и ланцеты, но, так как они нужны были мне каждую минуту, я их всегда имел при себе в сумке. Отсюда легко заключить, что я не только всегда имел дело с чумным ядом, но что яд этот всегда был в моих карманах».
И тогда Самойловича осенило: «Не могу ли я считать, что, погружая свои пальцы в яд, вирулентность которого ослаблена доброкачественным гноем, или имея при себе инструменты, которые также погружались в этот гной, я подвергался своего рода инокуляции? Между тем мои помощники, накладывая припарки и прикасаясь к несозревшим бубонам, содержавшим гной еще не ослабленной силы, отважно подвергались всей ярости врага, принесшего им гибель». Студенты-медики Степан Цветков, Алексей Назаров и Алексей Смирнов невольно выступили в роли контрольной группы: они погибли, имея дело с неослабленным возбудителем чумы.
Эта догадка создала Самойловичу имя в науке. За нее 12 медицинских академий Европы сделали его своим почетным членом. Впоследствии Самойлович раздобыл 250-кратный микроскоп и пытался найти в бубонном гное возбудитель болезни, «чумной яд». Но, не имея ни понятия о микробах, ни анилиновых красителей, бациллы не увидел. Обнаружил только «нечто, похожее на лягушачью икру». Вероятно, лимфоциты.
Уверенность Самойловича в своей гипотезе возросла, когда точно такая же история произошла в больнице Лефортовского дворца с ее главным врачом Петром Ивановичем Погорецким (1740–1780). Погорецкий с Ягельским предложили Самойловичу «подать на грант»: просить у Медицинской коллегии стипендию, чтобы ехать в Европу за шапочкой доктора медицины и там опубликовать свою теорию. Казалось, теперь, когда Самойлович переболел, ему ничего не угрожает.
Эпидемия нарастала. В июле погибло 1708 человек, в августе – 7268. Угрешская больница стала тесна, Еропкин устроил новую в Симонове монастыре, где братия вымерла от чумы. Главным врачом там стал Самойлович. Сломав стены келий, он получил залы, вмещавшие беспрецедентное количество пациентов – более 2000. Выздоравливающих переводили в Данилов монастырь.
Хотя генерал-поручик Еропкин выполнял все рекомендации Медицинского совета, его меры оборачивались во вред. Опечатали бани – люди перестали мыться, облегчив передачу инфекции. Запретили въезд с товарами на территорию Москвы – подорожали продукты. Цены выросли еще сильней, когда закрыли на карантин питейные заведения, не говоря уже о том, что стало негде забыться. Трезвеющий народ воспринимал действительность все более критически.
Закрыли фабрики – стало негде работать. Продавать вещи нельзя: торговлю с рук запретили, ограничивая циркуляцию заразных вещей и денег. Чтобы не обездолить близких, больные разбредались по городу и умирали подальше от дома, так что их личность нельзя было установить. Полиция стала обходить дома, фиксируя все случаи повышения температуры: если смерть наступала за неделю, умерший считался «язвозачумленным» и его имущество уничтожалось, а родных гнали в карантин. Тогда здоровые люди стали объявляться больными, чтобы при случае от начала болезни до смерти формально проходило больше времени. Полиция привлекла к обходам врачей, которые изобличали симулянтов. В ответ начались покушения на медиков.
В последних числах августа один рабочий рассказал священнику храма Всех Святых на Кулишках свой сон: ему явилась Богородица и сетовала, что вот уже тридцать лет никто не молился ее образу на Варварских воротах. За это Христос якобы разгневался и решил наслать на Москву каменный дождь. Но Божья Матерь по доброте своей упросила заменить камни с неба на моровую язву.
У Варварских ворот началось столпотворение: люди по очереди забирались на лесенку, чтобы приложиться к надвратному образу, тут же сдавались деньги на «всемирную свечу». Отовсюду несли к иконе зачумленных, которые целыми днями лежали посреди толпы.
Объяснялся этот «флешмоб» тем, что московский архиепископ Амвросий по рекомендации врачей запретил священникам брать у прихожан деньги. И как только начался сбор хоть каких-то денег у Варварских ворот, там скопились попы со всей Москвы. Началось «не богослужение, но торжище».
Сознавая угрозу, Амвросий просил Еропкина опечатать собранные деньги. Для этого вечером 26 сентября была направлена воинская команда. Но десятитысячная толпа не отдала солдатам кассу. Все повторяли за попами: «Богородицу грабят!» Сборище перешло в митинг. Тут подавались как факты следующие слухи:
1. Вся армия на фронте, в распоряжении Еропкина всего сотня солдат;
2. Турки прорвались и скоро начнут штурм города;
3. Жив государь Пётр Фёдорович (убитый людьми Екатерины ее муж, царь Пётр III), он объявился где-то на Волге и идет на выручку.
Звонарь храма на Кулишках ударил в набат, ему вторили все городские церкви.
По этому сигналу народ с кольями и топорами ринулся в Кремль, резиденцию архиепископа. Амвросий еле унес ноги. Толпа разгромила винные погреба Чудова монастыря, утолив наконец жажду после месячного воздержания. На следующее утро, 27 сентября, восставшие под предводительством целовальника (хозяина закрытого питейного дома) Ивана Дмитриева настигли переодетого в мужицкий кафтан Амвросия в Донском монастыре. Чтобы не осквернять убийством храм, архиерея выволокли за ворота. Он воспользовался паузой, чтобы объяснить собравшимся смысл своих решений. И почти убедил, как тут из разбитого винного погреба выбрался пьяный мастеровой Василий Андреев и со словами «Он же колдун и вас морочит» ударил Амвросия колом в лицо. Больше архиерея никто не слушал.
Покончив с ним, толпа двинулась к Данилову монастырю, чтобы убить главного лекаря. К счастью, никто не знал, как он выглядит. Самойлович попался восставшим у ворот, когда шел из городской Павловской больницы. На вопрос «Не ты ли главный лекарь?» он соврал, что он только подлекарь, а в Данилов монастырь шел по поручению руководства. Его как следует отделали, чтобы впредь не лечил чумных, и загнали обратно в Павловскую больницу. А Даниловскую разгромили, вытолкав оттуда пациентов силой. На следующий день, когда установился порядок, больные вернулись сами, потому что в монастыре их кормили и выхаживали.
Еропкин, у которого действительно не было и сотни солдат, собрал 130 добровольцев из дворян. Вечером 27 сентября волонтеры проникли в Кремль и принялись рубить, колоть и стрелять пьяных. Положив 400 человек, заняли Спасские ворота. Там произошло главное сражение, где народ с палками едва не победил вооруженных солдат и офицеров: в какой-то момент восставшие отбили одну из двух пушек Еропкина. Пальнуть картечью не успели только по случайности, потому что ни у кого не нашлось огня.
Испуганная императрица направила в Москву своего фаворита Григория Орлова с четырьмя гвардейскими полками и 400 тысячами рублей. Граф Орлов собрал московских врачей – их было всего 23 на 130-тысячный город – и спросил их мнение. Ему ответили, что болезнь действительно чума, что людей в карантинах нужно кормить, а установленные 42 дня изоляции – слишком много, по опыту московской эпидемии хватает 16. И важно не уничтожать вещи зачумленных, а дезинфицировать. Это было ново не только для России, но и для Европы. Профессор Ягельский создал порошок на основе серы и селитры; при сгорании этого порошка выделялся газ, которым окуривали одежду, жилища, больницы и общественные здания. Инструкцию по применению разрабатывал Самойлович. В ходе испытаний он надышался сернистым газом буквально до посинения лица. «Все суставы у меня оказались как бы вывихнуты, – писал он позднее, – брови, ресницы, борода и волосы выпали». Ученики Самойловича вспоминали, что его руки тогда были навсегда обезображены ожогами.
К ноябрю инструкция была готова. Орлов выделил для эксперимента семь каторжников, только что присланных по этапу. У стен Симонова монастыря был дом, где все погибли от чумы. Самойлович окурил его, развесив оставшиеся от умерших вещи из меха, шерсти и хлопка, пропитанные гноем и язвенной сукровицей. После восьмикратной обработки подопытные уголовники надели эти вещи и, не снимая их, прожили в том доме 16 суток. Потом противочумная комиссия повторила опыт, переведя их в том же платье в другой окуренный дом, где они благополучно провели еще 15 дней. Все остались живы и по уговору получили свободу. После этого в течение зимы всю Москву обработали квартал за кварталом. Окуривание спасло от сожжения 6000 домов – половину всего жилого фонда.
Теперь в карантины и больницы шли уже с охотой: там каждому полагалось на день два фунта хлеба, фунт мяса и 120 граммов водки. Выздоравливающим Орлов давал подъемные – женатым по десять рублей, холостым по пять, и это в городе, где три рубля считались неплохим месячным жалованьем. Появились даже симулянты, желавшие поболеть в такой роскоши. Эпидемия прекратилась в апреле 1772 г., унеся, по официальным данным, 56 672 жизни.
Из лекаря Самойлович стал штаб-лекарем и ведущим сотрудником противочумной комиссии при сенате. Фактически он три года координировал борьбу с чумой во всех концах империи. Осенью 1774-го ему довелось иметь дело с отдаленным последствием чумного бунта. В Москву доставили пленного «государя Петра Фёдоровича». Это был Емельян Пугачёв, который решил использовать слухи и выдать себя за убитого в Ропше царя.
Прокурор вызвал Самойловича в застенок на монетном дворе, где содержался самозванец, из опасения, что Пугачёв не доживет до казни. Вождь крестьянской войны явно умирал от воспаления легких. Запертый в холодном подвале, он не мог прилечь в своей тесной клетке. Пугачёв висел на короткой цепи как распятый. Самойлович распорядился перевести его в теплое помещение, выписал лекарства из сенатской аптеки и на две недели запретил допросы.
Когда пациент пошел на поправку, к нему перестали допускать врача. Совершенно здоровый Пугачёв был публично четвертован на Болотной площади. Штаб-лекарь Самойлович стоял у самого эшафота и наблюдал, как государь Пётр Фёдорович умирает в последний раз.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Иван Мосин: Так и непонятно, как боролись с чумой в итоге? Т. е. до настоящих прививок еще добрая сотня лет, а что Самойлович понял и делал?
Ответ: Организовал работу больниц, исходя из предположения, что заражение при бубонной форме чумы происходит только при контакте с больным либо его вещами – это было весьма важно для опровержения теории миазмы и позволило всю энергию исследования направить на дезинфекцию.
Показал, что при заражении чумой она проявляется самое большее за 16 дней, что позволило отказаться от утомительного и разорительного традиционного 42-дневного карантина.
Добился замены сожжения вещей и жилища больного на дезинфекцию. Это было важно не только для пациентов, которым теперь не грозило полное разорение, и для международной торговли, но и для больниц: гораздо накладнее сжигать больничную одежду, чем ее обеззараживать.
Стал первым сортировать больных, переводя выздоравливающих из общего отделения.
Подобрал для выздоравливающих специальную диету, что увеличило долю тех, кого удавалось выхаживать.
Когда Самойлович показал, что при бубонной чуме надо избегать контакта с больными, стало ясно, как быть с гигиеной. Несомненно, при любой эпидемии в городе здоровые должны почаще мыться, чисто механически удаляя с себя возбудитель инфекции.
Сохранился письменный ответ Самойловича на вопрос, заданный Орловым 30 сентября: «Какие суть средства надежнейшие к предохранению?»
Самойлович высказался за «чистоту в доме, частое обмывание тела холодною водою и, если кто может, уксусом; открытый воздух, пищу кислую как можно из земляных овощей, а меньше всего употребление мяса». Это не самый полный ответ из тех 23, которые дали собранные врачи, но с ним многие согласились.
Другое дело, что мыться рекомендовали индивидуально, не в общественных банях. Их открыли, когда прекратились смерти от чумы, в мае 1772 г.
Алина Лесоводская: Очень интересно, но хотелось продолжения истории с открытием вакцинации.
Ответ: Наука того времени не позволила отобрать по-настоящему «доброкачественный» гной, где возбудитель гарантированно ослаблен. Поэтому продолжения в техническом смысле при жизни Самойловича его мысль не получила, но как идея она произвела тогда огромное впечатление. Прежде знали только о вариоляции оспы, и всех поразила сама мысль, что можно привить другую инфекцию, что в принципе любой возбудитель можно ослабить (точнее, не возбудитель, а «яд», как называли тогда заразное начало инфекций). На работу Самойловича можно найти огромное количество ссылок в европейской медицинской литературе XVIII – начала XIX в.
Французская книга Самойловича о чуме прославила автора, он стал членом 12 иностранных академий. Такая известность вызвала ревнивое отношение лично Екатерины II, отчего несколько лет Самойлович был безработным. Его не приняли в Российскую академию наук.
Когда Потемкин стал строить новый город Херсон, там началась эпидемия чумы, и пришлось вспомнить Самойловича. Он был главным карантинным врачом всего Причерноморья, пока Потемкин не узнал, что в доме доктора смеются над организацией тех самых «потемкинских деревень». Опять отставка, опять прошение о месте. Новый фаворит Платон Зубов назло Потемкину и из уважения к науке (Зубов, которого знают как юного любовника старухи-императрицы, вообще почитал ученых и помогал им) организовал карантинную службу от Одессы до Тамани и дал Самойловичу как следует там развернуться. Это обошлось дорогой ценой: наездив 30 тысяч верст по плохим дорогам, Самойлович умер в командировке от холецистита, оставив молодую вдову и двух детей, четырех и семи лет.
Lidia Sukhova: Сколько интереснейших подробностей о том событии, которое обычно описывается в несколько строк.
Ответ: Событие было интересное.
По большому счету московская эпидемия была вызвана войной с Турцией 1768–1774 гг. Самойлович активно участвовал в ней как лекарь Копорского (позднее назывался Витебским) полка. Побывал в знаменитом Кагульском сражении, где 17 тысяч русских солдат под командованием Румянцева разогнали 150-тысячное турецкое войско.
В результате этой победы Первая русская армия развернула наступление на территории Румынии и вступила там в тесный контакт с местным населением (Самойлович в своем «Рассуждении» рассказывает одну пикантную историю). Следствием и стала чума сначала в Первой армии, затем на Украине и далее в Москве.
Двинувшись на север, болезнь причинила России урон больший, чем войска и флот султана: 133 тысячи умерших в армии и в тылу, десятки тысяч сожженных домов. Но эта же самая «моровая язва» благодаря усилиям горстки врачей вызвала к жизни современную эпидемиологию.
Какой практическая эпидемиология была в Средние века, Самойлович узнал, когда его полк занял румынский город Браилов (Брэила). Там лекарь Копорского полка впервые увидел зачумленного. То был 12-летний мальчик с бубоном в паху. Родные выселили его из дому во двор, где кормили и обслуживали так, чтобы не прикасаться к нему: опыт показывал, что без телесного контакта заражения не происходит (легочная форма чумы в тех краях не встречалась).
В каждом квартале существовал выборный «капитан по чуме». При подозрительном заболевании он осматривал больного. Чума начинается сильной головной болью, глаза краснеют, взгляд становится мутным, как у пьяного. Следуют озноб и жар, вскоре начинается рвота и наступает смертная тоска. Но все это бывает и с угоревшими. Подозрения вызывали слабость, дрожание в коленках и невнятность речи. Когда же появлялись знаки чумы на коже – багровые петехии (пятна, по-русски называвшиеся «марушки»), карбункулы («чирьи») или бубоны («желваки»), – сомнения исчезали. Капитан выставлял около дома больного особый знак и следил за тем, чтобы заболевший был изолирован до смерти либо выздоровления, а его вещи преданы огню. Такое сознательное поведение позволяло веками не допускать превращения локальных вспышек во всенародное бедствие.
Когда по Румынии пронеслись вихрем две армии, турецкая и русская, об изоляции не могло быть и речи. Предвидя неприятности, Самойлович попросил своего полкового командира сделать чумным капитанам Бухареста ценный подарок, чтобы те показали известных им больных. На них лекарь научился безошибочно распознавать чуму на ранней стадии – по неравномерности пульса, аритмии особого рода. Это было его первое открытие, которым он и поделился с докторами Московского генерального военного госпиталя.
Людмила Мачехіна: Дякую!
Ответ: Между прочим, это первая в нашей ленте история, где один из первоисточников на украинском языке [Самойлович был украинцем, и самая подробная его биография написана по-украински].
Юлія Лешан: Уроженец Черниговской губернии и окончил Киево-Могилянскую академию.
13 Общество спасения утопающих Уильям Хоуз 1774 год
14 апреля 1774 г. в Лондоне было основано Человеколюбивое общество – первая волонтерская организация, состоявшая из медиков и других неравнодушных людей, чьей целью было спасение и реанимация утопающих.
В 1773 г. лондонский аптекарь Уильям Хоуз получил диплом хирурга. Жил и работал он в самом центре, у берега Темзы, на полпути между Лондонским и Вестминстерским мостами. Этот район кишел хирургами и врачами. Чтобы привлечь пациентов, нужно было чем-то выделяться.
И тут Хоузу попала в руки брошюра о том, как откачивают утопленников в Голландии. Освоив несколько приемов, новоявленный хирург дал объявление: всякий, кто между Лондонским и Вестминстерским мостами вытащит из Темзы тонущего и позовет Хоуза, получит золотую гинею. А если мистер Хоуз бездыханного утопленника спасет – две гинеи. За год аптекарь-хирург сумел вернуть к жизни несколько человек. О нем заговорил весь Лондон. Реклама получилась на зависть.
Некоторое время спустя, 14 апреля 1774 г., 32 джентльмена – хирурги, врачи и аптекари, чьи заведения находились у реки, – позвали Хоуза на разговор в Чептерскую кофейню (Chapter Coffee House, St Paul’s Churchyard) и предложили объединить усилия по спасению утопающих. Их «весьма тревожила» перспектива разорения Хоуза: все же две гинеи – большая сумма. Если выплачивать ее из фонда целого общества, получится не так накладно.
Каждый член общества обязывался, во-первых, оказывать бесплатную помощь извлеченным из воды и, во-вторых, закупить необходимое оборудование: трубки для вдувания воздуха в легкие через ноздри, а также патентованную нюхательную соль. Скинулись и на более сложные аппараты, описанные в голландском руководстве, – меха для впускания табачного дыма через задний проход. Хирурги того времени считали, что дольше всего живет кишечник. И если нагнетать в него раздражающий дым, организм встряхнется и все системы снова заработают (идея возникла из аналогии с популярным тогда табачным клистиром, помогавшим при запорах). Хотя как инструмент реанимации кишечный мех себя не оправдал, для нагнетания воздуха в дыхательные пути аппарат годился, и дело пошло.
В 1776 г. Хоуз разослал семи тысячам врачей, хирургов и аптекарей печатные призывы вступать в Человеколюбивое общество возвращения к жизни мнимо утопших. Через год число спасенных его членами достигло 167. Движение стало массовым. В нем участвовал каждый английский аптекарь.
Подключился и король Георг III, так что с 1787 г. общество превратилось в Королевское. Вместо гиней за спасение человека стали вручать медали. И уже не только за утопленников, но и за угоревших у печки, задушенных, замерзших. Первым иностранцем, удостоенным такой медали, стал император Александр I: в 1806 г. он откачал крестьянина, которого вытащили из вод литовской реки Вилейки. Царь лично возился с утопленником два часа. На золотой медали изображен ребенок, раздувающий потухшую было свечу, и выбита надпись: «Искра, возможно, еще не погасла». Аналог награды учредили в Российской империи. Медаль присуждают до сих пор, она называется «За спасение погибавших».
В Санкт-Петербурге лучшие аптеки держали англичане. Все, что они считали хорошим тоном, перенималось другими. Поэтому бесплатную медицинскую помощь «мнимо утопшим» оказывали в любой городской аптеке, расположенной у воды. Особенно часто бывало такое рядом с мостами, откуда прыгали самоубийцы.
Осенью 1912 г. Александр Блок помешал утопиться в Мойке матросу, громко ругавшему какую-то стерву. Бесплатно согреться и высушить одежду такие бедняги могли в ближайшей аптеке. Тамошние провизоры вспоминали более тяжелые случаи, когда откачаешь несчастного с большим трудом, а он вместо благодарности проклинает тебя за возвращение в эту безысходную жизнь.
Спустя девять дней сложилось знаменитое стихотворение:
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – Все будет так. Исхода нет.А если прыгнуть в воду, вмешается человеколюбивое общество: вытащит из ледяной воды, доставит в аптеку, окажет помощь, вернет на улицу. И придется жить снова.
Умрешь – начнешь опять сначала, И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.14 Начало борьбы с канцерогенами Персивалл Потт 1775 год
5 июля 1788 г. был принят первый в мире закон о защите человека от канцерогенов на рабочем месте. Британский парламент запретил трубочистам использовать труд мальчиков младше восьми лет, потому что из-за постоянного контакта с сажей в раннем детстве у тех спустя 15–20 лет развивалась особая злокачественная опухоль. Борьба с этой болезнью продолжалась два столетия, пока мир не усвоил некоторые правила обращения с канцерогенными веществами.
Само явление канцерогенности открыл знаменитый хирург Персивалл Потт, работавший в лондонской больнице Святого Варфоломея. В 1775 г. он описал злокачественную опухоль, которую назвал «рак трубочиста». У самих трубочистов она называлась «сажевая бородавка». Вначале на коже мошонки возникает болезненная язва. Затем она прорастает в яичко, которое разбухает и твердеет. Опухоль быстро дает метастазы в пах и брюшную полость, что приводит к мучительной смерти.
Конечно, «сажевую бородавку» врачи знали и прежде. Но поскольку она поражает юношей, болезнь считали венерической и лечили ртутью, теряя бесценное время. Потт указал, что единственное верное средство – это гемикастрация. Если вовремя, на ранней стадии заболевания, удалить пораженное яичко, пациент наверняка будет спасен. Бывало, правда, что через несколько лет или месяцев трубочист опять поступал в больницу с опухолью на другом яичке.
Разбираясь, что же с этой профессией не так, Потт стал изучать быт и биографию своих пациентов. Не все больные чистили трубы, но каждый из них занимался этим лет с пяти-шести и до того возраста, когда мальчик раздается в плечах и перестает пролезать в дымоход шириной в один кирпич. Малыши числились учениками трубочиста, хотя выполняли за него всю работу. С раннего утра улицы оглашались воплями детей, предлагавших почистить дымоход от сажи. Еще до завтрака мальчик мог пройти 20–30 труб, затем сдавал своему патрону выручку и сажу – на продажу красильщикам.
Ходили эти дети босиком, чтобы подошвы стали нечувствительны к жару: часто приходилось лезть в горячую трубу и даже тушить там горящую сажу или креозот. Работая щеткой внутри дымохода, мальчик упирался в стенки локтями и коленями. Поэтому, едва он поступал в ученики, хозяин мочил ему коленки и локти рассолом, чтобы кожа загрубела. Пока она еще была нежной, дети выбирались из труб исцарапанными и окровавленными. Поначалу они вообще не хотели залезать в дымоход, и тогда трубочист колол им ноги гвоздями либо жег углем.
Недаром их судьбой пугали более благополучных детей: «Не будешь слушаться няню – отдам тебя трубочисту, станешь вот так же по трубам ползать». Лорд Фредерик Гамильтон в своих мемуарах рассказал, как однажды в детстве набрался храбрости и спросил мальчишку-трубочиста, неужели тот попал в профессию потому, что не слушался няню. Черномазый сначала не понял, о чем речь, а потом широко улыбнулся и ответил, что вообще-то ему нравится чистить трубы.
В его жизни действительно были свои плюсы. Рабочий день кончался в три часа, на зависть ученикам горшечника и плотника. Можно целый день околачиваться на улице, в школу ходить не надо – трубочисты не заботились об образовании своих учеников. Правда, после 16 лет надо менять профессию, а ты ничего не умеешь, кроме как ползать по трубам. На несколько сотен мастеров по всему Лондону приходилось около 4000 учеников. Те, в ком не было жилки эксплуататора, не становились мастерами-трубочистами, а пополняли ряды флота или опускались на уголовное дно. Либо погибали от «сажевой бородавки», которая казалась проклятием их профессии.
Никто не шел в это ремесло добровольно. Трубочисты покупали детей у малообеспеченных матерей – вдов и женщин легкого поведения. Бродячие трубочисты – а таких была половина – крали детей. Существовала подпольная сеть торговли, переправлявшая похищенных маленьких англичан во Францию, а мальчиков из итальянских и немецких деревень – в Англию.
Хирург Персивалл Потт знал, что в Шотландии и Германии «раком трубочиста» не болеют. Отчего? Там не было детей-трубочистов. Шотландцы и немцы чистили свои трубы щетками или намотанными на палку тряпками. Однако в Англии времен промышленной революции это уже было невозможно. В многоэтажном доме дымоходы представляют собой узкие кирпичные коридоры громадной длины, со многими поворотами и углами. Прочистить их могли только дети.
Были среди мастеров-трубочистов порядочные люди. Они одевали своих учеников как следует, кормили за одним столом с собственными детьми, читали ученикам книги, водили в церковь. И регулярно мыли. У таких счастливых учеников впоследствии рака не наблюдалось. «Сажевая бородавка» поражала тех, кто в детстве спал в неотапливаемом помещении, забившись в свой мешок из-под сажи или накрывшись им как одеялом. Трубочисты называли это «спать по-черному». Потт заметил, что в таких случаях сажа въедается в складки кожи мошонки так, что ее не отмоешь. Особенно если мыться летом в речке раз в неделю, а зимой – никогда.
Блестящее исследование Потта заметили не только в кругу врачей. Была в Лондоне больница для найденышей, над которой шефствовал на общественных началах коммерсант Джонас Хенвей. Когда он жил на Востоке, его поражало, что к беднякам, которые убивают своих детей, у общества нет претензий. По возвращении домой Хенвей охотно возглавил лондонский «беби-бокс» и страшно им гордился. Но справившись о дальнейшей судьбе своих найденышей, он узнал, что из 1666 его воспитанников 963 стали учениками трубочиста. А значит, десятки из них погибнут от несчастных случаев на работе, и еще десятки – от рака.
Хенвей верил в мощь пропаганды и не раз использовал ее. Так, он первым в Англии стал ходить в дождь под зонтом – прежде это никому не приходило в голову. Сначала над ним смеялись, потом кебмены почувствовали угрозу своему бизнесу и стегали Хенвея на улице кнутами. Но тот упорно ходил с зонтиком, и на его глазах этот аксессуар из экзотики превратился едва ли не в один из символов Британии. С трубочистами Хенвей избрал другую тактику: выпустил сентиментальную книгу биографий, над которой проливали слезы дети из хороших семей. Там были собраны душераздирающие истории, достойные маркиза де Сада, причем совершенно подлинные. Недостатка в материале не было.
Личным другом Хенвея был «хороший» мастер-трубочист по имени Дэвид Портер. Когда пропагандист добра в 1786 г. умер, Портер составил в память о нем общественную петицию в парламент с призывом защитить детей от жестоких и жадных хозяев. И 5 июля 1788 г. был принят закон об учениках трубочистов, согласно которому нельзя было посылать в трубу ребенка младше восьми лет. Кроме того, каждый мальчик должен был носить на шапке медную бляху с именем своего хозяина, чтобы окружающие знали, на кого им жаловаться.
Портер назвал акт «настолько искромсанным, что работать он не будет». И действительно, закон не работал. Чем ребенок меньше, тем больше выбор узких дымоходов, которые он может прочистить. До пяти лет дети слишком слабы, но позже, когда они хорошо обучаемы и так легко пролезают в трубы, как отказаться от их труда? Проще платить штраф. И жалоб на трубочистов не поступало: большинство клиентов не волновала судьба чумазых мальчиков, которые работали за гроши.
Еще Хенвей сказал, что по-настоящему избавит детей от рака тот, кто изобретет машину для чистки труб. Таким изобретателем оказался плотник Джордж Смарт. Он запатентовал мачту из полых цилиндров, стянутых вместе тросом: подобным образом устроена конструкция Останкинской башни. Теперь можно было не покупать дорогой корабельный лес, а ставить мачту из наборных частей любой длины. На флоте это изобретение не пошло, зато в трубах оно работало прекрасно. Можно было насадить щетку на длинную ручку, переламывающуюся «в суставах» и изгибающуюся по форме любого дымохода.
Против машины восстали страховые компании. Они утверждали, что мальчики чистят трубы лучше, чем машина, и показывали статистику – сколько людей сгорело или угорело из-за некачественной очистки труб механической щеткой. Да, говорили они, трубочисты задыхаются в дымоходах, а позже гибнут от рака, но без них мы потеряем еще больше. Приходится выбирать.
Парламент принимал один за другим акты о трубочистах, повышая возраст учеников. Лобби делало эти законы беззубыми, вменяя за нарушение лишь легкий штраф. Однако враги детского труда, журналисты, продолжали твердить, что жизнь мальчика-трубочиста – рабство похуже негритянского в Америке, и наконец вбили эту мысль в голову избирателю. Последовательный противник использования мальчиков-трубочистов лорд Шефтсбери в 1875 г. дождался вопиющего случая, когда при очистке труб кембриджской больницы 11-летнего мальчика по имени Джордж Брюстер завалило сажей. Доктор удалил сажу из дыхательных путей ребенка, положил его в теплую ванну, но спасти не сумел.
Лорд Шефтсбери тут же внес проект закона, по которому деятельность трубочистов лицензировалась, надзор возлагался на полицию, а ученикам разрешали пользоваться только машиной и гирей на тросе. И больше в Англии ни один мальчик не погиб от несчастного случая в дымоходе.
Врачебные споры о канцерогенности сажи закончились в 1922 г., когда «рак трубочиста» вызвали у мышей инъекциями экстракта сажи. Повинны тут ароматические углеводороды. История с трубочистами показала, насколько важно работникам вредных производств регулярно мыться сразу после смены. Но даже в развитых странах довести эту мысль до сознания работодателей удалось только к 1975 г., когда наконец заболеваемость «раком трубочиста» стала сокращаться. Публикации Персивалла Потта исполнилось тогда ровно 200 лет.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Татьяна Бушенко: У Бориса Лавренева есть страшный рассказ «Срочный фрахт» о том, как мальчика-трубочиста сожгли заживо в корабельной трубе – он застрял, а резать трубу никто не согласился…
Ответ: В принципе, он о том, что в Одессе перед самой революцией отношения между мастером-трубочистом и его мальчиками были те же, что в Англии до акта Шефтсбери 1875 г. Да и в США 1910-х гг. такая история тоже могла случиться – там с детским трудом в дымоходах покончили чуть позже.
15 Неотложная медицинская помощь в полевых условиях Доминик Ларрей 1792 год
2 декабря 1792 г. хирург Доминик Ларрей впервые организовал немедленную доставку раненых с поля боя в лазарет, где их сразу оперировали. Это день рождения неотложной медицинской помощи. Она возникла на войне и принесла десятки побед Наполеону. Ученики Ларрея развили эту идею в мирной жизни.
Ларрей пошел в армию, чтобы выдвинуться: только что отец любимой девушки отказал ему в руке дочери, находя молодого человека бесперспективным. Не имея денег на дилижанс, Ларрей пришел в Париж учиться пешком, а сватался ни много ни мало к дочери министра финансов. Причем девушка, Элизабет Лавилль, влюбилась и обещала выйти за него.
Но министр Лавилль не давал согласия, потому что за десять лет в медицине молодой человек не научился ею зарабатывать. Кормился уроками анатомии. И познакомился с министерской дочкой на таком уроке, устроенном в мастерской живописца Давида. Там учились две сестры Лавилль – художницы. Младшая, Мари-Гийемин, уже стала знаменитой. Вот у нее жених банкир Бенуа (под этой фамилией она и вошла в историю живописи). А Ларрею, похоже, состоятельным не бывать.
Состоянием считали сумму от ста тысяч ливров, которая приносит пять тысяч годовой ренты. Для сравнения: кузнец зарабатывал пять ливров за день, рядовой хирург – немногим больше. Еще до революции Ларрей выиграл конкурс на хорошо оплачиваемое место старшего ассистента в Доме инвалидов. Но в этом крупнейшем госпитале все решал директор, а у того был среди конкурсантов родственник, который и занял эту должность. Доминик возненавидел всякую несправедливость и примкнул к революционерам. Вооружился за свой счет. Два года стоял на постах Национальной гвардии, пока другие делали карьеру.
Наконец, революция помогла отличиться и ему. Конвент набирал добровольческие армии для защиты от интервенции. Учителя Ларрея порекомендовали направить Доминика в лучшую армию – Рейнскую. Она была набрана из двадцати тысяч самых идейных парижан: именно тех, чьими руками делалась революция. Командовал армией лучший генерал Адам Филипп де Кюстин, управлял самый толковый комиссар Жак-Пьер Ориллар де Вильманзи, а специально сочиненная для Рейнской армии боевая песня стала гимном всей Франции – с несколько измененным текстом это «Марсельеза».
До Рейнской армии воевали по примеру Фридриха Великого: главное – победить в бою, а ранеными займемся, когда все кончится. Сражения порой тянулись весь световой день, так что медики приходили на поле боя только на следующее утро. Раненые сутками лежали на земле без всякой помощи, часто в холоде и под дождем. Врачи под пули не рвались. Они изображали штатских, работающих по найму, а если попадали в руки противника – просто меняли нанимателя. Революционер-патриот Ларрей так себя вести не мог.
В первом же бою он полез на передний край, перевязывая раненых прямо под вражеским огнем. Затем оттаскивал их шагов на триста в тыл, оперировал на позиции, хотя уставы запрещали размещать лазареты ближе четырех километров от поля боя. Ларрея посадили на гауптвахту. Однако из 40 солдат, которым он оказал помощь, в строй вернулись 36!
По тем временам это был мировой рекорд. Обычно соотношение бывало обратным. Ларрей заранее был уверен в успехе. Во-первых, если хирург сразу же займется раной, она заживает как операционная, за 7–10 суток. Во-вторых, в отличие от коллег из других полков, Ларрей прошел школу отца нефрологии Пьера Жозефа Дезо. Было это тремя годами ранее, еще при абсолютной монархии. Рабочие королевской бумажной фабрики бастовали, требуя достойной заработной платы. Правительство бросило на демонстрантов два полка драгун. Произошло настоящее сражение. К Дезо в больницу Отель-Дьё привезли пострадавших с обеих сторон. У многих рабочих – огнестрельные ранения. И тогда учитель показал, как с ними обращаться.
Обычно огнестрельные раны после извлечения пули удлиняли скальпелем, пытаясь превратить в резаные – считалось, что так заживает быстрей. Дезо поступал иначе: иссекал ушибленные нежизнеспособные ткани в раневом канале (он называл это «освежить»), после чего стягивал края раны одиночным швом. Эту методику Ларрей назвал величайшим открытием хирургии XVIII в.
Оставалась главная проблема: как после перевязки быстро доставить солдата на операционный стол? При штурме города Шпайер 29 сентября 1792-го Ларрей осматривал поле боя в лорнет и заметил, как молниеносно перемещается конная артиллерия. Тогда у него родилась мысль поставить на лафет вместо пушек носилки.
Он подал подробный проект на имя генерала де Кюстина и комиссара Ориллара де Вильманзи. Фактически получилась первая конструкция кареты скорой помощи. Носилки должны быть мягкими, с матрасом, набитым конским волосом. Обтянуты кожей, с которой легко смыть кровь. Снизу четыре короткие ножки, чтобы носилки можно было ставить и перевязывать раненых уже на них, а не в грязи. По направляющим с роликами носилки закатывались в короб на колесах с окошечками по бокам, подвешенный на рессорах, так что раненого не мучила тряска. Чтобы в санитарной повозке помещались двое, Ларрей определил ширину короба в 1112 миллиметров. Это было первое техническое задание на медицинское оборудование с размерами, указанными в только что введенной метрической системе.
Короб везут две лошади, одна из них под седлом – на ней едет санитар. Доктор скачет верхом рядом: отыскивает и перевязывает раненых, а затем сопровождает повозку до операционной, которую разворачивают в ближайшем сравнительно безопасном месте. Все это называлось «летучий амбуланс».
Армию, по плану Ларрея, должен обслуживать легион летучих амбулансов. Это три дивизиона по 340 человек. В каждом – главный хирург, он же командир, два старших помощника, двенадцать младших. Экономы, администраторы, санитары, аптекари, конюхи. Восемь двухколесных повозок для езды по полю и четыре четырехколесные для гористой местности.
Генерал и комиссар восприняли проект осторожно: людей нет, лошадей не хватает. Но после стычки у Лимбурга 9 ноября, когда пришлось отступить ночью, бросив раненых на поле боя, идею решили испытать на авангарде.
Повозки вызвали у солдат энтузиазм. Вероятность погибнуть в бою была тогда невелика – до 5 %. Раны получали в 7–8 раз чаще. Истекать кровью целые сутки на холодной земле значило почти верную смерть. А теперь быстро доставят в операционную, к лучшему в армии хирургу. Получив амбуланс, воодушевленные стрелки 1-го парижского батальона решили задержать на горном перевале прусскую армию, как 300 спартанцев при Фермопилах.
Дело было 2 декабря у замка Кёнигштайн, который перекрывает дорогу от Франкфурта на север, через горы Таунус. Там уже лежал снег. Пруссаки обошли французов с тыла. Тогда командир авангарда генерал Ушар бросил все силы на самое слабое место в кольце окружения и вырвался. Опять Ларрей наблюдал рукопашную вблизи, но, как он вспоминал, на душе у него впервые было спокойно. Все 30 раненых перевязаны и эвакуированы вместе с амбулансом.
Удачный опыт распространили на всю армию. Ларрей стал командиром дивизиона, но в каждом бою следовал за строем, подавая пример. Получил легкое ранение в ногу, а 22 июня 1793 г. при Майнце лично вступил в сражение с прусскими мародерами, увидев, что они не только грабят раненых, но и режут их: «С пятью драгунами я напал на этих каннибалов, разогнал их и увез наших полумертвых раненых». Новый командующий армией Александр де Богарне (первый муж Жозефины) отметил подвиг в донесении Конвенту: «Главный хирург Ларрей и его товарищи по летучему амбулансу неустанным трудом сохранили жизнь храбрым защитникам Отечества, не говоря уже о гуманности подобных дел».
Ларрея вызвали в Париж и поручили создать легион летучих амбулансов в новой Корсиканской армии, формирующейся в Тулоне. Попутно Доминик женился на Элизабет Лавилль. Ее отец стал уступчивей: он понял, что хирург нужен правительству, а времена тревожные, начался террор. Бывший командующий Рейнской армией генерал де Кюстин лишился головы за то, что якобы нарочно сдал Майнц, который на самом деле невозможно было защищать. Лавилля понизили в должности и направили комиссаром по морской торговле в Роттердам, чему он был несказанно рад, потому что в Голландии не было гильотины.
По правилам новой революционной религии брак заключили перед алтарем Верховного Существа, на котором горел священный Огонь Свободы. Вместо свадебного путешествия – поездка до Тулузы, где Ларрей оставил жену в доме своего дяди, а сам отправился к месту назначения. В Тулоне он познакомился с молодым Бонапартом, который позднее стал его начальником на целых 18 лет. Служа при Наполеоне, Ларрей видел жену примерно один месяц в году.
Генерал Бонапарт первым понял, что амбулансы – новое оружие, которое есть лишь у французов. Впервые раненые массово возвращаются в строй. Стреляный вызывает уважение. Его слушают, когда он учит маскироваться, обращаться с оружием, а главное – быстро и безошибочно ориентироваться в бою. Много воюющая армия выигрывает войны за счет раненых, которые непрерывно повышают ее квалификацию.
Недаром при отступлении из Сирии генерал Бонапарт велел всем офицерам спешиться: лошади и экипажи реквизировались для перевозки раненых. Конюшенный спросил, какую лошадь оставить Наполеону. Тот изобразил приступ ярости: «Всем идти пешком! Я первый пойду! Вы что, не слышали приказа? Вон отсюда!»
Ради такого командира медики разбивались в лепешку. После битвы у пирамид Ларрей впервые в истории военно-полевой хирургии оперировал 24 часа. Когда стемнело, с четырех сторон от стола поставили толстые свечи вроде церковных. Такого освещения хватало на самую тонкую операцию того времени – перевязку сосудов.
Коллеги от усталости роняли инструменты и спрашивали Ларрея: «Как ты можешь?» А он мог, потому что было любопытно. Для него битвы были громадным экспериментом. В Египте, например, представляли интерес необычайно глубокие раны, наносимые булатными клинками мамелюков. Доведя до совершенства предохранительные ампутации (как единственное средство от гангрены), Ларрей стал делать на поле боя трепанации. После битвы при Абукире он провел эту операцию семерым, и пятеро выжили. Примечательно, что в госпиталях франко-прусской войны семьдесят лет спустя, уже после открытия Листером антисептики, фатально закончились 100 % трепанаций.
В том сражении меткий стрелок с турецкого редута ранил генерала Жан-Урбена Фюжьера в левую руку у самого плеча, искрошив кость. Такие случаи считались безнадежными. Бонапарт подъехал проститься, когда Ларрей приступил к лопаточно-плечевой ампутации.
– Возможно, генерал, вы однажды позавидуете моей кончине, – сказал Фюжьер. И протянул свою драгоценную булатную саблю с золотой насечкой. – Возьмите это оружие, оно мне больше ни к чему.
– Возьму, – отвечал Наполеон, – чтобы преподнести хирургу, который спасет вам жизнь.
Сказал он это в утешение, не веря в успех. Но Ларрей выходил Фюжьера и получил саблю с гравировкой по-арабски: на одной плоскости клинка надпись «Ларрей», на другой – «Абукир». Пациент прожил еще 14 лет и командовал в Авиньоне запасным полком.
Раненные при Абукире французы не оставались без помощи дольше 15 минут. Летучий амбуланс творил чудеса. Из 700 раненых умерло только 20, а 550 в течение трех месяцев вернулись в строй. Такой результативности – 78-процентного излечения – французская армия позднее добилась только в Первую мировую.
Видя, что Ларрей трудится с энтузиазмом, Наполеон не баловал его наградами – незачем платить там, где можно не платить. После Аустерлица маршальские премии исчислялись сотнями тысяч франков, а главному хирургу гвардии перепало три тысячи. Подарки врагов бывали щедрее. Александр I в Тильзите вручил усыпанную бриллиантами табакерку за помощь русским раненым. Когда в Египте Ларрей провел успешную ампутацию пленному командиру мамелюков, османский губернатор Мурад-бей прислал в подарок целый гарем из молодых рабынь.
«Доброжелатели» тут же сообщили Элизабет. На третий год разлуки с мужем это была не самая приятная для нее новость. Пришлось объясняться: «Они прелестны, эти черкешенки и грузинки, но я не хотел их, потому что все время думаю о Вас». Ларрею едва хватало сил на работу, и он передарил девушек своим друзьям из гвардии.
Похоже, сбывалось предсказание, что Ларрею не скопить ста тысяч. Дружба с Бонапартом состояния не приносила. Когда спустя ровно 11 лет после дебюта летучих амбулансов Наполеон короновался как император, Ларрей заподозрил, что добром это не кончится. По дороге с церемонии сказал жене: «Останься он первым консулом Республики, его бы все любили. Грустно видеть, как военный берет скипетр. Этим инструментом тиранов себя он погубит, а Францию разорит».
Как это произошло, великий хирург увидел своими глазами в России, в 1812 году.
К тому времени Ларрей перерос увлечение предохранительными ампутациями. Они обычно спасали жизнь, если их выполнял квалифицированный хирург. Но какой ценой! Летучие амбулансы оставляли после себя груды отрезанных конечностей.
Острее всего стояли две проблемы:
1. Как сохранить ногу выше колена при пулевых и осколочных ранениях бедра, сузив до предела показания к ампутации?
2. Профилактика больничной гангрены; заразна ли она?
12 февраля 1812 г. мечта Ларрея сбылась. Он был назначен главным хирургом Великой армии, сильнейшей на свете. Полмиллиона готовых вторгнуться в Россию. Предстоящее генеральное сражение виделось Ларрею громадным опытным полем. Он звал туда коллег со всей Европы. Открыл в Берлине хирургические курсы, где весь апрель читал лекции и делал показательные операции. Кое-кто из благодарных слушателей влился в маленькую медицинскую армию под командованием Ларрея, общим числом 826 человек.
В начале кампании учитель поражал своих спутников новаторскими операциями. В Бешенковичах вернул русскому кавалеристу нос, который после удара палашом держался на лоскуте кожи. В Витебске 26 июля извлек пулю из мочевого пузыря офицера 92-го линейного полка. Выполнил первую в истории военно-полевой хирургии ампутацию с вычленением бедра всего за четыре минуты. Пациент, русский солдат, оправился после операции, но умер на 29-й день от дизентерии.
Эта болезнь была бичом наступающей армии. Она сначала лишилась мяса и хлеба – уходя, казаки угоняли скот и разрушали мельницы. Перешли на подножный корм: крыжовник, смородина, яблоки – все немытое. Наполеон ничего не мог поделать с воровством собственных интендантов. В армии пропало главное средство от поноса – вино. Исчезла соль. Ее заменяли порохом, отчего диарея усиливалась. На марше выбегали из строя так часто, что со стороны казалось, будто всем дано слабительное. По виду фекалий в отхожих местах врачи безошибочно узнавали, чья тут останавливалась армия – Кутузова или Наполеона.
Шла охота на ранцы убитых русских солдат: там были соль и сухари. Врачам и того не перепадало, им оставались капуста, сырой горох и ячмень. После Бородинской битвы захватили в Можайске водку. Гвардейцы пили ее, чтобы унять проклятый понос, и не могли остановиться. Так Ларрей впервые наблюдал опойную смерть.
В русской армии врачей не хватало: поставив под ружье миллион человек, царь не сумел собрать для них и 500 хирургов. Из Смоленска уходили, оставляя победителям 4000 раненых без медицинской помощи. Наполеон приказал лечить их вместе со своими 1200 ранеными.
Госпиталь поместили в губернском архиве. По милости интендантов лекарств и перевязочных материалов не было. Бинты заменили архивными бумагами, шины – кожаными переплетами, а корпию – березовым лубом.
При Бородине Наполеон первый раз указал в диспозиции точные места развертывания амбулансов. Главный, при котором находился Ларрей и куда планировали свезти две трети раненых, расположили на правом фланге, напротив Багратионовых флешей, где наносился основной удар. В 10 утра, когда флеши пять раз перешли из рук в руки, оттуда привезли весьма примечательного пациента.
Полковник Борис Соковнин был, по словам Ларрея, «великолепный образец военного, уже весьма дородный» для своих 32 лет. Он командовал Новгородским кирасирским полком и при контратаке едва не взял в плен самого Мюрата. Пуля раздробила ему нижнюю часть левого бедра, порвала нерв и артерию и застряла под кожей подколенной впадины. Под плотным ружейным огнем кирасиры отошли за овраг. Соковнин остался лежать у южной флеши.
Заместитель Ларрея Феликс Бансель извлек пулю, остановил кровотечение. Позвали главного хирурга. Основываясь на своем опыте изучения ампутированных конечностей, Ларрей высказал такое мнение: если ударом в край кости она расколота вдоль, то сила воздействия такая, что и суставная сумка повреждена. Должен быть еще и поперечный перелом, который сейчас под мускулами не виден. Это не подлежит восстановлению; ампутировать, не дожидаясь гангрены. Ученики Ларрея все как один протестовали, начальник остался в меньшинстве. Решать предоставили пациенту.
Соковнина ждала жена Клавдия, которой едва исполнилось двенадцать. Весной новгородские кирасиры стояли в украинском городе Пирятине. Самый богатый помещик тех мест, седой старик Долинский, сыграл свадьбу с 11-летней девочкой. Полковник влюбился в нее с первого взгляда. Долинский был согласен развестись за пять тысяч рублей. Капитал Соковнина составлял всего 80 душ. Чтобы выложить пять тысяч, он залез в долги. Не успели направить из Петербурга оформленные документы на развод, как Наполеон перешел границу и кирасирам приказали выступать. Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, полковой священник в тот же день обвенчал Бориса и Клавдию. Медовый месяц провели в походе от Полтавы до действующей армии. Перед боем Соковнин отослал жену в свое орловское имение.
Ему хотелось сохранить ногу, чтобы еще повоевать, отличиться и выплатить долги. Но если гангрена, смерть в плену без всякой награды, что останется супруге? Она малолетняя; ни развенчана, ни замужем; из бумаг только расписки кредиторам. Разве что обратно к Долинскому. После нескольких секунд размышления раненый выбрал ампутацию.
Едва Ларрей сделал ее, хирурги бросились изучать отсеченную ногу. Действительно, поперечный перелом: оба мыщелка отделены от кости. Сустав заполнен черной кровью со сгустками белка. Кровь из подколенной артерии пропитала мышцы. Гангрена представлялась неизбежной. В Бородинском бою было еще три таких же случая.
Из важных пленных Ларрей запомнил еще 20-летнего князя Григория Голицына, корнета лейб-гвардии Конного полка. Сквозное пулевое ранение в руку, кость не задета. Подрезая края раневого канала, главный хирург извлек пуговицу, которую пуля увлекла за собой. Ларрей с удовлетворением заметил: «Вот подтверждение моего тезиса, что надо освежать всякую огнестрельную рану, даже сквозную, чего бы там ни писали молодые новаторы». Спор этот разрешило только появление рентгена.
Оперированных пленников оставили за 10 километров от поля боя в Колоцком монастыре, временно превращенном в крупнейший госпиталь Европы. Выхаживали наравне с французами. Чтобы не допустить госпитальной гангрены, хирурги по приказу Ларрея на глазах у каждого пациента стирали предназначенные для него повязки. «Больничная горячка заразна, – утверждал Ларрей. – Столько раз я сам наблюдал воспаление уже рубцующихся ран, если они напитывались ядом из повязки умершего от гангрены!»
С самого начала оккупации Москвы французы опасались внезапного налета на город казаков. Поэтому всех нетранспортабельных раненых, которым нельзя было раздать оружие, поместили в Воспитательном доме, под защитой пушек на стенах Кремля. Пока Ларрей оперировал в Голицынской больнице (позднее вошла в состав Первой градской) и шереметевском Странноприимном доме (Институт им. Склифосовского), Воспитательный дом охватили больничные инфекции. В борьбе с «гнилой заразой» там не стирали перевязочных материалов, а поступали проще: признанных безнадежными выбрасывали в окно с пятого этажа. Не только немцев, итальянцев и поляков, но и настоящих французов. Напрасно бедняги звали на помощь, упираясь в рамы обрубками рук и ног. Ветеринар Пётр Страхов, чья сестра была замужем за комиссаром Воспитательного дома, вспоминал, что каждый день мимо ее окон пролетали еще живые калеки.
В армии знали это. Офицеры пугали солдат, которые отговаривались плохим самочувствием: «Марш – или в больницу!» На таком фоне госпиталь в Колоцком монастыре функционировал образцово. При отступлении из Москвы Ларрей забрал оттуда часть медиков и всех способных передвигаться раненых. Среди них Соковнина и Голицына. Они поправились, со слезами на глазах благодарили Ларрея и просили устроить им побег. В Дорогобуже он дал им денег и оставил при недавно оперированных французах с запиской к командующему русским авангардом Милорадовичу – как было принято в те времена.
Голицына снова ранили под Кульмом, и он скончался от ран в 1821 г. Соковнин же чувствовал себя прекрасно. Вернулся к жене и явил такую прыть, что к 1836 г. у них родилось уже 15 детей. Завистники наябедничали императору Николаю I. Царь простил ветерана, детей велел считать законными, но запретил следовать примеру Соковнина: «впредь не допускать браков с малолетними».
Сам Ларрей при отступлении выжил благодаря гвардейцам. Давние пациенты подбирали его, когда он без сил падал на обледенелой дороге. Кормили и отогревали у своих костров, от которых отгоняли приблудных полковников и генералов. Перенесли Ларрея на руках по мостику через Березину. На правом берегу этой реки держали над ним простыню, пока Ларрей в снегу и под огнем русской артиллерии делал высокую ампутацию бедра 60-летнему генералу Зайончеку (пациент остался жив).
За все эти испытания Наполеон не заплатил никакой премии. Напротив, числил одним из виновников ужасных потерь: «Он не умел как следует управлять своей частью». Между прочим, из 826 медиков Ларрея домой вернулось 275, то есть 33 %: доля уцелевших раз в 10 выше, чем по всей Великой армии.
Когда Франция капитулировала, накопления Ларрея составляли тридцать тысяч франков. Жена хирурга Элизабет, происходившая из финансовых кругов, отдала их приятелю, который обещал выгодные вложения. Теперь власть сменилась – и друг семьи оказался негодяем, не признал долга. У «наполеоновских пособников» забрали пенсию, положенную за орден Почетного легиона. Когда Ларрей остался без доходов, Бонапарт неожиданно захватил власть и предложил возглавить амбулансы гвардии, обещая настоящее богатство: «Я найду способ наградить вас за труды и возместить утраченное».
На поле битвы при Ватерлоо Ларрей снова бродил по «ничейной земле», подбирая раненых под огнем теперь уже английских батарей. Главнокомандующий Веллингтон увидел это в подзорную трубу и спросил:
– Кто этот дерзкий?
– Это Ларрей, милорд.
– Распорядитесь не стрелять в ту сторону. Пусть он соберет кого захочет.
И герцог Веллингтон приподнял шляпу в знак приветствия.
В сумерках гвардейский амбуланс получил приказ отходить вместе с разбитой армией. Измученный Ларрей ехал впереди. Наткнулись на разъезд прусских уланов. Хирург выстрелил из двух пистолетов, достал свою булатную саблю и прорубился через кавалеристов, отвлекая на себя. Ему стреляли вслед. Попали в лошадь. Животное рухнуло в тот самый момент, когда подоспевшие уланы нанесли Ларрею удары саблями по голове и плечу.
Пруссаки подумали, что он убит, бросились в погоню за амбулансом. Изранили и взяли в плен весь медицинский персонал. Через час Ларрей очнулся. Раненая лошадь к тому времени поднялась на ноги. Кое-как взобравшись на нее, хирург двинулся пшеничным полем прямо в сторону французской границы. На рассвете его настигла прусская кавалерия.
Победители забрали кольцо с агатом – талисман, подарок египетского мамелюка, саблю, кошелек с 40 золотыми, сапоги, шляпу и даже белье. Оставили панталоны и серый гвардейский сюртук, в котором невысокий Ларрей издали походил на своего императора. Затем отвели к полковнику, тот в самом деле принял хирурга за Наполеона и велел его поскорее расстрелять – связав руки и заклеив глаза пластырем, чтобы бог войны не сумел сорвать повязку и командовать своей казнью. Наклеивать пластырь приказали полковому врачу. Тот приблизился, рассмотрел залитое кровью лицо приговоренного и узнал его: немецкий доктор посещал те самые курсы, которые Ларрей организовал в Берлине весной 1812 г.
Ларрея повели к фельдмаршалу Блюхеру, который был у него в долгу: француз при Кульме лечил его раненого сына. Старый Блюхер накормил пленника обедом, одел, обул и дал 12 золотых.
Так закончилась военная карьера Ларрея. Теперь он зарабатывал частной практикой. Его звали в Россию, США и Бразилию на должность главного военного врача. Но во Франции жили солдаты гвардии – пациенты, которых он вел десятилетиями, писал о них научные труды. Много ли к 50 годам остается старых друзей, у кого можно спросить: «А помнишь?» Ларрей имел таких несколько сотен.
В 1821 г. на острове Святой Елены умер Наполеон. Лишь одно имя из списка наследников в последней воле покойного сопровождается комплиментом: «Завещаю сто тысяч франков Ларрею – самому доблестному человеку из тех, кого я знал».
Правительство удержало половину этой суммы. В 1854 г., через 12 лет после смерти Ларрея, его сын Ипполит все же получил конфискованные пятьдесят тысяч. Из рук племянника Бонапарта, который стал императором Наполеоном III и хотел показать преемственность. На эти деньги Ларрей-младший построил в родной деревне отца школу.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Anton Ivanov: Войны в первой пол. 19 в. были гуманнее, чем в первой пол. 20-го. Что же будет дальше…
Ответ: Нет, они не были гуманнее. Потери чудовищные. 30 % живой силы обеих сторон. При Аустерлице даже 36 %. Русскую армию начала XIX века отличало совершенно варварское отношение к пациентам, даже к самым способным полководцам. Раненых рядовых при отступлении бросали на поле боя без всякой помощи. Багратиона умудрились не прооперировать и мучили его дорожной тряской три недели, пока он не умер. Моро, на которого возлагали такие надежды, оперировал лучший русский хирург Виллие, а потом этот Моро два дня лежал под проливным дождем, на третий умер. Сравните со Второй мировой, когда Рокоссовского и Конева лечили в прекрасных и, между прочим, общих госпиталях.
16 Удаление опухоли под общим наркозом Сэйсю Ханаока 1804 год
13 октября 1804 г. японский хирург Сэйсю Ханаока успешно выполнил первую в мире документально подтвержденную операцию удаления раковой опухоли под общим наркозом. Это могло не произойти, если бы жена великого хирурга не пожертвовала собой.
Ханаока изучал сначала китайскую медицину, а затем так называемый стиль Каспара. В основе этого искусства лежали протоколы операций, которые в 1649–1651 гг. выполнял в Нагасаки нанятый голландской факторией немец Каспар Шамбергер. Перенятые у его учеников навыки западной хирургии японские врачи передавали из поколения в поколение, несмотря на официальный запрет ее изучать.
Постигнув стиль Каспара, Ханаока решил сочетать его с применением древнего обезболивающего, о котором говорилось в книгах про Хуа То, великого китайского врача древности. Там было описано снотворное под названием «мафейзан». Хуа То сообщал, что главный компонент – дурман, однако точный состав своего средства держал в секрете.
Двадцать лет Ханаока воссоздавал китайское зелье, испытывая разные составы на собственной жене. В ходе этих экспериментов она потеряла зрение, но ее муки были не напрасны: к 1804 г. удалось создать эффективный препарат, названный «цусэнсан». В него входили дурман, женьшень, даурский дудник, сычуаньский любисток, пинеллия, однопокровница и дягиль. Действующими веществами были алкалоиды, вызывавшие сонливость и временный паралич скелетных мышц. Употребив этот экстракт, человек через 2–4 часа засыпал и пребывал в бессознательном окоченении от 6 часов до суток.
Первым пациентом Ханаоки, изведавшим на себе действие цусэнсана, стала 60-летняя Кан Айя, страдавшая раком молочной железы. От этой болезни умирали все женщины в ее семье. 13 октября 1804 г. Ханаока благополучно провел ей мастэктомию, после чего к нему в городок Нага стали съезжаться больные со всей страны. Он выполнял под наркозом самые разнообразные операции – от удаления рака языка до извлечения камней из мочевого пузыря, но мастэктомию делал чаще всего: 156 раз, с неизменным успехом.
Пример Ханаоки показал, чего может достичь восточный специалист, работая по-европейски, и заронил в умы образованных японцев мечту о западной науке и западном образе жизни.
17 Стетоскоп Теофиль Лаэннек 1817 год
8 марта 1817 г. датирован самый первый осмотр больного с использованием трубки (стетоскопа), позднее сопоставленный с данными вскрытия. С тех пор трубка, а затем фонендоскоп стали первыми инструментами диагностики и атрибутами врача. Французский терапевт Лаэннек изобрел стетоскоп, чтобы светские условности не мешали обследовать женщин, а начинал отрабатывать свою методику на будущей жене.
Рене-Теофиль-Ясент Лаэннек предпочитал второе из своих имен. Знакомые называли его Теофилем, как и его отца – юриста, бретонского аристократа и владельца усадьбы под названием Керлуанек. Отношения двух Теофилей были сложными. Когда сыну исполнилось пять лет, его мать умерла при родах. Теофиль-старший отослал сыновей к своему брату Гийому, объясняя, что вот он, Теофиль, теперь вдовец, а у Гийома есть жена, которая позаботится о мальчиках. Брат ответил, что это странно, однако детей принял и воспитал вместе со своими.
Когда же Теофиль-старший женился, он не позвал детей к себе, потому что они, дескать, уже подростки и им лучше жить у Гийома в большом городе Нанте. Ведь учиться лучше там. Чтобы Гийому было чем оплачивать учебу, папаша Лаэннек прислал брату бумаги по судебному иску его новой жены к родственникам: «Вот вам иск, что выиграете – все ваше».
Из двух братьев, которые росли в его семье, врач Гийом Лаэннек больше любил Теофиля, поскольку тот явно обнаруживал склонность к медицине. Второй брат Мишо (Мишель) пошел в отца и стал юристом. Росли они как полагается бретонцам среднего достатка: кельтские танцы, песни, стихосложение, охота со спаниелем и токарный станок. Со всем этим Теофиль сочетал коллекционирование минералов и бабочек, а также изучение греческого – чтобы читать Гиппократа в оригинале.
Медицинская практика у него началась в 14 лет, когда те края охватила война с шуанами – партизанами, не признававшими французское революционное правительство. Мальчик поступил в армию хирургом третьего разряда и в конце войны умел все, что полагалось военному врачу, а также без особых переживаний вскрывал трупы.
Восстание еще не было подавлено, когда выяснилось, что можно навестить отца на ферме, где он прятался от кредиторов. Теофиль пешком прошел 50 километров через лес, кишевший недобитыми шуанами, чтобы провести лето с отцом. Оказалось, им хорошо вместе. Старший Лаэннек был бесшабашен, весел и расчетлив. За это сын с того лета очень полюбил отца, хоть и знал ему цену.
Выучиться на врача в Париже стоило втрое больше, чем в Нанте, но лучшее образование давали в Медицинской школе, которую возглавлял личный врач Наполеона Жан-Николя Корвизар (1755–1821). Он один во Франции владел техникой выстукивания – перкуссии, так что, к удивлению персонала клинической больницы Шарите, мог еще до превращения пациента в труп предсказать результат вскрытия. По совету отца Лаэннек поехал поступать к Корвизару. Правда, отец дал только треть нужных для этого денег, остальные доложил дядя Гийом.
Врачам старшего поколения революция дала свободный доступ к телам умерших. В больнице Шарите вскрывали всех скончавшихся больных и студентам было на что посмотреть. Лаэннек не вылезал из морга и в 21 год имел на своем счету несколько открытий. Он показал, как отделить для демонстрации паутинную оболочку мозга, как по виду раны перерезанного бритвой горла различить убийство и самоубийство, и первым описал перитонит.
За время работы в анатомичке Теофиль порезался восемь раз. Он очень боялся заразиться, впоследствии на вскрытиях со своими студентами старался работать пинцетом и не жалел хлорной извести, но было уже поздно – на восьмой раз, в 1806 г., он заполучил туберкулез.
Корвизар ценил хороших студентов и часто приглашал их к себе обедать, усаживая за стол по сто человек. Узнав об этом, Лаэннек-отец попросил сына выхлопотать ему через личного врача Наполеона какое-нибудь место в Париже. Дескать, в этом случае он сможет оплатить учебу сына сполна.
Юноша отвечал, что не доверяет Корвизару: «Он выдающийся клиницист, только ему лень лишний раз поглядеть на больного, не то что писать». Это было сказано со знанием дела – Лаэннек постоянно готовил для издаваемого Корвизаром журнала статьи, получая гонорар через раз. Случались там и утечки идей: когда Лаэннек разработал классификацию болезней с делением опухолей на злокачественные и доброкачественные, начальник его лаборатории Гийом Дюпюитрен тут же написал об этом, и его статья вышла раньше.
Разразился скандал, который не только разделил медицинский Париж на два лагеря, но и обозначил разочарование молодых врачей в предшественниках, «солдатах империи». Лаэннек и его друзья теперь делали все назло:
– Вы обласканы Наполеоном и купаетесь в золоте – мы, будучи волонтерами, бесплатно лечим бедных, которых вы калечите на войне.
– Вы в восторге от вашего императора – мы сочиняем про него куплеты, называя не иначе как «коррюптёр» (тот, кто все портит).
– Вы презираете мертвые языки – мы учим латынь, чтобы не пугать пациентов, и греческий, чтобы защищать диссертации о Гиппократе.
– Вы отрицаете Бога – мы станем ходить в церковь и встретимся с римским папой.
Когда папа Пий VII приезжал в Париж венчать Наполеона, вырвавшего у него из рук императорскую корону, католическая конгрегация представила ему самых толковых студентов-католиков во главе с Лаэннеком. Понтифик очень удивился и даже изрек: «Современный образованный молодой врач, да еще благочестивый, – это чудо».
При всей кажущейся смехотворности Лаэннек только выиграл от подобного протеста. Во-первых, как волонтер он накопил громадный клинический опыт. Вскрывая тела больных, которых он вел бесплатно, Теофиль научился ставить диагноз при первом осмотре. Во-вторых, в Париже оказалось немало истых католиков, которые ждали смены режима. Они охотно приглашали к себе молодого доктора для консультации уже за хорошие деньги. Наконец, в 1809 г. парижский кардинал сделал его своим личным врачом. Лаэннеку пришлось потратиться на костюм с журнальной картинки, цилиндр и шпагу, но жалованье в 3000 франков годовых было втрое больше доходов самого благополучного сельского доктора.
Тем временем папаша Лаэннек перезаложил все свое имущество, и братья испугались, что он попадет в долговую яму, а родовое имение конфискуют кредиторы. Этого они допустить не могли, потому что мечтали, заработав денег в Париже, вернуться в родную Бретань и жить в свое удовольствие, гуляя с ружьем и собакой. Юрист Мишо через суд добился отрешения отца от права распоряжаться усадьбой Керлуанек. За это он и Теофиль обязывались выплачивать папаше пенсион 600 франков ежегодно. Вскоре после суда Мишо умер от туберкулеза, и отец сказал Теофилю: «Если ты лишишь меня пенсиона, то будешь как Дюпюитрен, который выжил из Парижа отца, мать и сестру». Этот запрещенный прием сработал: «Дорогой папа, я буду делиться с вами так, чтобы вы всегда жили не хуже меня».
Лаэннек-младший был в моде и жил в Париже вполне сносно. Помимо зарабатывания денег, он видел свою задачу в минимизации ущерба, наносимого режимом народу. Когда в 1814 г. отступающий Наполеон сражался уже в самой Франции и больницы были забиты ранеными, Теофиль не вылезал из госпиталей, хотя по слабости здоровья призван быть не мог. Он собрал в одном корпусе всех раненых-бретонцев – те страдали сильнее других, потому что слабо понимали французский и боялись умереть без католического причастия. Сдача Парижа и появление на улицах города «диких казаков» Лаэннека нисколько не пугали. Как врач он знал, что хуже войны ничего не бывает.
Восстановилась монархия Бурбонов, оппозиционные друзья Лаэннека пришли к власти. Слишком ревностные сторонники Бонапарта потеряли свои места, и весной 1816 г. Теофилю предложили возглавить госпиталь Некер, лучший стационар Парижа. Больница – это студенты, бесплатная рабочая сила для широких клинических исследований. Тут очень вовремя возникла идея, знакомая нашему герою и по детским играм, и по книгам Плиния Младшего. Если приложить ухо к бревну, то слышно любое прикосновение к нему, даже булавочный укол.
Судя по записным книжкам Лаэннека, первым пациентом, на котором эту идею испытали, была мадам Жакмин Аргу – женщина двумя годами старше Теофиля, платная компаньонка кузины его матери. В страхе перед наступающими казаками кузина бежала из своего парижского особняка, оставив хозяйство на мадам Аргу. С той ничего страшного не произошло, но в дни оккупации Жакмин волновалась вплоть до сердечного приступа. Лаэннек лечил ее с 1805 г., а теперь еще регулярно успокаивал и заверял, что это нервное. Их взаимная симпатия росла.
Чтобы соблюсти приличия, осенью 1816 г. врач решил прослушать стук сердца мадам Аргу через тетрадь, свернутую в трубочку. Количество и громкость звуков поразили его. На следующий день Лаэннек выслушал таким образом всех пациентов своей больницы – более 100 человек. К вечеру стало ясно, что физиологические изменения внутри организма выдают себя звуками. Оставалось наблюдать, сопоставляя данные вскрытия с необычными звуками, рождавшимися в сердце и дыхательных путях.
Первой больной, чья история заслуживала внимания, стала 40-летняя горничная Мари-Мелани Бассет, госпитализированная с воспалением легких. 10 лет назад она после третьих родов жаловалась на отеки, какой-то шарлатан дал ей сильное мочегонное, после чего здоровье Мари-Мелани стало сдавать. 1 января 1817 г. ее наняли ухаживать в праздничный день за больным, после чего на женщину напала небывалая слабость. Она задыхалась и не могла подняться по лестнице. В больницу не хотела: из 1000 пациентов госпиталя Некер 150 оставались там навсегда. Но выхода не было.
8 марта Лаэннек первый раз провел ее исследование «цилиндром», как назывался тогда новорожденный прибор. Дыхательные шумы в некоторых областях не прослушивались. Возможно, это была совсем «новая» тогда болезнь – отек легких. По мере наблюдения отеки во всех областях тела больной нарастали, пульс делался слабее, конечности холоднее, пока 2 июня не наступила смерть. На вскрытии из легких ручьем потек серозный выпот, что и подтвердило диагноз.
Среди несимпатичных Лаэннеку особенностей врачей – «солдат империи» – была привычка испытывать все новое сначала на бедных. Теофиль, напротив, экспериментировал и на больных, за которых ему платили. Летом 1817-го ему как раз попалась умирающая от ревматической болезни сердца мадам де Сталь (1766–1817). Эта оппозиционная Бонапарту писательница была на редкость капризной пациенткой. Лаэннека вызвали, потому что прошел слух, будто он делает нечто особенное. Правильный диагноз «цилиндр» не обеспечил: Теофиль предположил наличие в груди скопления жидкости, которого на вскрытии 17 июля не наблюдали. Зато сообщение, которое сделал личный доктор о болезни писательницы, стало первым официальным упоминанием нового метода исследования.
«Спеши, – писал Лаэннеку отец, – где-то рядом Дюпюитрен и другие конкуренты». Хотя сам Лаэннек был измотан сотнями выслушиваний в день и выглядел так плохо, что у постели мадам де Сталь докторá заметили: «Его самого нужно класть в больницу», – спешить стоило.
Четвертая по счету удача в истории стетоскопа опять связана с женщиной: тем же летом 27-летняя пациентка с лихорадкой и кашлем никак не могла замолчать на осмотре. Так обнаружилось, что голос тоже стоит исследовать, потому что у этой больной в определенной точке груди речь почему-то звучала в трубке намного громче, чем в прочих местах. Лаэннек предположил, что на этом месте туберкулезная каверна. Скорое – увы – вскрытие показало, что он прав. Наконец в руках врачей оказался метод обнаружения такой патологии, как туберкулез; прежде, до вскрытия, его толком не отличали от пневмонии. С таким козырем можно было делать сообщение в Академии наук.
Но предварительно Лаэннек подобрал новый материал для своего «цилиндра». Стекло и металл при большой прочности плохо проводили звуки сердца. К тому же – и это было важно для Лаэннека как для врача по вызову – трубки из них охлаждались на морозе. Современные пациенты, которых участковый терапевт слушает ледяным фонендоскопом, поймут сомнения Лаэннека. Поскольку Теофиль умел и любил работать на токарном станке, он вытачивал цилиндры из разных пород дерева сам. Сначала для себя, потом – в подарок другим врачам. После его смерти в мастерской остались заготовки для десятков стетоскопов.
Сообщение Лаэннека приняли с восторгом. Составитель медицинской энциклопедии Франсуа-Виктор Мера писал, что аускультация при помощи стетоскопа восхитительна, только жаль, что теперь врачи могут утратить виртуозные навыки диагностики по пульсу, цвету мочи и запаху кала. Примерно как в наше время старые профессора возмущаются, что на консультациях молодежь начинает излагать суть проблемы не с жалоб и данных аускультации, а с результатов УЗИ. Сам Лаэннек смеялся над этим и писал: «Это все равно что отказываться ездить по Парижу в кабриолете из опасения утратить навык перепрыгивания через лужи на тротуаре».
Многие из принципа отказывались верить в аускультацию или слушали только прикладывая ухо к телу. Но трубка вошла в моду за границей – новая парижская штучка! – а оттуда вернулась во Францию. Трубка еще и успокаивала больных: у врача теперь есть инструмент, которым он хоть что-нибудь может сделать. Все желали, чтобы их выслушивали, так что медикам пришлось учиться и покупать руководства Лаэннека. Они стоили пятнадцать франков, и еще три франка – прибор.
Патриарх фонокардиографии Генрих Кассирский (1929–2013) заметил: «Когда говорят, что во врачевании есть элемент искусства, то аускультация – яркий пример. Мало знать и понимать, что представляют собой тоны и шумы сердца, когда и при каких пороках они возникают. Их надо уметь услышать». Вот где пригодилась высокая общая культура и музыкальность Лаэннека. Своему искусству он учил бессчетных студентов из Британии, Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, Италии, Греции, Голландии, Польши, Швеции, России, а также с острова Ньюфаундленд, из США и Мексики.
Лаэннек стал знаменит и богат. Теперь ему платили шесть тысяч франков за вызов и пятьдесят тысяч в случае выздоровления пациента. Когда его папаша узнал через своих шпионов на почте, сколько зарабатывает сын, то предъявил претензии на свою половину: «Имея состояние больше трехсот тысяч, не может найти пары тысяч для отца, которому скоро уж 80».
Папаше перепало несколько тысяч, когда сын умер, – отец пережил его на 10 лет. Парадоксально: великий врач Лаэннек не признавал, что у него самого туберкулез, и не верил ученикам, слышавшим характерные хрипы. Он успел жениться на мадам Аргу, и, судя по их переписке, этот продолжавшийся два года брак был счастливым. За несколько часов до смерти 13 августа 1826 г. Теофиль наконец осознал, что происходит, сам снял обручальное кольцо и отдал его жене, «чтобы потом не пришлось никого просить это сделать».
Вдова умерла в 1847 г. и была похоронена в одной могиле с мужем. В 1934-м их разлучили: до властей вдруг дошло, что Теофиль Лаэннек – национальное достояние и что он произвел переворот в науке. Ему соорудили гробницу в центре кладбища, останки тщательно отделили от костей супруги, вырыли новую могилу, но перед повторным погребением поставили гроб на несколько дней в церкви для отдания почестей. За эти несколько дней на кладбище собрались тысячи бретонцев. Они выстроились в очередь: каждый спускался в будущую могилу Лаэннека, чтобы прилечь там на некоторое время. Больные верили, что пребывание в могиле великого врача им поможет. Говорят, были случаи исцеления.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Ekaterina Brzhezovskaya: Интересно, а кто доработал стетоскоп до современной формы с ушками и мембраной?
Ответ: Голдинг Бёрд из лондонской больницы Гайc Хоспитал в 1840 г. сделал гибкую трубку, а итальянские врачи Эудженио Бацци и Аурелио Бьянки в 1894 г. закрепили на раструбе мембрану.
Лаэннек не успел сузить среднюю часть своего инструмента. Его стетоскоп был цилиндрический, как подзорная труба. Более узнаваемую форму с тонким стволом и раструбами на конце сделал Адольф Пинар. Применяемую в акушерстве большую деревянную трубку такой формы называют «трубой Пинара». По сути она представляет собой тот же стетоскоп Лаэннека.
Anna Kiriluk: Ну и папашка был у героя! Однако таким уверенным в себе эгоистам чаще всего и удается прожить долго и счастливо.
Ответ: Со временем любовь Теофиля-сына к родителю не то чтобы прошла, но верх взяла некоторая настороженность. Едва доктор Лаэннек решил жениться, про них с Жакмин пошли всяческие слухи. Якобы она его давнишняя любовница, а чтобы окрутить богатого профессора, симулировала беременность (впрочем, детей у них так и не было). Лаэннек даже пошел к бретонскому архиепископу консультироваться – стоит ли вступать в брак, когда вся округа только так о них и думает. Архиепископ ответил: «Конечно, стоит! Замечательно, что вы решили скрепить старую дружбу священным обрядом».
А вот когда Лаэннек написал отцу и cher papa горячо одобрил идею этого брака, жених задумался, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Свадьба состоялась, но из-за размышлений над ответом отца несколько позже, чем была запланирована.
18 Открытие природы пищеварения Уильям Бомонт и Алекси Сен-Мартен 1822 год
6 июня 1822 г. молодой канадец Алекси Бидаган по прозвищу Сен-Мартен получил в живот заряд дроби, и у него образовалась желудочная фистула. Благодаря этому ранению была доказана химическая природа пищеварения и начались операции на желудке живых пациентов.
У Сен-Мартена много общего с главным героем фильма «Выживший», за исполнение роли которого Леонардо Ди Каприо получил долгожданный «Оскар». Действие фильма происходит в 1820-е гг. Наш герой тогда работал в тех же местах и в той же организации, что и герой Ди Каприо: как сотрудник Американской пушной компании доставлял заготовленные меха в приграничный форт. Правда, Сен-Мартен был не следопытом, а простым гребцом и грузчиком. Больше всего на свете он любил выпивать и бить баклуши. Но он тоже получил ранение, несовместимое с жизнью, и сумел выкарабкаться. Произошло это потому, что беда стряслась не в глухом лесу, а посреди форта Макинак (Макино) – в пяти минутах ходьбы от военного госпиталя, где служил хирург Бомонт.
До несчастья 28-летний Сен-Мартен был здоров как бык. Утром 6 июня 1822 г. он явился на рабочее место, то есть на склад пушнины. Туда же наведался его приятель, который шел охотиться на уток и нес заряженное ружье. Свидетели говорили, что Сен-Мартен пострадал от случайного выстрела почти в упор – с расстояния не далее вытянутой руки. Рана ужасающая: кожу и мышцы сорвало на площади больше ладони, пятое ребро раздроблено, вместо шестого из обломков выпирало обожженное легкое и желудок. Сквозь дыру в желудке вытекал еще не переваренный завтрак. Собралась толпа, побежали за доктором, Бомонт оказался на месте. Через 25 минут после выстрела он уже забрал пострадавшего в свой госпиталь, заявив, что этот парень не протянет и 36 часов.
Случай представлялся безнадежным, потому что содержимое полного желудка должно было попасть в брюшную полость и вызвать неизлечимый тогда перитонит. Однако, по словам Бомонта, пробитая часть желудка «прикипела» к плевре и ране так, что содержимое выходило только наружу. Рана закрылась не совсем. На протяжении 17 суток все, чем кормили пострадавшего, выливалось через отверстие. Но по мере извлечения дробинок воспаление пошло на убыль и кишечник заработал. Выполнять свой контракт Сен-Мартен больше не мог, и власти объявили его бездомным бродягой. Молодому человеку предписали покинуть США – погрузиться в лодку и, преодолев по Великим озерам и реке Святого Лаврентия несколько сот километров, возвратиться в родную деревню неподалеку от Монреаля. Доктор Бомонт понимал, что такое путешествие убьет неокрепшего пациента. Чтобы раненый мог и дальше находиться в госпитале, хирург фиктивно оформил его как своего личного слугу и платил ему жалованье из собственных средств.
Постепенно эта договоренность превратилась в настоящую. К Сен-Мартену вернулась прежняя сила. Он колол для своего хозяина дрова, носил воду и следовал за ним из гарнизона в гарнизон. Исторические эксперименты начались в мае 1825 г. Бомонт отобрал через фистулу образцы желудочного сока и обнаружил, что пища в нем растворяется. Так было установлено, что пищеварение – процесс не механический, а химический и в желудке еда не перетирается, а обрабатывается едкой кислотой. Бомонт напрямую вводил в желудок Сен-Мартена образцы разных продуктов, измеряя скорость их переваривания. И хотя в научных трудах он писал, что эксперименты не причиняют слуге ни боли, ни дискомфорта, тот спустя несколько месяцев бежал в родную Канаду.
Там он женился на девушке без приданого. После рождения двоих детей жил в нужде и снова завербовался в Американскую пушную компанию. Прибыв с семейством на место работы, Сен-Мартен обнаружил, что на самом деле его нанял доктор Бомонт. Врач договорился с компанией, рассчитывая, что Сен-Мартен не развернет оглобли, когда после долгого пути поймет, что к чему.
Расчет оправдался. Сен-Мартен с женой прожили при госпитале два года и произвели на свет еще двоих детей. Эксперименты становились все сложнее и продолжительнее, причем выпивать Сен-Мартену не дозволялось. Жена его была еще дальше от науки, чем сам подопытный слуга, и не понимала, для чего они пропадают в американском гарнизоне, где никто не говорит по-французски, как в родном Квебеке. Наконец, в марте 1831 г., едва потеплело, семейство тайком от доктора погрузилось в каяк и отплыло домой, куда добралось только в июне.
На земле Сен-Мартен хозяйничал куда хуже, чем правил каяком. Содержать пятерых (уже!) детей оказался не в состоянии и опять вернулся к Бомонту. Известие об экспериментах облетело весь медицинский мир. Врачи сделали из этой истории вывод: операция на желудке не означает верную смерть и в опасных для жизни случаях оправданна. Клод-Антуан Буше, городской врач Лиона (знаменитый тем, что отказался стать лейб-медиком Наполеона, не желая бросать родной город), решился разрезать желудок женщине, проглотившей серебряную вилку. Операция прошла благополучно и вдохновила многих коллег.
Американские военные медики настолько заинтересовались случаем Сен-Мартена, что он был принят на службу как сержант армии США. От него требовалось всего лишь быть «подопытным кроликом» у хирурга Бомонта. Вышла книга с описанием 240 экспериментов. Это издание есть в каждой старой медицинской библиотеке мира. За прекрасную службу сержант Сен-Мартен получил отпуск домой… и не вернулся. На родине жена внушила ему, что без него семейство обречено на голодную смерть. Что станет, если доктор его как-нибудь загубит или его уведет другая женщина? Ведь он теперь знаменит на весь мир – портреты в книгах печатают.
Напрасно Бомонт зазывал Сен-Мартена назад. Беглый сержант в ответ писал (точнее, по неграмотности диктовал приходскому священнику), что скучает по доктору, но жена против. Не поддался он и на щедрые предложения других врачей.
На него долго охотилось общество медиков-вегетарианцев. По наблюдениям Бомонта, мясо растворяется в желудочном соке гораздо быстрее, чем овощи. Вегетарианцы сочли это клеветой на свою диету и пытались раздобыть Сен-Мартена, чтобы переделать эксперимент. Но хитрый канадец спрятался от фанатиков на своей ферме так, что его не нашли.
Подопытный Сен-Мартен пережил Бомонта на 27 лет. Семья феноменального канадца ходила в лохмотьях, двое ослабленных недоеданием детей умерли от инфекций; на старости лет Сен-Мартену пришлось поступить в бродячий цирк и там демонстрировать свою фистулу публике. Когда цирковой предприниматель безбожно обсчитал неграмотного калеку, тот осознал, что у доктора ему жилось намного лучше. С горя он ушел в запой и просадил те крохи, что ему заплатили.
Сменив цирк на более надежный заработок – колку дров, Сен-Мартен работал до 80 лет. Незадолго до смерти он прислал сыну доктора Бомонта, тоже врачу, письмо, где тепло отзывался об отце адресата и просил денег: «Моя фистула нарывает. Если Вы назначите мне небольшое содержание, это не отяготит Вас надолго, потому что я очень стар и болен».
После его смерти вдова отказалась – даже за большие деньги – продать знаменитый желудок Сен-Мартена врачам, желавшим поместить этот препарат в музей. В летнюю жару семья нарочно тянула с погребением четыре дня, чтобы тело начало разлагаться. Во время отпевания гроб из-за сильного запаха пришлось оставить у входа в церковь. Родные покойного вырыли могилу необыкновенной глубины и не поставили над захоронением никакого знака, чтобы до тела не добрались оплаченные докторами гробокопатели.
19 Литотрипсия Жан Сивиаль 1824 год
13 января 1824 г. в Париже молодой уролог Жан Сивиаль впервые выполнил литотрипсию – дробление камней в мочевом пузыре. С этого дня минимально инвазивная хирургия стала избавлять пациентов с мочекаменной болезнью от мучительной и опасной операции «вырезания камней». Мало того, литотрипсия побудила медиков использовать в прогнозах теорию вероятностей, которая прежде применялась только в страховом бизнесе.
Изобретателю камнедробления Жану Сивиалю в 1812 г. было 20 лет. Как здоровый деревенский парень, он мог быть призван под знамена Великой армии и сгинуть в снегах России. Сивиаль избежал этой участи, потому что работал в больнице, где проходили реабилитацию раненые.
Вырос он в центре Франции, в Оверни, на склоне потухшего вулкана высотой почти километр над уровнем моря. Его семья делала козий сыр кабеку. Несколько раз в год мальчик спускался продавать этот сыр в город – окружной центр Орийак. Учился в деревенской школе, затем в Орийаке, но с большими перерывами, отвлекаясь на заготовку сыров. В результате образованием не блистал, и, когда ему надоело доить коз, город мог предложить только самую грязную работу. Жан выбрал место санитара в орийакской больнице. Медицина пришлась по душе, все порученные ему процедуры Сивиаль выполнял прекрасно благодаря природной ловкости и привычке к авральному труду.
В день, когда русская армия вошла в Париж, Сивиаль въехал в столицу с другой стороны, намереваясь получить высшее образование. У него были рекомендации в старейшую больницу Отель-Дьё к самому Гийому Дюпюитрену, личному врачу королевской фамилии. Больница выдавала медицинский диплом, а самым ярким светилом в ней был как раз Дюпюитрен. Его имя обессмертила описанная им контрактура. Бальзак, несмотря на личные счеты, вывел Дюпюитрена в рассказе «Обедня безбожника» как положительного героя.
Правда, насчет его педагогических данных писатель высказался сдержанно: «Создал ли этот хирург школу, открыл ли ей пути к новым мирам? Нет». Дюпюитрен использовал учеников как рабочую силу: ловкие ребята из провинции ассистировали при операциях, выполняя по мере профессионального роста все более сложные задания, а лавры доставались мэтру. Но как бы то ни было, Сивиаль учился и все мотал на ус.
Была среди операций Дюпюитрена одна ужасающая – литотомия, вырезание камней из мочевого пузыря. Связанного по рукам и ногам больного держали три человека, пока хирург иссекал промежность и специальными щипцами вынимал из разреза камень. Все это без какого-либо наркоза. Дети до 14 лет обычно выздоравливали, но взрослые мужчины умирали от сепсиса сравнительно часто, особенно если оператор задевал простату. Жан видеть не мог, как гибнет во цвете лет больной, сумевший вынести такие мучения.
После тягостной сцены в 1817 г. студент Сивиаль решил изобрести машину для разрушения камней в мочевом пузыре без разрезов, через уретру. Мочеиспускательный канал растяжим. Опытами на себе Жан установил, что в него можно ввести навощенную трубочку диаметром до девяти миллиметров. При определенной сноровке – почти безболезненно. Эти мучительные поначалу эксперименты очень помогли Сивиалю отработать щадящую методику. Позднее он писал: «Когда видите, как врач резко всаживает зонд, можете быть уверены, что себя самого он не зондировал никогда».
Идея была в том, чтобы провести в эту трубочку зажим, которым захватывается инородное тело, и бурав, которым оно сверлится. Затем бурав извлекают и мочевой пузырь промывают теплой водой, с которой выносятся обломки камня. За несколько сеансов по 20–30 минут, как показал опыт, можно разрушить даже самый твердый оксалат. Дробление Сивиаль назвал по-гречески литотрипсией, а камнедробитель – литотриптором. Свои чертежи и описание такой машины направил министру внутренних дел в надежде, что государство профинансирует столь нужное дело.
Министр проявил внимание к ученику самого Дюпюитрена и за исходящим номером 20639/1818 переправил бумаги в ученое общество при медицинском факультете Сорбонны хирургам Перси и Шосье. Эти господа оценили обстановку, поняли, что писать ответ на прожект необязательно, и ничего не сделали.
После бесплодного ожидания Сивиаль подумал, что его мучения не должны пропасть даром, и решил изготовить литотриптор за свой счет. Поскольку диплома врача в 1818 г. он еще не имел, а из дома присылали в основном еду, нужно было найти источник дохода. Другие студенты преподавали: кто математику, кто рисование, кто фехтование, – а Сивиаль ничего не знал. По счастью, ему довольно легко давалась латынь, которую будущие врачи учили в больнице, и он стал учить латыни.
В 1819 г. Сивиаль заказал слесарю первый аппарат. Губки зажима для камней оказались мягкими и в опытах на трупах быстро гнулись. У следующего, 1820 г. изготовления, они ломались. От неудач, недоедания и тяжелой работы у Сивиаля начался подозрительный процесс в легких, и он уехал на полгода домой. На родине, чтобы не терять времени, стал экспериментировать на животных, отрабатывая захват камня, его вращение внутри мочевого пузыря и дробление. Когда вернулся в Париж, получил степень доктора медицины и начал практиковать. С латынью было покончено.
Он постоянно дорабатывал свое изобретение: уменьшил число губок захвата до трех, приделал бураву зубчики и нашел замену материалу для своей машины. В 1822 г. появились новые марки легированных сталей – цементованные высокопрочные. Такую сталь использовали для производства «вечных» столовых вилок и ножей. Сивиаль заказал на посудной фабрике в Ножане «боевой» вариант своей машины, состоявшей уже из 42 деталей.
Отработав операцию на трупах в присутствии старших товарищей, Сивиаль извлек с помощью литотриптора у живых пациентов парочку мелких камней, дробить которые не понадобилось, и попросил коллег направить к нему пациентов, боявшихся операции.
Первым стал парижанин Жантий 32 лет, уже четыре года жаловавшийся на боли в сердце и у корня полового члена, а в последнее время – на тяжесть в области ануса. Дюпюитрен обнаружил у него камень и прописал соду. Самый авторитетный хирург Франции Ларрей – главный хирург Великой армии под Бородином – предложил литотомию. Жантий боялся физической боли и думал, что не переживет операцию. 9 января 1824 г. он пришел к Сивиалю.
Они были ровесники, легко нашли общий язык. Сивиаль показал свою машину, объяснил принцип ее действия, и Жантий поверил в удачный исход эксперимента. Он согласился даже на присутствие комиссии во главе с Ларреем, чтобы задокументировать рождение нового метода.
13 января на квартиру Сивиаля прибыл больной, а также Ларрей и толпа хирургов, среди них академики Перси (извечный соперник Ларрея) и Шосье, в свое время «не заметившие» изобретение. Им было поручено составить протокол операции. Дюпюитрен не пришел, поскольку не верил в литотрипсию.
Зато в ней был уверен пациент. Обезболивания не применяли, но у Сивиаля были такие руки, что в ходе первого сеанса больной не испытывал неприятных ощущений, только дискомфорт. Сивиаль захватил камень с первой же попытки и начал его буравить. По глухому скрежету члены комиссии сразу поняли, что имеют дело с оксалатом, солью щавелевой кислоты, – самым твердым и колючим из мочевых камней. Сивиалю показалось, что сеанс продолжался 20 минут, хотя академики зафиксировали 40. Трижды уролог переводил дух, давая расслабиться себе и пациенту. Наконец промывание теплой водой – и в утку посыпались осколки. Перси закричал: «Господа, вот и позитив!» По общему мнению, операция прошла успешно и камень уменьшился примерно на треть.
На втором сеансе 24 января все прошло гладко и Сивиаль с трудом поборол искушение довести дело до конца. Интуиция его не обманула. «Вторые сеансы обычно идут по плану, – говорил он позднее, – но нужно уметь вовремя остановиться» (иначе от усталости врач может повредить мочевой пузырь, что в те времена влекло летальный исход). Третий сеанс 4 февраля избавил Жантия от камня полностью. На глазах комиссии из грустного подавленного молодого человека он превратился в счастливейшего из смертных.
На Сивиаля обрушились разом слава, деньги, пациенты. За пять лет он вылечил 115 человек без единого смертельного случая. Академия присудила ему премию в 6000 франков, король Карл X дал орден Почетного легиона, а парижская Администрация общественной помощи организовала в больнице Некер первое в мире отделение литотрипсии на 12 коек и без конкурса назначила Сивиаля заведующим. Бедный сыродел вдруг нажил крупное состояние. В парижском пригороде Гарш он купил 15 гектаров земли с источником, который считался целебным для страдавших мочекаменной болезнью. Там был устроен частный парк для реабилитации после камнедробления. Пациенты останавливались в специально выстроенном шато, где ныне помещается мэрия Гарша.
Первым взревновал Дюпюитрен. Он заказал механикам копию литотриптора, дополнил его какими-то деталями и устроил публичную «выставку оборудования для литотрипсии», как будто бы нечто изобрел. Сивиаль сделал учителю вежливое замечание. Они поссорились.
Увидев, что Дюпюитрен не заступится, оживились и другие завистники. Одни пытались доказать, что изобрели литотрипсию раньше, а Сивиаль просто плагиатор. Другие, работавшие в больнице Некер, переживали, что необразованный (в самом деле) деревенщина из ничего стал заведующим отделением, когда тут есть куда более знающие и заслуженные люди. «Сожрать» выскочку через Департамент здравоохранения оказалось невозможно. Слава Сивиаля разлетелась по всей Европе; в больницу стремились пациенты, интерны, студенты, принося громадные доходы. Тем не менее союзников у Сивиаля не было: с коллегами он держался высокомерно, к ученикам придирался. Нежен и предупредителен был только с пациентами.
Враги решили выжить Сивиаля с помощью Академии наук, где в медицинском отделении хватало завистников. Назначили слушания о вредной и опасной непроверенной методике, совершенно зря воспетой падкими на сенсации журналистами. Сивиаль подготовил справку о смертности при разных методах лечения. В последнее время, по его сведениям, в больницах Европы из 5715 традиционных операций вырезания камней окончилась летальным исходом 1141, то есть 20 %. А после 257 выполненных к 1835 г. операций литотрипсии умерло всего 6 пациентов. Только 1 из 42, или 2,3 %. Ведь это небо и земля!
Разобраться поручили Симеону Дени Пуассону, специалисту по теории вероятностей. Пуассон начал с того, что в медицине точно рассчитать ничего нельзя. Какая вам радость от того, что умирает лишь один из 42, если этим одним окажетесь вы? Имеют значение возраст пациента, его болезни, опыт врача, состояние больницы, бесчисленные случайности при операции. Можно лишь утверждать, что выживаемость после литотрипсии составляет 97,7 %. Но для такой оценки маловато данных, поэтому комиссия предписывает Сивиалю продолжать работу, чтобы собрать достоверную статистику.
И Сивиаль продолжал. Прежде чем уйти на заслуженный отдых, он сделал литотрипсию еще 1055 раз. Пациентами его отделения побывали за это время 199 врачей и хирургов. Из них трое были организаторами неудачной попытки расправы с литотрипсией.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Andrew Predtechenskiy: Как они видели камень в мочевом пузыре? Никакой видеокамеры на конце не было. Просто на ощупь?
Ответ: Зондировали щупом и так оценивали размер и местоположение камня. Смертельные случаи были, когда при зажимании камня прихватывали стенку пузыря и повреждали ее в процессе дробления. Вот это был самый тонкий момент, требующий большого умения. А иной раз вообще не могли захватить камень, сколько ни возились. Так было у самого Сивиаля, когда он в 1864 г. трижды не смог сделать литотрипсию бельгийскому королю Леопольду. Справился ученик Сивиаля – Генри Томпсон, использовавший инструмент со скользящими браншами и клювом, который Сивиаль придумал и изготовил, но так и не освоил.
Между прочим, первый эндоскоп с источником света как раз и сделали в 1878 г. на базе первого инструмента Сивиаля. Прибор вводили в трубку вместо зубчатого стилета. Называлось это устройство «цистоскоп».
Денис Баев: Без анестезии…
Ответ: Сивиаль умел делать литотрипсию без боли. И когда появился наркоз, не слишком часто его применял. Он считал, что с наркозом врач не понимает, если что-то делается не так. А до местной анестезии он не дожил.
Денис Баев: Вот как раз интересный момент: не содержал ли лубрикант анестезирующих компонентов?
Ответ: Только смесь восков. Местное обезболивание до применения кокаина фон Анрепом и Коллером (1884) было неизвестно.
Organic Honey. Чистый МЁД: Чем питались эти бедолаги, что обзавелись такими камнями?
Ответ: Вероятно, в ключевой (речной, «природной», ледниковой) воде встречается какая-то флора, способствующая возникновению камней в мочевом пузыре. С началом хлорирования воды частота возникновения этой патологии снизилась. Но она остается большой проблемой в развивающихся странах, где пьют воду, не прошедшую подготовку.
20 Лимфома Томас Ходжкин 1826 год
2 ноября 1826 г. «инспектор мертвых» (патологоанатом) лондонской больницы Гайс Хоспитал – молодой врач Томас Ходжкин – при вскрытии впервые увидел злокачественную опухоль, получившую название лимфома Ходжкина. Этот диагноз ставится каждому сотому онкологическому больному в мире, и еще вдвое больше пациентов страдают иными лимфомами, которые зовутся «неходжкинскими». Будь у доктора другой характер, он сделал бы карьеру в науке. Но ему было суждено уйти из клиники и создать новое государство.
Ходжкин принадлежал к общине квакеров. С детства ему внушали, что человек служит другим и не должен выпячивать свое «я». Даже о «своем» лимфогранулематозе Ходжкин докладывал в том духе, что «вот сейчас я вас познакомлю ближе с явлением, которое наблюдали многие патологоанатомы, начиная с великого Мальпиги». Ходжкин познакомился с Теодором Шванном, тот показал ему в микроскоп клетки с ядрами и объяснил свою теорию: все ткани живых организмов состоят из однородных клеток. Отсюда скромный английский патологоанатом заключил: бывают раковые клетки, и они должны распространяться по той ткани, в которой возникли. Так, образовавшаяся на шее лимфома продвигается по лимфатическим сосудам и поражает селезенку.
С этого момента онкология из коллекционирования разных видов опухолей начала превращаться в науку. Когда так говорили Ходжкину, он твердил, что все уже сделано в XVII в. Сам-то в душе знал себе цену, жаждал ученой карьеры и чуть не умер, когда из науки пришлось уходить. Но все же ушел и прах отряхнул.
Квакеры подавляют собственное эго всю жизнь. Томасу Ходжкину это выпало «в двойной дозе». Он, сколько себя помнил, любил одну женщину – свою кузину Сару Годли. В те времена жениться на двоюродных сестрах квакерам не разрешалось. Ходжкин просил старейшин рассмотреть его случай в особом порядке. Разрешение пришло через 50 лет, когда было уже поздно.
Мораль общины говорила: если тебе тяжело, помоги тем, кому еще тяжелее, и позабудешь свои неприятности. Ходжкин, сын бизнесмена, сначала был учеником аптекаря и собирался оставаться в аптечном бизнесе. Но теперь он решил стать доктором: врач служит людям больше, чем аптекарь.
Когда Ходжкин поступил в Эдинбургский университет, из Франции как раз прислали новый прибор для диагностики – стетоскоп. Он представлял собой цилиндрический рупор, выточенный на токарном станке. Профессора покрутили его в руках и приспособили как цветочный горшок. Студенты из хулиганских побуждений землю высыпали и стали друг друга слушать. Но как интерпретировать то, что ты слышишь, и как это соотносится с данными вскрытия? Некому объяснить, да и материал для вскрытий был однообразен: одни бродяги. Тела других групп населения ограждены законом. И Ходжкин уехал на стажировку в Париж, где в госпитале Некер работал изобретатель стетоскопа Теофиль Лаэннек, а в морге хватало самых разных трупов.
Лаэннеку приглянулся трудолюбивый квакер, самый толковый его ученик. Ходжкина рекомендовали англичанам, которые путешествовали по Франции в надежде, что благодатный климат поможет излечить туберкулез. Самым «выгодным» больным оказался лондонский миллионер-банкир Абрахам Монтефиоре. Ему требовался врач-компаньон. Помочь Монтефиоре с его кавернозным туберкулезом было нельзя, тем более что этот мажор считал врачей обслугой и рекомендаций не выполнял. Они так не сошлись характерами, что Абрахам нажаловался своему брату Мозесу, главе клана, и тот приехал разбираться. Мозес тут же принял сторону доктора, и началась дружба, определившая судьбу Ходжкина.
Старший Монтефиоре был женат на сестре жены Натана Ротшильда и принадлежал к тому кругу финансистов, без согласия которых облигациям никакого государства не было доступа на европейские биржи. Ходжкин стал его семейным врачом. Пока его интересовали только Сара Годли и медицина, он ничего не просил у могущественного пациента, за что Монтефиоре его обожал.
Томас вернулся в Лондон с репутацией хорошего диагноста и патологоанатома. В больнице Гайс Хоспитал стал «инспектором мертвых», то есть руководителем морга, ведущим научную работу. За несколько лет собрал академический музей из 1600 препаратов, относящихся к разным болезням. Некоторые из них до сих пор используются на занятиях со студентами.
Каждую аутопсию Ходжкин начинал с энтузиазмом, в ожидании, что вот сейчас попадется нечто неизведанное. И 2 ноября 1826 г. час настал. Девятилетний мальчик Джозеф Синнотт, из бедной семьи. Спал на одной кровати с братом, умершим от туберкулеза. Наблюдался девять месяцев, жалобы на боль в спине, отдающую в живот. Вздутие живота, похоже на воспаление, но жара не было. Вскрытие показало наличие каких-то клубеньков, но чутье говорило Ходжкину, что это не туберкулез. Его диссертация была посвящена назначению селезенки, и на нее он обращал внимание прежде всего. Селезенка увеличена, тверда и набита клубеньками. Брыжеечные лимфатические узлы раздуты, причем два до размеров голубиного яйца. Вообще клубеньки усыпали все крупные артерии, как бусинки, хотя и не пережимали их. Сочетание опухолей лимфоузлов с увеличением и затвердеванием селезенки показалось Ходжкину замечательным.
Когда набралось семь подобных случаев, он сделал доклад о злокачественной лимфоме. Через сто лет после открытия, в 1926 г., препараты Ходжкина изучили под микроскопом и установили, что специфические для лимфогранулематоза гигантские раковые клетки действительно присутствуют в 70 % случаев. Как ученый квакер сумел невооруженным глазом, обонянием и осязанием диагностировать настолько точно – загадка. Никто из ныне живущих так не может. Зато мы успешно лечим лимфогранулематоз облучением и химиотерапией, тогда как во времена Ходжкина «его» лимфома была стопроцентным приговором.
Сам Ходжкин предсказывал, что опухоль научатся лечить едкими веществами, а беречься от нее надо, избегая переохлаждения. Действительно, вирус Эпштейна – Барр, который провоцирует развитие этого заболевания, активизируется при ослаблении иммунитета. Отсутствие эффективной терапии против рака мучило Ходжкина. Кроме профилактики, предложить больным было нечего, и нужно было донести мысль о профилактических мерах до самой широкой аудитории. Ходжкин стал читать рабочим в училищах для повышения квалификации бесплатные лекции на тему «Как сохранить свое здоровье». Смысл выступлений состоял в том, что бояться нужно не онкологии. Факторы риска известны: курение, алкоголь, одежда не по сезону, скученность, грязь и канцерогенные вещества. Вот чего надо избегать и опасаться.
Зимой 1832 г. в Лондон пришла холера – та самая, из-за которой годом раньше Пушкин застрял в Болдине. И тут Ходжкин обнаружил, что его внимательные слушатели на самом деле не верят ему. Даже смышленые рабочие скрывали холерных больных и не давали их госпитализировать, потому что в бараках, по их мнению, «доктора убивают людей, чтобы вскрывать». Другие врачи бежали из столицы, восклицая: «Какая дикость!», «Как недалеко мы ушли от туземцев!» Ходжкин никуда не бежал, зато после эпидемии всерьез решил заняться изучением примитивных народностей. Раз цивилизованные люди испытывают те же страхи, что и дикари, нужно идти в леса, где аборигены не умеют так притворяться, как в городе.
Один из врачей Гайс Хоспитал, Ричард Кинг, как раз вернулся из плавания к берегам Канадского Арктического архипелага, где служил корабельным врачом. Он рассказал, что нравы примитивных народов быстро деградируют из-за деятельности Компании Гудзонова залива, которая выменивает у местного населения меха на ружья и «огненную воду». Агенты компании сознательно заключают с индейцами такие сделки: дескать, чем скорее дикари сопьются и перестреляют друг друга, тем лучше. Это чрезвычайно возмутило Ходжкина: нельзя губить примитивные народы, без них мы не поймем самих себя.
Одним из директоров Компании Гудзонова залива стал как раз казначей больницы Гайс Хоспитал мистер Бенджамин Харрисон. Сказочно богат, умел привлекать средства для больницы; ученый совет ходил у него по струнке. Ходжкин был у начальства на хорошем счету и без тени сомнения направил казначею очень вежливое письмо с описанием положения индейцев. Сам бизнесмен и инвестор, Ходжкин делал вполне реальное предложение. Компании, по его мнению, лучше не изводить индейцев, а платить им деньгами и учить их обращаться с капиталом, чтобы они освоили всякие ремесла и строили, например, лесопилки. Перепродавать их продукцию выгоднее, чем просто выкачивать из народа пушнину и другие природные ресурсы.
Казначея письмо взбесило. Чокнутый квакер! Что он знает о Канаде? Сидел бы в морге, мариновал лимфомы. Письменный ответ был самый формальный: нельзя верить на слово одному человеку, надо запросить правление компании, и вообще у вас неверные сведения.
Ходжкин так переживал, что слег на несколько месяцев с нервным расстройством. Еще одной причиной срыва было замужество Сары Годли, которая так и не дождалась разрешения на брак с двоюродным братом. Едва Ходжкин оправился, казначей подстроил ему пакость. В 1837 г. произошли перемены в ученом совете: умер один профессор, вместо него был выбран знаменитый Аддисон, и освободилось место ассистента, о котором Ходжкин мечтал уже 10 лет. Харрисон сделал все, чтобы провалить его на выборах. Тогда Ходжкин подал заявление об уходе.
Его просили остаться: ведь это большой урон для науки, и как вы бросите свой музей препаратов, дело всей жизни? На это Ходжкин ответил вполне по-достоевски: «Мы не сможем работать вместе. Вы передо мной виноваты, значит, вы будете мне мстить».
Оставшись без источника новых препаратов, Ходжкин прекратил исследования. На жизнь хватало доходов от частной практики. Он занялся защитой туземных народов. Отсутствие в доме любимой женщины компенсировали гости со всего света, за которых он хлопотал. Кто только не жил у Ходжкина: канадские индейцы, новозеландские маори, американские негры!
Насчет судьбы афроамериканцев ломали копья два лагеря. Аболиционисты желали просто отменить рабство в южных штатах США и выдать чернокожим паспорта. Колонизаторы собирались вывезти их на историческую родину в Африку, для чего приобретали землю на месте нынешней Либерии. Ходжкин был за колонизаторов. Памятуя историю своего увольнения, он писал в Американское колонизационное общество: «Человеку свойственно испытывать негативные чувства к тем, кого он долгое время обижал. Тому примером наш английский доморощенный антисемитизм».
Ходжкин так много помогал колонизационному обществу, что стал его вице-президентом и представителем в Лондоне. Когда в 1847 г. черные американские колонисты в Африке провозгласили суверенитет, судьба нового государства зависела от признания Великобританией. В ход, как таран, пошел Монтефиоре. Добро было получено. Джозеф Дженкинс Робертс, первый президент Либерии, прибыл в Лондон, остановился у Ходжкина, и тот представил его министру иностранных дел Британии лорду Пальмерстону. Когда королева подписала грамоту о дипломатическом признании Либерии, документ был вручен Ходжкину.
В 50 лет доктор женился на вдове с хорошим характером. Она создала уют и заботилась о здоровье мужа, но любимой так и не стала. Ходжкин под разными предлогами исчезал из дома. Вместе со своим другом Монтефиоре он мотался по миру, заступаясь за обиженных евреев. Условия в дороге были как во времена Крестовых походов. В Марокко они спали на земле и пили воду из луж. В Средиземном море едва не потерпели кораблекрушение. На Святой земле, где Монтефиоре начал создавать еврейские колонии по образцу Либерии, Ходжкин умер от холеры. В прощальном письме жене, отправленном из Яффы, он сожалел, что так мало успел послужить людям.
Похоронили его в Яффе, рядом с новым кварталом, построенным на средства Монтефиоре. Тамошнее христианское кладбище нередко посещают студенты-медики. Рассказывают, что надо сходить на могилу Ходжкина перед экзаменом по патологии – это будто бы принесет удачу.
21 Асоциальное поведение как симптом Фёдор Гааз 1829 год
20 апреля 1829 г. в Москве с подачи доктора Фёдора Петровича Гааза было решено не сковывать вместе ссыльных, которые отправляются по этапу. С этого дня в России понятие «права человека» перестало быть просто сочетанием звуков. В борьбе за эти права Гааз создал первый в Москве травмпункт и первым стал принимать на работу в больницы женщин.
Поначалу биография Гааза была типичной историей квалифицированного немецкого врача, по контракту приехавшего в Россию. В 1806 г. совсем юным доктором он подрядился вылечить княгиню Репнину-Волконскую от трахомы и четыре года был ее личным врачом на всем готовом с громадным жалованьем в 2000 рублей. В Москве лечил богатых за хорошие деньги, бедных бесплатно. Царским указом был назначен главным врачом Павловской больницы (ныне ГКБ № 4). Воевал. В 1814 г. дошел с русской армией до Парижа. Потом вернулся, пользовал московский высший свет, был в моде. Купил огромный дом на Кузнецком Мосту и деревню в 35 верстах от города, где завел ткацкую фабрику.
Все пошло не так после того, как генерал-губернатор князь Дмитрий Голицын, один из пациентов Гааза, назначил его главным врачом Москвы. Доктор обнаружил, что на официальной должности ничего сделать нельзя. Гааз то предлагал облегчить русским фармацевтам регистрацию новых лекарств, то пытался организовать оспопрививание или службу помощи больным с апоплексическим ударом, но отвечали ему отписками вроде «доведено до сведения», «на сей счет уже существуют надлежащие законные постановления», «мера излишняя» и «средств не отпущено». Когда инициативы немца надоели, его попытались объявить «иностранным агентом» – ведь он формально был прусским подданным. Но другие ветераны не дали его в обиду, и тогда против Гааза возбудили дело о нецелевом расходовании средств, так что ему пришлось все-таки подать в отставку. Служебное расследование длилось 19 лет и закончилось полным оправданием.
Голицын предложил своему доктору другое общественное дело – стать секретарем тюремного комитета. Организация благотворительная: первые лица города распределяли пожертвования в пользу ссыльных и заключенных. Гааз подошел к делу как профессионал. Он осмотрел массу арестантов московских тюрем, изучил их дела и пришел к выводу, что за преступлением стоит болезнь, физическая либо душевная. Болезни подавляют или злокозненно возбуждают нрав человека, ослепляют и расслабляют его «так, что он становится послушным орудием в руках злодеев, невольным исполнителем повелений дьявольских». В наши дни доказано, что ряд заболеваний воздействует на область мозга, отвечающую за социальное поведение. Здесь Гааз обогнал свое время. Из его догадки следовало, что для исправления преступников их надо сначала вылечить.
В реальности осужденных калечили еще на этапе. Чтобы облегчить жизнь конвою и сократить его численность, арестантов и ссыльных в пути приковывали к железному пруту. Человек восемь-десять разного пола, возраста и состояния здоровья брели вместе сотни верст. Наручни раскалялись на солнце и отмораживали руки зимой; тяжелобольные висели на пруте, обременяя остальных. Так поступали со ссыльными, наказанными за легкие преступления, вроде беспаспортных или крепостных, опоздавших вернуться с отхожего промысла. Настоящим профессиональным преступникам было проще: они шли на каторгу в индивидуальных кандалах.
Все ссыльные из Европейской России, Белоруссии, Польши, Украины и Прибалтики проходили через Москву. Перед отправкой в Сибирь их приковывали к пруту в Покровских казармах. По приглашению Гааза генерал-губернатор Голицын 20 апреля 1829 г. посетил казармы, увидел процесс своими глазами и ужаснулся. Он приказал доктору придумать, как отказаться от прута.
Гааз принялся разрабатывать новые, облегченные кандалы. Испытывал он их лично: приказывал заковать себя в цепи и ходил по кабинету кругами, пока не преодолевал дистанцию, равную первому переходу этапа – до Богородска (ныне Ногинск, в 54 километрах от Покровских казарм). Оказалось, что надежные кандалы, не сковывающие движения, могут весить всего 1200 граммов. В результате этих экспериментов Гааз проникся еще большим сочувствием к ссыльным. Он изготовил за свой счет огромное количество таких наручников и хотел поскорее заменить ими чудовищные прутья.
Переписка с министром внутренних дел Закревским и начальником корпуса внутренней стражи Капцевичем ничего не дала: они внедрили прут для оптимизации своей деятельности и были им очень довольны. Тогда Голицын распорядился в подведомственной ему Москве перековывать ссыльных в гаазовские кандалы явочным порядком. Доктор встречал каждую партию и лично наблюдал, как это происходит. Кроме того, каждую неделю он осматривал по шесть тысяч ссыльных и всех, кого только можно, задерживал подлечиться в больнице. Остальным приносил угощение и раздавал деньги – хотя бы по 20 копеек.
Неприятели Гааза попытались нажать на него через церковь: митрополит Филарет, формальный руководитель тюремного комитета, на одном заседании стал выговаривать, что надо знать меру: ведь это злодеи, нужно думать об их жертвах, наказания без вины не бывает… Гааз вскочил и закричал: «Да вы о Христе позабыли, владыко!» Филарет смутился, выдержал паузу. «Нет, Фёдор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл – Христос меня позабыл!..» И вышел. Больше никто в богословские споры с Гаазом не вступал.
Вообще, Бог долгое время был главным его аргументом. Когда Гааз раздал заключенным все свое имущество, у него за долги отобрали дом и описали имение, враги подняли голову и добились отстранения доктора от освидетельствования ссыльных. Но он явился к своему преемнику и напомнил «о высшем еще суде, пред которым мы оба не минуем предстать вместе с сими людьми, кои тогда из тихих подчиненных будут страшными обвинителями». И это сработало. Гааз по-прежнему отбирал из этапа и направлял на лечение всех, кого считал нужным.
Лечил он арестантов в Полицейской больнице («больнице для бесприютных всех званий и без платы»), где сам жил на казенной квартире, за неимением собственной жилплощади. При этом ворочал огромными деньгами, которые доверяли ему благотворители, особенно купцы-старообрядцы. К зданию был пристроен флигель, куда приходили все, кого не взяли в другие больницы. Здесь в любое время оказывали помощь раненым, обожженным, укушенным; Гааз лично патрулировал город, свозя в больницу упавших на улице – всех, кого прохожие принимали за пьяных. Не в состоянии платить санитарам-мужчинам, Фёдор Петрович стал принимать на работу и обучать женщин: их труд стоил дешевле, нередко они были честнее и добрее. В Полицейской больнице с 1845 г. проходили обучение первые русские медсестры.
Новому генерал-губернатору Алексею Щербатову жаловались на то, что в Полицейской больнице постоянно превышают нормы приема пациентов. Алексей Григорьевич вызвал пожилого доктора на ковер и категорически приказал «не сметь принимать новых больных». Тогда старик, ни слова не говоря, опустился на колени и горько заплакал. Генерал-губернатор бросился его поднимать. Больше об ограничении до нормы речи не было. За восемь лет при Гаазе через больницу прошло 30 тысяч человек, из которых 21 тысяча выздоровела.
Коллеги спрашивали Гааза, как благородный человек может унижаться перед власть имущими. Доктор отвечал: «Унизительно бывает просить на коленях милостей для себя, своей выгоды, своей награды, унизительно молить недобрых людей о спасении своего тела, даже своей жизни. Но просить за других, за несчастных, страдающих, за тех, кому грозит смерть, не может быть унизительно, никогда и никак».
В 1848 г. генерал-губернатором Москвы назначили заклятого врага Гааза – бывшего министра внутренних дел Закревского. Новый генерал-губернатор сейчас же объявил, что полномочия Фёдора Петровича – «ничто». Но Гааз продолжал ходить в пересыльную тюрьму как на работу: там нижние чины, веровавшие в Страшный суд, нарушали порядок и перековывали арестантов в легкие кандалы.
Тогда Гааза решили уличить в том, что он покрывает симулянтов из числа заключенных, и назначили доктора Николая Кетчера контролировать его решения. Но Кетчер тут же перешел на сторону противника. Гааз действительно задерживал здоровых ссыльных – к одним должны были приехать родственники, за других мог успеть попросить ходатай. Надзиратели носили из больницы записочки с именами этих людей, при рукопожатии передавали их Кетчеру, а тот на глазах у комиссии подсматривал в шпаргалку и говорил: «Не слишком здоров». Гааз тут же восклицал: «Оставить! Оставить! В больницу!»
Подчиненные Закревского, угождая своему шефу, не жаловали Фёдора Петровича. Молодых и равнодушных было не пронять слезами и Страшным судом. Но и к ним старик нашел подход. Один полицейский чиновник рассказывал, как в дождливый осенний день 1852 г. обратился к нему Гааз: «У меня было много работы; сообщенные мне им сведения оказались не довольно полными, и я с некоторым нетерпением сообщил об этом доктору. Тот, ничего не сказав, торопливо поклонился и вышел; но каково же было мое удивление, когда спустя три часа явился ко мне промокший до костей Фёдор Петрович и с ласковой улыбкой передал самые подробные, взятые из части, сведения о том же деле; он нарочно за ними ездил под дождем и чуть ли не в бурю на другой конец города. После этого я не смею никому отказывать в справках об арестантах».
Это один из последних подвигов Гааза. Через несколько месяцев его тело стало покрываться карбункулами. Доктор не жаловался на боль и только раз сказал лечившему его профессору Полю: «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страданий». Каких именно страданий, неизвестно. На этом разговор окончился, больной заснул и больше не проснулся.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Іоанн Заур Оруджев: Доктор Гааз, икона медицины, пример! Увы, почти забытый.
Ответ: Человека, чья могила круглый год в цветах и свечах, никак нельзя считать забытым. Среди тех, кто их приносит, многие пережили серьезную болезнь в заключении. Они поклоняются доброму доктору как святому, который помог им победить и выйти на свободу.
Natalia Zakuraeva: Интересно, есть ли в наше время врачи, сходные по силе духа и благородству с доктором Гаазом? Очень бы хотелось знать об этих людях еще при их жизни. Чтобы брать пример и вдохновляться. Не все же на Закревских и Капцевичей смотреть.
Ответ: Китайцы в таких случаях считают исторических героев современниками и спокойно вдохновляются их примером, когда живые не радуют.
22 Развитие тиреотоксикоза Карл фон Базедов 1840 год
28 марта 1840 г. вышла первая статья о патологии, получившей название «базедова болезнь». За этим термином стоят два вскрытия, произведенных доктором Карлом фон Базедовым.
Первое вскрытие он сделал в 1838 г., изучая тело своей шестимесячной дочери. Девочка болела всего восемь дней. Началось с насморка, затем раздулись лимфоузлы на шее. Они стали размером с каштан и загноились. Голова разбухла, а вилочковая железа увеличилась так, что давила на трахею и душила девочку, пока та не умерла. Вскрытие показало, что легкие, печень, селезенка и кишечник усыпаны бугорками размером с просяное зерно. То был недавно описанный в литературе милиарный туберкулез.
Базедов имел собственную практику в саксонском городке Мерзебург. Он лечил взрослых и детей, причем детей бедняков – бесплатно. Незадолго до болезни дочери у него был подобный случай: несмотря на энергичные меры, ребенок умер с теми же симптомами. Теперь Базедов переживал, что принес эту заразу к себе в дом. В городе с восемью тысячами населения за многие годы было всего четыре случая детского туберкулеза, из них один – в семье доктора. В память о дочери он решил сделать нечто особенное: напечатать обзор интересных случаев из мерзебургской практики, а в заключение рассказать о своей девочке.
Подбирая близкие по теме случаи, Базедов остановился на золотухе, как называли тогда проблемы с железами. Пациентку, мадам G., автор наблюдал 14 лет: он помнил ее еще красивой, тоненькой 19-летней девушкой, у которой распухли узлы на шее. Со временем возникла новая напасть: острый ревматизм, путешествующий по всему телу из одного сустава в другой. Заболевание суставов Базедов лечил средством, предписанным еще Авиценной, – настойкой семян безвременника с сулемой каждые три часа. Ревматизм прошел, оставив по себе снижение массы тела, аменорею, сердцебиение и симптом, который доктора тогда называли «тревога в груди». Эта самая тревога сменилась экзофтальмом: глаза больной выпучились так, что она не могла сомкнуть веки и спала с открытыми глазами. Вид ее внушал людям страх. Но сама пациентка не ощущала никакого беспокойства. Она резвилась как ребенок, беспечно гуляя нараспашку в прохладную погоду. Пошли разговоры, что бедняжка тронулась умом и пора сдать ее в королевский сумасшедший дом.
Базедов стал изучать литературу по глазным болезням, вызывающим пучеглазие, но ни один диагноз для мадам G. не подходил: не было ухудшения зрения. Вылечить ее удалось, когда у больной развился зоб. Уже был широко известен опыт Жана-Франсуа Куанде, прославленного на всю Европу. В одном высокогорном месте Швейцарии население сплошь ходило с зобами, пока Куанде не установил, что причиной всему нехватка йода. Йодом и наперстянкой Базедов сумел справиться с зобом и тахикардией. Больная теперь могла закрыть глаза. Вскоре она вышла замуж и родила, после чего от болезни осталась только бледность кожи и глаза слегка навыкате.
Другая пациентка – мадам F., эффектная брюнетка, также жаловалась на сердцебиение, пучеглазие и зоб. Бойкостью она превосходила мадам G. и была так заметна, что мерзебургские граждане все же отвезли ее в королевский сумасшедший дом. Но Базедов поручился перед психиатрами, что она всегда владела собой, и мадам F. выписали. Муж поехал с ней на воды, к йодному источнику, где она слегка поправилась, а во время беременности и вовсе выздоровела. Симптомы вернулись после родов, но ушли с новой беременностью.
Таким образом, было обнаружено надежное средство против «пучеглазого зоба» – беременность. Однако выяснилось, что этой болезнью страдают и мужчины. Герр M. стал для Базедова настоящей болью. Он с теми же симптомами проявлял сходную беспечность, хотя достиг 45 лет и был уважаемым в городе «материалистом», как называли бакалейщиков. Материалист часто возил товар через границу и сам правил лошадьми, хотя Базедов предписывал беречь выпученные глаза от инфекции. В конце концов озорной герр М. потерял зрение, и доктор ничем не смог ему помочь. На момент написания статьи больной был еще жив, но крайне истощен, с трудом выдерживал приступы сердцебиения, а распухшая щитовидная железа мешала ему дышать.
Обобщив симптомы четырех случаев диффузного токсического зоба, Базедов пришел к выводу, что это особое заболевание, проявляющееся тахикардией, зобом и пучеглазием. По его мнению, возникает оно от дискразии («неправильного смешения») крови где-то в районе щитовидной железы и влечет отравление всего организма. Никто в те времена не мог описать причины болезни точнее. О гормонах тогда и речи не было, и лишь спустя 120 лет выяснилось, что за аутоиммунным процессом стоят определенные антитела в крови.
В конце статьи Базедов привел случай своей несчастной дочери. Это было своеобразное посвящение, так как статья не касалась туберкулеза. Чтобы сделать автору приятное, редакторы берлинского врачебного еженедельника поставили материал в номер, который вышел в день рождения Базедова, 28 марта 1840 г. Саксонский король был очень польщен, что в его маленьком государстве описали новую болезнь, и дал Базедову звание медицинского советника. Когда восемь лет спустя решался вопрос, кому из мерзебургских врачей стать окружным доктором и главным врачом городской больницы, из восьми кандидатов был отобран именно Базедов. Это назначение его и погубило.
Окружной врач должен был вскрывать все тела умерших по неизвестным причинам. В апреле 1854-го Базедов заразился, делая вскрытие погибшего от какой-то трехдневной лихорадки. Что это было, до сих пор не ясно. Видимо, весьма опасная инфекция: умерли богаделка, одевавшая тело доктора, и кучер, который на похоронах правил катафалком. После такой героической гибели коллеги решили увековечить имя мерзебургского врача. И хотя не он первым описал диффузный токсический зоб, триаду главных симптомов (пучеглазие, тахикардия, зоб) назвали мерзебургской триадой, а само заболевание – базедовой болезнью.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Анастасия Плечова: Интересно, что сейчас ДТЗ йодом не только не лечится, а наоборот, йод провоцирует тиреотоксикоз. Может, Базедов какую-то другую болезнь лечил?
Ответ: Диффузный токсический зоб (ДТЗ) возникает при избытке T3 и T4 – гормонов щитовидной железы. Куанде лечил швейцарцев от микседемы, вызванной, напротив, недостатком этих гормонов. Успех Базедова был отчасти случаен.
Мадам F. ездила в Бад-Хайльбрунн к источнику Адельхайдквелле, в водах которого концентрация ионов йода достигает 23 мг/л. Ионы блокируют высвобождение T3 и T4 из щитовидной железы. Но этот эффект временный. Женщин выручила беременность, изменяющая синтез всех гормонов, а герру M. втирания солей йода не помогли. Зато сравнение клиники у разных полов облегчило поиски причин болезни.
23 Спирометрия Джон Хатчинсон 1842 год
23 ноября 1842 г. произошел первый известный случай выявления склонности к туберкулезу при помощи прибора. Ничто не предвещало беды: обследовали богатыря 25 лет, который вот-вот станет чемпионом мира по боксу.
Страховая компания «Британия» (Britannia Life Assurance Company) из чисто рекламных соображений решила застраховать жизнь американского атлета Чарли Фримена. Он прибыл в Лондон и ждал, пока найдется боксер, который решится вступить с ним в бой. Желающего долго не могли сыскать. Еще бы – Фримен при росте 2 метра 10 сантиметров весил 123 кило, легко вертел над головой 200-килограммовую штангу, прыгал в длину на 6,5 метра и мог исполнить 25 сальто подряд. Работал он в цирке и был в отличной форме. Таким и привели его на медосмотр к изобретателю спирометра Джону Хатчинсону.
Самой неприятной проблемой для страховщиков был туберкулез. Так, в Лондоне чахотка вызывала каждую четвертую смерть, возникая неизвестно откуда и поражая пышущих здоровьем людей с чудесной наследственностью. Начальную стадию или бессимптомную форму определять не умели, а когда признаки были налицо, лечить оказывалось слишком поздно.
Медицинский консультант «Британии» Джон Хатчинсон интересовался статистикой. Когда он студентом узнал уровень смертности от туберкулеза, то поразился и решил изобрести что-нибудь для диагностики этой болезни. По окончании медицинской школы Хатчинсон поступил в страховую компанию, чтобы осматривать как можно больше народу, и одновременно подрабатывал патологоанатомом, изучая тела умерших от чахотки.
Вскрывая трупы туберкулезников, Хатчинсон видел, что объем их легких меньше, чем у погибших от иных болезней. Он измерял эту разницу с помощью прибора, которым Эдмунд Дэви замерял объем газа. Но такая разница должна быть и между здоровыми и больными, и ее тоже можно оценить, переделав прибор Дэви. Измеряемую спирометром величину Хатчинсон назвал «жизненная емкость легких». Это количество воздуха, которое мы способны выдохнуть после самого глубокого вдоха. Из опытов на себе Хатчинсон установил, что оно постоянно, разве что чуть уменьшается после сытного обеда. Измерения клиентов показали, что зависит оно от роста. Осмотрев 4400 человек, изобретатель составил таблицу соответствия роста и нормальной жизненной емкости. Он даже устраивал шоу: предлагал клиенту дунуть в спирометр, а потом с точностью до дюйма называл его рост.
У цветущего атлета Фримена жизненная емкость оказалась 7,11 литра. Это 88 % от нормы для его громадного роста. Хатчинсон предупреждал, что с 84 % начинается туберкулез. Фримен был в зоне риска, но покинуть Лондон после победного боя отказался: ему слишком понравились английские женщины. Стоит перед ними поиграть мускулами, прыгнуть 25 сальто, поносить лошадь – и сразу такой выбор, что глаза разбегаются.
Через два года Фримен снова пришел к Хатчинсону, с жалобой на частые простуды. Теперь его максимальный выдох составлял 79 % от нормы. Позвали самых искушенных в выстукивании и прослушивании терапевтов, но они не смогли расслышать характерные для чахотки хрипы. И все же Хатчинсон настаивал, что это туберкулез и Американскому Гиганту нужно немедленно возвращаться в родной Мичиган. Тот отмахивался: «Какой Мичиган! Я тут живу как король. Знаешь, как меня любят!»
А до следующего ноября он не дожил. Врач, который вскрывал его тело в Винчестерском госпитале, написал Хатчинсону, что прогноз сбылся: «Верхние доли легких забиты желтой массой, в то время как нижние почти чисты». Это был инфильтративный туберкулез – коварная форма, долго протекающая без хрипов, маскируясь под грипп и легкое недомогание.
После этого случая Хатчинсон написал монографию, прогремевшую на весь мир. Изобретатель стал продавать свои приборы и зажил на зависть многим. Но образ Фримена не шел у него из головы. Сам Хатчинсон теперь тоже «чемпион мира», а живет как бизнесмен, вовсе не как король. Нужно найти такое место, где он будет королем. И осенью 1852 г., оставив предприятие жене и детям, Хатчинсон с одним чемоданом сел на корабль, уходящий в Австралию.
Там только что открыли золотые россыпи. На два года Хатчинсон бросил медицину и стал старателем. Наконец кое-что намыл, купил дом неподалеку от Мельбурна и дал рекламу, что здесь консультирует знаменитый в Европе врач, изобретатель спирометра. От пациентов – богатых старателей – отбоя не было. Хатчинсон стал в Австралии заметной фигурой, но еще не королем.
Скопив денег, он отправился на архипелаг Фиджи и купил у тамошнего вождя громадное пастбище. На острове Овалау климат способствует быстрому росту овец. Хатчинсон приобрел столько земли и скота, что фактически стал соправителем. Уже через месяц после приезда он вместе с вождем заседал в суде. Обвиняли одного аборигена в том, что он убил и съел своего соседа. Первое обвинение было доказано, что значило пять лет работы в пользу вождя. А второе Хатчинсон сумел отвести. Он писал австралийским друзьям: «Мне лучше быть повешенным, чем кого-нибудь отправить на виселицу. Я так рад, что злодей выпутался».
А еще через три месяца, летом 1861 г., какая-то тропическая болезнь свела Хатчинсона в могилу. Все имущество – деньги, скот, земли на Фиджи и в Австралии – он оставил 16-летней Агнес Уорден, дочери учителя музыки в Мельбурне. Хатчинсон знал и лечил ее с 9 лет, они вместе музицировали. Ей он завещал также свою скрипку, два фортепиано и контрабас.
24 Дезинфекция рук медика Игнац Земмельвейс 1847 год
15 мая – день рождения асептики. В общедоступной венской городской больнице 15 мая 1847 г. акушер-гинеколог Игнац Земмельвейс приказал всем врачам и студентам у входа в родильное отделение мыть руки раствором хлорной извести. Это нововведение избавило роддом от бича того времени – послеродового сепсиса, но имело самые печальные последствия для самого Земмельвейса.
Он был сыном состоятельного купца из Буды (западная часть Будапешта). С юных лет имел деньги и вкус к хорошему кутежу. Старшие думали, что из этого парня толку не выйдет. Когда отец направил его в Венский университет изучать право, сын без спроса перевелся на медицинский. Оправдывался младший Земмельвейс тем, что зашел за приятелем-медиком в анатомический театр, увидел там вскрытие умершей от «родильной горячки» молодой женщины и решил как-то с этой бедой бороться.
Всерьез это намерение не восприняли, потому что грозная «родильная горячка», как называли тогда послеродовой сепсис, казалась непобедимой. Роды представляли не меньшую опасность для жизни, чем тяжелая пневмония. Еще в 1745 г. врачи парижской больницы Отель-Дьё заметили, что в медицинских учреждениях смертность рожениц никогда не меньше 5 %, а порой до 30 %. У повивальных бабок, принимавших роды на дому, смертность была не более 2 %. Почему – никто не знал. Причина больничного сепсиса носила научное название «атмосферное космически-теллурическое воздействие». То есть воздействие не то земного, не то космического происхождения, которое носится в больничной атмосфере.
Венская городская больница (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien), куда Земмельвейс устроился по окончании университета, была громадной по тем временам больницей на 2000 коек. А родильное отделение, через которое проходило по 6000 женщин в год, считалось крупнейшим в мире. Состояло оно из двух клиник: в первой под руководством профессора Клейна велась научная работа. Там трудолюбивый Земмельвейс быстро дорос до ассистента. Во второй, которую возглавлял профессор Барщ, трудились переученные на акушерок повивальные бабки.
Весь город знал, что у Клейна в год помирает до 800 рожениц, а у Барща – не более 60. Рожали в городской больнице женщины из бедных семей, которым были не по карману роды на дому. Когда их привозили, они дружно просились во вторую клинику. Кто поопытнее, имитировали схватки, например, в понедельник, потому что согласно заведенному порядку вторая клиника принимала рожениц по понедельникам, а первая – по вторникам. Земмельвейс во всех питейных заведениях ославил своего шефа Клейна как осла, который верит, что атмосферное космически-теллурическое воздействие возможно только по воскресеньям, вторникам и субботам. Клейн, со своей стороны, сделал его ассистентом, фактическим заведующим отделением, чтобы остаться в стороне и перевалить ответственность за происходящее на молодого зубоскала.
Тут Земмельвейсу стало не до смеха. За 1846 г. у него умерло 11,4 % пациенток, а во второй клинике только 0,9 %. Весельчак впал в депрессию, попросился в отпуск и в марте 1847 г. поехал развеяться в Венецию. Там он получил ужасное известие: его лучший друг патологоанатом Якоб Коллечка скончался. При вскрытии погибшей от «родильной горячки» женщины неумелый студент случайно порезал Коллечку скальпелем. Земмельвейс изучил протокол вскрытия и скорбный лист. «Плеврит, перикардит, перитонит, воспаление мозговых оболочек и – незадолго до смерти – истечение гноя из глаз». Картина заражения крови – такого же, как «родильная горячка». И здесь Земмельвейса осенило: трупные частицы попали через рану в кровь его друга и вызвали сепсис. А у рожениц в израненную при родах матку трупные частицы попадали с его, Земмельвейса, пальцев, когда он выполнял вскрытия, а потом из мертвецкой шел в свое отделение. Он сам, его врачи и студенты были убийцами! Мало того, они еще и гордились трупным запахом, исходившим от их рук, как признаком «настоящего доктора». Вот и причина разницы между двумя клиниками: акушерки вскрытий не делали.
Хлорка досталась нам в наследство от Земмельвейса, который избрал ее как средство дезинфекции весной 1847-го. Только раствор хлорной извести полностью отбивал запах мертвецкой, а значит, гарантированно смывал с рук «трупные частицы». На дверях первой клиники появилось историческое объявление: «Начиная с сего дня, 15 мая 1847 г., всякий врач или студент, направляющийся из покойницкой в родильное отделение, обязан при входе вымыть руки в находящемся у двери тазике с хлорной водой. Строго обязательно для всех без исключения. И. Ф. Земмельвейс».
Результат был блестящий: если в мае заведение Клейна отправило на тот свет 12 % рожениц, то летом показатели двух клиник сравнялись. 2 октября случилось новое несчастье: заболели и умерли 12 женщин, лежавших в одном ряду, начиная с койки № 2. Причину обнаружили мгновенно. Первую койку занимала пациентка с раком матки, чья гноящаяся слизистая мало отличалась от таковой у септических больных. Значит, зараза передается и от живых. С этого дня Земмельвейс начал мыть руки после каждого осмотра и дезинфицировать свои инструменты. В результате за 1848 г. в клинике скончалось лишь 1,2 % рожениц – дела пошли лучше, чем у акушерок.
Фердинанд фон Гебра, отец современной дерматологии, написал в венской медицинской газете заметку о подлинной революции в акушерстве, которую произвел его друг Игнац Земмельвейс. Но тут в Австрии и Венгрии началась революция политическая. Давно было пора сменить абсолютную монархию на что-нибудь получше. Студенты-медики вооружились и вступили в Национальную гвардию. Не отставал и Земмельвейс, учивший своих гвардейцев мыть руки. Как водится, революция победила лишь отчасти. Хотя монархия стала уже не та, последовала реакция. Революционеров перестали жаловать. К тому времени профессору Клейну надоел беспокойный заместитель, который даже его, великое светило гинекологии, заставлял мыть руки у входа. И Клейн настучал куда надо про участие Земмельвейса в революционных событиях, про то, что ему на баррикаде в бою сломали руку и ногу, а сам он палил из ружья по верным Его Императорскому Величеству воинам. И Земмельвейс вылетел из австрийской медицины с волчьим билетом.
Место ему нашлось только в родной Венгрии, и то лишь в будапештской благотворительной больнице Святого Рокуша, где рожали чуть ли не бродяги. И эти условия пошли науке на пользу: пациентки лежали на простынях, пропитанных гнойными выделениями предшественниц. Земмельвейс доказал, что грязное белье тоже передает заразу, и с тех пор даже в заведениях для бедных простыни стали менять. Хотя наш не страдавший скромностью герой всюду рассказывал о своих достижениях, его примеру среди медиков следовали единицы: друг фон Гебра в Вене и Стефан Тарнье в Париже. В 1861 г. с помощью приятелей Земмельвейс опубликовал посвященный дезинфекции труд на 543 страницы, проникнутый неимоверным самомнением: «Мне назначено судьбой открыть вам истину в этой книге…» Реакции никакой. Земмельвейс принялся писать видным гинекологам письма: «Что Вы делаете? Вы же убийца!» Ему не отвечали, потому что по существу возразить было нечего, а лицо терять не хотелось. Тогда письма стали открытыми – Земмельвейс «перед Богом и людьми» публично объявлял «убийцей» то одно светило, то другое. Никакого ответа, даже в форме судебного иска. Кончилось тем, что первооткрыватель асептики, увидев на улице беременную, подбегал к ней и заклинал: «Когда придет время рожать, не позволяйте доктору прикасаться к вам, пока он не вымоет руки в растворе хлорной извести – унция на два фунта воды, запомнили?»
Характер Земмельвейса портился на глазах: из весельчака он стал раздражительным, на всякого, кто возражает, готов был броситься с кулаками. Он сам говорил жене: «Со мной что-то не то. На людей кидаюсь». Наконец друг-дерматолог фон Гебра пригласил Земмельвейса с женой отдохнуть в новый венский санаторий Дёблинг. Заведение оказалось сумасшедшим домом. Главный врач сказал Земмельвейсу, что его нужно срочно госпитализировать, а жену попросил удалиться, потому что «не положено». Здесь Земмельвейс вступил в свой последний бой. Навалял санитарам, однако в конце концов его скрутили, надели смирительную рубашку и бросили в карцер, где он через две недели умер всего 47 лет от роду.
Протокол вскрытия говорит о тех же симптомах, что у Коллечки и рожениц. Сепсис. Известно, что незадолго до отъезда в Вену Земмельвейс поранился, выполняя вскрытие. Но многие склонны считать, что заражение крови возникло из-за травмы, причиненной санитарами. В 1963 г., когда Земмельвейс уже был причислен к благодетелям человечества и стал национальным героем Венгрии, его останки благоговейно изучали с использованием самой современной аппаратуры. Обнаружили на костях среднего пальца правой руки изменения, характерные для подострого остеомиелита. Видимо, причиной гибели все же стало ранение при аутопсии.
Современные исследователи завершают биографию Земмельвейса словами о злой иронии судьбы. Бывает же: умереть от болезни, над которой одержал победу! В старину коллеги говорили иначе: открытая Земмельвейсом смерть сжалилась над ним и по возможности сократила срок его погребения заживо в сумасшедшем доме.
25 Обезболивание родов Джон Сноу и королева Виктория 1853 год
7 апреля 1853 г. британская королева Виктория под наркозом произвела на свет принца Леопольда. Обезболивание родов было еще экспериментальным методом, вызывавшим вопросы религиозного плана, которые Виктория смело сняла. Она пошла на это, чтобы совладать с послеродовой депрессией. А Джон Сноу, ведущий анестезиолог Англии, принял ее приглашение, потому что хотел выявить пути заражения холерой.
Джон Сноу, сын фермера из-под Йорка, в школе показал блестящие математические способности. Ему бы стать ученым, но денег на университет не было. В 14 лет, чтобы хоть чему-то учиться, Джон поступил в подмастерья к хирургу. В 18 лет уже умел все, что делали в местной больнице, и во время эпидемии холеры 1831–1832 гг. отвечал за барак на угольном руднике Киллингворт. Дела у него шли получше, чем у дипломированных врачей – многих удалось выходить, – и Сноу поверил в себя.
Ему пришла в голову простая идея. Холера очень сильно отличается от прочих инфекций: она поражает только желудочно-кишечный тракт, а значит, попадает в организм исключительно через рот, с едой и питьем. Установив источники холеры, можно избавить от нее Англию, а может быть, и весь мир. Сноу решил это сделать. Нужны были только образование и средства.
Чтобы поступить в столичную медицинскую школу и получить диплом, будущие врачи обычно устраивались в помощники к докторам, имевшим большую практику. На своего первого доктора Сноу год работал за еду и хорошую характеристику. Следующий врач был уже готов платить деньги. Но кабинет этого доктора напоминал авгиевы конюшни. Едва хозяин отправился обходить пациентов, Сноу засучил рукава, вымыл полы, вытер пыль, навел порядок в шкафах и ящиках.
Врач был совершенно очарован и вел прием в чудесном настроении, пока одному пациенту не потребовался вытяжной пластырь. Доктор сунул руку в ящик, где лежали пластыри. Ящик оказался пуст.
– Черт возьми! – воскликнул врач. – Джон, где пластыри?
– А, пластыри? Из этого ящика? Так я их сжег, они все старые были, использованные.
– Нет, дорогой, так дело не пойдет. Ты меня разоришь. Мои пациенты возвращают бывшие в употреблении пластыри. Хороший пластырь – он и шестерым послужит. Ты больше так не делай.
Сноу обещал так не делать и вскоре оставил родной Йорк. В малодоступной деревне Пейтли-Бридж нашелся врач, способный как лечить, так и платить помощнику. За 18 месяцев у него Сноу приобрел огромный опыт и подготовился к экзаменам в лондонской медицинской школе, куда пришел пешком. В 1838-м он получил желанный диплом, ему разрешили лечить пациентов Вестминстерской больницы и даже заниматься там наукой – но совершенно бесплатно.
Как член Королевской коллегии хирургов, Джон повесил на двери своей съемной квартиры табличку «Доктор Сноу». Колокольчик звонил день и ночь, но люди, обращавшиеся за помощью, были, как правило, неплатежеспособны. Чтобы сводить концы с концами, Сноу как эксперт занимался судебной медициной.
Зато в Вестминстере существовало научное медицинское общество, где можно было слушать доклады и выступать. Сноу постоянно сообщал что-то новое. Первые несколько лет его никто не слушал. Коллеги переспросили, как его зовут, когда молодой доктор предъявил методику искусственной вентиляции легких у новорожденных посредством двухцилиндрового воздушного компрессора.
Ни семьи, ни особых перспектив не было: каждый заработанный в суде лишний пенни уходил на книги и опыты, а свободное время – на библиотеку Вестминстерского общества. Джон надеялся однажды прочесть там сообщение, которое проложит ему путь в науке. Час пробил осенью 1846 г., когда американский стоматолог Мортон сообщил об открытии эфирного наркоза. Сноу на улице столкнулся со знакомым аптекарем. Тот нес под мышкой огромную маску с трубкой.
– Доброе утро, доктор! Очень спешу, даю эфир здесь и там, у меня огромная эфирная практика.
– Интересно, – подумал Сноу. – Аптекарь дает наркоз. А что он знает о дыхании? Этим должен заниматься врач.
После ряда опытов на животных и себе Сноу сделал маску для наркоза собственной конструкции и предложил услуги больнице Святого Георгия. Сначала ему выдали наименее тяжелых пациентов – в стоматологической амбулатории. Но очень скоро Листон, ведущий хирург больницы, положил на Сноу глаз и стал звать его на каждую операцию.
Джон скрупулезно заносил в дневник ход операции и дозы, отслеживал все новости обезболивания. Наркоз вызвал у врачей энтузиазм, и они пробовали на себе все летучие вещества подряд. В ноябре 1847 г. акушер Джеймс Янг Симпсон попробовал хлороформ, уснул крепким сном и едва проснулся. Если бы он умер, хлороформ сочли бы просто ядом, а так его стали широко применять благодаря быстрому и надежному усыплению. Как сказал об этом Сноу, «эфир безопаснее хлороформа, но я предпочту хлороформ, как мы предпочитаем кремню с огнивом фосфорные спички, пусть даже они ядовиты и загораются в кармане».
Сноу был первым анестезиологом, который всерьез задумался, почему хлороформ вообще действует. Должно быть, летучие вещества угнетают способность тканей поглощать кислород. Сноу наглядно показал это, помещая тонкую свечу в бутылку, через которую пропускались пары хлороформа. Пламя уменьшалось на глазах и в случае сгущения паров, и при долгом горении в атмосфере с постоянной концентрацией. Это наблюдение Сноу считал самым удачным в жизни: «Вот как работает наркоз: угнетение процессов окисления происходит и при подъеме дозы, и при длительном вдыхании разбавленных паров».
Сноу не знал только, что его статью прочел принц-консорт Альберт, муж царствующей королевы Виктории. Он изучал проблему обезболивания в акушерстве: его семейную жизнь отравляли приступы ярости, которые наступали у королевы после каждых родов.
Судя по дневникам Виктории, то был действительно счастливый брак. Например, когда королева сокрушалась об уходящей юности, то писала не о себе: «Подумать только, моему любимому скоро 32!» Чтобы насладиться обществом мужа, Виктория специально переселилась в малодоступный замок Балморал в горах Шотландии. Вечерами они вдвоем уплывали на весельной лодке ловить форель до самого восхода луны, при свете которой возвращались в замок. По воскресеньям водили детей на службу в деревенской церкви без всякой охраны, только у входа в Балморал стоял один-единственный полисмен. С детьми Виктория проживала все то, чего не было в ее одиноком детстве: школьные уроки с мамой, игры в жмурки, «лису и гусей», прятки и тысячи разных шалостей.
Идиллию нарушал неведомый тогда недуг – послеродовая депрессия. К 1853 г. Виктория произвела на свет уже семерых детей и вынашивала восьмого. Альберт ожидал, что она опять перестанет контролировать себя. Это началось после первых же родов. Сначала спор о том, как лечить ребенка, потом упреки на пустом месте. Если муж доказывал королеве всю безосновательность ее придирок, она говорила, что он поднимает ее на смех. Пропускать мимо ушей не получалось: «Я требую, чтобы меня выслушали». Не удавалась и контратака: «Ты слишком занята собой, держи себя в руках», – королева принималась плакать, потому что как раз держать себя в руках она и не могла. Запереться от жены Альберт не пробовал, поскольку не выносил, когда любимая женщина рыдает за дверью. А сделать на следующий день вид, что никакой ссоры не было, не мог, потому что Виктория тут же напоминала о вчерашнем: «Тебе все равно. В тебе живут два разных человека – один любит меня, а другому наплевать. Кто из них сегодня дежурный?»
Через несколько месяцев это проходило. Они обсуждали, что же здесь не так, Виктория просила прощения и кляла свою невоспитанность. Альберт склонялся к тому, что все от боли при родах. Считая их виновником себя, он каялся и наживал хронические заболевания. Сообщение о родах под наркозом вселило в него надежду.
Правда, оба были верующие и хорошо знали библейскую Книгу Бытия, где Господь за то, что Ева накормила Адама запретным плодом, наказывает ее именно родовыми муками и зависимостью от мужа: «…умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот только «господствовать» Альберт не хотел, он просто любил Викторию, а она никакой власти над собой и не терпела. Как говорила королева, «я читаю и подписываю бумаги, Альберт их промокает». Эта семья жила уже не по Библии, так что решилась посягнуть и на родовые муки.
Сноу позвали в Букингемский дворец как ведущего анестезиолога Англии, который успешно обезболивал роды уже 28 раз. Он не слишком охотно принимал такие предложения: роды тянулись дольше тогдашних операций, а хлопот не оберешься. Но платили хорошо, так что можно было заняться наконец холерой, и Сноу согласился.
Чтобы королева ни на секунду не потеряла сознания, он выбрал самый осторожный способ: свернул воронкой носовой платок, вылил в него половину чайной ложки хлороформа и поднес платок раструбом вниз ко рту и носу Виктории. Раз в десять минут наливалась еще половина чайной ложки.
Через 53 минуты благополучно родился принц Леопольд, первый герцог Олбани. На сей раз послеродовая депрессия была особенно сильна, потому что выяснилось, что мальчик болен гемофилией. Это был удар для Виктории, которая очень гордилась своей наследственностью и уверенно заявляла, что «в нашем королевском роду этого нет». А теперь оказалось, что она передаст это проклятие своим потомкам (и среди них русскому цесаревичу Алексею).
Но и принц Альберт нашел наконец средство: он сказал королеве, что будет ее внимательно слушать, пока она не выскажет все свои упреки, и просил только не молчать. Затеяли полную перестройку Балморала и путешествие в горы, детей одели в новый, придуманный Альбертом тартан, лишь бы отвлечь Викторию.
Хлороформ произвел на нее хорошее впечатление, она записала, что его действие «успокаивающее, смягчающее и восхитительное чрезвычайно». Через четыре года Сноу успешно повторил наркоз, когда Виктория рожала своего последнего, девятого ребенка – принцессу Беатрису.
Доктор Сноу стал нарасхват в английском высшем свете. Раз против слова Библии пошел сам монарх, глава англиканской церкви, чей титул «Защитник веры», значит, это дозволено. Каждая вельможная роженица желала знать, как прошли роды у королевы. Ответ был всегда один: «Ее Величество – образцовый пациент». Самая любопытная дама, когда раскрытие у нее уже началось, заявила, что не сделает больше ни одного вдоха, пока доктор не скажет, что было в Букингемском дворце. Сноу ответил на это: «Ее Величество – образцовый пациент – начала задавать вопросы гораздо позже, чем вы. И если вы последуете ее примеру, я вам потом все расскажу». Тут он добавил хлороформа, чтобы дама отключилась. А пришла она в себя, когда ребенок уже родился, а доктор получил гонорар и уехал обедать.
Скопив так 200 фунтов – стоимость небольшого дома, – Сноу стал дожидаться холеры. Она пришла в Лондон на следующий же год, в 1854-м. Такой паники столица Англии не видела лет 200. Жители района Сохо, где квартировал Сноу, бежали куда глаза глядят, бросая имущество и забывая запереть дома. Наняв за свой счет квалифицированный медперсонал, королевский анестезиолог стал лечить всех заболевших бесплатно, фиксируя, где и когда они ощутили первые симптомы. Нанося каждый случай на карту, Сноу заметил, как заболеваемость падает по мере удаления от определенного центра. Этим центром оказалась колонка на Брод-стрит, где брали воду те, кому не по карману водопровод.
7 сентября Сноу пришел в приход Сент-Джеймс, выполнявший роль районной управы, и убедил приходской совет отвинтить ручку от этой колонки, чтобы ею нельзя было пользоваться. Едва это сделали, эпидемия закончилась. Обосновал Сноу свое предложение тем, что в воду со стоками попали особые клетки – носители яда. Эти клетки вполне материальны и однажды их откроют, верил он. Пытливые прихожане спросили, а откуда же взялась первая холерная клетка. «Я вам скажу откуда, но мне нужен образец. Скажите сначала, откуда взялся первый тигр и первый анчар. Или нет, откуда взялись вы сами. Если скажете, я вам объясню про холеру».
До публикации теории Дарвина Сноу не дожил всего год. Ему было 45, когда он дописывал трактат об анестезии, собираясь потом заняться поиском «холерной клетки», а также причинами возникновения рака. Внезапно работе над книгой стали мешать приступы головокружения, потом кровавая рвота.
Утром 9 июня 1858 г. Сноу упал со стула и не смог на него взобраться, потому что парализовало левую половину тела. 14-го рвота прошла, но пульс и дыхание стали необыкновенно частыми. Доктор не верил, что умирает: он ободрял коллег, говорил, что не похоже ни на инфекцию, ни на известные ему хронические болезни. 16-го он потерял сознание, и через четыре часа наступила смерть. Вскрытие показало заметное только под микроскопом размягчение некоторых областей мозга и желудочное кровотечение. Обе почки сморщились, были усыпаны кистами, а правая вообще превратилась в сплошную кисту. То были результаты хронического отравления хлороформом и другими анестетиками, которые Сноу испытывал на себе.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Виктория Союменко: Возможно, глупый вопрос, но как проходили роды под анестезией? Женщина же должна тужиться, это возможно без сознания?
Ответ: Сэр Джеймс Янг Симпсон ответил на этот вопрос так: «Хорошо, что схватки происходят не по воле женщины. Иначе юные роженицы так и не решились бы приступить к делу и аристократия бы вымерла вместе с нами, несчастными акушерами».
Акушеры давным-давно заметили автоматизм соответствующих движений. Например, утратившие сознание от кровопотери женщины все же рожали, нередко погибая, прежде чем было налажено переливание крови. Первая мысль, которая пришла Симпсону в голову при открытии свойств хлороформа, – дать его роженице.
26 Основание курорта Давос Александр Шпенглер 1853 год
10 ноября 1853 г. никому не известное местечко Давос заключило договор с врачом Александром Шпенглером, бежавшим в Швейцарию от тайной полиции. Он превратил депрессивную деревню в знаменитый курорт.
Студентом Александр Шпенглер не помышлял о медицине. В Гейдельбергском университете он учился на юриста, пока его не забрали в армию. Великий герцог Баденский Леопольд увеличивал вооруженные силы, поскольку началось восстание, чреватое установлением республики. Идея со студентами была не очень удачной: они устроили революцию в самой армии. Рекрута Шпенглера выбрали в лейтенанты, он стал офицером связи главнокомандующего повстанцев. Леопольд слетел с трона и бежал, призывая на помощь прусские войска. Пруссаки разгромили бунтарей, и Шпенглер вместе с остатками разбитой армии 11 июля 1849 г. перешел швейцарскую границу.
В эмиграции он начинал учителем фехтования. Немецкое право в Швейцарии было не нужно, а врачей недоставало. На заработанные уроками деньги Шпенглер учился на медицинском факультете Цюрихского университета. Там он встретил швейцарца, однокурсника по Гейдельбергу. Тот происходил из Граубюндена – самого глухого кантона Швейцарии. Но эта глушь могла выдать Шпенглеру вид на жительство – при условии что по окончании университета он будет распределен в деревню, где пока нет медпункта.
И вот 10 ноября 1853 г. свежеиспеченный врач Александр Шпенглер заключил контракт с горной деревней Давос. Помимо оклада в 600 франков доктору платили 85 сантимов (копеек) за прием больного и вдвое больше за ночной вызов. Чтобы собрать эти деньги, жителям местечка Давос пришлось ввести новый особый налог. Население роптало. Рудник, кормивший Давос, прогорел, половина крестьян уехала на отхожий промысел в Россию – давосцы славились как пекари и кондитеры. Врач стоил дороговато, его баденский говор не понимали, к тому же он приглянулся самой завидной невесте Давоса – дочери Андреаса Амбюля, который был кондитером в Петербурге и на сколоченный там капитал построил самый пристойный дом в Давосе. Каждый хотел там поселиться с красавицей Елизаветой, но счастье выпало чужаку.
А Шпенглер, в свою очередь, изнывал от скуки. С горя он написал статью в журнал Deutsche Klinik о здоровье местного населения, где среди прочего заметил, что у живущих на высоте более 1600 метров прекрасные легкие и не бывает туберкулеза. И вот 8 февраля 1865 г. как снег на голову на Шпенглера свалились два чахоточных немца – один из них, врач, прочел ту самую заметку. Гости поместились на постоялом дворе Strela (именно «стрела», по-русски: заведение держал местный кондитер, ностальгирующий по юности, проведенной в России). Давосцы под руководством Шпенглера старательно ухаживали за приезжими, и те пошли на поправку. С тех пор в Давос потянулись туберкулезники. Один голландский банкир приехал с больной супругой, похоронил ее там же и женился на местной сиделке. Он оказался первым в истории Давоса инвестором. Для больных проложили хорошие дороги, провели телеграф, наладили центральное отопление. Среди пациентов попадались интересные люди. Сам Стивенсон в 1881 г. лечился у Шпенглера и, почувствовав некоторое улучшение, закончил в Давосе «Остров сокровищ».
Чтобы скорее вернуть инвестору деньги, курорт работал и летом, и зимой. Поскольку главным принципом терапии Шпенглер считал движение, для зимы он завел лыжи по норвежской моде, а британские туберкулезники завезли коньки. В 1890 г. в Давос пришла железная дорога. По ней приехали отпускники. Их ждали прекрасные гостиницы, хорошие лыжные трассы, а на случай ЧП всегда под рукой врачи с курорта. Когда Шпенглер в 1900 г. открывал фуникулер-подъемник для горнолыжников, больные среди гостей уже составляли меньшинство. Ради каникул в Давосе богатые немцы и швейцарцы стали брать отпуск зимой. Так установилась эта славная традиция, бытующая среди менеджеров среднего и высшего звена.
Примечание
Старейший в мире международный хоккейный турнир – Кубок Шпенглера, который проводится в Давосе с 1923 г., – назван в честь Карла Шпенглера (1860–1937), сына героя этой истории. Он пошел по стопам отца и также стал видным фтизиатром.
27 Ларингоскопия и фониатрия Мануэль Гарсиа 1855 год
22 марта 1855 г. профессор вокала Мануэль Гарсиа объявил об изобретении ларингоскопа – приспособления, позволяющего заглянуть в гортань живого человека и увидеть голосовые связки в действии. Это день рождения фониатрии, то есть области отоларингологии, которая занимается нарушениями голоса.
Она могла появиться гораздо позже, если бы отец Мануэля Гарсиа – великий певец Мануэль Гарсиа-старший – не бил своего сына. Внешне музыкальная семья казалась благополучной. Гарсиа-старший действительно был великим тенором: специально для его голоса Россини написал оперу «Севильский цирюльник». С ней семья гастролировала в Мексике и США, имея громадный успех. Гарсиа-старший исполнял партию графа Альмавивы, Розину пела его красавица-дочь Мария Малибран, а партию Фигаро (баритон) исполнял 20-летний Мануэль-младший. У него после подростковой ломки голоса развился баритон. Но отец требовал разучить также теноровые партии на случай замены. И требования свои подкреплял рукоприкладством, да так, что капитан парохода, на котором они плыли в Нью-Йорк, потребовал прервать занятия, угрожая за избиение пассажира заковать Мануэля-старшего в кандалы.
Голос Мануэля-младшего за четыре года сошел на нет, и труппа распалась. Гарсиа-старший стал петь в итальянской опере в Париже, а его сын, чтобы уйти из дома, завербовался во французскую армию, которая в 1830-м отправилась завоевывать Алжир. Там его определили в санитары, причем он выбрал отделение госпиталя, где лежали раненные в шею. Это была возможность изучить анатомию гортани.
Гарсиа-младший под любым предлогом оказывался в операционной, когда там занимались его ранеными, и ассистировал в анатомическом театре. В те времена было известно, что звуки пения и речи рождаются колебаниями связок в голосовой щели, но Гарсиа занимали музыкальные тонкости: чем с анатомической точки зрения отличается грудной регистр от головного, а бас от дисканта? Наш герой искал ответ на вопрос, каким образом отец загубил его голос, переучивая с баритона на тенор.
После демобилизации он стал учителем пения, причем специализировался на исправлении голосов, пострадавших от неправильных занятий. Его лучшей ученицей стала родная сестра Полина, по мужу Виардо. Русскоязычному читателю она известна как главная женщина в жизни Тургенева. Между тем это первая певица, обученная с учетом особенностей устройства голосового аппарата.
Знал Тургенев и Мануэля Гарсиа, который работал в Лондоне профессором Королевской академии музыки, а каникулы всегда проводил у сестры в Париже. Так было и в сентябре 1854 г., когда Мануэль бродил по Парижу, размышляя на «производственные» темы, а именно: как бы все-таки заглянуть в гортань и посмотреть на голосовые связки в деле? Тут ему в глаз попал солнечный зайчик, и перед Гарсиа прямо как на картинке возникла схема непрямой ларингоскопии: одно зеркальце на длинной ручке помещается у задней стенки глотки, на это зеркальце другим зеркалом направляется луч света и можно наблюдать голосовые связки, как через перископ.
Мануэль заглянул в магазин медицинских инструментов Фредерика Шаррьера, где дантистам безуспешно предлагалось как раз такое зеркальце, закрепленное на ручке под углом 135 градусов. Купив эту никому не нужную вещь всего за шесть франков, Гарсиа быстрым шагом отправился в дом сестры. Там он согрел зеркальце в горячей воде, чтобы оно не запотело, и ввел его в свою глотку, держа в другой руке обычное зеркало для бритья. Света солнца хватило, чтобы увидеть отчетливо, как в анатомическом атласе, собственную голосовую щель и трахею за ней. На несколько минут Гарсиа замер: он видел то, чего прежде не видал еще ни один человек. Это все равно что первым заметить берега Антарктиды или взглянуть вниз с вершины Эвереста.
Потом Гарсиа узнал, что и до него врачи пытались это сделать, но безуспешно. Ему повезло с профессией: у него была тренированная, «луженая» глотка. Гарсиа машинально принимал певческое положение: горло широко открыто, гортань расслаблена, язык плоский, надгортанник приподнят на глубоком дыхании. Многим пациентам такое не удается, им для снижения чувствительности нужна местная анестезия, которой в 1854 г. еще не было.
Полгода Гарсиа с помощью ларингоскопа изучал работу связок – своих и Полины Виардо, постигая разницу в «анатомии» мужских и женских голосов. После того как 22 марта 1855 г. он опубликовал статью о поведении связок при пении, только один врач сумел сразу повторить его опыт. Это был профессор университета в Будапеште Ян Чермак, от природы наделенный малой чувствительностью гортани. Он дополнил прибор керосиновой лампой, чтобы не зависеть от солнечного света, и круглым налобным зеркалом, заимствованным у офтальмологов. С этим оборудованием в 1860 г. Чермак двинулся в турне по европейским клиникам, пропагандируя ларингоскопию. Он же стал первым человеком, который со стороны глотки заглянул в полость носа. Спустя четыре года с помощью ларингоскопа сделали первую операцию – удаление папилломы. Зеркальце Гарсиа пошло в ход при ларингите и крупе, помогало удалять полипы и опухоли. На связках потерявших голос певцов и педагогов медики открыли воспаления – «узелки певца», и таким больным стали прописывать целебное молчание – до тех пор пока узелки не исчезнут. Наконец, научились различать баритональные и теноровые связки. С тех пор при выборе типа голоса будущего певца размер его связок оценивают с помощью ларингоскопии.
Сам Гарсиа узнал об этом в 75 лет на лекции доктора Феликса Семона. По окончании лекции он подошел к докладчику и сказал с улыбкой: «Надо же, сколько народу я неправильно выучил!» Мало того, Гарсиа не просто признал ошибки, а скорректировал собственную программу и учил по-новому еще 25 лет, дожив до 101 года.
28 Трихинеллез Фридрих Ценкер 1860 год
27 января 1860 г. патолог дрезденской больницы Фридрих Ценкер установил, что причиной болезни и смерти пациента стали обитающие в мускулах паразиты – трихины, которых прежде считали безобидными червячками. Впервые было доказано, что паразит может убить человека.
А начиналось все с курьеза. 2 февраля 1835 г. юный студент-медик Джим Педжет присутствовал при вскрытии в лондонской больнице Святого Варфоломея трупа 51-летнего итальянского каменщика, умершего от туберкулеза. Тогда треть населения Лондона составляли гастарбайтеры, которые массово гибли от чахотки. Но у этого мертвеца была особенность, давно известная патологоанатомам как «песчаная диафрагма». Мышечная ткань диафрагмы была пронизана белыми точками, твердыми как камень. О них тупился лучший скальпель.
Время близилось к обеду. Прозекторы на чем свет стоит ругали итальянца с его нездоровой диафрагмой, которая не дает окончить вскрытие до еды. Прерывать аутопсию ради ланча считалось плохой приметой. И все же голод победил. Оставив студента в мертвецкой, патологоанатомы пошли обедать.
Джим Педжет отличался от них любопытством. В будущем он станет баронетом, рыцарем сэром Джеймсом Педжетом. Именем этого прославленного врача назовут описанные им заболевания – деформирующий остеит (болезнь Педжета) и тромбоз усилия (синдром Педжета – Шрёттера). А пока он был просто Джимом, который из любознательности принес на вскрытие лупу. Срезав кусочек мышечной ткани с диафрагмы гастарбайтера, студент разглядел ее в лупу, и ему показалось, что внутри точек неподвижно застыли свернувшиеся в спираль червячки.
Проверить эту гипотезу можно было только с помощью микроскопа, которого в больнице тогда не было за ненадобностью. Педжет пробежал несколько кварталов до Британского музея, где в отделе зоологии должны были иметь такой прибор. Но оказалось, что и там его нет. Зоологи отвели студента в отдел ботаники, которым заведовал Роберт Броун. Тот самый, который открыл броуновское движение растительных спор в воде, глядя в свой микроскоп. Ботаника пришлось долго упрашивать. На вопрос, неужели ему самому не интересно и он никогда не смотрел в микроскоп на червя – паразита человека, Броун ответил: «Слава богу, нет!» Действительно, под микроскопом Джим увидел червячков в капсулах. Если паразит проживет в мышце год, капсула известкуется, становится твердой и может затупить скальпель.
Зоолог Ричард Оуэн (тот самый, который придумал слово «динозавр») дал паразиту научное название – Trichina spiralis, что в переводе значит «волосяной и скрученный спиралью».
Трихины в капсулах внутри мышц встречались нередко. Чаще всего – в диафрагме, мускулатуре гортани и жевательных мышцах. Интерны любили ошеломить студентов зрелищем белых точек в мускулах и спросить: «А это какая болезнь?» И, выслушав детский лепет, со смехом сказать, что это безобидные трихины. Действительно, носители капсул с трихинами, попавшие в руки медиков, умирали от других болезней. Чтобы понять, как опасны эти червячки, нужно было, чтобы они убили совершенно здорового человека. Именно это произошло 27 января 1860 г. в Дрездене.
На хуторе недалеко от саксонского города Плауэн 21 декабря 1859 г. забили к Рождеству свинью. Она пошла на традиционные праздничные угощения – ветчину и колбасу. Готовили хозяйка и 20-летная работница, вошедшая в историю медицины как «Мари Д.». После праздника Мари занемогла. Понос сменился слабостью, головокружением, жаждой и лихорадкой. Поскольку девушка никак не выздоравливала, ее отвезли в столицу Саксонии и отдали в городскую больницу Дрезден-Фридрихштадт.
У нее диагностировали брюшной тиф, под чем подписался и профессор патологии Фридрих Ценкер. Его постоянным местом работы был морг, который в этой больнице расположен дальше всего от входа. Поэтому каждое утро Ценкер проходил через все палаты и ставил диагнозы, которые затем проверяли патологоанатомы. Брюшной тиф у Мари Д. вызывал сомнения, так как девушка жаловалась на сильные мышечные боли, особенно в руках и ногах. Она кричала и билась, пока 26 января не впала в апатию. На рассвете 27-го Мари умерла. Вскрытие было назначено на 28-е, но Ценкеру не терпелось узнать правду. Едва тело принесли в мертвецкую, он отрезал кусочек мышцы и посмотрел на него в микроскоп – со времени открытия трихин многое поменялось, и микроскопы в больницах имелись обязательно. Зрелище было невиданное: посреди мускульной ткани лежали без всяких капсул и даже ползали толпы трихин. Как они выглядят, Ценкер знал еще с тех пор, когда его разыграли старшие товарищи. Но одно дело свернувшиеся в капсулах червячки, а другое – они же, двигающиеся по ткани. Их перемещение должно было вызывать мучительную боль. Когда на следующий день тело Мари вскрыли, то не обнаружили признаков никаких болезней, тем более брюшного тифа.
Тут же, 28 января, Ценкер отправил образец мышц умершей в Берлин самому известному немецкому патологу Рудольфу Вирхову с запиской: «Маленький лицемер разоблачен». Вирхов накормил препаратом кроликов, вызвав у них трихинеллез. А еще через день Ценкер был уже за 80 километров, на хуторе, где работала Мари. Оказалось, все его обитатели больны. Особенно плоха хозяйка и тот мясник, который забивал свинью: мясники того времени имели привычку съедать немного сырого мяса – считалось, что мужчины от него становятся крепче. Теперь бедняга еле передвигал ноги. Он остался жив. Вообще, смертность от трихинеллеза не превышает 30 %. Наши лимфоциты вырабатывают против трихин антитела IgE, мешающие червям ползать по кишечнику и закрепляться на его стенках. Первый симптом болезни – понос: организм смывает трихины «в канализацию». Часто этим все и заканчивается. Но если больной проглотил слишком много паразитов, как Мари Д., тогда дело плохо.
На ферме оставалось немного рождественской ветчины и колбасы, в которых ползали и капсулировались трихины. Все стало ясно: свиное мясо часто бывает заражено ими. Открылся медицинский смысл законов Моисея и Мухаммеда. Вирхов даже обсуждал с коллегами вопрос, не ввести ли по всей Германии исключительно кошерную диету. Но немецкие ученые сошлись во мнении, что «народ не поймет», а их долг – втолковать этому самому народу, что свинина может быть опасна и ее надо заранее проверять.
Рудольф Вирхов начал общественную кампанию за бдительность против трихин. Почему-то больше всех сопротивлялись ветеринары. Одному из них на глазах толпы крестьян Вирхов даже предложил съесть зараженной паразитами колбаски. Тот демонстративно съел – и занемог, хоть и не смертельно. Теперь, когда течение и причины трихинеллеза стали известны, отовсюду пошли сообщения о новых вспышках. В одной кведлинбургской деревне заболело сразу 438 человек, из них 101 скончался. С 1864 г. берлинские городские власти учредили проверку под микроскопом всей поступающей в Берлин свинины. Процедура получила название «трихиноскопия». Она сделала Вирхова еще популярнее, ученый прошел депутатом в парламент. И тут же оказался в оппозиции к канцлеру Бисмарку. Как-то в одном вопросе парламентское меньшинство потерпело очередное поражение, и патолог с трибуны в сердцах заявил, что голова у канцлера пустая, а сам он пустое место. По преданию, Бисмарк вызвал депутата на дуэль. За тем оставался выбор оружия. Вирхов предложил сразиться на колбасах: из двух одна заражена трихинами. Бисмарк отверг эту затею. Еще и сострить пытался, мол, «герои не обжираются перед смертью».
Это стало началом великой дружбы. Теперь канцлер выслушивал мнение Вирхова по разным вопросам. Трихиноскопию ввели во всей Германской империи. И когда Германия в 1883 г. защитила своих производителей, запретив ввоз дешевой свинины из США под тем предлогом, что американцы не проверяют мясо на наличие трихин, Бисмарк просто сиял. В политике даже паразит на что-нибудь да сгодится.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Валентина Варивода: А как себя обезопасить? Кипятить?
Ответ: На медвежий праздник народы Севера и Сибири по три часа варят медвежатину, чтобы себя обезопасить. Свиное мясо, которое поступает в продажу, сейчас везде проверяют. Кроме того, предназначенные на убой свиньи больше не пасутся где угодно, у них нет возможности съесть мясо, зараженное трихинами.
29 Похищение семян хинного дерева Чарльз Леджер и Мануэль Икаманахи 1865 год
19 мая 1865 г. успешно закончилась операция похищения из перуанской сельвы семян хинного дерева, которые запрещалось вывозить в Европу. Этими семенами засеяли колониальные плантации, обеспечившие весь мир дешевым хинином – единственным на то время лекарством от малярии. Оно сделало возможной колонизацию Африки и Азии, а также сооружение Панамского канала. Ни один из контрабандистов, благодаря которым это произошло, не нажил на хине состояния, а некоторые еще и сложили головы.
Пока химики 75 лет назад не научились синтезировать хинин, его источником была исключительно кора хинного дерева. В дикой природе оно росло на территории четырех стран Южной Америки: Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии. Чтобы вылечить одного человека, нужно полкило истолченной в порошок коры. Счет больным шел на миллионы; за год истребляли несколько сот тысяч деревьев, так что к середине XIX в. они остались в товарных количествах только в Перу и Боливии.
Но и там возникла опасность их исчезновения. Индейцам – сборщикам коры (каскарильеро) с каждым годом приходилось все дальше забираться в леса. Прежде, когда экспортом хины занимались иезуиты, каскарильеро после разделки одного дерева должен был посадить на его месте пять, чтобы они росли рядом крестом. Когда же монополия на кору перешла от церковников государству, священный страх пропал, а чиновникам отслеживать возобновление ресурса было лень.
Попытки европейцев развести хинное дерево за пределами Перу и Боливии терпели неудачу. Растение капризное, признает лишь высоты от 800 до 3000 метров над уровнем моря, совершенно не выносит холода. Вывоз его семян из Перу и Боливии был строжайше запрещен: всемирная монополия приносила до 15 % государственного бюджета. Республика Перу даже поместила изображение дерева на своем гербе рядом с викуньей, поскольку хина и шерсть викуньи символизировали национальное благосостояние.
От викуньи происходила альпака, чей волос тоньше пуха тонкорунных овец. В 1836 г. англичане освоили механическое прядение шерсти альпаки. Эта шерсть тут же вошла в моду, и потребовались ее закупки на месте. В Лиме открылась контора британского торгового дома, где рядовым клерком начал свою карьеру 18-летний лондонец по имени Чарльз Леджер.
Он хорошо рисовал, отличался любознательностью и много читал, особенно медицинской литературы, поэтому быстро прослыл среди местных индейцев доктором. Освоил язык кечуа, с ним можно было поговорить о здоровье, так что пастухи охотнее сдавали шерсть ему. В 1842 г. Леджер уже имел собственное дело в порту Такна, самом южном городе Перу. Женился на Канделарии, дочери чиновника, что несколько снизило количество проблем на таможне. Каждый отгруженный в Такне тюк альпаковой шерсти нес на себе клеймо фирмы Леджера.
Год спустя Леджер увидел, как вытащили из воды тонущего индейца Мануэля Инкра Мамани (искажение на европейский лад, настоящее имя – Мануэль Икаманахи). Сумел откачать утопленника, и тот стал ему верным слугой, сопровождавшим в экспедициях за шерстью по Перу и Боливии. Мануэль умел ездить верхом, но заставить его сесть на коня в присутствии «патрона» было невозможно: индеец предпочитал бежать у хозяйского стремени, без устали преодолевая за день десятки километров.
До поступления на службу к Леджеру он работал каскарильеро и хорошо разбирался в сортах коры хинного дерева, которую англичанин тоже вывозил в Европу. Однажды Мануэль отложил в сторону кусок красной коры из новой партии и сказал, что это самая целебная порода кинкины (в переводе «лекарства лекарств», как индейцы называли кору хинного дерева). Леджер отослал образец на анализ аптекарю в Ла-Пас; оказалось, что содержание хинина в нем 16 %, тогда как считалось, что больше 9 % быть не может. По свидетельству Мануэля, то была кора дерева, которое каскарильеро называют «тата» («отец»). Остались «тата» лишь в области Юнгас на далеких склонах Восточной Кордильеры, и даже там они так редки, что вряд ли белый человек когда-нибудь их видел.
Шальная мысль вывезти из Боливии семена хинного дерева и раньше приходила Леджеру в голову, но это каралось законом. Более выполнимой казалась идея купить стадо альпак, погрузить на корабль и выпустить на ферме где-нибудь в Австралии. Мануэль и его сын Сантьяго брались обучить тамошних пастухов обращению с американскими животными. Надо было только накопить денег, однако в 1845 г. правительство Перу запретило вывозить живых альпак за границу.
Альпаки водятся и в Боливии. Леджер арендовал у самой границы на боливийской стороне эставеру (ранчо) на полпути между Такной и Ла-Пасом, крупнейшим городом Боливии. Дорог в общепринятом смысле там не построили, проходила пешеходная тропа, по которой раз в неделю пробегал почтальон – совсем как во времена инков. За плату в 10 песо он должен был пройти 380 километров не более чем за шесть дней с сумкой весом около 25 килограммов. Леджер гостеприимно пускал почтальонов к себе переночевать, кормил ужином и давал с собой в дорогу листья коки, которые почтальон жевал на бегу для бодрости. За это курьеры приносили ему из Такны газеты, держа в курсе событий.
В 1850 г. Леджер решился на эксперимент по акклиматизации. И тут почта принесла известие, что Боливия также запретила вывозить этих животных. Бросать дело было жалко, Леджер с Мануэлем решили стать контрабандистами: гнать свое стадо альпак в Аргентину тайными тропами, на которых не было пограничной стражи. Разведывая такие тропы в ноябре 1851 г., они в глухом лесу наткнулись на усыпанные белыми цветами хинные деревья «тата» (цветы других представителей этого рода розовые). Мануэль сказал, что плодов с семенами надо ожидать только в апреле, а на это время у Леджера планировались совсем иные дела.
Он тогда плавал в Австралию, где заручился согласием губернатора на акклиматизацию альпаки. Дело было за малым: переправить стадо через всю Боливию в Аргентину, там передохнуть, затем пересечь всю Аргентину до самого юга, где Анды становятся проходимыми, перевалить через горы и ждать корабль в чилийском порту Лагуна-Бланка. Самым трудным оказался боливийский участок. Четыре раза приходилось возвращаться: дважды стадо вымирало от тягот пути, дважды его конфисковывали, а самого Леджера арестовывали. Он избежал каторги чудом. Сначала, изображая врача, сумел вылечить жену своего тюремщика, а потом, угощая стражника «настоящим шотландским грогом», изловчился, добавил в этот напиток лауданум (настойку опия) и скрылся.
Наконец, в 1856 г. стадо удалось перегнать через пограничный перевал – ночью в грозу, так что не учуяли собаки. Отдыхали уже на аргентинской территории. Достали местные газеты, и у костра Леджер зачитывал своим индейским пастухам новости. Там говорилось, что правительство Британской Индии направило в Боливию экспедицию Клементса Маркема, чтобы раздобыть семена лучших пород хинного дерева для разведения в Индии, поскольку цена хинина за 10 лет выросла в четыре раза. На это Мануэль сказал: «Не уедет джентльмен из области Юнгас в добром здравии, если раздобудет семена “таты”».
Пояснять эту мысль в присутствии 30 соплеменников индеец отказался и только утром на бегу у хозяйского стремени уточнил, что аборигены будут следить за каждым шагом белого человека и сообщать властям. Мало того, даже если Маркем подкупит чиновников, ничего у него не получится. Всем ученым из Европы местная прислуга вредит изо всех сил. Мануэль рассказал, как индейцы-носильщики травят выкопанные с корнем хинные деревья, чтобы они погибли на новом месте, как обрабатывают семена, уничтожая их всхожесть, как семена подменяются подобными, но менее ценных пород. Вот почему кора культивируемых в Индии и на Яве деревьев содержит не более 2 % хинина.
Изумленный Леджер спросил, отчего индейцы так защищают интересы государства, которое для них палец о палец не ударило и даже не желает предотвратить исчезновение деревьев «тата». Мануэль отвечал, что со времен иезуитов хинное дерево считают связанным с потусторонними силами. И если деревья «тата» сумеют развести в других странах, они, обиженные за варварское к себе отношение на родине, полностью исчезнут в Боливии, оставив каскарильеро без заработка. Хотя Мануэль думал иначе, таково общее мнение и поделать с суеверием ничего нельзя.
Леджер написал соотечественнику записку, что в Боливии ему грозит опасность, но ботанику так и не разрешили въезд в страну. Он добыл кое-какие деревья в Перу и сумел довезти их до Индии, где все они погибли по необъяснимым причинам. Маркем винил садовника из лондонского ботанического сада, хотя там этот специалист числился среди лучших.
Опыт акклиматизации альпаки в Австралии окончился финансовой катастрофой вопреки всем стараниям. Шерсть американских животных на новом месте стала гораздо толще, видимо из-за отсутствия привычных кормов. Размножались они неохотно, и скоро в стаде не осталось самок. Самцов колониальные власти скупили и раздали по сумасшедшим домам, чтобы милые мозоленогие, которых так приятно гладить, скрасили жизнь душевнобольных.
Из Перу пришло известие, что Канделария умерла, и Леджер женился на австралийке Шарлотте, купил ферму. Рассчитывая остаться в Австралии навсегда, он отослал Мануэля и Сантьяго домой. Дав им 200 чилийских песо, обещал еще 500 (по тогдашнему курсу 100 фунтов стерлингов), если Мануэль добудет килограммов 25 семян дерева «тата». Семена нужно было сдать бывшему тестю в Такне, а тот уже знает, как их переправить в Австралию.
Индеец исчез на четыре года. За это время все альпаки в Австралии вымерли, Леджера уволили с должности государственного инспектора по их акклиматизации и начали против него расследование на предмет нецелевого расходования средств. В январе 1865-го Леджер бежал обратно в Перу и там сразу же разыскал Мануэля. Оказалось, четыре года подряд в апреле на Боливию обрушивались морозы, губя недозревшие плоды хинных деревьев. 1865-й стал первым благополучным годом.
19 мая индеец принес, наконец, 27 килограммов семян. За это Леджер вручил ему 100 фунтов, двух мулов, четырех ослов, одеяла и винтовку с патронами.
Три недели по четыре часа в день бесценные семена сушили на солнце, чтобы они не отсырели за время путешествия по морю. Затем Леджер отправил их в Лондон посылкой своему брату Джорджу. Девять килограммов за 33 фунта купил голландский консул для разведения хинного дерева в колониях на острове Ява. Еще девять килограммов за 50 фунтов купил один фермер из Индии. И последние девять отправились в Австралию, откуда пришла благодарность и чек на 100 фунтов.
Судьба австралийских семян неизвестна, в Индии дело не пошло из-за климата, а на Яве условия оказались подходящими. Там проросло 20 тысяч леджеровских семян, из которых получилось 12 тысяч деревьев. В 1872 г. они зацвели белыми цветами – это в самом деле были «тата». Собрали первый урожай коры, 260 килограммов, содержание хинина в ней оказалось от 8 до 13 %.
Леджер понял, что Мануэль не обманул, и заказал еще семян. Но доехал верный слуга только до боливийского города Коройко. Там местный коррехидор задержал его, посадил в тюрьму и 20 дней подряд бил, пытал голодом и жаждой, пока несчастный не сказал, на кого работает. За помощь иностранцу в вывозе национального достояния имущество Мануэля было конфисковано: у него забрали ослов, мулов и одеяла, а сам он через неделю умер от побоев.
В течение 10 лет Леджер выплачивал его вдове и сыновьям пенсию 10 фунтов ежемесячно, пока сам не остался совершенно без денег. К тому времени голландцы собирали по 124 тонны хинной коры в год, зарабатывая более миллиона фунтов. Город Бандунг, вокруг которого разбили плантации, соединили с морем железной дорогой, и он на глазах превращался в мегаполис. За счет высокого содержания хинина в яванской коре голландцы смели с рынка конкурентов и стали производить 90 % всей хины в мире. Хотя цены упали в 10 раз, хинин стал доступен каждому и прибыли оставались высокими за счет бесконечного спроса.
В 1881 г. Леджер напомнил голландцам о себе, и ему послали 100 фунтов. Он купил небольшую ферму в Австралии, где срок давности его «преступлениям» вышел, и кое-как оборачивался до 1891-го, когда лопнул банк, где он держал все свои сбережения. Он распродал мебель, заложил ферму и в 1895-м из страха окончить свои дни в работном доме снова напомнил голландцам о себе. Ему положили небольшую пенсию – настолько скромную, что к моменту смерти Леджера в 1905 г. оставшееся от него имущество оценили в два фунта.
Похоронили его фактически в безымянной могиле – на участке семьи жены, между свояченицей и шурином. На могильном камне были обозначены только их имена, ни слова о Леджере. Нахождение его останков там удостоверяется всего лишь записью в кладбищенском журнале.
В 1986 г. маляриолог Габриэле Грамичча стал собирать материал для написания биографии нашего героя и с трудом нашел его последнее прибежище. По инициативе Грамиччи одна голландская химическая компания привела могилу в порядок. Теперь там лежит скромных размеров белый камень с надписью:
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Иван Мосин: Насколько понимаю, позже, до того как начали синтезировать хинин, ситуация на рынке менялась не раз? Не знаете про это чего-нибудь? Тот же Александр Йерсен во Вьетнаме перед Второй мировой также начал высаживать хинные деревья, у него получилось, и позже Вьетнам производил львиную долю этого хинина (где-то читал… может, и в путеводителе из музея самого Йерсена в Нячанге, сейчас не вспомню).
Ответ: Ну про львиную долю – это они загнули, если говорить о довоенном периоде. Себя обеспечивали и соседей, и это уже много. До 1939 г. 90 % рынка держали голландцы, а Вьетнам был так беден, что на Яве закупать не могли, оттого Йерсен все это и начал. Потом, когда японцы захватили Индонезию, а немцы – Голландию со складом готового хинина, СССР и его союзники остались без лекарства от малярии. Стали диверсифицировать, синтез осуществили – он поначалу оказался дорог, все это шло на фотоматериалы; разбили плантации хинных деревьев в Африке, и вышло, что там хинин получается дешевле. После войны зашла речь о Союзе угля и стали (предшественник ЕС) из Франции, Германии и стран Бенилюкса. Все эти государства создали общее законодательство о трестах, согласно которому голландскую хинную монополию разделили. Ее наследники стали инвестировать в тонкие химические технологии и фармпрепараты как в более дорогой и менее затратный в производстве продукт. К тому же без политических рисков: Индонезия стала независимой, начала социалистические эксперименты, и там работа иностранных инвесторов была затруднена. Плантации в уже независимой Индонезии, оставшись без капитала, перешли на чай, благо рынок был понятен и существовали местные традиции производства.
Полина Дьяконова: А на Яве, интересно, все еще растут эти деревья?
Ответ: Нет. Освобожденные от хинных деревьев места засадили чаем. По чайным кустам можно определить, где некогда располагались великие плантации.
30 Расшифровка биологии ришты и начало тропической паразитологии Алексей Федченко 1870 год
2 февраля 1870 г. географ Алексей Федченко сделал в научном обществе при Московском университете доклад о жизненном цикле ришты – подкожного червя, вызывавшего мучительную болезнь у жителей Средней Азии и тропиков. Федченко высказал идеи, осуществление которых на наших глазах приводит к полной ликвидации этого паразита. Его не станет на Земле в ближайшие годы.
Риштá, или мединский червь, – зло древнее, как египетские мумии, в которых его порой находят. Паразит размножается и созревает в теле человека примерно год. С самцами наш организм умеет бороться – они капсулируются и умирают. Но самки прячутся в соединительной ткани между мускулами, где благополучно вырастают до метра. Когда приходит пора исторгнуть из себя потомство, они движутся в подкожную клетчатку, обычно на ноге. Там вздувается волдырь, он набухает недели четыре. Ощущение такое, будто под кожей сворачивается пружина. Любое движение пораженной конечности доставляет мучительную боль. Чтобы унять ее, рану смачивают, а червю того и надо. От соприкосновения с водой волдырь лопается. Наружу показывается головка паразита. Из раны течет зловонный гной, она горит огнем, уходить из воды не хочется. У ришты есть время выдавить из себя, как из тюбика, миллионы личинок. Если вода теплая и стоячая, они созревают и находят для себя жертву.
Со времен древних шумеров был единственный способ лечения этой инвазии – осторожно наматывать высунувшегося наружу червя на палочку (или, как сейчас, на марлевый валик). Отрывать паразиту голову или прижигать ее нельзя: ришта останется в ране, туда же попадут личинки, и начнется аллергический отек, порой опасный для жизни. Это больно, по выражению таджикского поэта Садриддина Айни, как если бы кожу резали десятью ножами. Другие осложнения вызываются вторичной инфекцией – от миозита и трофической язвы до гангрены и столбняка.
Мотать червя на палочку можно долго – если отек силен, то за целый день не продвинуться и на сантиметр. На Востоке несчастные с риштой неделями валялись под навесами на базарах, где их за большие деньги пользовали табибы, лекари-самоучки. Нагноения и рожистые воспаления привлекали тучи насекомых; табибов прозвали «мир макасон», то есть «повелители мух». Самого паразита в Средней Азии именовали риштой, от персидского слова «нить». В странах, где с ней сталкивались европейские врачи, местное население утверждало, что паразита занесли арабские завоеватели. Город пророка Мухаммеда и первая столица халифата – Медина, поэтому на Западе червя называли «мединским». Нарекая животных в 1758 г., Карл Линней дал риште название не просто червя или филярии, а «мединского дракончика». По-латыни «дракончик» будет dracunculus, а вызванная им болезнь – «дракункулез».
Умирают от нее редко, но потерю трудоспособности на полтора месяца она гарантирует. Долгое время с риштой ничего не могли поделать. В Бухаре не было ни одного человека, который бы ей не болел, со времен принятия ислама до 1869 г., когда во владения бухарского эмира явилась русская армия, а следом за ней – натуралист Алексей Павлович Федченко.
Этот замечательный ученый – этнический украинец, который вырос в Иркутске, где его отец владел золотым прииском. С малых лет интересовался растениями и насекомыми. В гимназии учился на отлично, готовясь стать натуралистом, когда его отец разорился и с горя умер. Семья осталась без средств к существованию, платить за гимназию было нечем. К счастью, старший брат Григорий, преподаватель ремесленного училища в Москве, верил в будущее шестиклассника Алексея. Григорий стал отдавать на оплату его учения половину своего дохода и по почте руководил занятиями брата. Тот старался изо всех сил, чтобы Григорий не счел свои жертвы напрасными.
На физико-математическом отделении Московского университета гербарии студента Федченко отмечали как лучшие, а основатель российской зоологии Анатолий Богданов (1834–1896) пригласил Алексея в свой кружок. Там Федченко познакомился с будущей женой Ольгой Александровной, дочерью профессора Армфельдта. В ней он обрел «второго Григория» – спонсора своих занятий. На момент их встречи Ольга была еще институткой. Увлекалась ботаникой и – в духе того времени – старалась доказать, что женщина способна работать в науке наравне с мужчиной (что ей впоследствии блестяще удалось). Среди студентов богдановского кружка она выбрала Федченко: он был самым сильным, красивым и талантливым и тоже ничем, кроме наук, не интересовался. По окончании курса университет мог предложить Алексею только одну работу с казенной квартирой, а именно должность студенческого инспектора. Формально надо было составлять расписание занятий и следить за соблюдением правил, а фактически – отлавливать пьяных студентов на Патриарших прудах и отчислять особо буйных. Женившись на богатой девушке, Федченко смог бросить эту работу и отправиться с Ольгой на стажировку в Европу.
Он имел задание от Общества любителей естествознания при университете – подготовить экспедицию в только что завоеванную Среднюю Азию. Послать могли только двоих (Алексея с женой) и препаратора, а заниматься надо было всеми науками сразу: собрать гербарий, коллекцию насекомых, образцы костюмов, оружия, произведений ремесла; и самое главное – изучить географию почти неведомой страны.
Федченко готовился к экспедиции у немецкого зоолога Рудольфа Лейкарта (1822–1898), который разгадал жизненный цикл трихинеллы, обезопасив любителей ветчины. Лейкарт – отец учения о промежуточных хозяевах паразитов человека. Он предполагал наличие такого хозяина и у ришты и предложил Федченко поискать его. С этой находки началась тропическая медицина, как сказал Рональд Росс, открывший роль комаров в распространении малярии.
Зима 1868–1869 гг. была суровой: до Ташкента ехали на санях. Там в гостинице супруги Федченко совершили неприятное для себя открытие: русские уже завезли в Среднюю Азию постельного клопа, которого доселе этот край не знал. Зато из Туркестана они увозили с собой малярию. Этой болезни предстояло сыграть роль в истории ришты.
Очагами дракункулеза в Средней Азии были Бухара и Джизак. Когда Федченко прибыл в Самарканд, в госпитале еще лежали русские солдаты, раненные при обороне города, которую изобразил Верещагин на картине «У крепостной стены. “Пусть войдут”». Некоторые из этих солдат страдали и от ришты. Недостатка в материале не было. Алексей просил докторов собирать для него личинки паразита. Пока он отлучался в Каттакурган, военный врач напустил в его аквариум толпы личинок, но вода за несколько дней протухла. Федченко разбавил ее ключевой, и личинки сразу погибли. Так стало ясно, что жить они могут лишь в прогретой солнцем стоячей воде.
Следующих личинок Алексей Павлович поместил в аквариум с прудовой водой, где оказались рачки-циклопы. Разглядывая их в сильную лупу, Федченко заметил внутри циклопов личинки ришты, которые неплохо себя чувствовали. Произошло это 17 июля 1869 г. Немедленно сообщили генерал-губернатору Туркестана Константину фон Кауфману (1818–1882), что риштой заражаются при питье, глотая циклопов с личинками. Видимо, желудочный сок растворяет панцири рачков, паразиты высвобождаются, а дальше, как трихинеллы, проходят через стенку кишечника и ищут себе удобное место. Чтобы не заболеть, нужно либо пить проточную воду, где личинки не выживают, либо отфильтровывать рачков. Это немедленно довели до сведения всех командиров русских войск в Туркестане.
Через три года Федченко погиб от высотной болезни, тренируясь в горных восхождениях на Монблане. Он похоронен в Шамони, французском городе у подножия Монблана. На кладбище есть памятная табличка от альпинистов Узбекистана, но ни слова от тропических врачей и жителей десятков стран, которые благодаря Федченко избавлены от паразита. Покидая Среднюю Азию навсегда, Алексей Петрович написал о риште популярную статью для ташкентской газеты. Ее тут же перевели на узбекский и распространили в Джизаке и Бухаре, где находились главные рассадники гельминтов. И – ничего. Местное население совет «завоевателя» не пить из прудов игнорировало.
Ключ к сердцам бухарцев подобрал другой военный врач, который прибыл в Среднюю Азию уже с Красной армией, – Леонид Михайлович Исаев. Он тоже сын разорившегося купца. Но порядки в семье Исаевых были иные. Когда отец умер, дети обрадовались: «пороть не станет». Исаевы – старообрядцы, народ строгий. И бережливый. Сдавая единственную свободную комнату, вдова сумела дать детям высшее образование.
Леонид поступил в Императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Уважающий себя студент академии должен был посещать императорские театры. По уставу в театр можно являться только в мундире и при шашке. За этим следил дежуривший у парадного подъезда инспектор (та же должность, что у Федченко), вредный как змей. Исаеву не на что было купить мундир и шашку. Одолжив их пару раз у товарищей, он решил проблему иначе: поступил статистом сразу в Александринку и Мариинку. Как участник мимического ансамбля попадал в театр со служебного входа, минуя инспектора.
Товарищам, строгой матери и даже себе Исаев объяснял, что это такая подработка, для поддержания штанов. На самом деле то была безответная любовь. Поручик медицинской службы Исаев выучил репертуар обоих театров, на всю жизнь запомнил декорации и световую программу каждого спектакля. Он обожал фотографироваться и спорить, находя в дискуссиях некое драматическое начало. Но если и была у него мысль бросить армию с медициной к черту и стать актером, он гнал ее как «несерьезную».
И все-таки Исаев обрел свою сцену. В бараке – даже не в холерном, в чумном. В 1911 г. во время эпидемии легочной чумы в Харбине он сумел какой-то пантомимой убедить не понимающих русского китайских кули не разбегаться из карантина. С тех пор лабораторная работа наводила на него тоску. Исаева влекли неведомые люди, которым он силой своего таланта будет что-то объяснять и добьется того, чего не сумеют другие врачи.
И потому он поступил ассистентом в Тропический институт, откуда в 1922 г. вызвался ехать в Бухару избавлять город от эпидемии малярии. Без хинина, которого все равно не было. Исаев предложил засыпать болота вокруг Бухары, откуда летели разносчики малярии анофелесы. Остальные военные врачи сочли это утопией и засадили пришельца на две недели под арест. Выгнать его было нельзя, потому что медики сами болели поголовно и каждый врач был на счету.
Исаев нашел, чем зацепить бухарские власти, которые вечно ссылались на отсутствие средств. Бухарцы чадолюбивы. Обследуя больных малярией детей, Леонид Михайлович отобрал 40 самых истощенных мальчиков. По десятку каждой национальности – узбеков, таджиков, евреев, русских. И устроил в постпредстве РСФСР физкультурный парад детей-маляриков. Зрелище было такое, что власти разрешили Исаеву делать что угодно, только бы денег не просил. Леонид Михайлович пошел на улицы. Развешивая плакаты с изображением анофелеса, он устраивал представления – изображал больного в припадке малярии, а потом указывал на ров у городской стены: засыпь его, и спасешься. Сначала бухарцы воспринимали это как развлечение, но со временем до них дошло. Устроили хашар – работу «всем миром», и в 1923 г. малярии в Бухаре не стало.
Оценив потенциал горожан, Исаев взялся за ришту. Он точно так же объяснял, почему нельзя пить из прудов-хаузов. Теперь его поддерживали власти. Один за другим пруды осушили методом того же хашара, чтобы в них не стало циклопов. Те пруды, где водились рачки, заливали нефтью, так что «несознательные» перестали брать там воду. В 1927 г. на подмогу пришли первые в Узбекистане студентки медицинских техникумов – таджички и узбечки. Они проникли в ичкари – на женскую половину домов, и так наконец удалось учесть всех больных. Оказалось, риштой страдал каждый пятый. Но принятые меры себя оправдали. Исаев пошел дальше уличной агитации – он даже снял кинофильм «Ришта», который показывали по всей Средней Азии. В 1931 г. дракункулеза в Туркестане не стало. То был первый опыт девастации – полного уничтожения – паразитического вида в масштабах целой страны.
Когда Советский Союз в 1950-х гг. начал сотрудничать с ВОЗ, Исаева немедленно пригласили в Швейцарию. Там он мечтал подняться на Монблан, помянуть Федченко. Даже вступил в партию ради выездной визы (при Сталине он состоять в большевиках не хотел). Но в Женеву поехал проверенный товарищ с хорошим партийным стажем, а Леонида Михайловича выпустили только в Индию, «на ришту». Там он, побегав на восьмом десятке по хаузам, надорвался и по возвращении сразу же умер от инфаркта.
Выпавшее знамя девастации подхватил экзотический герой – бывший президент США Джимми Картер. Свое правление он считал не слишком удачным. Поначалу думал, что стоит лишь убедительно призвать глав государств и корпораций к добру – и все наладится. Оказалось, что представления о добре и зле везде свои. Экономический упадок в США, исламская революция в Иране, вторжение советских войск в Афганистан – вот события, которые президент Картер не предотвратил. Но он не оставил намерения войти в историю как человек, изменивший мир к лучшему. Ему нужен был противник, который в глазах любого политика представлял собой зло. И таким врагом оказалась ришта.
Мединский червь не слишком-то мединский. Его родина – Африка. В 1986 г., когда Фонд Картера вышел на тропу войны с риштой, больных дракункулезом было свыше трех миллионов, по большей части африканцы. У Картера на вооружении уже состоял новый немецкий препарат для прудов, убивающий личинки ришты. И гранты. Самый крупный, на 15 миллионов долларов, – от Билла Гейтса.
Но как обезопасить охотников и земледельцев, готовых на жаре пить из любой лужи? Здесь сработала еще одна идея Федченко, высказанная 2 февраля 1870 г. Алексей Петрович говорил буквально следующее: «Если воду, в которой плавают циклопы, всасывать пипеткой, то, как бы быстро ни втягивать ее, почти ни одного циклопа не будет в пипетке». Решили раздать бесплатно яркие пластиковые трубочки с фильтром, не пропускающим циклопов. Эти 23 миллиона трубочек решили дело. В 2016 г. только 25 человек на всем земном шаре болели риштой: 16 в Чаде, шесть в Судане и трое в Эфиопии; в 2017-м – 30 случаев, за первый квартал 2018-го – всего три, и лишь в одной стране (Чад).
У Картера нашли рак печени. После курса лечения наступила ремиссия, но были замечены метастазы. И все же экс-президент уверен, что умрет не раньше, чем принесут статистику с одними только нулями.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Morta Della: Зачем такие сложности, неужели кипячение не помогает?
Ответ: Кипячение решает все проблемы, черви тоже мясо. А водопровод построить еще лучше. Но если вы живете на границе Чада с Суданом, где идет война, а электричества и дров нет, кипятить не на чем и нечем.
Morta Della: Тогда с трубочками тоже могут быть проблемы.
Ответ: С трубками никаких проблем. Они сделаны так, что пить удобно только с одного конца, попадание циклопов в рот исключено. Вы, должно быть, человек, привыкший к кипяченой воде. С детства наблюдали, как ее кипятят, и не представляете, что бывает по-другому. А есть люди, которые переходить на кипяченую воду не желают принципиально. Некоторые африканские племена считают воду своих прудов священной. Кипячение – это посягательство на живущих в пруду предков. Бухарские хаузы также считались священными, в них происходили ритуальные омовения. Все это очень непросто: попробуйте убедить людей что-то делать, если вы в этой стране чужой.
ирина волкова: А ледник Федченко, самый большой на Памире, – это в честь него?
Ответ: Да, это Василий Фёдорович Ошанин (на групповой фотографии стоит слева) назвал в память о друге.
31 Профилактика кессонной болезни Альфонс Жамине 1870 год
31 марта 1870 г. в Сент-Луисе на строительстве моста через Миссисипи началась борьба с малоисследованной болезнью, которая свирепствовала в кессонах на дне реки. Работы шли под беспрецедентным давлением, декомпрессия при выходе из кессона была смертельно опасна. Когда выяснили причину болезни и научились ее лечить, мосты через великие реки стали технической реальностью. А также тоннели метро в водоносных грунтах, не говоря уже о дайвинге.
Первый врач, обративший внимание на последствия работы под давлением, был из России. Иосиф Христианович Гамель – сын полицмейстера Сарепты. Эта колония немецких протестантов-гернгутеров (последователей учения так называемых моравских, или чешских, братьев) ныне стала районом Волгограда. Община производила первую русскую горчицу и весьма на ней разбогатела. Доходы поступали в фонд, за счет которого братья-гернгутеры давали самым способным молодым людям высшее образование. Гамель выбрал Медико-хирургическую академию в Петербурге. Во время Отечественной войны 1812 г. хорошо себя проявил и по окончании боевых действий был командирован в Британию для знакомства с новыми методами лечения.
Летом 1816 г. в путешествии по Ирландии Гамеля сопровождал академик Уильям Уолластон (1766–1828), который открыл ультрафиолет и металл палладий. Они посетили приморский городок Хоут, где сооружалась искусственная гавань. Фундаменты ее молов выкладывали прямо на дне с помощью водолазного колокола. Это железный ящик, в который паровая машина нагнетала сжатый воздух. Колокол погружался на 9 метров, до самого дна, создавая там совершенно сухое помещение, где можно было работать как на земле, только под давлением в две атмосферы.
При спуске Гамель почувствовал острую боль в ушах. Стал делать массаж, пытаясь открыть евстахиевы трубы, по которым воздух из носоглотки может пройти в полость среднего уха, чтобы уравновесить давление на барабанную перепонку. Уолластон подсказал, что нужно сглотнуть слюну, открывая клапан в евстахиеву трубу.
Посмотрев на работу каменщиков, Гамель на обратном пути ощутил похожую боль, теперь уже изнутри. Было ясно, что делать: опять сглотнуть, чтобы сжатый воздух вышел из евстахиевой трубы. Этот же совет дают пассажирам самолетов, быстро набирающих высоту. Гамелю пришла в голову мысль, что повышенным давлением можно лечить глухоту, если она вызвана закупоркой евстахиевых труб. Сначала сжатый воздух пробьет себе путь снаружи, потом изнутри.
Русский гернгутер сочинил письмо в журнал Philosophical magazine с предложением устроить барокамеры в больницах. Идею Гамеля заметили. У дорогих врачей завелись для элитных пациентов барокамеры с давлением до 1,75 атмосферы, где лечили глухоту, насморк и охриплость. Когда Англию посещал брат Александра I – будущий царь Николай, именно Гамель знакомил его с достижениями английской техники. Николаю Павловичу русский немец угодил, был удостоен бриллиантового перстня и гранта на исследование декомпрессии в горах.
С барометром новейшей конструкции Гамель прибыл в Шамони, щедро заплатил тамошним альпийским проводникам и двинулся к вершине Монблана. Успешных восхождений насчитывалось тогда уже девять, без единого несчастного случая.
В пути их застигла вьюга. Дойдя до хижины, построенной отцом альпинизма Соссюром (на высоте 2750 метров), остановились. Троих послали вниз для пополнения запасов продовольствия. Сутки просидели в домике. Следующее утро было ясным, но гиды знали, что ничего хорошего солнце после снегопада не сулит. Они требовали переждать.
Гамель топал ногой, клял их трусами и взял на слабó. Тронулись в путь, вполне закономерно попали в лавину, причем троих проводников из восьми сбросило в расселину и накрыло двумястами метрами снега. Старший группы, Матьё Бальма, потерявший в этой катастрофе брата, сказал Гамелю: «Ну что ж, месье, посмотрим, трусы мы или нет. Пошли дальше. Вы готовы?» Доктор заподозрил недоброе и предпочел вернуться.
История вышла громкая и некрасивая. «Любой ценой, император приказал» – после краха Наполеона европейцев такое не вдохновляло. Гамеля отозвали в Россию. Однако по его способу во Франции продолжали лечить глухоту. Среди пациентов был граф Эммануэль де Лас Каз (1766–1842).
Граф, конфидент Наполеона, поехал с ним в ссылку на остров Святой Елены, где усердно фиксировал воспоминания своего кумира. Через пару лет после смерти «корсиканского чудовища» Лас Каз издал эти записи книгой, которая принесла ему громадное состояние. Именно к Лас Казу пришел горный инженер Жак Триже, у которого родилась прекрасная идея, но не было денег.
Триже решил добыть сокровище, известное со времен Жанны д’Арк, – уголь в пойме реки Луары. Пласты залегали всего в 19 метрах от поверхности, но это были 19 метров зыбучих песков. Откачать из них воду так же невозможно, как вычерпать саму Луару. Воду можно выдавить сжатым воздухом, если опустить в плывун ящик вроде водолазного колокола. Такое сооружение, на дне которого прямо в сжатом воздухе работают люди, Триже назвал словом «кессон» (от франц. caisson – ящик).
В Лас Казе инженер нашел инвестора, который верил, что человек может жить под повышенным давлением, потому что сам провел немало времени в барокамере. Правда, в городке Шалон-сюр-Луар предстояло пройти 19 метров песка и 6 метров угольного пласта. Давление, которое останавливает воду на такой глубине, – три с половиной атмосферы. Но это не смущало Триже, который вошел в свой кессон первым.
Сначала все казалось забавным, так что в «ящик» водили экскурсии. При давлении в три атмосферы не свистнешь, все говорят пискляво и в нос, а задутые было свечи зажигаются снова, как по волшебству. Случился даже казус: бывший солдат Флок, оглохший при осаде Антверпена в 1832 г., в кессоне слышал лучше всех. Вообще внизу, если бы не копоть от свечей и теснота, неплохо, а по лестнице подниматься даже легче, чем на открытом воздухе. Но, как заметили горняки, расплата наступает на выходе.
После смены рабочие ощущали зуд, который называли «почесухой», боли в животе и мышцах, онемение конечностей, а то и паралич, иногда стойкий.
В 1847 г. доктора Поль и Ватель на севере Франции в Лурше констатировали два смертельных случая при строительстве шахт под давлением четыре атмосферы. Поль сам чуть не погиб, пережив паралич. В результате была установлена четырехчасовая смена с получасовой декомпрессией (сейчас такая смена ограничена 1 часом 45 минутами, причем декомпрессия после нее должна продолжаться четыре часа).
И это еще было довольно гуманно, потому что на строительстве моста через Сену в деревне Аржантёй у врача-социалиста Эдуара Фолея люди после смены при трех с половиной атмосферах проводили в шлюзе всего 2 минуты 30 секунд. Фолей считал рабочих друзьями, сам часто спускался в кессон. Он знал по себе, как хочется скорее покинуть шлюз, наполненный ледяным туманом оттого, что воздух при падении давления сильно охлаждается.
Возникли две школы кессонных врачей: одни считали, что надо медленно повышать давление, другие – что надо его медленно снижать. Правы были вторые, но поскольку они тоже не знали причин болезни, их декомпрессия продолжалась слишком недолго, так что урон для пациентов был сравнимый.
На помощь проходчикам явились водолазы. Возникли они так: горный инженер Бенуа Рукейроль (1826–1875) придумал снабжать горняков баллонами со сжатым воздухом для дыхания на случай пожара. Когда этот аппарат увидел флотский лейтенант Огюст Денейруз (1837–1883), родился автономный скафандр. Воздуха хватало всего на полчаса, потому что тогдашние компрессоры сжимали его только до 40 атмосфер. Но за эти полчаса можно опуститься на 20–30 метров и там собирать губки либо крепить крюки кранов для подъема затонувших кораблей. На Всемирной выставке 1867 г. в Париже аппарат взял золотую медаль. Один посетитель – Жюль Верн – придумал скафандр капитана Немо. А другой посетитель – американец Джеймс Идс – решил строить мост через Миссисипи в родном Сент-Луисе.
Состояние Идс сделал на подъеме грузов затонувших в бурной Миссисипи судов. Во время Гражданской войны он принял сторону северян и построил для них обшитые броней корабли – так называемые мониторы, неуязвимые для береговой артиллерии. Эти мониторы прошли всю реку до самого устья, уничтожив речной флот южан и разрезав Конфедерацию пополам.
Теперь Идс решил построить и спроектировать мост именно потому, что мостов еще никогда не строил. За образец взял немецкий мост через Рейн в Кобленце: три арочных пролета опираются на два быка, которые кессонщики поставили на скальном основании, пройдя придонный ил. Но Миссисипи не Сена и даже не Рейн. Это громадная река с толстым слоем песка на дне. Здесь скальные породы начинаются на глубине 34 метра. Необходимое давление достигало четырех с половиной атмосфер: в таких условиях еще никто не работал. К тому же опоры моста имели колоссальную площадь, и требовались сотни людей.
Идс как исполнительный директор и главный инженер лично спускался в кессоны, потому что стройка – это место, где живут обманом и нужен хозяйский глаз. Безопасностью работ занимался личный врач Идса – француз Альфонс Жамине, хорошо знавший все, что написали его соотечественники о кессонах.
Какая из двух школ права, Жамине не знал. Испытав на себе острую форму болезни, он постиг, что пострадавшему нужен покой и обильное питье. Когда 31 марта 1870 г. Жамине стал главным врачом стройки, погибших насчитывалось четверо.
Первым делом запретили заходить в кессон пьяным. Поскольку строителям без посещения салуна жизнь была немила, они уже 1 апреля объявили забастовку. Но платили хорошо (доллар в час), и 4 апреля все вернулись к работе. В шлюзе их ждал люковой – рабочий, нанятый специально для управления воздушным клапаном. Так прекратилось хулиганство, когда проходчики по своему усмотрению резко впускали в шлюз сжатый воздух, чтобы дать новичку по ушам, или сокращали декомпрессию, стремясь скорее в салун.
Теперь погибали только нарушители инструкций: те, кто не лежал по полчаса после смены, не обедал, работал спьяну или недолечив ранее полученное онемение. Не веря на слово, Жамине осматривал каждого кессонщика ежедневно, раз в шесть часов. Вся его жизнь стала непрерывным медосмотром. Стоило только отвернуться, как пациенты не выполняли рекомендации: кто пропустит обед, потому что предпочитает пиво, кто попарит себе ноги, чтобы облегчить боль в мышцах. Боль проходила, но наступал полный паралич ног и мочевого пузыря в придачу. Вполне разумные взрослые люди, все до единого умевшие читать, так вели себя по простой причине: доктор не мог обосновать своих предписаний.
Помог на следующий год французский физиолог Поль Бер. К нему обратился Денейруз, когда у него на глазах погибли 30 греческих собирателей губок в исправных скафандрах.
Бер уже знал, что виной слишком быстрая декомпрессия. Если резко открыть бутылку газировки, растворенный газ тут же собирается в пузыри. Вот так же при слишком быстром падении давления вскипают у водолаза кровь, а также лимфа, жидкости в суставах и спинном мозге.
Бер подверг декомпрессии несчетное количество воробьев, крыс и собак. Оказалось, в их крови кипит не просто воздух, а азот, которым при повышенном давлении насыщаются ткани. Когда сумели замерить, сколько азота растворяется в тканях при разных величинах давления, стало возможным точно вычислить время декомпрессии для профилактики. Мало того, теперь можно было спасать пострадавших: достаточно поместить их под давление в барокамеру. С которой история кессона и началась.
32 Возбудитель проказы Герхард Армауэр Хансен 1873 год
28 февраля 1873 г. норвежский врач Герхард Армауэр Хансен первым увидел в микроскоп микобактерий – возбудителей лепры, или проказы. Чтобы добыть окончательные доказательства патогенности этих микроорганизмов, Хансен решился на запрещенную операцию и в итоге предстал перед судом.
Выбирал он род занятий из любви к путешествиям. Окончив с отличием медицинский факультет в Кристиании (ныне столица Норвегии город Осло), а затем интернатуру в королевской больнице, затосковал и нанялся врачом на рыболовецкую флотилию. Когда сезон 1868 г. завершился, похолодало и рыбаки вернулись в Берген с Лофотенских островов, нужно было искать новую работу. Единственной медицинской специальностью, связанной с разъездами, оказалась лепрология.
Норвегия была последней страной Западной Европы, где прокаженные встречались на улице. Больных насчитывалось почти три тысячи, жили они по всему западному побережью. Доктор Хансен, прикрепленный к лепрозорию № 1, должен был их объезжать и осматривать.
Лепра для норвежцев – память о походах викингов. Некогда римские легионы занесли эту болезнь из Египта в Британию, а оттуда задорные норманны на драккарах привезли ее к себе домой. Там, где жили участники тех набегов, она и гнездилась. Центром и рассадником ее стал Берген, где в старинной больнице Святого Йоргена работал главный лепролог Норвегии Даниель Даниельсен. Он в 1847 г. разоблачил проказу, известную как «великий имитатор» разных других болезней – от сифилиса до грибка. Даниельсен показал, что это не «деградация тканей, вызванная тяжелыми условиями жизни», а особая нозология, которая уверенно диагностируется на вскрытии. Он выделил две формы болезни: более тяжелую, «узловатую» – с буграми, язвами и «львиным ликом», и менее грозную, «анестетическую» – когда кожа идет пятнами, а под ними со временем атрофируются нервы.
В Средние века проказу справедливо считали заразной и больные должны были носить бубенчики, чтобы окружающие заранее успели перейти на другую сторону дороги. Но с XVI в. европейская природная среда почему-то стала неблагоприятной для неведомого тогда еще возбудителя, и проказа ушла на юг, тяготея к устьям больших рек. Ушла отовсюду, кроме Норвегии.
В 1856-м Даниельсен пытался показать инфекционную природу лепры опытами на себе, своих сотрудниках и добровольцах-пациентах с другими диагнозами. Они втирали гной из язв прокаженных в царапины на своей коже, прививали в разрезы на руках материал лепроматозных узлов. Безрезультатно. Единственным итогом этих героических опытов для Даниельсена стал костный туберкулез. От него этой болезнью заразились жена и четверо детей, у которых она приняла легочную форму и со временем свела в могилу всю его семью, тогда как сам Даниельсен прожил 79 лет.
Последовал вывод: раз лепра не передается даже прививкой, это наследственная болезнь – гнездится же она в одних и тех же краях. Поскольку она ведет к физической деградации, нужно заранее построить больницы на 1000 коек, чтобы своевременно принять всех прокаженных страны, когда они не смогут обслуживать сами себя. И королевское правительство Норвегии построило такие убежища. Даниельсен еще предлагал запретить прокаженным вступать в брак, чтобы положить конец лепре естественным путем. Он даже избрался депутатом парламента, чтобы провести такой закон. Но другие депутаты сочли подобный запрет нарушением библейского завета «плодитесь и размножайтесь», так что инициатива провалилась.
В лепрологию шли не лучшие доктора: зрелище малоприятное, казенная зарплата маленькая, практика ограниченна – больные с другими диагнозами брезгуют. Среди коллег отличник Хансен так выделялся, что Даниельсен сделал его своим помощником. Нужен был молодой умный сотрудник для освоения новой техники: гистология делала громадный рывок с появлением новых мощных микроскопов. Хансена командировали в Бонн изучать микроскопию к ведущему мировому специалисту в этом деле – Максу Шульце. Тот как раз установил значение палочек и колбочек для зрения, и слава его гремела на весь мир.
Едва Хансен в 1870 г. прибыл в Бонн и понял, как работать с микроскопом, началась франко-прусская война. Город оказался прифронтовым, в ближайшем тылу армий Германского союза. По улицам днем и ночью грохот копыт, в больнице, где преподавал Шульце, – постоянное поступление новых раненых и непрерывные похороны. Сосредоточиться невозможно, так что Хансен сбежал в Вену. А там все только и говорили, что о книге Дарвина «Происхождение видов». Желая поддержать беседу, Хансен купил эту книгу и за два дня и две ночи проглотил ее. Потом он вспоминал те дни как самые важные в жизни.
Молодой лепролог был религиозным парнем, выросшим в деревне. Ему с детства внушали, что по воле Господа человек страдает за свои грехи. Однако еще в Норвегии, объезжая фермы, где с трудом работали несчастные прокаженные, Хансен стал размышлять, за какие такие прегрешения мучаются эти люди, никому не причинившие зла. Дарвин дал ответ на этот вопрос. Все в природе рождается необходимостью. Интеллект возник потому, что дает преимущество в борьбе за существование. Если Бог – разумное существо, он тоже должен от кого-то происходить. Раз в Библии об этом не сказано, значит, Бог совсем не такой, каким его представляет церковь. За двое суток Хансен стал агностиком.
Что же касается причин проказы, то из теории Дарвина следовало, что Homo sapiens для этой болезни – среда обитания. Нужно искать микроорганизм, который существует за счет человека, вынуждая его гнить заживо десятки лет. И по возвращении домой Хансен стал искать. Целый год – безуспешно – в крови прокаженных.
В январе 1873-го он обручился с дочерью Даниельсена Фанни. На свадьбу подарили новый современный микроскоп, и начиная с 1 февраля Хансен стал изучать с его помощью характерную для «узловатой» формы проказы коричневую массу, возникающую в лепроматозных узлах. Подкрашивая препараты наугад так и этак, терпел одну неудачу за другой, пока 23-го числа не различил в крупных «пенистых» клетках крохотные палочки, уложенные аккуратными рядами, как папиросы в пачке.
При всем их сходстве с бациллами Хансен не знал, как доказать, что это бациллы, и отследить их развитие. Он охотно демонстрировал их приезжим исследователям. Шведский ветеринар Эдлунд поглядел, а потом быстренько сделал у себя в Уппсале доклад о том, как он, Эдлунд, обнаружил кокки, вызывающие проказу. Ветеринара быстро привели в чувство, объяснив, что, во-первых, так поступать нехорошо, а во-вторых, кокковая форма для бацилл не самая типичная и торопиться с выводами не стоит.
Второй гость – англичанин Картер, боровшийся с проказой в Индии, опубликовал отчет о посещении Хансена и виденных в лаборатории бациллах, так что его ноябрьское сообщение 1873 г. – первое упоминание микобактерий лепры в литературе. Самому первооткрывателю стало тогда не до микробов: умерла от скоротечной чахотки, заразившись от отца, его молодая жена Фанни. Так у Даниельсена остался в живых только зять, то есть Хансен.
С горя они поехали по Норвегии инспектировать прокаженных и засекли несколько новых случаев среди людей без всякой подобной наследственности, зато имевших контакты с больными. Вместе с наличием в лепроматозных узлах бацилл это указывало на инфекционную природу заболевания. Хансен опубликовал отчет о своей работе на норвежском и английском языках, был назначен главным лепрологом и добился принятия закона 1877 г. о том, что неспособные себя прокормить трудом прокаженные не имеют права просить милостыню или заниматься мелочной торговлей, а должны быть изолированы дома либо в стационаре.
Но главного доказательства патогенности своих бактерий Хансен никак не мог найти. 12 раз инокулировал он содержащими микробы материалами кроликов, себя, своих сотрудников – никто не заболевал. Расти на среде вне человеческого организма бацилла отказывалась. Только спустя почти сто лет, в 1971 г., найдут по-настоящему восприимчивое к микобактериям лепры животное – девятипоясного броненосца. Из-за пониженной температуры его тела возбудитель лепры, который в первую очередь поражает самые охлаждаемые части тела человека, чувствует себя в организме этого броненосца настолько уютно, что размножается.
Тогда Хансен обратился к ведущему эксперту по инокуляции животных культурами бактерий – Роберту Коху, который в 1876 г. сумел заразить сибирской язвой мышонка. Кох увлекся идеей Хансена, что хроническая болезнь может быть инфекционной. Если это так, стоит искать возбудителя самого страшного тогда хронического заболевания – туберкулеза. Летом 1879 г. Кох направил в Норвегию своего самого сообразительного сотрудника, Альберта Нейссера. В свои 24 года Нейссер уже был увековечен в названии открытого им гонококка, вызывающего триппер. В наши дни все гнусное семейство подобных ему бактерий называется «нейссерия».
Хансен устроил гостю из Германии двухмесячную поездку по всем своим лепрозориям, показал 600 больных и буквально завалил препаратами. Но в Норвегии окрасить бациллы так, чтобы они были хорошо видны, Нейссер не сумел. Засушив образцы кожи прокаженных, он отправился домой и добился успеха только 3 сентября.
Кох тут же написал Хансену об этом новом методе – оставить образец ткани на сутки пропитываться фуксином, после чего бациллы становились наконец ярко-красными. Теперь и у Хансена получался хороший препарат, убеждающий любого зрячего человека в реальности бактерий. Оставалось показать, что они способны вызвать у человека проказу. Сам Хансен был явно невосприимчив, и Кох предложил опыт над каким-нибудь прокаженным – о больном ведь точно известно, что перед бациллами он не устоял. Идея была простая: ввести в здоровый глаз больного анестетической формой богатый микробами материал, так что на роговице разовьется лепрома – образование, которое Хансен потом сможет легко удалить.
Поскольку прокаженные ни за что не согласились бы на такую операцию, которая принесет им новые страдания, Хансен решился делать ее обманом. 3 ноября он как главный лепролог вызвал к себе под предлогом осмотра 33-летнюю пациентку лепрозория № 1 Кари Списсён, болевшую с 16 лет. Без предупреждения он надрезал ее роговицу скальпелем, которым только что препарировал лепроматозный узел. Хотя форма проказы у Кари была анестетическая, то есть со снижением чувствительности, ей стало очень больно. Скажем сразу, этот эксперимент оказался неудачным. Глаз только воспалился, и больная месяц не могла толком ни читать, ни вязать.
Она поговорила с больничным пастором Грёволлем. Тот не поверил в злой умысел главного лепролога и решил, что это женская фантазия. Но глаз болел так, что после третьей жалобы пастор написал докладную в наблюдательный совет лепрозория. Собралась комиссия. Коллеги расспросили Хансена, поняли, чего он хотел, но сочли такой поступок несовместимым со званием врача. Указом короля главный лепролог был оставлен на своей должности, но потерял право лечить больных и был отдан под суд.
К 100-летнему юбилею открытия бацилл Хансена именитый судья Верховного суда Норвегии Кнут Блом ознакомился с материалами дела и заключил, что в 1973 г. за подобную операцию было бы назначено суровое наказание. Грозило оно Хансену и весной 1880-го, но тут произошло событие, которое разом переменило мнение всех норвежских врачей.
В Германии Альберт Нейссер опубликовал свое описание бациллы лепры. В статье говорилось, что, скорее всего, Хансен видел этот микроорганизм, но не сумел ни окрасить его, ни доказать, что это бактерия. Более того, автор вспоминал, как старик Даниельсен говорил: «Вот бы Хансен показал мне свою бациллу, а то я ее пока не видал».
Это была чистая правда. Но от нее Даниельсен пришел в ярость. Этот немецкий мальчишка пытается приписать себе великое норвежское открытие, да еще ссылается на его, Даниельсена, авторитет! Все как один норвежские врачи возмутились, и по их настоянию Хансен разослал во все европейские научные журналы объяснения на английском, немецком и французском языках. И уж конечно, во время суда 31 мая 1880 г. каждый опрошенный эксперт-медик твердил, что зря Хансен это затеял, но действовал-то он во славу родины и ради науки.
В результате приговор свелся к запрету на медицинскую практику. Из больницы Хансена уволили, но тут же взяли на работу в музей Бергена, а обязанности главного лепролога он исполнял на общественных началах до самой своей смерти в 1912 г.
Через 26 месяцев после суда Кох открыл туберкулезную палочку. Внешне эта бактерия неотличима от бациллы Хансена, ведь они сестры, принадлежащие к одному и тому же роду микобактерий. Теперь отпали последние сомнения в инфекционной природе проказы. В 1885 г. Хансен добился принятия закона об обязательной изоляции больных лепрой в стационаре или дома, при сопротивлении – силами полиции. Эта система показала такую эффективность, что новые случаи лепры стали редки, и международный конгресс лепрологов принял норвежский опыт за образец по всему миру. С тех пор болезнь сдает позиции, так что есть надежда на ее полную ликвидацию через несколько поколений.
Кари Списсён умерла в 1884 г., немного не дожив до принятия исторического закона.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Veronika Denisová: Интересно, а как сейчас обстоят дела с лепрой в России и странах бывшего СССР? Помнится, в 1990-е мне попадались в метро в Москве больные лепрой бомжи, но уже несколько лет не встречала.
Ответ: ВОЗ извещает, что в 1985 г. в мире было более 5 миллионов прокаженных, а в 2015-м только 176 176 чел. Новых случаев за 2015 г. было 211 973; в Индии, Нигерии и 12 других странах идет по-прежнему интенсивная передача инфекции, но ее скорость уступает быстроте излечивания. По всем странам СНГ и Прибалтике в 2015 г. ни одного нового случая (по Таджикистану данных нет). В России к началу 2015 г. постоянно проживало в лепрозориях 35 больных, проходивших лечение.
33 Синдром психического автоматизма Виктор Кандинский 1877 год
13 мая 1877 г. у Виктора Кандинского, судового врача на первом в мире миноносце, при боевом крещении начался острый психоз. Чтобы справиться с ним, Кандинский стал психиатром. Исследуя себя и пациентов со схожими симптомами, он выделил идеофрению (шизофрению) как особую болезнь и описал ту стадию ее развития, при которой возникает так называемый синдром Кандинского – Клерамбо.
Кандинский вначале не верил в свой диагноз, считая, что наследственной предрасположенности в его роду нет. Здесь Виктор Хрисанфович ошибался: он просто оказался первым в семье душевнобольным. Вообще, это семейство было одним из самых экзотических в России.
Родился Кандинский во дворце и рос как принц, окруженный воспитателями благородных кровей, хотя сам к аристократии не относился и происходил не из дворян, а из ссыльнокаторжных. Его прадед Хрисанф Петрович, родом из Якутии, промышлял грабежом на большой дороге и продавал свою добычу, пока не угодил в Нерчинскую каторгу. Там быстро разбогател, ссужая беспутных сотоварищей деньгами на кабальных условиях. Освободившись, завязал с разбоем и создал финансовую империю, опутав как спрут и охотников за пушным зверем, и администрацию Забайкальского края.
Пьющим промышленникам Кандинский давал займы под залог охотничьей добычи, так что собольи шкуры доставались ему почти даром. Отвечавшие за торговые пошлины и охрану границы чиновники состояли у него на содержании и женились на его дочерях, так что оснований опасаться власти не было. Без всякого трепета поставляли Кандинские женам декабристов строевой лес да кирпич и ввозили из-за границы запретный герценовский «Колокол» – не будучи оппозиционерами, а просто потому, что выгодно.
Дом Кандинских в селе Бянкино Нерчинского уезда представлял собой роскошный дворец, где вращались сливки ссыльного общества. Больше, чем декабристов, ценили там участников польского восстания, которым доверяли воспитание детей. Ясновельможные паны привили юному Виктору любовь к чтению и так подготовили к экзамену в московскую гимназию, что он без особого напряжения выучился и поступил на медицинский факультет университета. При выборе профессии ролевой моделью также послужил кто-то из ссыльных: врачей среди Кандинских еще не бывало. Учеба оплачивалась грабительскими сделками: должников драли до полусмерти на заднем дворе палат в Бянкине.
Казалось, этому не будет конца, но после отмены крепостного права Кандинские разорились всего за пару лет. В ходе реформы 1861 г. забайкальские охотники из государственных крепостных стали казаками. Исправляющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири Михаил Семенович Корсаков (1826–1871) обнаружил, что имеет над «вольными казаками» власть куда меньшую, чем Кандинские, которым все должны. Тогда охотникам разрешили не возвращать ссуды. Без этой подпитки торговая монополия лопнула. Так что, получая в 1872 г. диплом лекаря, Виктор Кандинский жил репетиторством, перебиваясь с хлеба на квас.
Как сверхштатный ординатор Временной больницы (позднее Второй градской, объединенной затем с Первой), он лечил больных желтухой и тифом бесплатно. Но Кандинский знал языки и недурно писал, так что редактор нового журнала «Медицинское обозрение» стал заказывать ему рефераты из немецкой научной периодики. Тяжелый, но полезный конвейер превратил молодого доктора в самого начитанного врача России. Именно такого искал Степан Осипович Макаров, когда готовился к войне с Турцией и набирал команду первого в мире носителя минных катеров «Великий князь Константин».
Идея Макарова, в будущем прославленного адмирала, была новаторской: ночью скрытно подойти на своем «минном транспорте» к вражеской гавани, спустить на воду паровые катера, оснащенные взрывными устройствами на шестах и самоходными торпедами – новым английским оружием, – и подорвать броненосцы, которые обеспечивали туркам господство в Черном море.
Как только 12 апреля 1877 г. Россия, заступаясь за балканских славян, объявила Османской империи войну, Макаров созвал своих людей. Велел подать шампанское и произнес речь: «Поздравляю вас с войной! (В ответ – громовое «ура».) Знайте и помните, что наш пароход – самый сильный миноносец в мире! Одной нашей мины совершенно достаточно, чтобы утопить сильнейший броненосец». Пиршество перешло в «злоупотребление спиртными напитками», как деликатно выражался позднее Кандинский. Он полагал, что без «обыкновенного для людей военных» пьянства психоз мог и не возникнуть.
Когда же в ночь на 1 мая случилось боевое крещение, все пошло не так. Обнаружив у Батумского порта сторожевой турецкий фрегат, Макаров спустил на воду все четыре катера и двинулся в сторону неприятеля, руководя операцией с одного из катеров – «Минёра». Первым к самому борту фрегата подошел лучший катер «Чесма», командир которого лейтенант Измаил Зацаренный подсунул мину прямо под спицы гребного колеса. Но взрыватель не сработал. Турки заметили «Чесму» и открыли ураганный огонь из ружей и картечью, причем не только по Зацаренному, но и вообще куда попало. Пуская зеленые и желтые ракеты, фрегат бежал к Батуму, где подняли тревогу.
На «Минёре» оробевшая команда залегла на палубу, саботируя приказ Макарова пускать мины. Катера «Чесма» и «Синоп» потерялись и по звездам ушли к Поти, откуда телеграфировали, что Макаров, наверное, в плену. А Макаров с трудом разыскал в темноте свой пароход, где все тоже были перепуганы. Там живо представляли, как без командира с тремя пушечками будут отбиваться от шести базирующихся в Батуми турецких броненосцев, которые наверняка уже поднимают якоря. И тут обезумевший судовой врач Кандинский бросился в воду.
Он хотел утопиться, но его вытащили и поручили заботам сестры милосердия Елизаветы Карловны Фреймут. В «команде мечты» Макарова случайных людей не было: эта девушка, дочь немца-провизора, имела отличные рекомендации и знала Кандинского еще до военной службы – ее сестра работала гувернанткой в доме его московских родственников. Едва оправившись от первого приступа, Кандинский сделал Елизавете Карловне предложение.
Детей они решили не рожать, поскольку были убеждены, что душевнобольной не имеет на это права. Их объединяло общее дело: жена помогала Кандинскому с переводами, так что его главные труды выходили сначала по-немецки в Германии, тогдашней «метрополии психиатрии», а потом уже на русском языке. Виктор Хрисанфович даже при посторонних называл Елизавету Карловну не иначе как «мамой».
Батумский бой стал провокацией врожденного заболевания. Проявилось оно сначала горячечным бредом, который никого на корабле не удивил, поскольку все изрядно перетрусили. Надеялись, что пройдет, и даже взяли с собой в погоню за пресловутыми шестью броненосцами. Но противника не нашли, а бред у Кандинского сменился галлюцинациями, так что Макаров нехотя списал доктора на берег по болезни.
И в Николаеве, и в Париже, и в Москве врачи ставили диагноз «меланхолия». Нахватанный при составлении рефератов Кандинский был не согласен и стал читать книги по психиатрии. Он заметил, что чтение ослабляет галлюцинации. Самолечение умственным трудом бывало особенно эффективным, если конспектировать. А именно это приходилось делать, поскольку ради хлеба насущного и подготовки к свадьбе Кандинский опять засел за рефераты.
Освоившись в психиатрии, он стал отличать разновидности своих галлюцинаций. Так, его преследовал образ гусара с черными усами, в синем мундире и малиновых штанах. Гусар то являлся в комнате, то скакал на коне, то сидел перед ним в зрительном зале воображаемого театра. От иных галлюцинаций он отличался яркостью и детальностью – приглядевшись, можно было различить рисунок на кокарде и каждый завиток волос. А главное, образ вводил в заблуждение чувства, но не мог обмануть сознание: гусар не заслонял собой предметы в комнате, не составлял часть видимой глазом картины. Как только он входил, сразу было ясно, что это не настоящая галлюцинация. Такие явления назывались псевдогаллюцинациями.
По мнению Кандинского, псевдогаллюцинации хорошо знакомы психически здоровым людям. Так, после активного поиска грибов в лесу стоит лечь и закрыть глаза, как опять видишь грибы. Или когда привязалась какая-нибудь мелодия, которую невольно напеваешь. Патологии в этом нет. Понятно, что грибы только чудятся, а музыка в голове звучит не потому, что там включили плеер. А главное, сознаешь: это сейчас пройдет. Беда, если не проходит и вам начинает казаться, будто некто посторонний подсматривает за вашими грибами или нарочно «ставит» вам навязчивую мелодию. Именно так случилось с Кандинским и пациентами, которых он как лечащий врач наблюдал в петербургской больнице Святого Николая Чудотворца на Пряжке.
Зимой 1883 г. Петербургскому обществу психиатров поручили оценить статью 36 проекта нового Уложения о наказаниях. Предлагалось привлекать душевнобольных к уголовной ответственности за совершенные преступления, кроме тех случаев, когда человек в силу своего состояния не понимает, что творит, либо не может контролировать свои действия.
Окончательное решение о судьбе проекта принимало Юридическое общество при столичном университете, но сначала спросили врачей. Психиатры, в том числе глава их общества Иван Мержеевский (1838–1908) и знаменитый Владимир Бехтерев (1857–1927), были против. Им казалось, что новая норма лишает защиты и без того несчастных больных. Выступил против и не знавший поражений адвокат Анатолий Кони (1844–1927): так проще убедить присяжных в невиновности подсудимого – справка есть, чего же вам еще?
За был поначалу один лишь Кандинский. Он сражался за себя – одновременно как больной и как психиатр. Ничего хорошего огульное признание больных невменяемыми не сулит. Это же практически означает недееспособность во всех иных отношениях. И роль врача на процессе серьезнее, когда он анализирует состояние пациента, а не просто выдает справку.
Большинство коллег Кандинский не убедил, но на следующем заседании общества перетянул на свою сторону четверых и «вышел во второй тур»: юристы пожелали выслушать его особое мнение. И там Виктор Хрисанфович одержал блестящую победу. Он отстоял формулировку проекта. Человек виновен, если не теряет ни свободу суждений (понимание своих действий), ни свободу выбора (способность сдержать свои импульсы). Кандинский сразил юристов таким аргументом: «Мы порой сохраняем свободу суждений, не имея свободы выбора». Слушатели переглянулись. Ведь так при Александре III жили все: думать позволялось что угодно, а делать можно было только то, что можно.
Унаследованный от Кандинского критерий вменяемости существует в российском уголовном праве до сих пор, но далось это достижение дорогой ценой. Готовя свою аргументацию, Виктор Хрисанфович перенапрягся, и на второй день после заседания у него начался новый, необычайно сильный приступ.
Он вообразил себя диктатором Китая, который вместе с единомышленниками в разных органах власти готовит переворот, чтобы дать этому государству европейскую конституцию. В голове Кандинского звучали псевдогаллюцинаторно доклады заговорщиков из среды просвещенных мандаринов и генералов. Мозг превратился в подобие центральной телеграфной станции, рассылающей распоряжения во все концы страны. Но вдруг оказалось, что консервативные противники переворота перехватывают депеши и узнают мысли Кандинского, вбирая их в свои головы.
Пришлось изобрести механизм, который доктор про себя окрестил «психораспределитель» – сложную систему размыкателей и коммутаторов, которая отключала сигнал в цепи, если к ней подсоединялся шпион. Полный успех! Вот уже со стен захваченной заговорщиками крепости гремит пушечный салют, народ на улицах Пекина ликует, оркестр под окнами исполняет гимны. Но враги готовят покушение, и двое единомышленников Кандинского прибыли, чтобы укрыть прогрессивного диктатора в надежном месте (это на самом деле главный доктор «Пряжки» Оттон Чечотт (1842–1924) перевозил больного коллегу в загородную лечебницу на Фермском шоссе, ныне психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова).
Враги прячутся вокруг, но верховная власть останется в руках Кандинского, пока горит его папироса, поэтому курить нужно беспрерывно. В больничной карете диктатор торжествует, напевая марш собственного сочинения и отбивая такт ногами. И на входе в лечебницу ощущает такую усталость, что передает папиросу дежурному врачу и просит стать его заместителем на время отдыха. Напрасно! Персонал больницы набран из агентов охранки, преследующей Кандинского за то, что он хотел свергнуть в Китае режим, дружественный Российской империи. Его допрашивают, диктуя псевдогаллюцинаторно признания, и язык помимо воли рассказывает о таких преступлениях, которых доктор и не замышлял. Нужно отлучиться в сортир, где никого нет и можно как-то совладать с приступом болтливости.
В сортире на помощь Кандинскому приходит Макаров, чтобы устроить побег. Образ бывшего командира сливается с телом больного, и вот уже Кандинский думает, что выглядит как Макаров, и говорит сиплым голосом сурового моряка, передавая его с необычайным сходством. Примечательно, что в нормальном состоянии наш герой не выказывал никаких подражательных способностей.
Все эти подробности Кандинский заносил в дневник. Когда наступила ремиссия, записи составили основу учения о синдроме психического автоматизма. В 1885 г. работа Кандинского о псевдогаллюцинациях при шизофрении вышла на немецком языке, а напечатать ее на русском общество психиатров за отсутствием средств не смогло до самого 1889 г., когда при новом приступе автор принял смертельную дозу опиума.
Овдовевшая Елизавета Карловна выпросила у общества рукопись и потратила все, что имела, на ее достойное издание. Исполнив это, она также покончила с собой.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Татьяна Клопина: Чтение ослабляет галлюцинации!
Ответ: Слово самому Кандинскому: «…Без энергического вмешательства воли мои галлюцинации, вероятно, превратились бы в стабильные и оставшаяся без пищи интеллектуальная деятельность погасла бы окончательно. Вполне освоившись с галлюцинациями, я, не боясь “утомлять себя”, принялся за книги. Сначала читать было трудно, потому что занятию постоянно мешали галлюцинации слуха и зрительные образы становились между глазами и книгой… С возобновлением же правильной умственной деятельности галлюцинации стали более бледными, редкими, но прекратились совершенно только спустя несколько месяцев после того… соразмерные с силами больного умственные занятия чрезвычайно помогают в период выздоровления избавлению от галлюцинаций».
Татьяна Андрианова: А про само происхождение фамилии что-нибудь известно?
Ответ: Есть легенды о происхождении фамилии от названия реки Конда – Кандинские пришли в Якутию с Урала.
Татьяна Андрианова: Может быть, от слова «кандалы»?
Ответ: Нет-нет. Петр Кандинский, самый старший из нам известных представителей этого рода, не всегда был каторжником. Он был сначала якутским казаком откуда-то с Урала или с Иртыша. У бывшего каторжника Хрисанфа Петровича было четыре сына. Внуком одного из них, Иоасафа, был психиатр Виктор Хрисанфович, а внуком другого сына, Сильвестра, был знаменитый художник Василий Васильевич.
В семье насчитывалось шесть художников, включая Хрисанфа Иоасафовича, отца психиатра Виктора. Специалисты делятся на два лагеря: одни считают, что количество больных шизофренией в роду прямо пропорционально числу художественно одаренных, другие с этим не согласны.
34 Вошь как переносчик сыпного тифа Григорий Минх 1878 год
14 февраля 1878 г. русский врач Григорий Минх объявил, что сыпной тиф распространяют кровососущие насекомые. Так был брошен вызов неизвестному переносчику неизвестного возбудителя. В борьбе с тифозной вошью международная команда врачей одержала победу, потеряв, однако, половину личного состава.
Едва Отто Обермайер, прозектор берлинской клиники Шарите, сообщил 20 августа 1873 г. об открытии спирохеты – возбудителя возвратного тифа, как заразился от покойника холерой и умер. Его дело продолжил прозектор Одесской городской больницы Григорий Минх. Привив себе кровь больного возвратным тифом, он поставил под мышку градусник и взял записную книжку, чтобы фиксировать течение болезни.
Так его и госпитализировали в инфекционное отделение его же больницы. Минх попросил заведующего отделением Осипа Мочутковского ничего не предпринимать, чтобы «исследовать болезнь в нормальном течении». Мочутковский хотел было снизить жар, посадив пациента в холодную ванну, но тот грозился выпрыгнуть в окно. В крови идущего на поправку Минха нашли тифозную спирохету: первое свидетельство того, что заражение может происходить через кровь, а кровососущие насекомые – наиболее вероятные переносчики.
Эксперимент произвел на инфекциониста настолько сильное впечатление, что в 1876 г. Мочутковский провел над собой такой же, но уже с сыпным тифом. Он чуть не умер, заработал миокардит, мигрень и ослабление памяти. И все же результат был достигнут: клиника тифа налицо, а спирохет в крови нет. Следовательно, настоящий сыпной тиф – гроза любой армии – вызывается чем-то еще, и это что-то могут переносить насекомые. Какие же? В историческом письме редактору еженедельника Московского хирургического общества «Летопись врачебная» от 2 (14 по новому стилю) февраля 1878 г. Минх предложил исследователям «набрать небольшое число известных насекомых (клопов, блох…), которых легко найти…»
Гипотеза вызвала недоверие: раз оба работают в больнице, могли заразиться от пациентов. Тогда биолог Илья Мечников, по роду деятельности не общавшийся с больными, привил себе возвратный тиф и переболел им, доказав правоту Минха: кровь заразна (биографы усматривают в этом подвиге замаскированную попытку самоубийства).
В 1909 г. тиф обрушился на французскую колонию Тунис. Сотрудник Мечникова по Институту Пастера Шарль Николь инспектировал больницу для туземцев. Очереди в приемный покой образовались громадные, многодневные. Пол и двор были завалены телами больных и умирающих. В этих очередях заражались тифом. Переболел и персонал регистратуры, но в палатах тиф не распространялся. Николь заметил, что «тифик» становится безвреден, когда он вымыт, побрит и переодет в больничную пижаму. Изъятую у пациентов одежду осмотрели и обнаружили на ней только один вид паразитов – платяную вошь. Тогда Николь ввел кровь «тифика» макаке. Она заболела, а покусавшие ее вши заразили других, изолированных макак. За этот опыт Николь получил Нобелевскую премию в 1928 г. Ему посчастливилось дожить до нее.
Меньше повезло американцу Говарду Риккетсу, который в 1910 г. доказал, что похожие на тиф болезни возбуждают неизвестные прежде внутриклеточные паразиты – и тут же пал их жертвой. Но он успел подметить важное свойство возбудителей сыпняка: они не культивируются вне живого организма (это сильно усложняет производство вакцины; только 30 лет спустя в Перми Алексей Пшеничнов научился культивировать риккетсий).
Конкретный вид паразитов, вызывающий сыпной тиф, установил в 1915 г. австрийский биолог Станислав Провачек, когда дезинфицировал бараки лагеря русских военнопленных. Наблюдал он паразита вместе с бразильцем Энрике Роша Лима, приехавшим в Европу на стажировку. Оба заболели. Выжил Роша Лима, который нарек злодея риккетсией Провачека. Таким образом, организм Rickettsia prowazekii носит имена сразу двух убитых им ученых.
Зная возбудителя и переносчика, можно делать вакцину. Первым добился успеха Рудольф Вайгль – полуавстриец-получех, работавший в австро-венгерском Львове. Сначала он пытался откармливать зараженных вшей, чтобы обработать их фенолом и так получить ослабленный возбудитель (который и был вакциной). В процессе Вайгль сам перенес тиф. Когда пришел в себя, война закончилась, Австро-Венгрия развалилась. Зато возникло «мировое правительство» – Лига Наций, которая передала Львов Польше.
Драматические события развернулись в России. Территорию, подконтрольную советскому правительству, охватила беспрецедентная эпидемия сыпного тифа. Прежде эта болезнь свирепствовала только в зоне боевых действий или в каком-то одном городе. Но сейчас она распространилась повсеместно. Разносили ее мешочники. Поскольку Ленин запретил торговать продуктами питания в магазинах и перевозить муку вагонами, снабжение шло только через спекулянтов-частников. Они доезжали до украинской границы или до линии фронта, за которой водились продукты, и там закупали хлеб, муку и крупы. Передвигались мешочники нелегально в товарных вагонах, которые никто не дезинфицировал. Беда в том, что инкубационный период сыпного тифа не менее пяти дней, а за это время больной может уехать очень далеко.
Нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко разъяснял населению роль вши и призывал с ней бороться. Но тем все и ограничивалось, поскольку российской химической промышленности не стало, а импорт дезинфицирующих средств отсутствовал. Платяных вшей советские граждане издевательски прозвали «семашками». Выражение «словить ядовитую семашку» означало «быть покусанным тифозными вшами». Нечем было дезинфицировать и медицинские учреждения. Тифозных клали в коридорах прямо в верхней одежде – то есть в Тунисе дело обстояло лучше. В Москве перезаразились почти все врачи, половина вымерла, особенно пожилые и со слабым сердцем. Население осталось с тифом один на один; за время Гражданской войны переболело 30 миллионов человек.
Поскольку похожие на мешочников торговцы были и в сопредельных с Россией странах, опасность грозила всей послевоенной Европе. Лига Наций не пожалела денег на лабораторию Вайгля. К 1920 г. вакцина была готова и спасла несколько миллионов поляков во время вторжения Красной армии. На восточных границах Европы остановили не только большевиков, но и тиф.
Красная армия заняла Львов только в 1939 г. К Вайглю явился первый секретарь украинского ЦК Никита Хрущёв и предложил перебраться в Москву. Обещал институт, кафедру и членство в Академии наук. Вайгль сумел убедить Хрущёва, что он и его сотрудники принесут больше пользы во Львове.
Через два года во Львов пришли немцы и предложили Вайглю продолжать производство вакцины уже для нужд вермахта. После долгого торга ученый согласился, но при условии полной неприкосновенности всех, кто ему нужен. Требовалось много добровольцев, которые откармливали на себе вшей перед тем, как насекомых заразят тифом и переработают на вакцину. Вайгль засадил кормить вшей весь цвет львовской интеллигенции.
Паразитов питали своей кровью прославленные на весь мир математики Стефан Банах и Владислав Орлич, геоморфолог Альфред Ян, ректор университета, ботаник Северин Кжеминевский, дирижер Станислав Скровачевский и – самое громкое имя – совсем еще юноша, а в будущем один из наиболее любимых поляками поэтов Збигнев Херберт. Он был «аковцем» (членом подпольной Армии Крайовой) и снабжал вакциной партизан.
Эсэсовцы чуяли, что на «вшивой фирме» не все в порядке. В 1942-м личный эмиссар Гиммлера предложил Вайглю как этническому немцу германский паспорт и переезд в Берлин. Сулил институт, кафедру и Нобелевскую премию после войны – мол, у немецкого правительства большие связи в Швеции. Взамен – всего ничего: «прикрыть эту польскую лавочку». Разговор перешел на повышенные тона. Эсэсовец расстегнул кобуру и заорал: «Мы умеем уговаривать!» Вайгль отвечал: «Как биолог, я знаю смысл смерти и понимаю, что умру. Так лучше сразу от пули, чем день за днем издыхать подлецом. Вы можете только оказать мне услугу…» И удалился, оставив гостя одного.
Люди Гиммлера еще не знали, что помимо «польской лавочки» у Вайгля имелась «еврейская». «Аковцы» умудрялись под видом забора проб крови для опытов провозить вакцину в Варшавское гетто, а периодически даже в Освенцим. Немцы хотели выморить варшавских евреев сыпняком, но эпидемия «сама собой» остановилась.
Вайгль уехал только в 1944-м, когда ко Львову опять подступила Красная армия. Он перебрался в Краков и доживал свой век в Польше. Нобелевская премия ему так и не досталась. Сталин категорически возражал против получения учеными СССР и «стран народной демократии» любых наград, не исходящих от начальства. И Нобелевский комитет забаллотировал Вайгля, чтобы не создавать ему проблем. В 1948 г. Нобелевскую премию за победу над сыпняком получил швейцарец Пауль Мюллер, создатель ДДТ. Химия в самом деле одолела тиф: нет вшей – нет и болезни.
От польского правительства Вайглю сначала доставалось как коллаборационисту-неполяку, потом – во времена Хрущёва – его стали награждать. Командорского креста Ордена Возрождения Польши он был удостоен уже посмертно. Последняя награда была присуждена Вайглю спустя 46 лет после кончины: в 2003 г. израильский институт «Яд Вашем» присвоил ему звание «Праведник мира». Такой чести удостаиваются неевреи, которые во время Второй мировой с риском для жизни спасали обреченных на геноцид.
35 Резекция желудка Теодор Бильрот 1881 год
29 января 1881 г. Теодор Бильрот впервые в истории медицины успешно удалил часть желудка вместе с раковой опухолью. Пациентка выздоровела, у нее восстановилось нормальное пищеварение. Придумав эту операцию, Бильрот не решался ее делать, наблюдая, как терпят фиаско другие. Он бы еще долго тянул, если бы не музыка его друга Иоганнеса Брамса.
В гимназии Бильрота считали тупым. От недоразвития речи он двух слов не мог связать и ничего не усваивал с ходу. Еле перебирался из класса в класс, и то с помощью репетитора, которого нанимала мать. Чтобы не огорчать ее, Бильрот продолжал учиться, хоть и без всякого удовольствия. Легко давалась одна музыка. Ей он и собирался посвятить жизнь. Мать с трудом уговорила поступить на медицинский факультет: она боялась, что дурачок, способный только петь и пиликать на скрипке, пойдет по миру.
Весь первый курс Бильрот музицировал. Освоил фортепиано и альт. Наставник, профессор-хирург Вильгельм Баум, не верил в будущее балбеса. Когда на следующий год Бауму дали хирургическую кафедру в Гёттингене, он захватил Теодора лишь из жалости к его маме, с которой дружил в детстве. Деньги на расходы Бильроту выдавались при условии, что он будет регулярно слать домой отчеты о своих занятиях.
Составляя эти рапорты, Теодор обнаружил, что ему нравится писать. «С пером в руке я странным образом преображаюсь; ни за что на свете не сумел бы выразить то, что на бумаге легко изливается из души». Биология, которой все-таки пришлось заняться, на поверку оказалась сродни музыке. Если ты не понимаешь музыку, это еще не значит, что она плоха – прослушай другой раз, разучи на фортепиано и, возможно, проникнешься, полюбишь. Так и с микроскопом: чем больше рассматриваешь препараты, тем они понятнее и увлекательнее.
Навык зрительного запоминания нот давал преимущества. Будучи ассистентом берлинской клиники Шарите, Бильрот изучал препараты кишечных полипов. Ему пришло в голову, что подобное он видел в университете, наблюдая развитие цыпленка: нечто росло в полипах из общего центра. Оказалось, раковые клетки. Открытие злокачественного перерождения полипов принесло Бильроту известность. Он прослыл редкой птицей: обычно хирурги не любят и не умеют писать, а у него это получалось. В 29 лет Бильрот получил приглашение стать профессором Цюрихского университета.
Не слишком речистый профессор на лекциях в основном оперировал, но следить за его действиями было интересно, потому что они подчинялись общей идее. Сначала как следует осмотреть больного, выстукать, выслушать, изучить жалобы. Найти центр роста опухоли и удалить его. Если операции на этом органе еще не делали, отработать на собаках и произвести. Мечтой была резекция желудка: за 19 лет до рождения Бильрота было показано, что можно удалить у собаки часть желудка, сшить культю с двенадцатиперстной кишкой и животное продолжит нормально питаться. Собака, оперированная Карлом Мерремом в Гисене, выздоровела настолько, что сбежала от экспериментатора. Но как отважиться вскрыть брюшную полость человека, когда любая рана в живот считалась смертельной?
Бильрот продвигался вдоль желудочно-кишечного тракта сверху. Насмотревшись на ранения в шею во время франко-прусской войны, он пришел к выводу, что ушитый пищевод растягивается. Уже в 1871 г. он стал заменять пораженную раком часть пищевода трубочкой. 31 декабря 1873 г. прямо во время операции обнаружил, что надо убирать всю гортань вместе с голосовыми связками. У Бильрота на такой случай был заготовлен искусственный язычок – решение, заимствованное из духовых музыкальных инструментов. Убрали маску для подачи хлороформа, разбудили пациента и получили его согласие: «с помощью аппарата больной мог четко и достаточно громко говорить, так что его хорошо понимали в большой палате».
За этот «музыкальный подвиг» Иоганнес Брамс посвятил Бильроту струнный квартет. Они были знакомы с 1865 г., когда профессор хирургии Бильрот как музыкальный обозреватель писал рецензии в цюрихской газете. Выступление Брамса так его поразило, что профессор за свой счет пригласил оркестр, снял зал и устроил еще один концерт – уже бесплатный. Эту музыку надо было пропагандировать. Она выражала именно то, что думали и чувствовали в кругу Бильрота.
Возможно, хирург дружил с тем, кем мечтал стать сам. Он умудрялся объяснять музыку словами – и публике, и композитору. Брамс признавал: «Ты очень ловко обращаешься с пером и говоришь другим то, о чем я произношу монологи наедине с самим собой». Профессор мог предвидеть, будет ли вещь иметь успех. Он предрек Брамсу, что «Песни любви» не поймут, потому что люди в массе своей не хотят учиться: «От искусства требуют, чтобы оно было веселым, а для большинства веселость заканчивается, если их фантазию и чувства ведут не по дороге привычных представлений. Большинство хочет иметь дело с приятным искусством, пережевывая уже знакомые ощущения».
Это было сказано в 1874 г., как раз после экстирпации гортани. С тех пор Брамс посылал Бильроту каждую новую рукопись, чтобы тот мог разучить ее за фортепиано и сделать замечания. Часто профессору было некогда, особенно при подготовке хирургических конгрессов, и он брал единственные экземпляры с собой, заказывая в гостинице номер с фортепиано. Письма Брамса полны шутливых жалоб и просьб скорее вернуть. Так вышло с песнями (op. 72) в ходе Берлинского конгресса немецких хирургов 1877 г., где Бильрот сообщал, что вплотную подошел к резекции желудка.
Со своими учениками он изучил 60 тысяч накопившихся с 1817 г. протоколов вскрытий в архиве Венской городской больницы (Allgemeines Krankenhaus). Из 903 случаев рака желудка 60 % составляли опухоли, компактно расположенные в нижней части, у перехода в двенадцатиперстную кишку. Их можно убирать, избавляя больных от рака. Ассистенты Карл Гуссенбауэр и Александр фон Винивартер провели подобные операции на 19 собаках. Были опасения, что у человека желудочный сок растворит шов. Очень кстати попался больной с желудочным свищом. Бильрот докладывал: «Я выделил желудок, наложил швы по образцу кишечных, заживление без осложнений». После операции прошел уже год, пациент был здоров. «Отсюда один мужественный шаг к резекции части карциноматозно дегенерированного желудка». Но делать этот шаг лично Бильрот не спешил: и так после его новаторских операций из десяти пациентов в живых остается шесть. У других этот показатель был еще хуже, что Бильрота не утешало. «Я уже не тот бесстрашный оператор… Теперь при показании к операции всегда задаю вопрос: позволю я провести на себе то, что хочу сделать на больном?»
Немецких ученых того времени отличала страсть всюду быть первыми и все называть своими именами, но в «лаврах любой ценой» Бильрот не нуждался. Сначала дерзнул француз Жюль Эмиль Пеан 9 апреля 1879 г. Его больной был крайне истощен, как это бывает при раке желудка. Специальные анестезиологи в то время имелись только в Англии, назывались они «хлороформисты». На континенте было принято шутить над любовью англичан к специализации. Пеан возился 2,5 часа: сам резал, шил и давал наркоз. Пациент еле пришел в себя. На пятые сутки он умер от голода, так и не начав питаться. 16 ноября 1880 г. была еще попытка: в польском городе Хелмно (тогда Кульм в Пруссии) Людвиг Ридигер оперировал четыре часа. Пациент погиб от шока.
В те дни к Бильроту поступила новая больная, 43-летняя Тереза Хеллер, мать восьмерых детей. С октября она теряла в весе, испытывала боли в желудке, усвоить могла только простоквашу. Бледность, рвота – все указывало на карциному. Но Бильрот боялся шока, сепсиса, перитонита и не готовил ее к операции до конца декабря, когда на рождественском концерте услышал первое исполнение Трагической увертюры Брамса. Эта великолепная музыка будто говорила: «Смотри, какого совершенства можно добиться… А в своем деле ты так можешь?» Публике вещь не понравилась, но Бильрот сразу оценил ее. Целыми днями не шла она из головы. И он решился.
После праздников мотив для подвига появился у всей команды Бильрота. Профессор был вызван в министерство просвещения на ковер. Он любил порассуждать, что народы тоже существуют по Дарвину, как звери. Только вместо физической силы у них интеллект (образование) и богатство (трудолюбие). Раз немцы превосходят в этом остальных, тут уж ничего не поделаешь: закон природы. Но дело было в Вене, представителей других народов такие разговоры обижали. В министерство направилась целая делегация врачей чешского происхождения. Бильроту заявили в глаза, что в людях он не понимает. А значит, и ученики его никуда не годятся. Пусть ищут работу в своей прекрасной Германии.
Ассистентами Бильрота были как немцы, так и австрийцы самых разных национальностей. Бильрот чувствовал, что всех подвел. Теперь нужно было вместе совершить сенсацию, прогреметь на весь мир. Заранее отрепетировали роль каждого. Наркозом на английский манер занялся отдельный ассистент, любимый ученик и близкий друг Доменико Барбьери. Помещение дезинфицировали, натопили до 30 градусов по Цельсию. Операция началась 29 января 1881 г. в девять утра. Последний, 46-й шов наложили ровно через полтора часа. Опухоль занимала нижнюю треть желудка, так что изъятый фрагмент имел длину 14 сантиметров. «Страшно сказать!» – писал Бильрот.
Это был грозный перстневидноклеточный рак, проросший сквозь стенку желудка и уже давший метастазы в лимфоузлы. Больная была обречена, все понимали, что жить ей несколько месяцев, но сейчас речь шла о самой возможности резекции желудка. Тереза быстро поправлялась, жалуясь только на пролежни.
4 февраля Бильрот записал: «Сегодня снял швы. Полное заживление раны без реакции. Хоть какое-то утешение!» 13 февраля: «Сегодня первый раз она поела мяса». К тому времени слух об операции облетел Европу, все рвались повторить. 14 февраля Брамс написал Кларе Шуман: «Рассказывают, что Бильрот сотворил неслыханный трюк: он вырезал одной женщине желудок (вместе с раковой опухолью), вставил ей новый, с которым она сейчас потихоньку перебирается от кофе к говяжьему жаркому!» В деталях неточно, но тон слухов передает.
Сенсация удалась. Теперь ассистентам Бильрота нельзя было отказать, они получили профессорские должности в разных городах империи. Когда на следующий год Бильрота пригласили в Шарите, он отказался и провел остаток дней в Австрии. По этому поводу студенты устроили праздничный митинг с концертом и факельным шествием. Счет резекциям желудка пошел на сотни.
Одержав победу, Бильрот задумался о том, как часто человек ведет себя вовсе не по закону борьбы за существование. Почему Брамс любит Клару Шуман, хотя понимает, что шансов у него нет? Отчего сам Бильрот не расстается с бокалом вина и сигарой, если лучше других знает, насколько это вредно? И если силу привязанности можно представить как эволюционное преимущество, то зачем человеку музыка? Отчего нас утешает именно грустная музыка, похожая на самые горькие воспоминания?
Когда в 1887 г. Бильрот болел пневмонией, его лечащий врач Йозеф Брейер рассказал, что как раз во время исторической операции у него была пациентка Анна Оливандер с параличом. Они часами говорили, перебрали самые печальные события ее жизни, и девушка встала на ноги. Теперь вместе с учеником Зигмундом Фрейдом Брейер отрабатывал новый метод лечения, который назвал психоанализом.
Если музыка лечит в этом смысле, то самая популярная должна быть в миноре. Бильрот попросил Брамса посчитать соотношение веселого и грустного у Бетховена, Моцарта и Гайдна. Оказалось, в миноре написана от силы пятая часть их музыки. Бах чуть грустней: 45 %.
– А до Баха? – допытывался Бильрот. – Как там с народной песней?
Брамс пересмотрел все свои песенные сборники, вышла та же пропорция. «Не верю я в метафизические законы психологии», – написал Бильрот. Должно быть материальное объяснение. Что, если дело в ритме? Знакомым врачам, работающим в военных комиссариатах, полетели письма с просьбой сообщить, есть ли призывники, не способные маршировать под музыку. Много ли их? Как их здоровье? Собрать такие данные и выдвинуть достойную теорию Бильрот не успел: в 65 лет он скончался от сердечной недостаточности.
Последняя воля покойного запрещала вскрывать его тело. Если он вправду загнал себя в гроб сигарами и рейнским, то незачем это подтверждать, давая тему сплетникам. По словам Бильрота, «медицине, моей законной жене» и так осталось все, хотя счастье приносила не она, а другая. В письме Брамсу прямо сказано: «И когда я начинаю думать о самых прекрасных мгновениях своей жизни (лишь немногие смертные могут похвастаться такой богатой событиями жизнью, как я), то ты затмеваешь собою все остальное… Я нередко докучал тебе глупыми разглагольствованиями на тему “что есть счастье?” – и сегодня могу сказать определенно: я был счастлив, слушая твою музыку».
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Zlata Khud: Так пациентка поправилась или умерла от метастазов?
Ответ: Поправилась после операции, выписалась через три недели. Но 23 мая, то есть четыре месяца спустя, умерла от метастазов. Уже не в желудке.
Vladislava Ponomareva: Мать «боялась, что дурачок, способный только петь и пиликать на скрипке, пойдет по миру». А что дурачок будет людей лечить, ее не волновало!)))))
Ответ: В наших текстах принято называть вещи своими именами и приводить те мотивы, которые действительно – по документам и свидетельствам – двигали героями. А не идеальные. Да, Кристина Бильрот, в девичестве Нагель, считала своего сына глуповатым и поэтому думала, что в такой конкурентной среде, как музыкальная, Теодор не пробьется без «лапы». А в медицине «лапа» была – друг дома профессор Вильгельм Баум, человек выдающийся и пробивной. Вот будь при нем, говорила Бильроту мать, как-нибудь и проживешь. Что ее сын поверит в себя, уйдет от Баума, станет гениальным хирургом, у нее и в мыслях не было. Никто бы не решился тогда о таком даже подумать.
Еллени Сем: Спасибо! Очень актуальная тема на сегодня, к сожалению. Если четверо из десяти пациентов, обреченных на мучительную смерть, выживают после рискованной операции, значит ли, что смерть остальных должна быть поводом посадить врача в тюрьму? Как хорошо, что тогда это никому не приходило в голову. Иначе медицина до сих пор оставалась бы на уровне Средневековья.
Ответ: Тогда от медицины ждали новых открытий, потому что страданий было много и каждый знал, что может помереть в любой момент. Сейчас большинству кажется, что страдания – это удел хроников, а если ты чувствуешь себя сносно, то все это не про тебя. С жиру бесятся. Судье, которая сажает медика, чтобы выполнить план по посадкам, просто не приходит в голову, что ее собственная жизнь однажды окажется в руках врача. А тот, чтобы не рисковать, вместо процедуры пропишет ей по гайдлайну аспирин.
36 Вакцинация от сибирской язвы Луи Пастер 1881 год
5 мая 1881 г. Луи Пастер публично привил ослабленную культуру сибиреязвенной палочки 25 овцам и баранам. Все они выжили и получили иммунитет к болезни, косившей тогда скот по всей Франции. Началась эра вакцинации: средство от инфекций стали приготовлять из их возбудителей.
Когда Пастер решил заняться патогенными микроорганизмами, возникла серьезная проблема: ни он сам, ни его сотрудники не были врачами. Отец микробиологии начинал с химии. После того как он открыл бактерий, ответственных за разные типы брожения и за инфекции шелковичных червей, французское правительство положило ему пенсию в размере двойного профессорского жалованья и передало в пожизненное пользование лабораторию. Находилась она в Высшей нормальной школе на улице Ульм в Париже. Это славное заведение готовило лучших учителей Франции, но не врачей.
Приходилось искать болезнетворные бактерии без доступа в больницы. Например, стафилококк был открыт, когда друг и соратник Пастера химик Эмиль Дюкло (1840–1904) покрылся фурункулами. Подозревали, что внутри них активно размножается возбудитель, а вскрыть чирьи для отбора материала было некому. Вызвали на дом врача, кое-как справились. Но после этого случая Пастер спросил Дюкло, нет ли среди его учеников молодого медика, способного на самоотверженный труд.
Под эти критерии подходил один лишь Эмиль Ру (1853–1933), которого Дюкло знал с 1872 г., со времен, когда он заведовал кафедрой химии в Клермон-Ферране. Пришел туда худенький молодой студент-медик, одетый во все черное (Ру носил траур по двум братьям, погибшим на франко-прусской войне в 1870-м). Этот парень рано потерял отца, вырос в семье старшей сестры и, как бывает с детьми, которых воспитывали братья-сестры, занимался только тем, что хотел. Вот теперь его привлекла химия, и он просился к Дюкло.
Чтобы от него отделаться, профессор дал издевательское задание: вот кристалл медного купороса, определите его состав при помощи химического анализа. «Я думаю, что это сульфат меди», – сказал Ру. «В химии не имеет значения, что вы думаете, а важно то, что есть». Студент растворил купорос в воде, поглядел на свет: «Я уверен, что это сульфат меди». «В аналитической лаборатории надо не верить, а знать». И только когда Ру показал наличие в пробе меди и остатка серной кислоты, Дюкло засчитал ответ как правильный. Профессор полагал, что после этого случая Ру больше не придет, однако буйному студенту понравилось.
Особенно его чаровали оптически активные кристаллы, которые были зеркальным отражением друг друга. От Дюкло студент узнал о давнем открытии Пастера, что из пары таких кристаллов сахара бактерии способны усвоить только один, определенный. Здесь кроется какая-то важная тайна жизни, быть может, ответ на вопрос о нашем происхождении. У Эмиля Ру дух захватило от близости к этой загадке.
Но через пару лет Дюкло перевелся к Пастеру в Париж, а сменил его человек, который Эмилю был совсем не интересен. И Ру бросил университет. Доучиваться решил в столичной школе военных медиков Валь-де-Грас, где платили стипендию и студенты имели воинское звание. Но и там он так увлеченно разглядывал кристаллы в микроскоп, что вовремя не сдал диплом, темой которого было бешенство. Профессора могли бы ходатайствовать за Эмиля, все зависело от его куратора. Тот дал такую характеристику: «Не могу сказать, что он не работает. Но он только возится с микроскопом, вместо того чтобы заниматься делом». Этого куратора звали Альфонс Лаверан (1845–1922). Спустя несколько лет, оказавшись в отдаленном алжирском гарнизоне, он сам возьмется за микроскоп и в ходе «возни» откроет вызывающего малярию паразита, за что в конечном счете получит Нобелевскую премию. Но в 1874 г. Лаверан сыграл ключевую роль в отчислении Эмиля Ру из школы Валь-де-Грас и вооруженных сил вообще.
Медицинское образование можно было продолжать в больнице Отель-Дьё. Аренда жилья и весьма скромное питание – Ру жил на хлебе и сыре – оплачивались уроками, которые студент-медик давал в коллеже Шапталь как официальный репетитор. Однако для такой работы ему не хватило терпения. Когда один бездельник не подготовил домашнего задания и в очередной раз нахамил Ру, тот схватил его одной рукой за шиворот, а другой стал душить. Хорошо, что занятия проходили в классе, на крик успели прибежать учителя. Директор объявил Эмилю, что душил он сына очень влиятельного человека – владельца похоронного бюро – и теперь лучше всего уволиться по собственному желанию.
В больнице Отель-Дьё для Ру нашлось место в клинической лаборатории при морге. Работа несложная, но молодой человек на ней затосковал. Он разыскал профессора Дюкло и стал захаживать к нему в лабораторию – похимичить по старой памяти. Там же работали частные ученики профессора, среди которых была английская аристократка по имени Роуз Энн Шедлок (1850–1885, умерла от скоротечной чахотки) – девушка изумительной красоты, очень увлеченная химией. Их взаимную страсть Ру на старости лет вспоминал как «безумную»: они для начала съездили в Лондон и там тайно обвенчались в обстановке такой секретности, что свидетельство о браке было найдено только в 2006 г.
Чтобы иметь повод навещать любимую, не компрометируя ее, Ру стал бесплатно готовить профессору демонстрационный материал для публичных лекций: выращивал в своей больнице культуры дрожжей и других микроорганизмов, постоянно вертелся у Дюкло, и тот порекомендовал его Пастеру. Для Ру Пастер был богом, он посещал все лекции своего кумира в Академии наук, где «взрослые» врачи слушали про патогенных микробов скептически.
Главным заказчиком исследований Пастера выступало министерство сельского хозяйства. Это самое хозяйство терзали тогда сразу две эпизоотии: куриной холеры и сибирской язвы. Болезнь кур Пастер описал высокохудожественно: «Птица, ставшая добычей этого поветрия, лишается сил, ходит шатаясь и опустив крылья. Растопыренные нижние перья придают ей шарообразную форму. Ее гнетет непобедимая сонливость. Если заставить ее открыть глаза, она кажется очнувшейся от глубокого сна и тут же смыкает веки. Чаще всего птица не двигается с места, где смерть и застигает ее после безмолвной агонии, при которой она считаные секунды едва двигает крыльями».
Микроб, вызывающий куриную холеру, был известен. Ру и другой ученик Пастера – биолог Шарль Шамберлан (1851–1908) научились разводить его на курином бульоне. В июне-июле 1880 г. они заражали им птиц и следили за развитием болезни. Август был посвящен полевым исследованиям сибирской язвы, а в сентябре опять взялись за кур. И тут оказалось, что зараженные стоявшими с июля бактериями птицы не погибают. Ру с Шамберланом решили, что микробы умерли, но боялись вылить культуру в канализацию, чтобы не получить нагоняй. Через неделю они заразили двух других кур, одна из которых все же умерла. В середине октября Пастер вернулся с каникул и объяснил, что значит этот результат: ребята, сами того не желая, получили аттенюированных (ослабленных) микробов, с которыми организм птиц может справиться. По аналогии с оспой учитель предположил, что теперь эти куры устойчивы и к «диким» бактериям. Действительно, привитые птицы пережили заражение свежей культурой микробов, только что опустошившей целый курятник.
Это была та самая счастливая случайность, которая, по знаменитым словам Пастера, «выпадает лишь на долю подготовленного ума». Тот же принцип можно было применить для предохранительной прививки от сибирской язвы. Пять месяцев суматошной работы ушли на подбор условий, при которых сибиреязвенная палочка теряет свою патогенность. Оказалось, это происходит, если выращивать ее при температуре от 41 до 43 градусов в присутствии воздуха. Затем при охлаждении аттенюированные микробы образуют споры, так что получается вакцина, которую можно долго хранить и далеко перевозить. Ее благополучно испытали на четырнадцати баранах, о чем 28 февраля 1881 г. Пастер доложил в Академии наук.
Ветеринары не поверили, что все так просто, и самый скептически настроенный ветеринар по имени Ипполит Россиньоль написал едкую статью со словами: «Во всем мире есть одна истина – микроб, и Пастер пророк его». Россиньоль участвовал во франко-прусской войне как интендант. Вернулся он богатым человеком, купил замок Пуйи-ле-Фор, некогда принадлежавший королеве-развратнице Изабелле Баварской, и устроил там ферму. Его клиентами стали все окрестные животноводы.
Россиньолю пришла в голову мысль вызвать Пастера на публичный поединок: предоставить ему 25 баранов, которым введут аттенюированных микробов, и еще 25 в качестве контрольной группы. Потом заразить и тех и других агрессивной культурой и посмотреть, что будет. Пастер вызов принял: что сработало в лаборатории для 14 баранов, сработает и на ферме с 25.
Ру был отозван с пасхальных каникул (к большому сожалению Роуз Энн) и прибыл в замок Пуйи-ле-Фор. Наутро 5 мая он увидел толпу зрителей и заволновался. Пастер же сохранял спокойствие, шутил да приговаривал: «Главное – не перепутайте колбы». Двадцати пяти баранам и овцам, пяти коровам и одному быку шприцем Праваса было введено под кожу по пять капель того, что Пастер называл «первой вакциной». С 6 по 9 мая Ру и Шамберлан ежедневно обследовали привитую группу: все прошло хорошо. 17 мая состоялась прививка «второй вакцины» (которая вызывала смертельную болезнь в 50 % случаев). Опять ничего.
До решающей прививки настоящего патогенного микроба ждали две недели. За это время в лаборатории Пастера произошла еще одна счастливая случайность: 25 мая у одной из подопытных собак появились признаки водобоязни. Если удастся опыт на ферме, можно заняться вакциной от «человеческой» инфекции, да еще какой: смертность среди заболевших бешенством стопроцентная.
Пастер тогда уже убедился, что возбудитель бешенства нельзя развести в пробирке: он размножается только в нервных клетках. Чтобы заполучить этот «микроб» (тогда не знали, что это вирус: вирусы еще не были открыты), препарат мозга больной собаки нужно было ввести в мозг здоровой, для чего требовалось произвести трепанацию черепа.
Этого Пастер сделать не мог и не решался поручить кому-нибудь другому. Он совсем не любил собак, но ему была противна даже мысль о вивисекции. Профессионального медика Ру такие соображения не остановили, так что Эмиль под свою ответственность сделал трепанацию, положившую начало разработке вакцины против бешенства.
Срок для решающего укола баранам и овцам настал 31 мая. Смертельную инъекцию в тройной дозе получили все бараны – и привитые, и контрольные. На следующий день, 1 июня, в контрольной группе уже многие заболевали: не подпускали к себе людей и утратили аппетит. Вакцинированные чувствовали себя намного лучше. Только у одной овцы температура поднялась до 40 градусов, у одного барана в месте инъекции возник отек, один ягненок также затемпературил, а другой прихрамывал. К вечеру три контрольных животных пали.
Среди ночи Россиньоль прислал Пастеру телеграмму-молнию: вакцинированная овца с температурой при смерти. И хотя Пастер был совершенно уверен в своей правоте, глаз он тогда не сомкнул. Он имел в анамнезе двусторонний паралич, и ночь эта стоила ему нескольких лет жизни.
А наутро 2 июня Россиньоль передал, что паршивая овца поправилась, и позвал к себе на ферму поглядеть на последних умирающих из контрольной группы, потому что пало уже 18. Заканчивалась телеграмма словами «Эпатирующий успех!».
Действительно, от желающих привить свой скот отбоя не стало. За две недели Ру с Шамберланом вакцинировали 20 тысяч баранов и множество коров, быков и коз. Они получили все: и ордена Почетного легиона, и деньги на исследования. Теперь можно было браться за бешенство. Но с ним ставки были еще выше и задача труднее, так что до первого случая спасения человека от непобедимой нейроинфекции оставалось 4 года.
37 Городская служба скорой помощи Яромир Мунди 1881 год
8 декабря 1881 г. в переполненном зале венского Рингтеатра произошел пожар. Из-за того, что пострадавших не могли вовремя доставить в больницу, погибли сотни людей. На следующий день после этой трагедии была создана первая в мире служба скорой помощи.
В семь вечера прозвенели три звонка, публика расселась по местам, за кулисами стали зажигать газовое освещение. Произошла утечка, газ взорвался, и запылала декорация. Занавес прогорел, пламя с ревом вырвалось в зал. Это было полной неожиданностью для публики. Кто застыл от ужаса на месте, погиб первым. Остальные ринулись в фойе, но двери театра уже заперли, а открыть их было невозможно: из экономии масляные светильники заправили ровно настолько, чтобы они горели, пока съезжаются зрители. В темноте потерялись и ключи, и люди, за них отвечающие.
Артисты выбили окно на втором этаже и стали прыгать на улицу. Приток воздуха раздул пламя в зале. Прохожие почуяли беду и принялись ломать двери, но полиция отогнала их, чтобы не вышло какого-нибудь беспорядка. Полицейские кричали: «Успокойтесь, всех уже спасли». Из тысячи зрителей живыми выбрались наружу только 500. Но они так обгорели, что не могли передвигаться.
Уже работала телефонная связь, со всей Вены к Рингтеатру бросились врачи. Их оказалось впятеро меньше, чем пострадавших. Люди лежали на снегу на темной площади, где помочь им было невозможно.
Даже хирург Яромир Мунди, прошедший пять войн, такое видел впервые. После тяжелейших операций он не лег спать, а заперся с приятелями, графами Гансом Вильчеком и Эдуардом Ламезаном. И они не разошлись, пока не написали манифест о создании общества добровольных спасателей. Это была постоянно действующая по всей Вене служба помощи тяжелым больным и пострадавшим.
Сейчас кажется, что скорая была всегда, как полиция или пожарные. На самом деле нечто похожее имелось только у военных, и до 8 декабря 1881 г. никому не приходило в голову создать такую службу для мирной жизни.
Итак, юрист Ламезан взял на себя оформление документов, Вильчек – финансирование и сбор добровольных пожертвований, а Мунди – организацию медицинской помощи, обучение персонала и конструирование специальных карет.
Яромир Мунди был тоже аристократ, чешский барон, и появился на свет в самом настоящем родовом замке. Его отец видел сына священником либо генералом. Склонности мальчика к биологии и технике не имели никакого значения. Барон должен служить в кавалерии. И юный Мунди послушно надел мундир, записался в полк и в 1848 г. отправился воевать с итальянцами, пытавшимися тогда отделиться от Австро-Венгрии. Однако Яромир так и не смог понять, за что он воюет и почему их полк топчет конями своих собственных раненых, брошенных умирать на поле боя. Ему было гораздо интереснее помогать людям, чем рубить их сплеча. Чтобы не гневить отца и не бросать армию, Мунди сообщил родителю, что пойдет учиться на военного хирурга. Папаша был категорически против, но сын нашел способ его уговорить: в их семью пришла душевная болезнь, стало заметно, что мать Яромира сходит с ума. Поскольку военные врачи получали подготовку и в психиатрии, Мунди полагал, что сумеет контролировать ее лечение.
Так оно и вышло. Положение австрийских душевнобольных было немногим лучше, чем раненых: их запирали в лечебницах, завязывая в смирительные рубашки и изолируя от общества, даже от родных. Это было по всей Европе, кроме Бельгии, где неопасные пациенты жили в патронажных семьях. Австрийские власти ссылались на опыт ведущей «психиатрической державы» Франции, где «так не делают». И Мунди совершил невозможное: защитил диссертацию и отправился на французский психиатрический конгресс, где уговорил тамошних врачей испробовать кое-где бельгийскую систему. Сделать это оказалось проще, чем спорить с отцом. Но вытащив мать из долгауза (дома для умалишенных), Яромир почувствовал, что та же болезнь развивается у него самого.
Вероятно, в наши дни ему бы поставили диагноз «однополярное расстройство». Приступы депрессии проходили, только если рядом кто-нибудь оказывался в смертельной опасности и можно было помочь. Потому Яромир искал не просто тяжелой работы оперирующего хирурга, а военных действий, где на одного врача сотни пациентов.
Едва на Европейском континенте проливалась кровь, Мунди был тут как тут, по долгу службы или в качестве добровольца. В Итальянскую кампанию 1859 г. он первым вступил в новорожденный Красный Крест и сконструировал электрический прожектор для поиска раненых, оставшихся на поле брани после захода солнца.
В окруженном прусской армией Париже 1870 г. он превратил брошенное дипломатами посольство своей страны в лазарет, куда со всего города везли тяжелых больных и раненых. Этот опыт очень пригодился при создании венской скорой помощи.
В 1875 г. Сербия стала воевать с Турцией за свою полную независимость. Мунди как славянин сочувствовал сербам и поступил в их армию хирургом-добровольцем. Но заметив, что у турок нет службы, подобной Красному Кресту, и потери куда тяжелее, он стал сотрудничать и с турецкой стороной, создав там организацию Красного Полумесяца.
Как наступало мирное время, Мунди становился мрачнее тучи. Поэтому чрезвычайная ситуация в самой Вене была для него просто подарком. Мунди придумал все – диспетчерскую с параллельными телефонами, центральную станцию с разбросанными по городу подстанциями и сами кареты скорой помощи, как до сих пор называют санитарные автомобили. Они обязательно должны были иметь четыре колеса, чтобы пациента не качало взад-вперед, красный крестик на боку и две фары: одну неподвижную впереди, чтобы освещать дорогу, другую вращающуюся сзади, чтобы привлекать внимание. Кучером кареты № 1 стал сам Мунди. Такие экипажи на дорогах безропотно пропускали. А на тот случай, если прохожие могли сами донести нуждавшегося в помощи до врача, на каждой трамвайной остановке служба спасения завела носилки. Они были изготовлены на добровольные пожертвования, и никому не приходило в голову ломать их или воровать с остановки.
Результаты работы поставленной Мунди службы скорой помощи за первые 14 лет были грандиозны. Помимо 11 штатных врачей, больных со скорой принимали еще 305. На всю Вену имелось только пять карет, но они перевезли 39 тысяч человек, в том числе 9 тысяч пострадавших в разных авариях и 18 тысяч жертв преступлений.
Финансировали организацию всей службы только благотворители, потрясенные пожаром в театре. В том числе кайзер как частное лицо: Франц-Иосиф жертвовал собственные деньги, не трогая государственный бюджет.
Барон Мунди был нарасхват: то в одной столице, то в другой открывал он службы скорой помощи, скопированные с венской. Однако его болезнь неумолимо развивалась. Уже ничто: ни всемирная слава, ни удачная помощь несчастным, ни восторги благодарных, ни деньги – ничто больше не приносило ему утешения. 23 августа 1894 г. Яромир Мунди спустился к Дунайскому каналу под мост Софии и пустил себе пулю в лоб. Наследники обнаружили под его кроватью чемодан с государственными наградами всех стран Европы и Азии. При жизни он их не носил.
38 Иммунитет Илья Мечников 1883 год
На рождественской неделе 1883 г. Илья Мечников использовал устроенную для детей елку в опыте, который привел к открытию иммунитета.
Жизнь Мечникова определило дорожное происшествие на пути в Славянск. Летом 1850 г., когда Илье было пять лет, семейство помещиков Мечниковых ехало купаться в соленых озерах. У современной границы Донецкой области на них напали крестьяне. Связали кучера и форейтора, отняли лошадей и взяли детей с матерью в заложники, требуя тысячу рублей выкупа.
Илья держался за дрожащую мамину руку и ждал, когда их уведут в лес и убьют. Ехавшего с Мечниковыми родственника отпустили, чтобы привез выкуп. А он вернулся с солдатами. «Ну теперь, – подумал Илья, – нас не убьют. Теперь им достанется. Так им и надо». Пока запрягали, мальчик наблюдал расправу. Она была омерзительна. Мужиков избили, связали. Прибежали бабы. Одна обматерила и ударила по лицу офицера. Тот в ярости кричал, чтобы ей забили рот землей. Солдаты повалили ее; деревенские швыряли в них грязью.
Вот первое сильное впечатление в жизни Мечникова. Он возненавидел насилие и все, что вызывает страдания. Не пожелал стать офицером, как отец. Собирался учиться на врача. Мать отсоветовала: «У тебя слишком мягкое сердце; ты не будешь в состоянии постоянно видеть страдания людей».
Тогда Илья поступил на естественный факультет. Чувствуя призвание к зоологии, так спешил заняться наукой, что окончил Харьковский университет за два года. В 20 лет присутствовал на съезде зоологов в немецком городе Гисен как автор самостоятельного исследования. Скоро он узнал, что в жизни ученого страданий тоже предостаточно.
Пока Илья Ильич был зоологом, он совершал великие открытия. Но все загадочным образом оборачивалось против него. Удар следовал за ударом, вгоняя Мечникова в пессимизм.
Сначала его обокрал научный руководитель – директор Гисенского зоологического института Рудольф Лейкарт, который приписал себе наблюдение Мечникова, что потомство паразитов-гермафродитов на воле становится разнополым. От ученого с мировым именем Илья Ильич такого не ожидал. Впредь он работал только самостоятельно.
Когда Мечников обнаружил, что у беспозвоночных (каракатиц) зародыш развивается по тем же законам, что и у людей – в подтверждение теории Дарвина об эволюции от общего предка, – ему стали завидовать молодые ученые. Ровесники голосовали против назначения его профессором петербургской Медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия).
От усиленных занятий с микроскопом воспалились глаза. Мечников боялся, что это хориоидит и теперь он совсем ослепнет. Когда любимая жена умерла от чахотки, Илья Ильич проглотил оставшийся от нее морфий. Выжил случайно: слишком большая доза яда вызвала рвоту.
Эволюционная теория не утешала Мечникова, она как будто приняла сторону дегенератов. Если предки глистов, обитавшие на воле, имели кишечник, органы чувств, развитую нервную систему, свободу передвижения, то в чужой кишке это все не нужно: знай держись да плодись.
Напрашивался печальный вывод: «Выживают не лучшие, а более ловкие. Разве история земного шара не показывает нам, что множество низших животных пережило существа несравненно более развитые и сложные по организации?.. Зловонные тараканы сохранились с отдаленных времен и кишат вокруг человека, не особенно смущаясь всем тем, что он делает для их уничтожения».
А сам человек – разве удача эволюции? Детская смертность ужасна. Дикарь едва успевает достичь брачного возраста. Цивилизованный человек не оставляет потомков из-за конфликта любви с бедностью. И тоже норовит опочить во цвете лет: вторая жена Мечникова – гимназистка, которой он давал уроки зоологии, – едва не погибла от брюшного тифа. Выхаживая больную, муж так нервничал, что у него начались трудности с речью. Мнительный фантазер заподозрил у себя бульбарный паралич. А может ли молодая женщина быть счастлива с безъязыким инвалидом? И Мечников снова попытался наложить на себя руки. Теперь под видом эксперимента: ввел себе кровь больного возвратным тифом, якобы для проверки ее заразности.
Заболел в тяжелой форме, но выздоровел, и все пошло на лад. Внятность речи вернулась, исчезло навсегда воспаление глаз. Жена, Ольга Николаевна, унаследовала два имения, под Киевом и под Чигирином, – появились деньги на занятия наукой. Зиму 1882–1883 гг. вместе с братьями и сестрой жены Мечниковы провели в Мессине.
Там Илья Ильич исследовал обитателей пролива – морских ежей, губок, морских звезд. У них пищеварением занимаются особые подвижные клетки. Они хватают частицы пищи так же, как это делают инфузории. Отметив это как наследие одноклеточных предков, Мечников направил мысли в иную сторону.
Вот как он сам об этом рассказывал:
«Когда вся семья отправилась в цирк смотреть каких-то удивительных дрессированных обезьян и я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, меня сразу осенила новая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям.
Чувствуя, что здесь кроется нечто особенно интересное, я до того взволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря… Я сказал себе, что заноза, вставленная в тело личинки морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на нее подвижными клетками… как у человека, занозившего палец. Сказано – сделано. В крошечном садике при нашем доме, в котором несколько дней перед тем на мандариновом деревце была устроена детям рождественская “елка”, я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных как вода, личинок морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и на другой день с радостью констатировал удачу опыта».
Вокруг занозы наблюдалось гнойное воспаление, и гной состоял из подвижных клеток. Значит, воспаление – целительная реакция! А ведь оно происходит, если в рану попадают микробы. Мечников стал вводить в личинку бактерии и наблюдал, как подвижные клетки пожирают их.
В Мессине отдыхал Рудольф Вирхов, отец патологии, который показал, что болезни бывают, если клетки организма функционируют неправильно. Увидев препарат Мечникова, Вирхов остался доволен: клетки не только болеют, но еще и борются с болезнями. Однако старик предсказал Мечникову большие неприятности. Патологи считали воспаление болезнью сосудов, а лейкоциты – переносчиками микробов, которые устроились внутри, как в карете. Врачам не приходило в голову, что это не доставка, а пожирание. Столь свежий взгляд постороннему не простят.
Это Илью Ильича не смущало. Он поверил, что в организме есть собственная целительная сила. Ее можно исследовать, а значит, развить, нарастить, сделать непобедимой. Не так уж плохо устроен человек, если силой разума способен менять свою природу.
Защитников организма назвали фагоциты, по-гречески «клетки-пожиратели». Первой патогенной бактерией, на которую Мечников натравил их, стала сибиреязвенная палочка. Крупная. Хорошо видна в микроскоп. От нее уже делали прививки. Илья Ильич ввел вакцинированному кролику бациллы сибирской язвы и наблюдал, как на них с жадностью набросились фагоциты. У контрольного непривитого кролика тоже фагоцитов хватало, но они будто не замечали противника и ничего не предпринимали до самой гибели животного. Вот в чем смысл вакцинации: армия должна знать, кто враг, чтобы его атаковать.
Едва Мечников напечатал это в «Вирховском архиве», патологи набросились на него, как лейкоциты на занозу. Настала пора подтверждать теорию сотнями новых опытов. А времени не было, поскольку русская жизнь, по выражению Мечникова, это «препятствия, исходящие и сверху, и снизу, и сбоку».
Сверху норовили что-нибудь запретить. Когда в 1886 г. в Одессе Мечников руководил бактериологической станцией, он пытался заражать сусликов, опустошавших поля, возбудителем куриной холеры. Градоначальник не разрешил, потому что считал, что куриная холера может перейти в ту самую страшную азиатскую.
Снизу – мужики, которые не выполняли договоров аренды, дергали у Мечникова свеклу и пасли скот на его лугах. Когда поставили сторожа, крестьяне убили его, и 12 человек пошли на сахалинскую каторгу.
«Сбоку» – сотрудники, которым нельзя просто «поручить и забыть». Стоило отлучиться, как они, прививая от сибирской язвы скот помещика Панкеева, недосмотрели и убили 3549 овец из 4414. Этот случай стал последней каплей. Мечников переехал жить и работать в Париж.
Пастер дал ему половину второго этажа своего института и врачей-стажеров, но с условием работать бесплатно. Институт еле держался на плаву благодаря прививкам и урокам. Поначалу единственным сотрудником Ильи Ильича была жена, не боявшаяся черной работы. Жили они только доходами с имения до 1909 г., когда банкир Озирис (Даниэль Иффла) завещал институту свои миллионы и началась выплата жалованья.
По своей натуре Мечников терял интерес к теме, если с ним никто не спорил. Однако у теории фагоцитоза образовались толпы противников. Благодаря им Илья Ильич задержался в иммунологии, совершив в ней не меньше открытий, чем весь остальной институт.
Мюнхенский врач Ганс Бухнер показал, что сыворотка крови без фагоцитов тоже убивает микробы. Мечников догадался, что это происходит in vitro: при свертывании крови фагоциты в ней погибают, из них выходят вещества, которыми они убивают чужеродные клетки. Антитела – не оружие против микробов, а метки на их поверхности, для фагоцитов: это чужой, приканчивай да ешь.
Спор с Паулем Эрлихом завершился одной Нобелевской премией на двоих. Эрлих спросил: а как же антитоксины, которые возникают в крови по мере привыкания к яду и нейтрализуют, например, яд кобры? Мечников показал на опыте: кроме подвижных фагоцитов крови, есть в тканях более крупные неподвижные – макрофаги. Они поглощают токсины и вырабатывают антитоксины. Они же поедают избыток собственных тканей организма – например, лишние мышцы разросшейся матки после родов. Могут макрофаги приняться и за нужные клетки. Отсюда аутоиммунные болезни и аллергия. А также одряхление в старости. Начинается с поседения волос, где макрофаги приходят в движение, поедая по дороге пигмент меланин. То есть седина – иммунный ответ. Но если так, рассуждал Мечников, то старение вызывают постоянно присутствующие токсины, продукция обитающих в кишечнике микробов. Этих можно потеснить, принимая простоквашу, чтобы заселить толстую кишку молочнокислыми бактериями, которые не дают ядовитых продуктов гниения.
А еще лучше создать иммунитет ко всем инфекциям. Тогда человек не будет дряхлеть и в глубокой старости умрет естественной смертью. Желанной, как сон после рабочего дня. Пока мы продолжаем болеть, такая смерть – большая редкость, и страх перед кончиной крадет у нас радости жизни.
Инфекций – тысячи, ото всех не привьешься. Но должен существовать естественный иммунитет. Скажем, туберкулезные микобактерии широко распространены, а болеют далеко не все. Почему? Этот вопрос разрешила в 1911 г. организованная Мечниковым экспедиция в калмыцкие степи. Уже была диагностическая реакция Пирке, определявшая наличие иммунитета к туберкулезу.
В глубине степи, где нет микобактерий, у живущих изолированно калмыков иммунитет не нашли. Для них контакты с приезжими – риск. А ближе к городам чахоточных много, но есть и здоровые калмыки с иммунитетом, возникшим при общении с русскими. Мечников предрек, что будущее медицины – в открытии механизма такого природного иммунитета.
Сравнивая состояние калмыков с тем, что он видел 38 годами ранее, Илья Ильич отмечал, как усилились четыре бича кочевого народа – туберкулез, водка, сифилис, несущая все это русская колонизация. Положение русских тоже не радовало: бесправие, мракобесие, Распутин во дворце. Зачем запретили студенческие собрания? Почему из университетов ушли лучшие профессора?
На предложение вернуться в Россию, чтобы возглавить Институт экспериментальной медицины, Мечников 26 марта 1913 г. отвечал: «Хотя я и враг всякой политики, но все же мне было бы невозможно присутствовать равнодушно при виде того разрушения науки, которое теперь с таким цинизмом производится в России».
Той зимою он перенес инфаркт и спокойно ждал смерти, находя у себя то самое здоровое желание умереть. Вроде бы ничто больше не волновало – ни состояние науки в России, ни цветение весны. Но жизнь жестока: Мечников дожил до мировой войны и пришел от нее в смятение, добившее больное сердце. По мнению врачей, сердечная недостаточность была далеким эхом возвратного тифа.
Выступая последний раз в русской печати, Мечников сокрушался и надеялся: «Безумная война, которая как снег на голову упала вследствие неумения или нежелания людей, поставленных для охранения мира, повлечет за собой продолжительный период спокойствия. Следует надеяться, что эта беспримерная бойня надолго отобьет охоту воевать… Пусть те, у кого воинственный пыл не остынет, лучше направят его на войну не против людей, а против микробов».
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Lilia Nechaeva: Хориоретинит от работы с микроскопом – весьма сомнительная взаимосвязь.
Ответ: Вы правы, и в этом смысле всем нам повезло, иначе бы воспаление вернулось – микроскопировал Мечников очень много до конца 1915 г. Но сам Илья Ильич и все его знакомые врачи, в том числе Боткин-старший, грешили на микроскоп, и это Мечникова угнетало.
Наталия Сергеева: Читаешь и понимаешь, сколько лет упорной работы, наблюдений, рисков переживали ученые, открывшие нам микромир и медицину в целом. И как мало надо ума и совести, чтоб перечеркнуть труды ученых одним дебильным фильмом про «вред» от прививок.
Ответ: Ничего этот фильм не перечеркнет, и никакой другой тоже. В борьбе с наукой применяются те же технологии, что и в предвыборной борьбе. Но природа науки иная – здесь не так важно «общественное мнение» и процент голосующих за то или иное решение. Потому что науку всегда двигало вперед меньшинство. От того, что фильму про плоскую землю присуждают премию, земля не становится плоской. Любой антипрививочник, покусанный бешеной собакой, мчится в травмпункт и просит его поскорее привить.
39 Победа над бешенством Луи Пастер 1885 год
6 июля 1885 г. Луи Пастер начал свой первый курс вакцинации человека. Прививки спасли искусанного бешеной собакой мальчика от верной смерти. Пастер нарочно избрал первой целью инфекцию, внушавшую мистический ужас: победа над бешенством показала, как можно справиться со страшной заразной болезнью, даже не зная ее возбудителя.
Позднее Пастер говорил, что ставил свой эксперимент после тщательной подготовки и в глубокой тайне для того, чтобы «не скомпрометировать будущее». И все же первая вакцинация стала неожиданностью для всех ее участников.
4 июля 1885 г. в эльзасской деревне Майсенготт (Мезонгутт) взбесилась сторожевая собака. Около восьми часов утра она выскочила на улицу и набросилась на девятилетнего мальчика по имени Жозеф Мейстер, который шел в школу. Сбила Мейстера с ног и укусила 14 раз. Среди ран от укусов были опаснейшие – на лице: школьник растерялся и не подумал закрыть голову руками. Наконец со стройки прибежал рабочий с железным ломом. Несколько сильных ударов побудили животное бросить свою жертву, всю в крови и слюне. Собака метнулась домой и вцепилась в руку собственного хозяина, бакалейщика Вонна. Тот сорвал со стены ружье и застрелил собаку. В ее желудке нашли сено, солому и опилки, что лишь подтверждало ужасный диагноз.
Окружной доктор дезинфицировал раны фенолом. Больше помочь было нечем, но врач сказал, будто Пастер в Париже научился лечить бешенство. Правда, пока только у собак. На следующий день Теодор Вонн и Жозеф Мейстер с матерью были в лаборатории Пастера на улице Ульм в помещении Высшей нормальной школы.
Бакалейщика Луи Пастер успокоил: хотя рука помята и собака изрядно обслюнявила рукав, одежду она все-таки не прокусила, так что бояться совершенно нечего. Вонн облегченно вздохнул и вечерним поездом укатил в Эльзас.
Состояние мальчика было куда хуже. Раны глубоки, в них совершенно точно проник вирус (этим латинским словом, означающим «яд», Пастер называл возбудитель; понятия о настоящих вирусах тогда еще не имели). Когда настанет август, мальчику суждено умереть в муках, параличе и безумии, истекая слюной и страдая от жажды. Терять нечего. Не пора ли испытать вакцину, которая спасла не один десяток собак?
Уже осенью 1884 г. Пастер был морально готов экспериментировать на людях. Просил у бразильского императора Педру II, который выказывал интерес к науке, разрешения привить бешенство преступникам, приговоренным к смерти. Несмотря на плохое самочувствие, Пастер был готов для этого лично приехать в Рио-де-Жанейро. Но он рассчитывал при удачном исходе отпустить преступника на волю, в чем императору мерещилось вмешательство в дела бразильского правосудия. Они не договорились.
Не мог Пастер договориться и со своим заместителем Эмилем Ру, единственным профессиональным врачом в лаборатории. Сам шеф, химик по образованию, боялся не то что медицинских манипуляций, но даже вивисекции. Когда в 1881 г. только начиналась работа над вакциной и Ру делал собаке трепанацию черепа, чтобы привить ей материал больного бешенством, Пастер посочувствовал не Ру, а собаке: «Бедный зверь, теперь его наверняка парализует!» А то были смертельно опасные эксперименты. Сотрудники Пастера – Ру, Шамберлан и Тюйе – приходили в виварий с заряженным револьвером, и вовсе не для отстрела собак. Понимая, какие муки ждут того из них, кто будет укушен или при вскрытии порежется, исследователи условились пустить раненому пулю в голову и вложить револьвер в руку мертвого для имитации самоубийства.
К счастью, ветеринар Пьер Гальтье (1846–1908) сообщил, что собачье бешенство удобно прививать кроликам. Бешеный кролик тих и подавлен, не то что собака. Его легко заразить, вколов ему в мозг взвесь мозга больного животного. Каждая такая инъекция делала вирус бешенства в мозгу нового кролика злее – как понимал Пастер, оттого, что вирусу нужно постараться, чтобы в столь малой дозе заразить здоровый организм. При пересадке в следующего кролика (это называется «пассаж») вирус «тренируется» и набирает форму, инкубационный период болезни сокращается. Такой яд при инъекции вызывал симптомы у собаки не за три-четыре недели, а (после 90 пассажей) всего за семь суток. Это значило, что при соревновании между ядом бешеной уличной собаки и тренированным вирусом подопытного кролика первым доберется до мозга возбудитель, выращенный в лаборатории.
Общая идея Пастера и Ру состояла в том, чтобы подвялить мозг больного кролика: при сушке на воздухе вирус сохранял быстроту, теряя болезнетворность (вирулентность). Сушили каждый по-своему. Однажды Ру пришел в лабораторию и увидел, что его колбы с кроличьим мозгом передвинуты. Оказалось, заходил Пастер и подносил сосуды к окну, рассматривая на свет. Узнав это, Ру молча надел шляпу и вышел на улицу, хлопнув дверью со всей силы. Больше он не притронулся к биоматериалам, имевшим отношение к бешенству, хотя прекрасно сотрудничал с Пастером по другим проблемам и управлял его институтом.
Поскольку Ру только что потерял любимую жену, погибшую от чахотки, Пастер его простил. Да вот беда: вакцина готова, а колоть ее мальчику Мейстеру некому.
На следующее утро, 6 июля 1885 г., Пастер должен был представлять в Академии наук реферат своего ассистента Кубасова о возможности инфицирования плода в матке больной женщины. На заседание пришли невролог Альфред Вюльпиан (1826–1887) и педиатр Жак-Жозеф Гранше (1843–1907). Пастер изложил им проблему и повел к себе. Гранше взялся лично делать инъекцию и ухаживать за больным, пока не минует опасность. В восемь вечера, через 60 часов после нападения собаки, Мейстер получил первый укол под ребро.
Вводили ему кроличий мозг, который вялился 15 суток. Такой материал не вызывал болезни даже у мышей, Пастер был спокоен. В отличие от пациента. Увидев шприц, ребенок прыгнул на руки матери и зарыдал. Пастер не знал, как быть. Вюльпиан замолк. Гранше призвал весь свой опыт борьбы с детскими истериками, чтобы убедить Жозефа отдаться медицине. После укола мальчик заявил, конечно, что ему совсем не больно.
Пастер ублажал первого пациента как мог. Мальчику разрешили играть в виварии. Мейстер живо оценил прелести своего положения: 1) не надо ходить в школу и делать уроки; 2) целый день в его распоряжении кролики, куры и морские свинки, а главное – прелестные белые мыши. Новорожденных мышат мальчик носил на руках, дал всем имена и выхлопотал им помилование, то есть освобождение от опытов.
По ходу вакцинопрофилактики пациент делался все резвее, а Пастер – все грустней. Для наращивания иммунитета материал каждой новой инъекции должен быть вирулентнее предыдущего. Так, 9 июля ввели мозг, сохший 8 дней, 12-го – 5 дней. Это уже был опасный «вирус»: он гарантированно заражал подопытных животных. После 13 июля Пастер утратил аппетит и способность работать. Три дня его била лихорадка. Он с ужасом разглядывал красноватое пятнышко на коже вокруг места укола, которое пациент и не замечал. Накануне последней инъекции 16-го великий ученый не сомкнул глаз. Мейстера ждал контрольный укол необычайно вирулентным материалом однодневной сушки. Такой вирус за неделю убивал самую сильную собаку. (Любопытно, что сам Пастер не понимал сути вакцинации. Он думал, что его «тренированный вирус» угнетает «дикие» патогены, как плесень угнетает культуру бактерий в чашке Петри. Но живая вакцина работает иначе: к непатогенному вирусу вырабатываются антитела, так что при появлении опасного вируса иммунная система встречает его во всеоружии.)
Жозеф перенес укол прекрасно. Теперь оставалось ждать. Пастер понимал, что не переживет зрелища смерти Мейстера, и сбежал «на отдых» в сельскую местность, предоставив пациента заботам доктора Гранше. 3 августа совершенно здоровый мальчик отбыл домой.
После публикации протокола лечения Высшую нормальную школу осадили укушенные собаками. Бешенство оказалось не столь редким, как думали раньше. Похоже, врачам не слишком нравилось признавать свое бессилие, и смерти от бешенства часто списывали на другие патологии. Во всяком случае, за первый год работы Пастера только во Франции официальная заболеваемость бешенством по неведомой причине подскочила в пять раз.
Родоначальник вакцинации поиздержался: он изготавливал десятки тысяч доз на свои личные средства. Кабинет Пастера стал кабинетом Гранше, с важным видом делавшего инъекции, а сам Пастер превратился в медбрата, который вызывает следующего по очереди. Новые пациенты не верили, что полупарализованный крикливый старикашка и есть великий ученый, на которого теперь вся надежда.
1 марта 1886 г. Пастер на заседании Академии наук сделал столь важное сообщение, что послушать его приехал даже премьер-министр. Предлагалось устроить в Париже международный институт для создания вакцин и помощи укушенным бешеными животными. Инкубационный период «дикого» вируса – до месяца, так что со всей Европы и даже из Нью-Йорка пострадавшие успеют вовремя добраться до Парижа. Придумано это было не для того, чтобы прибрать к рукам земной шар. Создатель вакцины от бешенства не патентовал ее и не взимал платы за уколы. Он просто никому не мог доверить производство, опасаясь, что другие чего-нибудь недоглядят и скомпрометируют сам метод вакцинопрофилактики. В тот же день, 1 марта, Пастер получил телеграмму из России: «Двадцать человек укушены бешеным волком. Можно ли прислать их к вам?» Сразу же последовал ответ: «Присылайте укушенных немедленно в Париж».
Укус бешеного волка вдвое опасней собачьего. Другие пациенты Пастера приезжали из стран, где волки давно перевелись. И вот представилась возможность узнать, чем волчий вирус отличается от вируса бешеной собаки.
Происшествие случилось в городе Белый, тогда Смоленской губернии, а ныне Тверской области. Из 19 пострадавших только священник Василий Ершов нашел средства для поездки в Париж. Остальные – дворяне, крестьяне, мещане – ждали материальной помощи земства, на сбор которой требовалось разрешение министра внутренних дел. Не ускорило дела даже вмешательство царя Александра III, который выделил пострадавшим 700 рублей (притом что нужно было 10 000), – все, кроме попа, выехали с опозданием на восемь дней.
Вакцинация началась на 15-е сутки после заражения, троих спасти не удалось. Но гибель их оказалась не напрасной. Пастер установил, что вирус у волков и собак одинаковый. У волка зубы длиннее, нанесенные им раны глубже, вот почему инкубационный период сокращается. А это значило, что не всегда есть время добраться до Парижа. Следовательно, Пастеровский институт должен быть не единственным, а головным. И на такое учреждение Пастер к 1888 г. собрал со всего мира два с половиной миллиона франков.
Дались эти деньги дорого: не все пациенты целовали Пастеру руку, как русские из города Белый. Были и обращения в полицию после смерти детей, получивших прививку, – расследования показали смерть от других причин. В печати скандалили антивакцинаторы, выделившиеся из среды антививисекторов. В Медицинской академии антипрививочники неизменно оказывались в меньшинстве при голосовании, но всегда получали слово на заседаниях, чтобы высказать Пастеру в лицо всяческие сомнения. Им помогали даже академики, голосовавшие за Пастера, которые при этом говорили своим студентам, будто он убийца, так как от прививки умерла некая девочка, и т. д.
Не искали у Пастера спасения немцы. Их обидело, что Мейстер из отвоеванного у Франции «нашего Эльзаса» ездил за медицинской помощью в Париж, способствуя прославлению французов. Едва русские вернулись в Белый, немецкая пресса тут же сообщила, что все в России умерли. Пастер телеграфировал попу Василию, тот отбил молнию: «Я жив. Операция прошла успешно [ему сделали пластику поврежденного волком лица]. Фотографию высылаю. Ершов». Царь Александр III назло немцам выдал Пастеру 97 839 франков (40 000 рублей) и орден Святой Анны I степени с бриллиантами.
Из-за постоянной нервотрепки Пастера разбил паралич; до церемонии открытия института 14 ноября 1888 г. он пережил два инсульта, некоторое время не мог говорить. К церемонии почти оправился, но приветственную речь от его имени зачитывал другой. Пастер не хотел, чтобы сравнивали те, кто помнил его прежним.
Спустя 17 лет после смерти Пастера, в 1912 г., повзрослевший Жозеф Мейстер переехал из Эльзаса в Париж. Его булочная в Майсенготте разорилась, и он поступил в Пастеровский институт вахтером.
С началом мировой войны в 1914 г. Мейстер уклонился от призыва в германскую армию, чтобы не воевать с французами, и продолжил служить в институте. Немцы добрались до него позднее, в июне 1940 г. Незадолго до того, как гитлеровские войска заняли столицу Франции, Мейстер отправил жену с дочерями в эвакуацию, а сам остался в институте, не желая бросать на произвол судьбы виварий.
22 июня Франция капитулировала. Беженцы-парижане стали возвращаться, слали домой телеграммы. Но Мейстер не получил от близких никаких известий и решил, что его семья погибла под бомбами. Утром 24 июня он затворился на кухне, задраил окно и открыл газовый кран.
Вечером того же дня жена и дочери благополучно вернулись в Париж.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Anna Kiriluk: Неужели Александр III, правитель богатейшей империи, не мог полностью оплатить поездку укушенных волком?!
Ответ: Царь осведомлялся, хватит ли 700 рублей. Ему не посмели сказать, что нужно больше. Известное дело – когда цари приходят в магазин, ценники меняются.
Ирина Паладуца: Разве [сподвижник Пастера] Тюйе не был тоже врачом?
Ответ: Был, конечно, но к тому времени, как надо было делать инъекцию Мейстеру, Луи Тюйе погиб от холеры в Александрии (18 сентября 1883 г.).
Анна Михайлова: Почему этого не рассказывают в школе и университетах?
Ответ: Причин тут две.
1. Всё это поди добудь. Чтобы такое знать, изволь читать по-французски, непонятное в книжках смотреть, следи за новыми журналами, картинки ищи. Одним словом, возня. Этого никто не любит.
2. Молодые люди, которые учатся «в школе и университетах», – народ любопытный и увлекающийся. Если им историю рассказывать по-человечески, они заинтересуются. А когда человек со студенческих лет чем-то интересуется, он этот предмет, как правило, неплохо знает в дальнейшем. Представьте себе целое поколение людей, которые знают историю, имеют о ней собственное мнение и не поддаются обману. Это что же тогда будет?!
40 Две формы бартонеллеза Даниэль Каррион 1885 год
5 октября 1885 г. перуанский студент-медик Даниэль Каррион скончался после того, как привил себе распространенную в быту болезнь – так называемую перуанскую бородавку. Неожиданно для самого экспериментатора у него развилась опаснейшая инфекция – лихорадка Ороя, от которой погибает до 88 % заболевших. Опыт наглядно показал, что это две формы одного заболевания, которое теперь называется бартонеллез. В Перу это, конечно, «болезнь Карриона». Несчастный студент признан там национальным героем; его именем названы провинция, город, университет, больница и стадион, а день его смерти отмечается как День перуанской медицины. Такого почитания не удостоился ни один врач в мире.
Перед смертью Каррион все время говорил товарищам о своей семье. Отчасти он повторил судьбу своего отца, который погиб от выстрела собственного револьвера, случайно разрядившегося, когда тот садился на коня. Каррион-младший не собирался погибать от ужасной лихорадки. Он думал привить себе материал из волдырей, которыми покрываются многие перуанские дети, доказать инфекционную природу болезни и получить за это деньги на стажировку в Европе.
Перуанская бородавка – вещь неприятная. На коже головы и конечностей возникают волдыри, при легчайшем повреждении они долго кровоточат. Сопровождается все это головной болью и ломотой в суставах, но проходит за несколько месяцев. Примечательно, что распространена эта болезнь в нескольких областях Перу на высотах строго от 500 до 3200 метров над уровнем моря. Что на таких высотах живет кровососущий москит, укус которого передает инфекцию, никому в голову не приходило. Перуанские врачи думали, что в тех местах «воды такие». Два доктора устроили сравнительные эксперименты. Один пил из колодца, откуда брали воду больные индейцы, другой употреблял только привозную воду из якобы здоровой местности. Заболел тот, которому воду привозили. Так поверья были посрамлены, из чего, правда, не следовало, что бородавка заразна.
В перуанских Андах бородавка – обычная детская болезнь. Пережив ее, человек становится носителем инфекции: в его крови поселяется бактерия бартонелла, но к ней возникает стойкий иммунитет. Если бородавки и поражают взрослых, то, как правило, заезжих туристов, которые поначалу сильно переживают, принимая их за саркому. Болезнь известна с незапамятных времен. Инки называли ее «сирки»; она обрушилась еще на испанцев Писарро, когда те захватывали Перу.
Другая напасть, гораздо более страшная, которая щадит местное население Анд, но убивает пришельцев, – это «лихорадка Ороя». Ла-Оройя, или просто Ороя, – город на высоте 3800 метров, металлургическая столица Перу. Там добывают и выплавляют серебро, медь, свинец и прочие цветные металлы. Все это вывозится на берег Тихого океана по высокогорной железной дороге, на строительстве которой в 1871 г. заболело и умерло 7000 человек. В их крови бартонеллы расплодились так, что заразили почти каждый эритроцит. Это привело к гибели 80 % красных кровяных телец и сильной анемии. Клиническая картина в целом грозная: высокая температура, желтуха, тахикардия, сердечные шумы, анорексия и всевозможные боли. Смертность без лечения – 40 %, а если присоединяется сальмонеллез, что часто бывает, то почти 90 %. Железную дорогу, пересекавшую Западную Кордильеру на высотах более 4000 метров, и без того было трудно строить. Эпидемия же настолько удорожила проект, что Республика Перу обанкротилась.
В 1871 г., как и в 1885-м, когда Каррион ставил свой смертельный опыт, о бартонеллах не имели ни малейшего понятия. Но идея общей этиологии двух перуанских болезней возникла еще во время строительства железной дороги. Один американский инженер, который строил мост на 85-м километре трассы, после тяжелой лихорадки вернулся в Штаты, и дома его стали донимать бородавки. Наблюдавший инженера венесуэльский доктор Рикардо Эспиналь описал обе патологии и предположил, что это две стадии одного заболевания. Да и перуанские врачи это признавали, тем более что индейцы давно считали так же.
Исследовать этот вопрос Каррион не собирался. Он хотел денег, чтобы поехать в Париж. В то время медицинский факультет университета раскололся на «обскурантов», засевших в администрации, и «свободомыслящих», которые со скандалом ушли из альма-матер и образовали Вольную академию медицины. Летом 1885 г. академия решила повысить свой престиж и учредила премию для того, кто докажет инфекционную природу перуанской бородавки. В присутствии членов академии 27 августа Карриону сделали прививку, втерев в четыре надреза на коже кровь из вскрытой бородавки 14-летней больной. 17 сентября Каррион почувствовал боль в левом голеностопном суставе. 22-го он понял, что все пошло не так: кожа побледнела, белки глаз стали желтыми, кровь в моче, головная боль невыносимая. Больной стремительно слабел, так что с 26 сентября дневник заболевания вели с его слов однокурсники. 28-го они записали комментарий: «Замечательна в самом деле скорость развития анемии». В ночь на 30-е Каррион догадался: «У меня лихорадка Ороя – та болезнь, от которой умер наш друг Ориуэла. Лучше не думать об этом, давайте выкурим сигару». Зажечь сигару без посторонней помощи он уже не мог.
Друзья пытались убедить Карриона, что он ошибается, но сами уже всё поняли. 4 октября по настоянию больного его перевезли во Французский госпиталь – единственное лечебное заведение в Лиме, где имелось оборудование для прямого переливания крови. Процедура экзотическая по тем временам, но Каррион был убежден, что это единственный путь к спасению. Теперь эта мысль кажется сомнительной. Даже не потому, что еще не знали о группах крови и резус-факторе. Бартонеллы заразили бы и свежие донорские эритроциты. Но все же Каррион умер не от инфекции.
Академики почувствовали, что дело плохо, и собрались на консилиум. Переливание отменили по инициативе самого яркого светила перуанской медицины – профессора Томаса Салазара. Он считался толковым и смелым специалистом. Еще за 27 лет до Карриона предполагал, что бородавка и лихорадка Ороя – это одна и та же патология. Когда Пастер и Кох стали открывать болезнетворные бактерии, Салазар тут же взял их открытия на вооружение. Рассуждал он так: есть возбудитель и есть антисептик фенол, которым Листер обеззараживает свою операционную. Так давайте введем фенол в кровь, и бактерии – возбудители инфекции погибнут, как в операционной Листера. Салазар решительно вколол фенол больному сибирской язвой, который выжил и выздоровел. Сообщение об этом облетело весь мир.
В то, что фенол может быть ядовит, а его инъекция смертельна, Салазар не верил. Это позднее в Освенциме доктор Менгеле будет «для науки» убивать подопытных людей фенолом. Таким уколом казнили и польского священника Максимилиана Кольбе, который вызвался пойти на смерть вместо другого узника. В 1982 г. католическая церковь причислила Кольбе к лику святых как мученика.
А Карриону суждено было стать мучеником науки. Салазар легко убедил остальных врачей испробовать фенол, поскольку его открытие по большому счету являлось единственным перуанским открытием в медицине. Собравшиеся, включая Карриона, были идейные националисты, участники недавно проигранной войны с Чили. Они охотно согласились с тем, что перуанскую болезнь – лихорадку Ороя – надо вылечить перуанским же средством, чтобы показать всем (в первую очередь заклятым врагам – чилийцам), на что способен перуанский врач-патриот.
Их не смутило, что фенол использовался для лечения одной-единственной болезни, причем совсем не той, с которой они сейчас имели дело. Более того, даже после тихой смерти Карриона его друзья пытались тем же способом лечить других больных лихорадкой Ороя. К счастью, без таких катастрофических последствий.
Со смертью героя эксперименты с его кровью не прекратились. Ее ввели двум кроликам, пытаясь вызвать у них лихорадку. Так был сделан первый опыт исследования этой болезни на животных. 51 год спустя именно воспроизводимыми опытами на животных японец Хидэё Ногути (1876–1928) доказал, что лихорадку Ороя и бородавки в самом деле вызывает одна бактерия и больные обезьяны могут заразить своих собратьев разными формами бартонеллеза. При экспериментах Ногути не пострадал ни один человек.
41 Корсаковский синдром Сергей Корсаков 1887 год
28 мая 1887 г. психиатр Сергей Корсаков получил степень доктора медицины за диссертацию об утрате памяти на недавние события. Такой парамнестический синдром, который теперь называется корсаковским, возникает при алкоголизме, атеросклерозе, острых инфекциях и под старость.
Диссертация понадобилась Корсакову не только ради имени в науке. Она помогла провести грандиозный социальный эксперимент: показать, что человеку можно доверять и он достоин полной свободы, даже если это умалишенный.
Главным «поставщиком» безумия был тогда хронический алкоголизм. Психиатры говорили, что чем больше в городе питейных заведений, тем сильнее заполнена их лечебница. С пьянством Корсаков столкнулся еще в раннем детстве, потому что родился в 1854 г. на территории завода. То была знаменитая стекольная фабрика в селе Гусь-Хрустальный, где отец великого психиатра служил главноуправляющим заводами Ивана Мальцова.
Корсаков-старший – Сергей Григорьевич – был на редкость либерален для главноуправляющего в крепостнической России. Он убедил хозяина построить фабричную больницу на 50 коек и школу для детей рабочих. А при воспитании собственных детей либерализма не проявлял. Чуть ли не с пеленок братьев Сергея и Николая учил строгий немец-гувернер, с которым они освоили несколько языков. После такой подготовки занятия в Пятой московской гимназии казались отдыхом. Братья окончили гимназию круглыми отличниками, с занесением фамилий на золотую доску.
Оба поступили на медицинский факультет Московского университета. Отец ушел на покой с капиталом, купив небольшое имение, но денег сыновьям не посылал. На личные расходы Сергей зарабатывал еще гимназистом, давая уроки с разрешения директора. Ученики его любили. Корсаков поверил в свои педагогические способности и решил, что в медицине ему ближе всего психиатрия. Беда, что в Московском университете ее толком не преподавали.
Курс душевных болезней читал любимый учитель Корсакова Алексей Кожевников (1836–1902). Он был великим невропатологом, открыл поражение коры больших полушарий при боковом амиотрофическом склерозе. Но психиатрию ему дали «в нагрузку», и Кожевников мечтал поручить ее кому-нибудь из своих дипломников. Когда старейшей психиатрической больнице Москвы – Преображенской – понадобился «надежный молодой человек» на должность ординатора, невропатолог порекомендовал Сергея.
При знакомстве главный доктор больницы Самуил Штейнберг сказал Корсакову: «В университете вы ведь мало учились психиатрии; вы даже, вероятно, не знаете, как связывать». Первый урок был уроком связывания. Преображенская больница считалась в России передовой: там «буйнопомешанных» держали не в цепях, а всего лишь в горячечных (смирительных) рубашках. Ее надо было уметь правильно завязать, иначе возникали отеки, флегмоны, а то и паралич верхних конечностей.
Юный Корсаков читал, будто в Англии психиатры еще в 1839 г. отказались от этой позорной практики. Там считали, что связывание только продлевает «буйный» период болезни и предпочитали тактику no restraint (нестеснения). Формально этот режим действовал и в Преображенской больнице, однако молодым врачам внушали, что без рубашки нельзя. По крайней мере у нас.
Все же были исключения: «коммерческие» частные пациенты Корсакова, богатые и известные душевнобольные, которых семьи не сдавали в лечебницу. Нельзя было, к примеру, связывать на дому Абрама Абрамовича Морозова, директора Тверской мануфактуры, превращавшегося от прогрессивного паралича в животное. Корсаков сделал с ним все, что мог, и на время добился ремиссии. Когда больной умер, его вдова под впечатлением от работы доктора выделила 150 тысяч рублей на устройство университетской психиатрической клиники.
В этой молодой и красивой женщине Корсаков нашел родственную душу. Варвара Алексеевна Морозова, из богатейшей семьи Хлудовых, боялась выходить за не совсем адекватного Абрама Абрамовича, хотя тот был сильно в нее влюблен. Но старику Хлудову было так необходимо породниться с кланом Морозовых, что он год продержал девчонку взаперти, не выпуская ни в театр, ни на бал. И она сдалась. А теперь, овдовев, третью часть своих свободных денег жертвовала на лечебницу. При условии что главным там станет Корсаков, который не лишает больных свободы. Однако руководить клинической больницей мог только врач с ученой степенью доктора медицины.
Дело было в 1882 г., когда сама идея no restraint была не ко двору. После гибели царя Александра II господствовала точка зрения, что люди безумны и стоит им дать свободу, как они черт знает что натворят: «Смотрите, государь император дал им волю, а они его убили. Вот недаром сумасшедших вяжут!» Корсаков думал иначе, и в Преображенской больнице у него были единомышленники. В том числе доктор Александр Беккер, хозяин небольшой частной клиники на Красносельской улице. Он пригласил Корсакова к себе созаведующим. И Сергей Сергеевич сразу же ввел у Беккера режим нестеснения.
Ординатор Николай Баженов вспоминал, что, придя в тот день на работу, увидел дикую картину. Среди комнаты на четвереньках стоит Корсаков, а верхом на нем сидит здоровенный больной и рвет у доктора волосы. Ординатор кинулся на помощь, но Сергей Сергеевич погрозил пальцем: «No restraint!» Корсаков рассчитывал, что человек, которого связывали, не причинит серьезного вреда тому, кто дал ему свободу. Побуянит и успокоится. Взамен горячечной рубахи доктор предложил больным дружбу. Он находился при них неотлучно. Сам кормил их с рук, лично вводил зонды и катетеры, а при надобности пальцами извлекал из прямой кишки экскременты. Сам измерял температуру, даже у перевозбужденного эпилептика, способного убить его одним ударом. Он всеми силами убеждал пациентов лечь в постель и ночами напролет тщательно записывал их бред.
Вместо того чтобы ограничивать больных, Корсаков принялся ограничивать себя и медперсонал. Был введен штраф за слова «сумасшедший», «умалишенный» и «помешанный». Решетки с окон сняли, заменив стекла на толстые «корабельные». Изолятор отменили, двери вообще не запирались. Если доктору нужно было наблюдать больного два-три часа подряд, предписывалось не смотреть через глазок, а садиться среди палаты играть с пациентами в шашки или карты. Все это было хлопотно, зато о клинике Беккера пошла слава, и туда повалили провинциалы с деньгами.
В 1883 г. привезли парализованного помещика Ш. из Ярославля. 25 лет. Не без способностей, но ленив; недоучился, кутил. Крепок на вино, хмелел только после пяти бутылок красного и бутылки водки. Как-то с пьяных глаз ему не понравились идущие по реке плоты. Ш. кинулся в ледяную воду, стал драться и рубить топором связи. После переохлаждения отнялись ноги и отшибло память. Так впервые Корсаков увидел знакомую только по литературе картину алкогольного паралича с амнезией. И характер этой амнезии поразил Корсакова. Он почувствовал, что это не просто материал для диссертации, а нечто прежде еще не исследованное.
Отказ нервов конечностей сопровождался отказом памяти. Больной помнил все, что было до паралича, сохраняя речь, умения и привычки. Но был совершенно не в состоянии сказать, что делал час назад. Можно войти к нему 10 раз, и он 10 раз поздоровается. Можно целый день играть с ним в шашки, но стоит убрать игру, выйти, а потом снова зайти и предложить партию, он согласится. Да еще прибавит, что «давненько не брал в руки шашек». Читать он не в состоянии, потому что, перевернув страницу, забывает, что было на предыдущей.
Если больной молод и силен, а его алкоголизм не слишком давний, паралич за несколько месяцев ослабевает. Пациент уже узнает доктора, но не может вспомнить, кто это. Память смешивает реальные лица и события в причудливых комбинациях. Идя на поправку, помещик Ш. объявил, что заболел, когда сожительница отравила его свинцом. Да-да, она сама сказала ему это, навестив уже в больнице. (На самом деле к нему никто не приезжал три года.) А потом она якобы умерла от злобы, когда убедилась, что насмерть отравить его не сумела!
Другой пациент, до паралича успешный адвокат, сумел открыть Корсакову природу этих конфабуляций (фантазий). Хотя он растерял клиентуру, пока не мог ходить, его умственных способностей хватало для «удаленной работы» корректором. Бывший адвокат находил все ошибки, но приходилось помечать прочитанные строки, иначе он принимался читать все заново. Едва встал на ноги – его газета закрылась, и хозяин погнал с наемной квартиры. Больной пошел к знакомым, попросился переночевать. Проснувшись утром, он уже не помнил ни вчерашней обиды на хозяина, ни ночных странствий.
В таком состоянии легко выносить неприятности, но постепенно исчезает вкус к жизни. Без памяти ничто не развлекает, остаются только физические потребности; да и те приносят мало удовольствия, поскольку не помнишь, курил ли ты сегодня и был ли вкусен завтрак. Из-за нехватки приятных впечатлений пациент становится раздражителен и агрессивен. Он пытается собрать остатки воспоминаний, выдумывая себе прошлое, желательно славное. В письме Корсакову от 16 мая 1886 г. адвокат сказал об этом так: «Искренно желаю, чтобы трагедия и водевиль отсутствовали, а был бы лишь простой, но величавый эпос. Это я постараюсь положить в основу новой жизни». Нечто подобное Корсаков наблюдал и у больных с атеросклерозом, и у непьющих вовсе рожениц, переживших сепсис. На основе их сбивчивых показаний он сумел объяснить природу явления.
Способность нейронов объединяться в сети еще не была открыта, но Корсаков как ученик невропатолога предположил, что память есть контакт соседствующих нервных клеток. Чем сильнее впечатление, тем больше образуется контактов и тем устойчивее воспоминание. А чем воспоминания старше, тем чаще их вызывает память: они «натренированы» и легко являются, например, старикам, которые помнят детство, но не могут сказать, что делали вчера. Отсюда же стойкость профессиональных навыков.
При параличе способность фиксировать новые события ослабевает, но они все же остаются, по Корсакову, «в сфере бессознательного» (Зигмунд Фрейд только открыл тогда частную практику). При выздоровлении иннервация дотягивается до них, фиксирующие их клетки снова подают сигнал. Но пока иннервация не восстановится полностью, на запрос памяти отзываются не все связи. Вот откуда берется славное прошлое, которого не было.
Работа Корсакова произвела такое впечатление, что совет Московского университета присудил ему степень единогласно. Новоиспеченный доктор медицины стал руководителем выстроенной на морозовские деньги клиники. Там ввели не только no restraint, но и систему «открытых дверей», через которые больные порой сбегали, перелезая через забор, отделявший клинику от городской усадьбы Льва Толстого. В 1892 г. великий писатель зашел в клинику узнать, в чем дело. И ему объяснили, что это нестеснение – практическое воплощение его идеи «непротивления злу насилием».
По примеру Корсакова в столичных русских психиатрических лечебницах стали отказываться от рубашек, а в провинциальных – от кандалов. Были несчастные случаи: в 1893 г. больной шизофренией застрелил московского городского голову Алексеева, создателя больницы на Канатчиковой даче. Он сделал это умышленно, потому что Алексеев игнорировал его письма про злодеев, которые по электрическим проводам гипнотизируют правительство. Теперь будет суд, думал убийца, и там я выступлю, открою людям глаза на всемирный заговор.
«Что вы на это скажете?» – вопрошали Корсакова оппоненты. Сергей Сергеевич отвечал, что врачи должны просвещать общество, отучая от бредовых идей о всемирных заговорах. Нужен нормальный общественный строй, при котором ведется профилактика душевных болезней; для начала – хотя бы реальная борьба с пьянством.
Говорил он так и в 1897 г. на XII Международном конгрессе врачей в Москве. Тогда Фридрих фон Йолли, директор психиатрического отделения берлинской больницы Шарите, предложил назвать открытую в России разновидность амнезии «корсаковской». Корсаков скромно отказался, но фон Йолли настоял, что так нужно для номенклатуры, чтобы отличать универсальный синдром от амнезии в частных случаях, сопровождающихся, например, токсическим невритом. Потом слово взял автор учения о врожденных преступниках Чезаре Ломброзо и заявил, что просвещать общество трудно, потому что «люди в большинстве созданы не для науки, а для противодействия ей».
Со съезда Ломброзо поехал ко Льву Толстому, которого считал сумасшедшим. Московский полицмейстер одобрил этот визит, надеясь, что зарубежный психиатр после осмотра объявит в Европе о помешательстве графа (русские врачи отказывались это сделать). Но Ломброзо, напротив, признал свою ошибку и сказал, что Лев Николаевич в норме. После этого Корсаков еще больше подружился с итальянцем. Пару лет спустя Ломброзо приезжал в клинику Корсакова и в прогулочном парке для больных посадил на память ель. Это дерево пережило три войны и три революции.
42 Возбудитель столбняка Сибасабуро Китасато 1889 год
27 апреля 1889 г. на съезде немецких хирургов работавший у Коха японский ученый Сибасабуро Китасато сообщил, что вывел чистую культуру бактерии – возбудителя столбняка. Более того, он установил, что за проявления этой страшной и неизлечимой тогда болезни ответственны не сами бактерии, а вырабатываемый ими яд. Сообщение привело к открытию антител и серотерапии, победе над столбняком и дифтерией. Отвергнув соблазнительные предложения университетов Европы и США, Китасато вернулся на родину, чтобы развивать юную японскую науку. А когда правительство Японии попыталось игнорировать его, этот патриот вступил в борьбу с правительством.
Еще Пирогов догадался, что причина столбняка – смерти от пустяковой царапины – это обитающая в почве бактерия. Саму столбнячную палочку видели в микроскоп Нестор Монастырский, Артур Николайер и многие другие микробиологи. Но понять, как с ней бороться, сумел только Китасато. И сделал он это потому, что у него не было другого выхода.
Доктор Китасато был сыном деревенского старосты с острова Кюсю – самого южного из больших японских островов. Тамошние жители славятся упрямством. Китасато посмел возразить своему учителю в бактериологии – профессору медицинского факультета Токийского университета Огате Масанори. Тот считал причиной болезни бери-бери бактерии и даже предъявил микроорганизм-возбудитель. Но японский морской врач Канэхиро Такаки уже доказал, что бери-бери возникает, если долго питаться белым полированным рисом: это приводит к нехватке тогда еще неизвестного витамина B1.
В Японии тех времен отношение к факту было своеобразным. Флот контролировали самураи клана Сацума. И раз о диетической природе бери-бери заявил морской врач, значит, на флоте так оно и есть, и матросов стали кормить рисом с ячменем. А министерство здравоохранения и сухопутную армию контролировал клан Тёсю. Если «их» главный микробиолог настаивает на том, что бери-бери – заразная болезнь, значит, в армии и минздраве это инфекция. Предписывается есть полированный рис и разыскивать возбудителя. Здравый смысл и врожденное упрямство мешали Китасато поддержать своего сенсея. В результате, когда по императорской программе обучения за границей наш герой отправился в лабораторию Коха, расстался он с Огатой Масанори нехорошо.
Немцы живо объяснили Китасато, что он прав и в науке надо отстаивать собственное мнение: даже твой учитель может ошибаться. Кох поручил японскому стажеру трудоемкие задачи, до которых у него не доходили руки, – получать в чистом виде культуры уже изученных бактерий. Китасато делал это с редким рвением и большой технической изобретательностью. Но его печалило, что трехлетний срок стажировки подходит к концу, а каковы перспективы? Только рабство у профессора Огаты в единственной на всю Японию бактериологической лаборатории единственного медицинского вуза. Нужно было что-нибудь придумать.
В соседней комнате работал Эмиль Беринг – военный врач, увлекшийся химией. Он занимался обеззараживанием и заметил, что кровь подавляет рост микроорганизмов. Китасато часто ходил к Берингу в гости. За чаем среди прочего обсуждали столбняк: почему подозреваемая в его возникновении палочка наблюдается только в сопровождении других микробов, а размножается лишь на дне пробирки? Беринг знал французский и пересказал Китасато вычитанное в трудах Пастера учение об анаэробных бактериях. Столбнячная палочка анаэробна: она размножается, когда другие бактерии рядом поглощают кислород. Беринг занимался еще одним анаэробным организмом – бациллой, вызывающей дифтерию.
Китасато сумел развести столбнячную палочку в атмосфере водорода и показал Берингу, как это делается. Друзья объединили усилия. Но надо было спровоцировать Коха, чтобы тот оставил японца у себя еще на пару лет. На ближайшем семинаре Китасато взял слово и сказал, что нашел противоречие. Великий постулат Коха гласит: за каждую болезнь отвечает только один микроорганизм. А вот Флюгге с Николайером наблюдали столбнячную палочку только в обществе других микробов. Может быть, Кох неправ и тут имеет место симбиоз?
Кох завелся и сказал: «Вот сами и проверьте!» И направил в японское министерство внутренних дел, где служил Китасато, письмо о том, что этот специалист нужен ему еще на два года. Из уважения ко всемирной славе Коха японский император выделил Китасато свой личный грант. Всего через полтора месяца стажер предъявил чистую культуру столбнячной палочки. В докладе от 27 апреля 1889 г. он не просто описал эту бактерию и ее патогенное действие на мышей. Китасато сказал, что в парализованных столбняком нервах палочки нет. Клинические проявления болезни вызывает не сама бактерия, а выделенный ею токсин.
Беринг и Китасато догадались, что этому яду противодействуют антитела, появляющиеся в крови животных, у которых вызвали привыкание к столбнячному токсину. А значит, сывороткой крови таких животных столбняк можно излечить. Совместная статья об этом настолько революционна, что в ней нет ни одной сноски – просто не на кого было ссылаться. Чтобы процитировать хоть что-нибудь, друзья в конце статьи привели фразу из Гёте, а именно слова Мефистофеля, убеждающего Фауста подписать договор с дьяволом кровью: «Кровь, надо знать, совсем особый сок»[6].
Первой болезнью, которую победили сывороткой, стала дифтерия. Есть предание, будто на Рождество 1891 г. Китасато и Беринг в клинике Шарите спасли задыхающуюся от дифтерийной пленки безнадежно больную девочку. Но этого не было. Впервые победную инъекцию сделали 16 марта 1893 г., действительно в Шарите. В ход пошла сыворотка Беринга, которому Китасато перед отъездом на родину оставил все свои наработки.
Открытие антител принесло Сибасабуро всемирную известность. Он стал первым иностранцем, которому в Германии присвоили звание профессора. Пошли предложения из лучших университетов. Но Китасато считал своим долгом развитие Японии, которая выделила ему решающий грант. Правда, родина встретила его равнодушно. Там по-прежнему царил Огата, который вконец обнаглел и даже написал Берингу письмо, что это он придумал лечение кровью. Поборник бактериальной природы бери-бери не понимал разницу между переливанием крови и инъекцией сыворотки. Зато отлично знал, как оставить вернувшегося Китасато без работы. Никакого института или хотя бы отдела наш герой от государства не получил. Привезенные им из Германии приборы пылились в камере хранения, пока Беринг в своей работе уходил далеко вперед.
Китасато вернулся в другую страну: пока его не было, в Японии приняли конституцию, а бюджет оказался под контролем свободно избранного парламента. К этому по заданию императора готовил общественное мнение самый популярный в Японии публицист Фукудзава Юкити – богатейший газетчик и издатель. По образованию – врач. Когда Фукудзава узнал о судьбе Китасато и поговорил с ним, то решил устроить для него частный институт: подарил участок собственной земли в Токио и ссудил половину денег на строительство. Вторую половину дал экспортер фарфора Итидзаэмон Моримура. Прежде Моримура никогда не участвовал в благотворительности, потому что в Японии она была только государственная, а чиновников фарфоровый магнат презирал за страсть к откатам. Тем не менее этот недоверчивый человек вручил 10 тысяч иен профессору, которого видел впервые в жизни. Надо сказать, что инвесторы не прогадали: Китасато бесплатно лечил их обоих – пожилых людей со множеством хронических заболеваний. А доходы от продажи сывороток позволили вернуть инвестиции всего за год.
В 1894 г. началась третья пандемия чумы. Китасато отправился в Гонконг, где искал бактерию – возбудителя этой инфекции. И то была его последняя серьезная работа: далее он превратился в администратора. Издалека наблюдал, как Беринг за противодифтерийные сыворотки получает первую в истории Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Было обидно, что в его лекции упомянуты 17 человек, в том числе научные соперники из Института Пастера, а Китасато забыт. Но это можно было простить за то, что Беринг принимал на стажировку учеников из института Китасато.
Авторитет учреждения прирастал успехами его талантливых сотрудников: Киёси Сига выделил возбудителя дизентерии, Сахатиро Хата в лаборатории Пауля Эрлиха синтезировал препарат № 606 – первое настоящее лекарство от сифилиса, известное как сальварсан. Китасато наступил на горло собственной песне и занялся политикой: он дружил с чиновниками министерства внутренних дел, лечил их, давал приданое их дочерям и даже пошел на национализацию института, поскольку воздействовать на государственную машину удобнее изнутри.
Но институт его был включен в систему министерства внутренних дел. А в министерстве здравоохранения процветал прежний идиотизм: бери-бери считали инфекцией, кормили солдат белым рисом, из-за чего в ходе войн с Китаем и Россией из строя выбыло 250 тысяч человек, многие навеки. Не стань Китасато «князем от науки», играть бы ему по тем же правилам.
Его независимость раздражала. В 1914 г. Япония вступила в Первую мировую войну на стороне Англии, Франции и России. Германия стала противником. Поскольку Китасато продолжал переписку с немецкими друзьями и материально помогал разоренной войной вдове Коха Хедвиге, чиновники пытались объявить его шпионом. И тут профессор взял родную Японию за горло. Он подал в отставку. Вслед за ним ушли его сотрудники. А никто в стране больше не умел делать противостолбнячную сыворотку, которая на войне нужна тоннами. Сотрудники профессора Китасато были преданы своему директору – среди них не нашлось ни одного штрейкбрехера.
И правительство было вынуждено заключить контракт с частной корпорацией Китасато и новым негосударственным институтом, носившим его имя. До самой смерти в 1931 г. профессор возглавлял это учреждение и напоследок завещал сотрудникам не позволять никому – даже императору – диктовать себе, что нужно делать. Девизом ученого должно быть слово «неукротимость».
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Anna Bobrova: Почему этого не было в учебниках по микробе [микробиологии]?
Ответ: Наверное, неукротимость не хотят пропагандировать.
43 Люмбальная пункция Генрих Квинке 1890 год
9 декабря 1890 г. Генрих Квинке сделал первую люмбальную пункцию, чтобы спасти умирающего от менингита мальчика. Проникновение в спинномозговой канал для отбора ликвора неожиданно для самого Квинке получило громадное значение для диагностики, а в хирургии вызвало к жизни спинальную и эпидуральную анестезию.
Терапевт Генрих Квинке, декан медицинского факультета Кильского университета, очень переживал, что у него нет детей. Во всех других отношениях его брак был счастливым. Жена Квинке Берта, на 12 лет младше мужа, любила его и принесла большое приданое. Она была из рода Вреде – старинной купеческой фамилии, представители которой еще в XV в. торговали на Немецком дворе в Новгороде. Свою жену Генрих знал с детства, когда его отец был у сахарозаводчика Вреде семейным врачом.
Жили они на роскошной вилле, напоминающей готический замок. Элегантная Берта превратила ее в салон, где собиралось все кильское общество. К журфиксам одну комнату декорировали в римском стиле, другую в греческом, третью в византийском. В каждой гостей наряжали в соответствующие костюмы. Для дыры, какой Киль оставался до постройки канала, это было грандиозно. Берте завидовала «первая леди» Киля – жена хирурга Эсмарха принцесса Генриетта Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбург. Настоящая принцесса, тетка жены Вильгельма II, у которой останавливался сам кайзер, когда приезжал в Киль, чтобы выйти в плавание на своей яхте «Метеор». И она чувствовала, как ее затмевают. Знаменитый «черный хирург» (Эсмарх оперировал в черном) проникся к терапевту неприязнью и создавал ему в университете массу проблем.
Но все они для Квинке не шли в сравнение с бесплодием. Когда он как врач пришел к убеждению, что детей не будет никогда, то заболел. На месяц прекратил прием и занятия со студентами. В бумагах причиной значилась болезнь сердца, но то была странная болезнь. Квинке доверял только двум знакомым врачам, своим однокашникам, которые жили в других городах. Он побывал у обоих, и каждый раз после консультаций с ними симптомы полностью исчезали на несколько дней.
Такое состояние называли тогда ипохондрией. Генрих вышел из нее на свой лад. Он был не просто хороший врач и профессор, а ученый, за год публиковавший по несколько статей. В 40 лет описал ангионевротический отек (грозный отек Квинке). Детям, поступавшим в его отделение, он всегда уделял внимания больше, чем взрослым. Пережив кризис, Квинке стал искать средство от неизлечимой детской болезни, называвшейся тогда «большая голова», или «водянка мозга».
Это скопление в желудочках мозга большого количества жидкости – до нескольких сотен кубических сантиметров – в результате менингита, воспаления мозговых оболочек. Чудовищное давление вызывает головные боли, пациент едва способен двигаться, его рвет, он слепнет. Обыкновенный исход – смерть. Если же организм справится с воспалением, сдавливание мозга не проходит бесследно. Как говорили в народе, от «большой головы» или умирают, или становятся дурачками.
Квинке всегда интересовала спинномозговая жидкость, в которой фактически плавает центральная нервная система. Еще юным ассистентом в 1872 г. он впрыскивал собакам в подпаутинную цистерну киноварь и затем находил краситель в ликворе повсеместно – от боковых желудочков головного мозга до самого конца спинного мозга в крестцовом отделе позвоночника.
Отсюда напрямую следовала идея люмбальной пункции, или поясничного прокола. Если выпустить часть жидкости, омывающей спинной мозг, ее заменит ликвор из желудочков головного мозга. Тогда давление на всю центральную нервную систему снизится и боль пройдет. Но как пронзить иглой твердую мозговую оболочку, не повредив мозг? Единственное удобное место – самый низ этой оболочки (за II поясничным позвонком у взрослых), где спинной мозг заканчивается и далее свободно свисает пучок нервных корешков, называемый «конский хвост». Как заметил Квинке, «воткнутая здесь игла попадает прямо в жидкость».
Была заказана специальная полая игла. Чтобы при проколе ее канал не забивался частицами твердых тканей, внутрь иглы закладывался мандрен, или стилет. После введения иглы Квинке извлекал мандрен и заменял его на трубку с делениями для измерения давления спинномозговой жидкости.
Гидроцефалия – патология сравнительно редкая. В отделении Квинке лежали в основном больные чесоткой и сифилитики. Инструментарий ждал своего часа до 9 декабря 1890 г., когда привезли мальчика, вошедшего в историю медицины как «Ганс П.». От роду ему был год и девять месяцев, диагноз – пневмония и водянка мозга. На шестой день боль так усилилась, что терять, очевидно, было нечего.
Без всякого наркоза Квинке ввел свою иглу ниже III поясничного позвонка, пока на глубине два сантиметра не ощутил характерный «провал». Отобрал всего три кубических сантиметра жидкости. Поскольку делалось это для облегчения страданий больного, единственное исследование, которое провел с этой жидкостью Квинке, – анализ на присутствие белка. Заметны были только следы. Жидкость чистая и прозрачная, как вода. Квинке назвал такой менингит серозным.
Поскольку возбуждающих воспаление бактерий в ликворе не обнаружилось, Квинке пришел к выводу, что серозный менингит «возникает сам по себе» и «крепко сидит в желудочках головного мозга».
Через три дня Гансу был сделан повторный прокол, теперь уже с отбором десяти кубиков жидкости, а еще через три дня – третий и последний, на пять кубиков. Здесь уже Квинке измерил давление спинномозговой жидкости: она поднималась по трубке на 150 миллиметров над точкой прокола. Позднее измерения у других больных показали, что это верхний предел нормы. При острых формах менингита бывает и 700, и даже 1000, когда врачи не успевают подсоединить трубочку и брызжущий ликвор окатывает их с ног до головы.
После выздоровления Ганса Квинке всю зиму изучал скелеты (30 взрослых и 12 детских), отыскивая самые удобные места и позы для пункций. Он отработал методику прокола так, что она не изменилась до сих пор.
Так серозный менингит перестал быть приговором жизни и интеллекту ребенка, а Квинке обрел душевный покой. Зато его утратил Эсмарх. Как это – чисто хирургическую процедуру придумал терапевт? И именно в тот момент, когда город стал расти, а власти затеяли строительство нового здания клиники. Решался вопрос, кто займет три этажа: хирурги Эсмарха или терапевты Квинке.
Всем доцентам хирургического отделения было велено придумать что-нибудь в ответ на поясничный прокол. Однако совершенствовать его было некуда, а новых идей не было. Едва Эсмарх вышел на пенсию, его лучший ученик Август Бир поговорил с Квинке. Пришли к выводу, что впрыскивание кокаина при люмбальной пункции должно обеспечить обезболивание нижней половины тела.
16 августа 1898 г. Бир впервые применил спинальную анестезию – оперировал колено рабочему с диссеминированным туберкулезом. До 27 августа было выполнено еще пять операций. Первые пациенты показали весь спектр побочных действий, которые и поныне исключить не удается: боль в спине и голове, рвота и тошнота. Тем не менее достижение было налицо, и Эсмарх остался доволен.
Он вышел на пенсию очень хитро: за особые заслуги ему разрешили занимать дом на территории университета до самой смерти. Так старик мог защитить своих учеников от «козней терапевтов». Бир, чтобы не оказаться между молотом и наковальней, перебрался в Грайфсвальд. Потом он не раз выдвигал Квинке на Нобелевскую премию. Этой премии Квинке не получил, зато стал ректором и возглавлял университет до самой смерти Эсмарха в 1908 г. Едва «черный хирург» скончался, Квинке написал заявление об уходе: он не хотел войти в историю интриганом, торжествующим на трупе своего врага.
Построив во Франкфурте виллу, продолжал изучать спинномозговую жидкость. Теперь Квинке больше не думал, будто серозный менингит возникает сам по себе. Уже развивалось учение о вирусах, а Пашен увидел в микроскоп скопление вирусов натуральной оспы, так что Квинке искал возбудителя «своего» менингита. Он не дожил до открытия энтеровирусов и вируса Коксаки. Умер в 1922 г. за рабочим столом, который сделал своими руками в детстве, подражая юному кайзеру.
Историческую иглу, послужившую для первой люмбальной пункции, вдова сдала в столичный медицинский музей на площади Роберта Коха, находившийся в доме под названием Кайзерин-Фридрих-Хаус. Реликвия пережила боевые действия в апреле 1945-го, но исчезла летом того же года, когда в Кайзерин-Фридрих-Хаусе разместилась советская комендатура. По всей видимости, игла стала трофеем неизвестного военного медика.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Лидия Орехова: Сталкивалась в жизни с люмбальной пункцией, когда у близкого человека развился отек мозга в результате травмы, – тогда врач ничего мне толком не объяснял, считая, видимо, такую информацию сакральной. Мне кажется, что знающий врач всегда может и должен объяснить больному и близким, в чем состоит смысл предпринимаемых процедур и лечения, что происходит в ходе болезни с пациентом. По-моему, это очень важно понимать.
Екатерина Филиппова: Вы знаете, частенько бывает и наоборот: распинаешься перед пациентом, рассказываешь ему все-все, и простыми словами, а тот из кабинета вышел и говорит другому: ни черта не понял, если честно))))))
Ирина Ахметова: То, как он жил и как умер, еще работая, да за каким столом, поражает.
Ответ: Прусских детей даже в семье короля тогда воспитывали так, чтобы они знали – вещи не из магазинов берутся, а делаются трудом и мыслью человека. Отец Квинке был преуспевающий врач, он легко мог купить детям мебель. Но не делал этого. Старшие братья Квинке смастерили себе столы, и Генрих, чтобы не отстать, соорудил свой. Он еще и всех превзошел: его стол сложный, с секретными стальными механизмами. Всю жизнь Квинке с гордостью показывал свою работу гостям и некоторым пациентам. Стол в полностью разложенном виде – огромный, на нем с большим запасом помещался лист ватмана.
Anna Kiriluk: Хм, это же его кто-то должен был научить! Да и помогать… Или ребенок сам таскал доски и металл?!
Ответ: Нанимали специального учителя-столяра. К 12 годам, когда мальчик строил себе рабочий стол, помощь ему уже не требовалась.
Vlad Shpandoz: А как вирусы можно в микроскоп увидеть?
Ответ: Вирионы вируса оспы и родственных ему так велики, что по размерам близки к длине волны света. Поэтому их можно видеть в световой микроскоп. В начале XX в. для этого сначала срезали с кожи больного оспенные папулы, делали мазок на предметном стекле. Обрабатывали фиксатором, протравой и нагревали с раствором аммиачного серебра. Смотрели под масляной иммерсией: между объективом и препаратом наносилась капелька кедрового масла. Вирионы (элементарные тельца Пашена) видны как очень мелкие коричневые тельца на желтом фоне.
Galina Goncharova: И первое, что еще приходит на ум, – кружка Эсмарха)
Ответ: Хотя любим мы Эсмарха не столько за нее, сколько за сортировку раненых, перевязочные пакеты и санитаров. Самая социально значимая идея Эсмарха – это привлечение непрофессионалов и массовое обучение первой помощи. Даже медицинские вопросы на экзаменах на водительские права восходят к Фридриху Августу фон Эсмарху.
44 Противозмеиная сыворотка Альбер Кальмет 1894 год
10 февраля 1894 г. в Париже на заседании Биологического общества Альбер Кальмет представил первую в истории сыворотку, способную спасти человека, ужаленного коброй. Но скоро выяснилось, что от укусов бразильских змей сыворотка не помогает. Претензии к производителю перешли в соревнование ученых. В результате смертность от змеиных укусов сократилась в 120 раз и выросла продолжительность жизни гипертоников – даже в тех странах, где ядовитых гадов совсем нет.
Октябрь 1891 г. выдался на юге Вьетнама настолько дождливым, что воды Меконга затопили половину округа Бакльеу. Спасающиеся от наводнения кобры вторглись в деревни и покусали двадцать человек, из которых четверо умерли. На помощь вызвали профессионального заклинателя змей. Он отловил девятнадцать кобр. Заклинателю было жалко их убивать, и он сдал корзину с ними в колониальную администрацию, поскольку слыхал, что европейцы держат змей в зоопарках.
Южный Вьетнам был тогда французской колонией Кохинхина со столицей в Сайгоне. Как раз в том году Луи Пастер командировал в Сайгон своего сотрудника Альбера Кальмета, чтобы развернуть производство вакцины от бешенства. Колониальная администрация решила, что кобры в этом деле могут пригодиться, и переслала корзину Кальмету. Четырнадцать змей из девятнадцати доехали до места назначения живыми.
Кальмет не умел обращаться с кобрами. Он сразу порешил их, чтобы извлечь яд. Набралось по 60 капель с головы. Еще ни один европейский исследователь не получал в свое распоряжение столько яда кобры. А с ядами к тому времени уже научились бороться. Стало известно, что болезни вызывают не сами микробы, а выделяемые ими токсины. Если ежедневно вводить в организм лошади микробный яд, увеличивая дозу, то через 10 дней в ее крови будет столько антитоксина, что инъекция пациенту сыворотки крови этой лошади может прекратить заболевание. Таким образом побеждали столбняк и дифтерию. Кальмет шел проторенным путем. И все же, когда на пастеровской станции в Сайгоне противозмеиная сыворотка спасла ужаленного коброй вьетнамца, это была мировая сенсация – ничего подобного прежде не бывало.
Сделанная Кальметом сыворотка помогала от яда любой кобры, при укусе морских змей и даже мамбы, помогала ужаленным всеми без разбора змеями Австралии – самыми опасными в мире! В 1896 г. об этом узнал начинающий бразильский врач Витал Бразил, только что открывший частную практику в городке Ботукату. Местные жители, португало-индейские метисы кабокло, приносили ему укушенных змеями. В Бразилии чаще всего на людей нападают жарарака и каскавелла – южноамериканский гремучник. Они принадлежат к семейству гадюковых. Их ядозубный аппарат гораздо совершеннее, чем у кобры: длинные клыки в обычной обстановке складываются, как перочинные ножи.
Только в одном штате Сан-Паулу, где работал Витал Бразил, змеи за год кусали до 20 тысяч человек, из которых 5 тысяч погибали. И медицина ничего не могла поделать. Были еще знахари, так называемые змеиные лекари. Они применяли ароматные цветы франжипани, пропитанные ядом. Чтобы получить его, знахари ловили змей и держали их в клетках. Витал Бразил приобрел у них несколько гремучников, научился с ними обращаться, выдаивать их яд. Пропитывал цветы франжипани – все как учили. Но в опытах на кроликах это народное средство никакого клинического эффекта не показывало. И тут, к восторгу Витала Бразила, ему попалась статья Кальмета о противозмеиной сыворотке. Он выписал из Франции волшебный препарат, стал его применять по инструкции. Безрезультатно. Должно быть, вышел срок хранения: французы прислали сыворотку двухлетней давности. Значит, надо приготовить сыворотку самостоятельно по методике Кальмета. А для этого требуются государственные ресурсы.
Как раз тогда в порту Сантус началась эпидемия бубонной чумы. Власти штата Сан-Паулу создали бактериологический институт, в составе которого была запланирована лаборатория для производства противочумной сыворотки. Витал Бразил ничего не знал о чуме, но взялся организовать это подразделение, чтобы попутно делать там противозмеиную сыворотку. Начальство смотрело на это благосклонно: жарараки и каскавеллы убивали больше народу, чем чума. Для лаборатории была куплена фазенда Бутантан, названию которой предстояло прогреметь на весь мир.
Витал Бразил действительно организовал там серийное производство противочумной сыворотки. Но отрабатывая обязательную программу, он в 1898 г. сделал экспериментальную сыворотку, спасавшую от яда гадюковых. Сочувствующее население несло в Бутантан змей самых разных видов. Образовался целый террариум. Теперь можно было повторно выписать сыворотку Кальмета и устроить ей масштабные испытания. Оказалось, французский препарат помогал только от укуса кораллового аспида.
Разобраться, что здесь не так, помогли сами змеи. Кабокло принесли в Бутантан черную муссурану. Богатые люди держали муссуран на своих фазендах как домашних животных. Для человека они безобидны, так как питаются исключительно змеями. Жарарак и каскавелл они спокойно душат и глотают, змеиный яд им нипочем. Если на фазенде живет муссурана, дети могут спокойно играть во дворе: опасные гады соблюдают дистанцию.
Витал Бразил подкинул муссуране кораллового аспида. Он тоже был съеден, но после этого муссурана издохла, демонстрируя симптомы отравления ядом кобры. А надо сказать, что эти симптомы не похожи на результат укуса гадюковых. От укуса кобры умирают красивее: наступает паралич нервных центров, в том числе дыхательного, и жертва погибает от удушья. Совсем иное дело – укус гюрзы или жарараки, с их гемотоксичными ядами: отеки, некроз, кровотечения, раны. Если царица Клеопатра действительно убила себя с помощью змеи, то наверняка выбрала кобру или кого-нибудь из семейства аспидов.
Поскольку результаты опыта с муссуранами были воспроизводимы, Витал Бразил пришел к мысли о специфичности антигенов. Природа наделила муссурану антигеном только от гемотоксичных ядов, потому что ей чаще всего попадаются жарараки. По той же причине французская противоаспидная сыворотка приносит мало пользы в Бразилии. Эта теория вызвала у Кальмета глубокое возмущение. Он заявил, что его сыворотка универсальная, а бразильские специалисты безрукие. И сторону Кальмета принял Институт Пастера.
Спор был решен практически в поединке. 27 января 1916 г. в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) случилось ЧП. Когда смотритель Джон Туми чистил террариум, недавно отловленный техасский гремучник укусил его в большой палец руки. Старший смотритель тут же высосал рану и наложил давящую повязку, штатный врач впрыснул противозмеиную сыворотку Кальмета, но пострадавшему стало хуже. Явные признаки внутреннего кровотечения, рука раздулась от отека. Совершенно случайно в тот день Витал Бразил оказался в Нью-Йорке на научной конференции. И при себе имел образцы сыворотки против укуса каскавеллы, почти что родной сестры техасского гремучника. Главный герпетолог зоопарка тоже присутствовал на той конференции и одолжил у Бразила его препарат. Вскоре Туми вернулся на работу в зоопарк.
Эта победа прославила Витала Бразила на весь мир. Его лаборатория превратилась в Институт Бутантан и стала знаменем Бразилии. Это привлекло щедрое госфинансирование. Бразильцы организовали не имеющую аналогов в мире службу сбора змей. Любой желающий мог помочь институту, отловив рептилию и переслав ее Виталу Бразилу в казенном ящике за казенный счет. Таким образом до сих пор одних жарарак институт получает по 12 тысяч штук в год. Из них выдаивается до шести литров бесценного яда.
Когда в 1930-х гг. выдающиеся немецкие химики бежали от нацистов, Витал Бразил пригласил их изучать пептиды яда жарараки: если ее укус разрушает систему кровообращения, яд наверняка содержит вещества, полезные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако близкие отношения с руководством страны оборачиваются зависимостью. Когда к власти пришли популисты, они провозгласили, что институт должен не заниматься какими-то там пептидами, а делать то, что нужно простому народу: сыворотки. Одних химиков из Бутантана сократили, другие выехали за границу. Открытый ими в яде жарараки брадикинин-потенцирующий фактор стал новым препаратом для гипертоников уже не в Бразилии, а в Англии. Так появился каптоприл, который выручает больных-сердечников при гипертоническом кризе.
45 Возбудитель чумы Александр Йерсен 1894 год
21 июня 1894 г. человек впервые увидел в микроскоп бациллу – возбудителя чумы. Материал для анализа был добыт в склепе нелегально, за мзду. Ученый, сделавший это открытие, действовал в одиночку: единственный помощник обокрал его и скрылся. Другие ученые смеялись над ним. Врачи устроили так, чтобы он держался подальше от больницы. И все же Александр Йерсен сумел впервые в истории вылечить больного чумой, а обнаруженный им «сатанинский микроб» называется Yersinia pestis.
Третья пандемия чумы началась на крайнем юге Китая, в провинции Юньнань, когда там в 1856 г. взбунтовались мусульмане-хуэйцы (дунгане). Поскольку вымирала мятежная провинция, правительство сначала не делало ничего. А когда восстание подавили и инфекция перекинулась на центральные области страны, меры принимались только кое-где на местах. Как рассказывал китайский первый министр Ли Хунчжан, бывший тогда губернатором столичной области, в Запретный город о чуме не докладывали, чтобы не расстроить императора: «…поумирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас все благополучно, и когда меня спрашивали: нет ли у вас каких-нибудь болезней, я отвечал: никаких болезней нет… все население находится в самом нормальном порядке».
Чума являлась с марта по август. Если год выдавался сухим и дожди не смывали мусор, который за зиму скапливался на улицах, город наводняли крысы и мыши. Сначала эпидемия убивала их, затем, набрав силу, перекидывалась на свиней, а там и на человека. Так было много лет подряд, и в 1894-м чума наконец перемахнула границу. С января она бушевала в Кантоне (Гуанчжоу) – южных воротах страны, где к июню сгубила 80 тысяч человек. Многие, спустившись на 140 километров по реке, нашли приют у родственников в Гонконге, который тогда был британской колонией.
Главным врачом Гражданского госпиталя Гонконга и вторым лицом санитарной службы колонии был молодой горячий шотландец Джеймс Лоусон (1866–1935). Он разделял теорию Пастера о том, что чуму вызывает некий микроб, а не «миазмы», ожидал, что рано или поздно этот микроб завезут в Гонконг, и заблаговременно съездил на разведку в Кантон, чтобы изучить симптомы тамошней формы чумы. Инкубационный период от четырех до шести суток, затем прострация, слабость, воспаление языка и покраснение слизистой. Резко взмывала температура, сознание путалось, «очумевший» бредил. В паху (обычно), реже под мышками или на шее возникал бубон, за сутки вздувавшийся до размеров куриного яйца. По нему чуму и узнавали. На второй день – рвота и диарея; если больной совсем не мог их контролировать, это значило смерть в течение 48 часов, а часто быстрее. Если удавалось протянуть пять-шесть дней, бубон размягчался. Его можно было проколоть, чтобы спустить гной, и следовало долгое мучительное выздоровление. Но так бывало редко: даже в больнице смертность доходила до 95 %.
7 мая Лоусон вернулся из Кантона, а уже 8-го диагностировал в своем госпитале чуму у нового пациента по фамилии Хун и немедленно его изолировал. Но этот Хун был разнорабочим в госпитале, доверял европейским докторам, тогда как 200 тысяч китайцев, населявших Гонконг, придерживались только традиционной медицины чжун-и. На весь город была одна больница с персоналом, практиковавшим чжун-и. Располагалась она у подножия застроенной трущобами горы Тайпиншань и носила название Дунхуа.
Это заведение представляло собой четыре двухэтажных домика. Что в них творилось, санитарная служба не знала, потому что китайские лекари давали колонизаторам недостоверную статистику. Главная проблема традиционной медицины состояла в том, что чжун-и не признавала существования возбудителей инфекций. Поэтому в Дунхуа не было ни приемного покоя, ни отдельного корпуса для заразных больных. Когда 10 мая Лоусон явился туда с проверкой, он обнаружил в разных домиках сразу 20 умирающих от чумы.
Больницу Дунхуа нужно было немедленно закрывать как рассадник инфекции, а заразившихся выявить и поместить на госпитальном судне «Гигиея», которое Лоусон предложил отогнать от берега на середину бухты. Но не тут-то было. Китайцы в массе своей верили, что заморские черти (как называли они европейцев) вырезают у чумных брови и печень, чтобы лечить своих. Более того, так думали и некоторые просвещенные китайцы, работавшие в колониальной администрации. На совещаниях они стояли насмерть против закрытия Дунхуа.
10 мая в Гонконге объявили эпидемию, подняли в гавани черный флаг и прекратили доступ китайцев с континента. 12-го больных из Дунхуа все же перевели на госпитальное судно, однако началось вооруженное сопротивление. Белые врачи ходили по улицам только с револьверами. Сторонники (а также, видимо, представители) традиционной медицины расклеили на стенах трущоб Тайпиншань плакаты с призывами не пускать на порог западных медиков, потому что они якобы взрезают животы беременным женщинам и вырывают у малых детей глаза. А между тем трущобы надо было обыскать, так как там явно бушевала эпидемия. Трупы уже валялись на улицах, среди полчищ дохлых крыс.
Губернатор пригрозил району Тайпиншань самыми суровыми мерами. Канонерская лодка «Твид» нацелила на трущобы свои орудия. В Гонконге квартировал Шропширский полк легкой пехоты. Командир предложил добровольцам сопровождать врачей. Вызвались все, никому не хотелось выглядеть трусом. Врываясь в китайские дома, солдаты видели такое, от чего засосало под ложечкой у самых смелых. Вот за запертой дверью семья: отец уже труп, с высунутым черным языком, мать в агонии, старший ребенок неподвижно лежит на пропитанной нечистотами циновке, младший бредит в луже рвотных масс. У него есть еще надежда. Остальных ждет засыпанный известкой гроб под бетонной плитой толщиной 85 сантиметров. Имущество погибших сжигали на мостовой, а дома дезинфицировали газообразным хлором, заливая хлорную известь кислотой прямо на полу.
Но как гарантированно избавиться от инфекции, было неясно, пока возбудитель оставался неизвестным. Самый быстрый пароход из Европы шел тогда в Гонконг 30 суток, поэтому пригласили видного микробиолога, жившего поближе, – японца Сибасабуро Китасато. Он уже прославился, когда работал у Коха и открыл столбнячную палочку, а также высказал идею существования антител. 12 июня, когда число погибших перевалило за полторы тысячи, японцы прибыли ввосьмером: сам Китасато, профессор Танэмити Аояма и шесть ассистентов с новейшим оборудованием. Им выделили охрану от китайцев и квартиру на стекольном заводе, спешно переделанном под инфекционную больницу. Вскрывая труп, один ассистент и Аояма заразились, причем ассистент погиб, а профессор выбыл из строя на месяц. Тем не менее 15 июня Китасато объявил об открытии бактерии. В тот же день к нему прибыл незваный гость: сотрудник Пастера Александр Йерсен.
Точнее, бывший сотрудник. Йерсен – швейцарец, выучившийся на педиатра в Германии; получил французское гражданство, потому что очень хотел работать у Пастера. Он сдружился с правой рукой Пастера Эмилем Ру. Они вместе показали, что болезнь вызывает не микроб, а выделяемый им токсин. Ру от природы не терпел порядка и систематизации, аккуратный швейцарец хорошо его дополнял. Но Йерсен плохо владел собой. Так, он не мог преподавать, потому что его бесила тупость учеников. Ру и сам, когда был репетитором, едва не задушил ученика, но все-таки подчинялся дисциплине: преподавание микробиологии поддерживало институт на плаву. Как-то Ру стал харкать кровью и попросил Йерсена заменить его на семинаре. Тот согласился с большой неохотой, чем очень задел своего друга. Больной разволновался и высказал все, что думает, а именно, что деятельность ученого состоит из двух направлений: первое – пресмыкаться, второе – работать; и Йерсен должен быть счастлив, что ему обычно выпадает второе. Но может ли он провести занятие, пока друг болеет? Бедный Ру драл глотку два часа, пока кровь не хлынула у него изо рта. После этого Йерсен решил уйти из науки.
Назад в медицину он тоже не хотел: его коробил момент получения денег от пациента, потому что при серьезной болезни выходит практически «кошелек или жизнь». И потому Йерсен нанялся судовым врачом на корабль, ходивший вдоль берегов Вьетнама, с недавних пор ставшего французской колонией. Судовому врачу платят жалованье, и он может не брать денег со своих больных.
Когда в первом рейсе вдоль берегов Вьетнама, по пути из Сайгона в Нячанг, Йерсен увидел Аннамские горы, у него перехватило дыхание: оказывается, через эти горы никогда не ходил пешком ни один европейский исследователь. А что он видел за свои 28 лет, кроме больничных палат и лабораторий? Йерсен уволился с корабля. Французская колониальная администрация как раз создавала пастеровскую станцию в Сайгоне, швейцарец оформился на госслужбу как специалист по вакцинации, с возможностью путешествовать по всему Индокитаю.
Для начала он прошел через горы из Нячанга в Пномпень. Не с первого раза, но получилось. Во время третьей экспедиции на него напали беглые каторжники. Он в одиночку отбился от пятерых, хотя его ударили в грудь копьем, сломали палец на руке и размозжили ногу. В довершение через несколько часов его чуть не растоптал дикий слон. Потом главаря нападавших поймали и обезглавили на глазах у Йерсена. Палач был не в форме, снес голову только с четвертого удара, но приговоренный даже бровью не повел. Вот пример самообладания, подумал тогда Йерсен.
Вскоре после той казни начальство приказало Йерсену ехать в Гонконг с микроскопом, агаром и подопытными животными, чтобы установить возбудителя чумы, определить пути его распространения и меры профилактики. И все это в одиночку!
Притом Йерсен не знал английского. Представляясь группе Китасато, он заговорил с ними по-немецки. Вместо ответа японцы стали смеяться. «Видно, со времен обучения в Марбурге я подзабыл язык», – писал Йерсен своей матери. Вообще, Китасато не был рад видеть француза. Не для того японский отряд примчался в зачумленный город и терял людей, чтобы делиться славой. Йерсену выделили койку в полицейском участке и стол в больничном коридоре. Всякий желающий мог трогать его культуры, заглядывать в микроскоп и смотреть на подопытных животных. Трупов для вскрытия Лоусон не давал, каждый раз объясняя Йерсену, что сегодня очередь японцев. В довершение китайский бой – слуга и переводчик – сбежал, прихватив 75 пиастров, половину бюджета экспедиции.
На помощь пришел отец Вигано – католический миссионер, проживший в Гонконге 30 лет. В юности святой отец сражался на стороне французов при Сольферино и сохранил симпатии к франкофонам. Он помог Йерсену нанять китайских строителей, соорудивших к 21 июня бамбуковую хижину 8 × 3 метра со спальней и лабораторией. А вечером миссионер отвел ученого в склеп, где дожидались похоронной команды покойники, умершие от чумы в ночь на 21-е. Они уже лежали в гробах под слоем известки, пока британские матросы-добровольцы рыли для них могилы.
Йерсен за несколько пиастров и бутылок виски купил доступ к телу некоего Олу Куонга. Срезав с его бедра бубон, швейцарец отправился в свою хижину рассматривать содержимое бубона под микроскопом и увидел настоящее пюре из бактерий. Они формой походили на зерна круглого риса, по методу Грама не окрашивались, зато их слегка окрашивала синька Лёффлера, причем только на концах, оставляя светлой середину. Мышь, зараженная взвесью этих бактерий, подохла на следующий день, демонстрируя все симптомы чумы. 21 труп отпрепарировал Йерсен в склепе, каждый раз платя морякам чаевые, и всегда находил этих бактерий.
Японцы почему-то, к удивлению Лоусона, не вскрывали бубоны. Они искали чумную бациллу в крови, где ее бывает мало, и в термостате у них выросла не чумная палочка, а пневмококк, который по Граму окрашивался. У Йерсена же вовсе не было термостата, он выращивал свои культуры не при 37 градусах, а при 30 – температуре окружающего воздуха. Позднее выяснилось, что в таких условиях чумная палочка растет лучше пневмококка и его вытесняет.
Нашел Йерсен свою бактерию в трупах дохлых крыс на улицах и в земляных полах домов на глубине до пяти сантиметров. В бамбуковых трубочках штамм чумной бациллы был отправлен в Париж, где срочно развернули работу над сывороткой.
Через два года эпидемия повторилась, но в меньшем масштабе. На сей раз Йерсен прибыл в Гонконг с бутылкой противочумной сыворотки, приготовленной из кобыльей крови на станции, которую он организовал в Нячанге. Больных китайцев в госпитале не было, а соваться в китайские дома «заморскому черту» не рекомендовали. Пациент нашелся в католической миссии в Кантоне: это был 18-летний семинарист-китаец по фамилии Цзе. Он слег утром 26 июня 1896 г. Бубон и рвота появились уже в первый день, предвещая скорый конец.
Йерсен ввел семинаристу всего 30 кубических сантиметров сыворотки: по десять в 15, 18 и в 21 час. К полуночи рвота и бред прекратились, диарея отпустила и больной уснул. А в 6 утра проснулся совершенно здоровым. Бубон и температура исчезли! Сам Йерсен не верил своим глазам и говорил, что, не будь вчера свидетелей, он решил бы, что ошибся в диагнозе и то была не чума.
Друзья в Париже ждали, что теперь Йерсен, завоевавший всемирную славу, вернется в Институт Пастера. Но он ответил, что отрешился от мирских страстей. Ему больше нравилось кататься по Вьетнаму на велосипеде, прививая не людей, а скотину, за которую не зазорно брать плату. Станция в Нячанге стала готовить вакцины для домашних животных. Чтобы она могла себя финансировать, Йерсен купил землю и посадил каучуконосную гевею из Бразилии. Настала эра автомобилей, производитель шин Michelin покупал каучук по три пиастра за килограмм.
Наш герой проводил время в уединении, изучая направление ветра, ультрафиолетовый индекс и морские приливы. Высоту прилива он отмечал ежедневно, последний раз – накануне своей смерти, 1 марта 1943 г. Для вьетнамцев, во время войны 1965–1975 гг. потерявших от чумы 21 тысячу человек, Йерсен почти национальный герой. Его могила – в Нячанге, где ему воздвигнуто святилище. Буддисты, последователи махаяны, почитают Йерсена бодхисатвой мудрости.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Анна Баллати Тихомирова: Спасибо за великолепное исследование вопроса. В том числе и о реальных возможностях «традиционной» китайской медицины.
Lin White: Основная причина попадания людей по скорой в больницу в Китае – это лечение традиционной медициной.
Фатима Чекунова: Да, по сравнению с историей жизни таких людей грех жаловаться на непонимание начальства)
Ответ: Вот потому Йерсен и разводил гевею с хинным деревом, чтобы его институт не зависел от начальства материально.
Olga Kogan: Замечательно! Даже припомнился фильм «Разрисованная вуаль», только там эпидемия холеры упоминается.
Ответ: Сомерсет Моэм (литературная основа фильма – из его романа) описывал героев, которые вдохновлялись примером Йерсена и хорошо знали его подзабытую ныне историю.
46 Возбудитель ботулизма Эмиль ван Эрменгем 1895 год
14 декабря 1895 г. в бельгийской деревне Эльзель на поминках основателя местного оркестра музыканты отравились неизвестным ядом. Тщательное расследование этого несчастья привело к открытию возбудителя ботулизма и рождению сыщика Эркюля Пуаро.
Оркестр играл на похоронах 87-летнего Антуана Кретёра – создателя и главы деревенского музыкального общества. Музыка стала увлечением для нескольких тысяч жителей Эльзеля, в быту искусных ремесленников, и одновременно приманкой для туристов. Приезжим нравилась красивая холмистая местность, старинные здания и свежие продукты. В том числе – эльзельская ветчина, похожая на пармское прошутто.
В память о наиболее выдающемся жителе деревни на стол выставили несчетное количество спиртного и лучшую ветчину, которую две недели как достали из дымохода, где она коптилась 50 суток. В пиршестве участвовали 34 музыканта, и еще периодически заходили помянуть другие соседи, которые тоже перехватывали кусочек ветчины. Потом, во время следствия, они отметят, что по неизвестной причине в сезон 1895 г. мало у кого в Эльзеле получилась удачная ветчина. Но эта, роковая, была недурна.
За полночь гости разошлись, а к утру оба местных врача сбились с ног: их вызвали сразу в 20 домов. Болезнь походила на заурядное пищевое отравление – у кого понос и рвота, у кого газы и болезненное мочеиспускание (а пива было выпито немало). Но затем добавились необычные симптомы: все музыканты жаловались на зрение. У них двоилось в глазах, зрачки были расширены, верхние веки не поднимались. Тех, кто съел ветчины больше всех, донимала жажда. Едва им давали пить, начиналось удушье, и жидкость выливалась через нос. Странные симптомы не проходили, а кое у кого усугублялись. Всего умерло трое, и последним, 22 декабря, – шорник Фирмен Кретёр, родственник усопшего старца.
В Эльзеле появились полицейские детективы. Консьержка в ратуше сказала им, что это убийство. Мол, вся деревня знает: другие наследники отравили Фирмена, но чего-то не рассчитали, и пострадали посторонние. Из громких отравлений с такими симптомами последним по времени было харьковское дело, о котором писали газеты. В 1885 г. пятеро насмерть отравились осетриной. Продавцы рыбы пытались уйти от обвинения, но на их беду профессором судебной медицины Харьковского университета был выдающийся врач. Его звали Василий фон Анреп, он уже прославился тем, что первым в мире применил местную анестезию. Фон Анреп выделил из мочи и органов отравленных харьковчан необычный трупный яд, птомаин, который действовал на зрение как атропин – расширял зрачки. Этот птомато-атропин, как назвал его Анреп, обнаружился и в погубившей людей осетрине. Всего 0,2 миллиграмма такого яда убивали кролика. В экспертном заключении было сказано, что выделяют птомато-атропин неизвестные пока что бактерии. Искать их в задачу Анрепа не входило, он ограничился тем, что изобличил поставщиков рыбы.
Бельгийская полиция решила вызвать специалиста по бактериям, микробиолога Эмиля ван Эрменгема из Гента. Ему переслали два куска ветчины и селезенки умерших музыкантов.
В первом куске и в гистологических препаратах под микроскопом были видны следы жизнедеятельности каких-то анаэробных (способных жить без воздуха) бактерий. Ван Эрменгем развел их в желатине с глюкозой и открыл, что они вырабатывают страшный яд. Кролик умирал после инъекции всего 0,0005 миллиграмма этого токсина. Видимо, то был «осетринный яд» Анрепа, но только более концентрированный. Чтобы найти его источник, ван Эрменгем отправился в деревню Эльзель.
Он долго разговаривал с каждым больным. Установил, кого вовремя вырвало, кто где сидел, от какого куска брал. Кто сколько ел: умерли те, кто взял больше 200 граммов, а съевшие от 90 до 200 еще полгода приходили в себя. Была воссоздана «биография» свиньи, из которой сделали ту самую ветчину. Ее хватило на две бочки, причем содержимое второй бочки оказалось безвредно. Более того, второй кусок из «отравленной» бочки тоже можно было есть. Он был, правда, тухловат, но к пиву еще годился.
Готовили ветчину так: после разделки туши кусок мяса натирался солью и закладывался на дно бочки. Сверху клали кусок сала, затем шел новый слой мяса и опять сало. В бочку выливалось два литра воды, так что рассол накрывал нижний кусок ветчины. Вот в нем-то без доступа воздуха и развелись бактерии, производившие смертоносный токсин. Те, кто ел от другого куска или брал сало, пострадали куда меньше.
Микроорганизмы, вызвавшие жертвы на поминках, живут в почве и в кишечнике животных. Ван Эрменгем назвал их «бациллами ботулизма». По-латыни botulus значит «колбаса». Впервые болезнь описали за 100 лет до ван Эрменгема немецкие врачи, обследуя отравившихся колбасой. Название у болезни уже было, теперь выяснилась ее причина.
Наследники Кретёра оказались ни при чем. Видимо, в тот год бациллы необычайно размножились в эльзельской почве, откуда попали в бочку и обжили нижний кусок ветчины. Стал понятен и харьковский случай. Те, кто продал пострадавшим осетрину, готовили ее на совесть. Виноваты были астраханские рыбаки, которые целые сутки не потрошили снулую рыбу, так что в ее кишечнике без доступа воздуха расплодились бациллы, оставившие споры. А засолка и копчение не гарантируют гибель этих спор.
Так Эмиль ван Эрменгем блестяще оправдал семейство, потерявшее сразу двоих мужчин, и выявил врага, который преследует человека со времен изобретения консервов.
Эта история попалась на глаза писательнице Агате Кристи. Она решила, что новым Шерлоком Холмсом мог бы стать бельгиец, приглашенный в Англию как частный детектив. Эмиль стал Эркюлем. Первое сложное дело, которое Пуаро расследовал у себя на родине («Коробка шоколада», 1923), было, разумеется, об отравлении. В основной версии преступления фигурировал яд – «птоматин или атропин», прямо по Анрепу.
Интересно развивалась судьба этого самого страшного яда. Безуспешные попытки применить его в войне сопровождались экспериментами над обезьянами. В Кэмп-Детрике (штат Мэриленд, США) среди подопытных животных оказалась обезьяна с явно выраженным тиком. Инъекция ботулотоксина случайно сняла этот симптом, и оказалось, что так можно лечить косоглазие и спазмы. Под названием «ботокс» кристаллический токсин вошел в повседневную медицинскую практику и поступил в продажу. Волны убийств по мотивам сюжетов Агаты Кристи не последовало, зато – опять же случайно – заметили свойство токсина предотвращать возникновение морщин. Так красота, «страшная сила», приняла на вооружение концентрированную смерть.
47 Лучевая терапия Эмиль Груббе 1896 год
27 января 1896 г. родилась идея радиотерапии. Чикагский студент-медик Эмиль Груббе облучился, работая с рентгеновскими трубками, и по настоянию своих профессоров стал лечить неоперабельный рак молочной железы. Это принесло ему большие деньги и многочисленные заболевания. Груббе пережил 93 операции, а закончилось все расследованием ФБР.
Судьба Эмиля решилась в семь лет, когда он первый раз побывал в театре и там увидел электрическую лампочку. Для Чикаго 1882 г., до всякой электрификации, это было чудо техники. С того дня Эмиль мечтал, когда вырастет, делать лампочки, чтобы их у него было много-много. И к этому он пришел, несмотря на отсутствие образования и материальных ресурсов.
Груббе родился в небогатой семье немецких эмигрантов. В 13 лет был вынужден бросить школу и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мыл пузырьки в аптеке, побыл мальчиком на побегушках, через год поступил клерком в офис универмага Маршалла Филда, что считалось большой удачей: там платили два доллара за 10 часов. В магазине Эмиль попался на глаза хозяину. Филд сам начинал сидельцем в галантерейной лавке, где усвоил правило «покупатель всегда прав», которое и принесло ему миллионы. Он сочувствовал старательным ребятам из бедноты. Однажды босс увидел, как Груббе заполняет бланк без ошибок, одновременно читая учебник физики.
Вызвав Эмиля к себе, Филд предрек ему большое будущее в науке, уговорил вернуться в школу и дал немного денег. Груббе ушел из дома. Доучивался в штате Индиана, где это стоило дешевле. Днем занимался, ночью работал сторожем. Затем вернулся в Чикаго и поступил в гомеопатический колледж имени Ганемана. Диплом врача обещал финансовую независимость, открывая путь к собственной фабрике лампочек.
Но ждать Эмиль не хотел. Подрабатывая в лаборатории колледжа, он встретил странствующего немецкого стеклодува по имени Альберт Шмидт. Решили делать лампочки вместе. Шмидт выдувал, а Груббе снимал производственное помещение за деньги, которые получал в газете как внештатный судебный репортер. Чтобы производить самое передовое, Эмиль выписал из Германии ведущий физический журнал Annalen der Physik. В ноябре 1895 г. он прочел там о трубках Крукса и вообразил, что это перспективный товар.
Катодная трубка – почти лампочка, только без нити накаливания. Ток между электродами течет, когда нагретый катод излучает электроны, летящие сквозь вакуум к аноду. Груббе сделал парочку трубок на пробу, чтобы предложить физикам для опытов. И тут под новый, 1896 год Вильгельм Конрад Рентген сообщил, что анод круксовой трубки испускает неизвестные лучи, которые позволяют фотографировать кости живого человека. У Груббе появилась масса заказчиков, желающих поиграть с рентгеновскими лучами. Пришлось забросить занятия в колледже и устроить аврал.
Самой ответственной операцией была откачка воздуха. Чем глубже вакуум, тем интенсивнее поток электронов и, соответственно, рентгеновское излучение. Качество Груббе проверял, ставя левую руку между трубкой и флуоресцирующим экраном: если кости видны хорошо, значит, можно запаивать. Через две недели такого производства рука покраснела, распухла и заболела. Груббе заработал себе лучевой дерматит – еще неведомую тогда болезнь.
27 января он пришел на занятия в колледже с перевязанной рукой. Преподаватели-гомеопаты спросили, что с ним, и принялись осматривать руку. Тогда-то профессор Джон Эллис Гилмэн (1841–1916) произнес исторические слова: «Любой физический агент, способный причинить такой вред нормальным тканям, дает возможность использовать его как терапевтический там, где желательно раздражающее и даже разрушающее действие».
А на следующий день в мастерскую лампочек пришла женщина с запиской от другого профессора, Ройбена Ладлама (1831–1899): «Дорогой сэр: этим представляю миссис Роуз Ли, у которой карцинома левой груди. Она желает, чтобы Вы сделали ей свои аппликации икс-лучей. Надеюсь, Вы сумеете ей помочь. Искренне Ваш, Р. Ладлам, M. D. Января 28–1896». Помочь 55-летней женщине с метастатическим раком после радикальной мастэктомии было уже невозможно. Ее грудь превратилась в кровавую зловонную массу, причинявшую жуткие боли.
Первый сеанс лучевой терапии состоялся в 10 утра 29 января и занял час. Груббе поступил, руководствуясь принципами гомеопатии: разбавил действующий агент. Во-первых, он обложил здоровые части тела свинцовой фольгой, памятуя о своем дерматите. Сам он стоял рядом без всякой защиты, за что ему предстояло поплатиться. Во-вторых, разместив трубку всего в трех дюймах над грудью, он облучал больную не две недели, как себя, а только час в день. Потом оказалось, что это очень много и хватает нескольких секунд. В-третьих, сеансы повторялись 18 дней в одно и то же время.
Спасти миссис Ли на той стадии заболевания не смогли бы даже сейчас. Она умерла через месяц. Но лучи затормозили рост опухоли, уменьшив боль и зловоние. Лечебный эффект был налицо. На следующий день пришел еще один пациент, с запиской от другого профессора, – 80-летний А. Кэрр с туберкулезной волчанкой на коже лица. У него дела пошли вообще прекрасно, но выздороветь старик не успел: он той зимой поскользнулся на высокой эстакаде, упал и разбился насмерть.
Целый год к Эмилю шли безнадежные больные с неоперабельным раком молочной железы, пока, наконец, одна из них оказалась не столь запущенной. Рентген вызвал у пациентки стойкую ремиссию – впервые в истории медицины. Об этой победе Груббе не писал статей, потому что на тот момент он еще не был дипломированным доктором. А в 1898 г., когда он окончил колледж, такие сообщения пошли валом.
От пациентов не было отбоя. Груббе еще выпускал лампочки, но главным доходом его мастерской стала радиотерапия. Он отбирал больных в клинической больнице своего колледжа, где преподавал рентгенографию, и экспериментировал с лечением разных патологий. В 24 года разбогател, купил акции платиновой компании, женился на красавице, стал путешествовать. Дерматит его превратился в хронический, но Груббе считал, что это ерунда: немного вазелина – и все в порядке.
Так думал и его кумир Томас Эдисон, собиравшийся лечить рентгеновскими лучами туберкулез легких. Это направление в компании Эдисона вел его верный помощник и друг Кларенс Далли. В 1904 г. Далли умер от рака кожи, после чего рентгенологи всего мира стали думать о защите. Повезло новичкам, не успевшим облучиться в романтический период неведения. А Груббе к тому времени уже набрал свои тысячи рад. На его руках и шее то и дело возникали карциномы, от которых он избавлялся электрокаутеризацией: рентгеном не лечил, поскольку в его жизни облучения и так хватало. Поразившую его импотенцию и мужское бесплодие Эмиль также счел последствиями своей вредной работы. В 1911 г. он поймал неверную супругу Клару Антонию с поличным и развелся. Когда в 1919-м наметилась помолвка с другой женщиной, Груббе был уже весь в шрамах от десятка операций. Его клиника приносила громадные доходы, Эмиль ходил в завидных женихах. Тем не менее буквально накануне помолвки он застукал невесту с другим, после чего решил остаться холостяком. Друзьям он сказал: «Я никому не должен навязывать свое уродство».
Настоящее уродство было еще впереди. Как это случается с раковыми заболеваниями, все обострилось после несчастного случая. В 1929 г. Груббе сбила машина, виновник скрылся с места аварии. Кисть левой руки была раздроблена так сильно, что ее ампутировали. И тут же кожные карциномы высыпали с разных сторон, в том числе на лице. Пришлось удалить верхнюю губу.
Груббе думал, что теперь его песня спета. Единственным утешением оставались умирающие от рака больные. Он писал так: «Меня воодушевляет лишь моя работа. Я лечу пациентов, которым еще хуже, чем мне. И помогая другим, помогаю себе самому».
В те времена зеленые воспаленные руки радиолога воспринимались больными как должное, но изуродованное лицо все же подрывало доверие. Больных становилось меньше. Нужно было что-то придумать. В 1933 г., роясь в ящиках своего стола, Эмиль нашел два клочка бумаги, которые он считал сгоревшими при пожаре, – записки от своих профессоров, с которыми 37 лет назад пришли к нему миссис Ли и старый Кэрр. Груббе немедленно написал в Radiology статью о том, что он первым в мире применил радиотерапию: теперь имелись доказательства.
Как реклама это сработало. Первому в мире простительны любые увечья. Лечиться у первого в мире – большой почет. Груббе продержался еще 14 лет, пока не стало ясно, что с тремя пальцами теперь уже правой руки придется расстаться. Эмиль готовился к этому заранее, учился держать ручку и ложку большим и средним пальцем.
Выйдя на пенсию, родоначальник радиотерапии подарил свое собрание книг по специальности – тысячу томов – публичной библиотеке. Имущество завещал Чикагскому университету с условием, что там составят и издадут его биографию. И стал ждать смерти. А она все не наступала.
Пальцы правой руки отрезали, в 1951 г. отняли и всю левую руку по самое плечо. Квартирный хозяин потребовал освободить жилплощадь. Дескать, вид калеки отпугивает арендаторов. Груббе перестал выходить из дому, а с посетителями и давними пациентами говорил из-за ширмы, чтобы не видеть ужаса в их глазах. Однажды он согласился сфотографироваться, когда давал интервью об атомной бомбе: «Россия и Америка должны немедленно прекратить ядерные испытания. Я знаю, что может сделать радиация!»
Наконец в 1960 г. он скончался от больничной пневмонии после 93-й по счету операции. Выполняя последнюю волю покойного, университет заказал его биографию видному радиологу Полу Ходжесу (1893–1997 – да, радиологи порой живут до 103 лет). Ходжес изобрел фототаймер. Это устройство избавило пациентов аналоговой эпохи от лишнего облучения, отключая аппарат автоматически в момент, когда снимок уже точно должен получиться.
Ветеран стал изучать биографию Груббе и быстро увидел, что его показания расходятся с реальностью. В записках умершего было сказано, будто он открыл месторождение платины в штате Айдахо и в XIX в. побывал на всех платиновых приисках, от Бразилии до Южной Африки. Но когда? Ведь были же сотни пациентов.
Груббе оказался вулканологом-любителем, посетив ВСЕ действующие вулканы мира, и своими глазами наблюдал извержение Монтань-Пеле на Мартинике (1902). Тогда погибло все население города Сен-Пьер – 28 тысяч человек, кроме двоих, и только один заваленный пеплом пароход со сломанными мачтами сумел бежать из гавани. Так вот, Груббе утверждал, что находился на борту этого корабля. В это еще можно было поверить, но дальше он писал, что в 1903 г. использовал для радиотерапии искусственные изотопы. Вот уж чего точно быть не могло: рукотворные изотопы тогда не на чем было делать, и до 1936 г. медики их не знали. Не позавидуешь автору, которому поручено писать биографию барона Мюнхгаузена.
Единственным материальным доказательством того, что Груббе хоть что-то сделал первым (кроме того, что облучился по глупости), оставались записки. Их передали криминалистам ФБР. И, к некоторому изумлению Ходжеса, документы оказались настоящими. Бумага сделана в середине 1890-х гг., чернила тоже, и почерк совершенно точно профессора Ладлама в последние годы его жизни.
Биография вышла. Девять ее глав автор посвятил разоблачению всякого вранья своего героя, но все-таки признал его «пионером» и воздал должное мужеству и стойкости мученика икс-лучей. С 1970 г. в Чикаго на завещанные Груббе средства особый фонд вручает видным радиологам золотые медали памяти Эмиля Груббе. От них никто не отказывается.
48 Вакцина от чумы Владимир Хавкин 1897 год
10 января 1897 г. человеку впервые была введена вакцина от чумы. Создатель этой вакцины микробиолог Владимир Хавкин сделал инъекцию самому себе. Начало сбываться предсказание Луи Пастера: «Один из моих учеников остановит чуму».
Пастер сказал это, уже умирая, когда последний раз приехал в свой институт. Ему тогда продемонстрировали под микроскопом возбудителя чумы – бактерию, только что открытую его учеником Александром Йерсеном.
Началась третья пандемия чумы: страшная болезнь вырвалась из природного очага в центре Азии и набросилась на Китай, Россию и Индию. Из Индии как раз вернулся самый младший по стажу ученик Пастера – российский подданный Владимир Ааронович Хавкин. Впрочем, россиянином он уже не был даже по бумагам. Хавкин не посетил вовремя русское посольство, чтобы продлить свой заграничный паспорт. Да на родине его особо и не ждали. Там он числился народовольцем, политически неблагонадежным. Трижды бывал под арестом, восемь лет состоял под надзором полиции. Без особого сожаления русский посол выдал ему рекомендательное письмо для британского правительства, которое пригласило Хавкина в Индию испытывать его противохолерную вакцину. Тоже первую в мире.
В этой вакцине сомневались и покровитель Хавкина Илья Мечников, и сам Луи Пастер. Однако результат оказался прекрасный: 93 % гарантированной защиты. Поверив, что Хавкин – волшебник, англичане призвали его снова – теперь уже бороться с чумой. Приняли штатным биологом на гражданскую службу, обещали британское подданство и лабораторию.
В самом деле, лабораторию в Бомбейском медицинском колледже выделили с небывалой щедростью – целую комнату. В штате – один лаборант и три курьера. Подопытные животные – крысы, которых моряки за гроши отлавливали на приходящих из Европы судах. Одновременно с Хавкиным несколько научных центров разрабатывали противочумную вакцину в гораздо более роскошных условиях. И все же беспаспортный эмигрант всех обставил.
Он выбрал путь, которым другие не пошли: сделать вакциной яд, вырабатываемый чумными микробами. Так выходило быстрей, чем пропускать бацилл поколение за поколением через организмы тридцати кроликов. Да кроликов и не было. Бациллы плодились в мясном бульоне. Чтобы им было за что зацепиться на поверхности, Хавкин ронял в бульон каплю жира. Микробы хватались за жирное пятно и росли вниз, как сталактит. Такие «сталактиты Хавкина» свидетельствовали, что бактерии чувствуют себя прекрасно. Время от времени колбы с ними встряхивали, бациллы тонули, на поверхность снова капали жиром, за него цеплялись новые микробы – и так повторяли, пока бульон не насыщался токсином.
Перед тем как впрыснуть этот яд крысам, чтобы у них образовался иммунитет к чуме, колбы нагревали до 60 градусов – такая пастеризация убивала бактерии, сохраняя их токсин.
Пробную партию приготовили всего за три месяца. Лаборант слег с нервным срывом, а Хавкин работал по 14 часов в сутки: он спешил, вокруг ежедневно гибли сотни людей. Параллельно он еще читал о будущей вакцине лекции местным студентам-медикам. Кроме них, никто не отважился бы привиться даже после того, как русский микробиолог 10 января 1897 г. вогнал себе под кожу четверную дозу чумного яда – 10 миллилитров раствора.
Между прочим, индийским студентам было легче решиться на вакцинацию оттого, что Хавкин происходил из России. Меры, которыми боролись с чумой британские колонизаторы, вызывали у туземцев ненависть. Начальник бомбейского гарнизона генерал Гатакр действовал неграмотно, и никто ему был не указ. Военные свозили чумных в госпитали, а их семьи – в концлагеря, так что получался надежный контакт здоровых с больными, еще переживавшими инкубационный период. Опустевшие жилища несчастных пленников заливали карболкой, и крысы с чумными блохами разбегались оттуда куда попало, разнося заразу.
Сильнее всего страдал район Мандви, населенный самыми бедными. Но они не желали прививаться. Напрасно индийские студенты твердили им, что вакцина сделана здесь и создатель ее не «инглизи», а «руси». И этот «руси» тоже гонимый, потому что он еврей и открыто говорит, что англичане так же плохо относятся к индийцам, как царские власти – к его народу. Для бедняков из трущоб Мандви все белые были на одно лицо.
Побудить их к вакцинации мог только влиятельный человек, которому они абсолютно доверяли. И такой лидер нашелся. Он сам вышел на Хавкина.
То был Ага-хан III, повелитель невидимой империи исмаилитов, 48-й имам великой секты, направляющий эту мусульманскую общину в ожидании явления мессии Махди. Ему тогда едва исполнилось 20, но этот юноша знал пять языков и был сведущ в науках, так что мог оценить возможности вакцины по статьям в медицинской периодике. Он только что женился, и на свадьбу его разбросанные от Мозамбика до Индонезии подданные преподнесли ему золотые монеты, общий вес которых равнялся весу самого 48-го имама. Золота хватало, но британские методы борьбы с чумой его настораживали. Если колонизаторы загонят в гроб всех обитателей квартала Мандви, среди которых было полно исмаилитов, и разнесут в щепы их жилища, как это делали в Карачи, откуда возьмется драгметалл на следующем взвешивании, через пять лет?
К тому же Ага-хан вынашивал политические планы. Для карьеры ему нужен был подвиг. И он его совершил. По просьбе всемогущего имама Хавкин несколько раз сделал ему прививку на глазах у толп исмаилитов. Лаборатория Хавкина переехала из комнатенки на роскошную виллу Ага-хана, и штат был расширен на средства общины. Это подействовало.
Сразу 11 тысяч исмаилитов привились от чумы. Теперь и болезнь, и проклятые борцы с нею обходили их дома стороной. Увидев, что Ага-хан «за народ», соседи исмаилитов стали переходить в ислам, вливаясь в ряды шиитской секты. Тут уже вожди индуистов почуяли конкуренцию и стали уговаривать своих единоверцев вакцинироваться. А Хавкина объявили махатмой.
Ага-хан получил от этого научного эксперимента все, что хотел. Королева Виктория осыпала его наградами и ввела в индийское правительство. В Западной Индии, населенной преимущественно мусульманами, из креатур Ага-хана выросла элита будущего независимого Пакистана. Когда это государство обрело суверенитет, Ага-хан снова взвесился. Но теперь на другую чашу весов сыпали не золото, а бриллианты. 95 килограммов бриллиантов.
Хавкин еще в 1897 г. понял, с кем имеет дело. И в общении с Ага-ханом у него был свой интерес. Владимир Ааронович предложил имаму всего-навсего проект освобождения евреев из-под власти других народов. По его замыслу, османский султан Абдул-Хамид II – Палестина принадлежала тогда Османской империи – должен был разрешить евреям покупать землю вокруг Иерусалима. Образовывалась компактная иудейская автономия, которая из благодарности стала бы опорой власти султана на неспокойном арабском Востоке.
Любопытно, что глава исмаилитов действительно обсудил этот план с Абдул-Хамидом. Тот наотрез отказал.
Ага-хан III прожил еще 60 лет и не раз повторял, что среди всех ошибок последнего владыки Османской империи эта была самая грубая.
49 Хирургические перчатки и маска Уильям Холстед и Ян Микулич-Радецкий 1897 год
1 марта 1897 г. всемирно известный хирург Ян Микулич-Радецкий сделал первую операцию в перчатках и маске. Операционная бригада обрела привычный внешний облик. Началось это преображение с романа хирурга и медсестры, а кончилось одолженным у католической церкви чудом с кровью.
В Балтиморе, в новом Госпитале имени Джонса Хопкинса, медсестре по имени Каролина Хэмптон выпало работать с хирургом Уильямом Холстедом.
О нем ходили легенды. Из очень богатой семьи, студентом бил баклуши, учился плохо, зато возглавлял первую в Штатах студенческую сборную по американскому футболу. Под конец курса вдруг ощутил интерес к медицине и даже поехал стажироваться в Европу к великому Теодору Бильроту, который обдумывал тогда первую операцию резекции желудка.
По возвращении принялся творить чудеса. В 1881 г. спас родную сестру, потерявшую много крови при родах, введя ей шприцем свою собственную кровь (о переливании во время операций тогда и не думали); потом выручил свою мать, удалив ей желчные камни (первая в Америке холедохотомия – операция рассечения желчного протока). Через четыре года узнал об открытии местной анестезии раствором кокаина и стал экспериментировать на себе с группой однокурсников. Все они попали в зависимость и погибли – кроме Холстеда. Он ушел в плавание на яхте с лучшим другом, чтобы вдали от людей пережить ломку, но не удержался и чуть не убил этого друга, который по договоренности прятал у себя аварийную дозу кокаина. Лечился, на год оставил хирургию и вот теперь вернулся в профессию, но попечители больницы не верили в полное избавление от зависимости. Опасаясь, что рука Холстеда дрогнет не вовремя, как бывает у врачей-наркоманов, его никак не назначали главным хирургом госпиталя и не допускали до некоторых операций.
Одевался Холстед экстравагантно: сюртуки заказывал только в Лондоне, а сапоги и сорочки – в Париже. Грязные сорочки отправлял стирать на их родину в Париж, утверждая, будто в Балтиморе нет нормальной прачечной. В общем, для покорения девичьих сердец загадочности хватало.
Каролина быстро нашла с Холстедом общий язык, научилась довольно ловко ассистировать ему. Однажды после операции она заметила, как шефа пробирает сильная дрожь. Он быстро вышел, заперся у себя в кабинете, а потом вернулся умиротворенный. Несложно было догадаться, в чем дело: бросив кокаин, Холстед перешел на морфий. Оказалось, каждый день он колет себе по 180 миллиграммов. Каролина не выдала его. Так они стали заговорщиками.
Хирург-морфинист из кожи вон лез, чтобы обмануть попечителей. За 1890 г. он провел сразу две первые в мировой практике операции – удалил пораженную раком молочную железу и справился с паховой грыжей, которая прежде считалась неизлечимой. Руководство сочло, что наркоману подобное не под силу, и Холстед все же получил должность главного хирурга. Но тут Каролина заболела. Возникла угроза, что придется брать другую сестру, и в этом случае неизбежно разоблачение.
У помощницы Холстеда развился контактный дерматит. Для дезинфекции хирурги мыли руки раствором сулемы с фенолом и в нем же замачивали инструменты. Кожа Каролины слишком сильно реагировала на антисептическую жидкость. Тогда Холстед заказал для своей медсестры резиновые перчатки. В таких перчатках уже работали гинекологи и проктологи, но никому не приходило в голову внедрить их в операционной. Теперь сестра-сообщница подавала инструменты в перчатках. Дело пошло так славно, что через полгода сыграли свадьбу.
Наблюдая этот опыт, коллеги по хирургическому отделению со словами «Если соус годится для гусыни, подойдет и для гуся» тоже стали беречь свои руки, работая в перчатках. Когда 450 операций грыжесечения прошли у них без единого случая сепсиса, Холстед сказал: «Куда ж я раньше смотрел!» – и перенял эту практику. Да еще сообщил о нововведении своему близкому другу Яну Микуличу-Радецкому, который во время европейской стажировки Холстеда был главным помощником Бильрота.
Микулич к тому времени сам стал мировой звездой. Родился он в Черновцах, на территории Австро-Венгрии. Отец был из Польши, мать – из Австрии. Первый язык – польский, но также свободно говорил Ян по-немецки, по-русски и по-английски. На вопрос о национальности отвечал: «Хирург». Оперируя в клинике Университета Бреслау (ныне польский Вроцлав), впервые надел перчатки на Пасху 1896 г. и несколько месяцев работал благополучно, пока один пациент не умер от заражения крови, явно в результате операции. Эффективность перчаток вызвала сомнения.
В том же Университете Бреслау кафедру гигиены возглавлял профессор Карл Флюгге, одержимый странной по тем временам идеей воздушно-капельного пути распространения инфекций. Зимой 1897 г. к нему на стажировку приехал из Харькова гигиенист Павел Лащенков, и вместе они проделали важный опыт. Флюгге изучал так называемую бактерию чудесной крови (Bacterium prodigiosum). Она плодится на богатой крахмалом среде и выделяет алый краситель. Весьма впечатляюще выглядит облатка для церковного причастия, окрашенная такими бациллами. Вот секрет фокуса, который некогда проделывали в церквях, рассказывая о чуде пресуществления – превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа.
Лащенков полоскал рот культурой таких бактерий (они считались безвредными; только позднее стало понятно, что Павел Николаевич испортил себе зубы и рисковал воспалением слезных желез). Затем входил в комнату, уставленную чашками Петри с агар-агаром. В молчании не происходило ничего. Когда же Лащенков чихал, кашлял, насвистывал или просто говорил, на агар-агаре возникали красные колонии «его» бацилл.
Флюгге понял, что происходит. Во время разговора, чихания, кашля и даже при дыхании через отекшие от насморка ноздри воздух движется мимо слизистой со скоростью более четырех метров в секунду. Воздушный поток увлекает с собой капельки жидкости с бактериями. Мелкие невидимые глазом капельки разлетаются вокруг. Там, где они попадают на агар-агар, бациллы размножаются.
Еще не оформив статьи о своем открытии, Флюгге помчался к Микуличу и объяснил, как стал возможен тот фатальный случай сепсиса. Оказывается, разговаривать хирургам нельзя, а врачу с насморком вообще нет входа в операционную. Однако трудно в конце февраля собрать такую бригаду, чтобы ни у кого не было насморка. Решили обвязать рот и нос марлей, надели реабилитированные перчатки, и так 1 марта 1897 г. открыли новую эру в хирургии.
Холстед продолжал работать без маски. Ему несложно было молчать во время операций. Скрывая борьбу с пристрастием к морфию, они с Каролиной вели уединенный образ жизни и стали немногословны на людях. Некогда общительный Холстед погрузился в научные исследования, отчего медицина только выиграла: в одиноких раздумьях была разработана установка металлических пластин при переломе. Ценой невероятного усилия за 10 лет наш герой сумел вдвое снизить свою дозу морфия, а еще через десять лет вовсе побороть зависимость – правда, выкуривая по 50 сигарет за день. В 1922 г. Холстед перенес ту же операцию, что и его мать, но ослабленный наркотиками организм не выдержал осложнений. Каролина очень тосковала по мужу. Через 11 недель после его похорон она умерла от простуды.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Елена Гросс: Это его же судьба легла в основу сценария сериала The Knick? «Больница Никербокер»?
Ответ: Да, популярнейший сериал Стивена Содерберга «Больница Никербокер» (2014–2015). Холстед – один из прототипов главного героя, доктора Джона Тэкери, но только не стоит принимать бурную жизнь Тэкери за экранизацию биографии Холстеда.
50 Переносчик малярии Рональд Росс 1897 год
20 августа 1897 г. британский врач Рональд Росс обнаружил паразита, вызывающего малярию, в желудке комара-анофелеса. Так было установлено, что для паразита человек – промежуточный хозяин, а конечный – комар, который с тех пор называется малярийным. В этот день началось отступление малярии, которая прежде убивала по несколько миллионов человек в год.
Рональд Росс не собирался быть врачом. Он хотел стать художником. В 14 лет мог за десять минут цветными карандашами так перерисовать картину Рафаэля, что издали было не отличить от оригинала. Но отец, полковник индийской колониальной армии, видел сына только медиком. Старший Росс и сам писал красками, и Байрона всего знал наизусть, только для него это было хобби. Как солдат, он завидовал судьбе военного врача: в штыковую ходить не надо, служба четыре часа в день, остальное время – семья, теннис, крикет, охота. Хорошая воинская пенсия. На это юный Росс спрашивал: «И всё?» Но деваться ему было некуда. Отец оплатил учебу Рональда в колледже при знаменитой лондонской больнице Святого Варфоломея. Свой первый вечер в общежитии молодой Росс прорыдал на кровати.
Его соседями были прекрасные ребята, увлеченные медициной. Лекции читали хирурги, именами которых называются открытые ими болезни и операции, – Джеймс Педжет и Уильям Сейвори. Конечно, Рональд не мог этого не оценить. Учился он хорошо, потому что иначе не умел, однако ему казалось, что все это происходит не с ним, что вот сейчас проклятая медицина исчезнет как наваждение и ему откроется настоящее дело жизни. Наверное, он писатель и его призвание – смотреть со стороны и рассказывать.
Рональд стал сочинять стихи. Все без исключения трагические – о неизбежности конца и тщете всего сущего. Набрасывал планы романов. Когда проходил практику на корабле, возившем в Америку эмигрантов, обдумывал роман «Эмигранты». И так на каждом своем рабочем месте. Но ему был неинтересен внутренний мир другого человека, и романиста из него не вышло. Единственная вещь, которую доктор Росс закончил (а писал десять лет!), была историческая повесть «Дитя океана», где действие происходило в Вест-Индии XVIII в. Там губернатор ревновал красавицу-жену, их сын потерялся, а отцовство установили по характерной для семьи губернатора анатомической особенности. Не слишком оригинально. Гонорар составил пятнадцать фунтов, что равнялось пятой части месячного жалованья Росса как полкового врача.
Служба бросала его то в Бирму, то на Андаманские острова, то к подножию афганских гор. Везде он охотился, ездил на велосипеде, играл в крикет, периодически записывая новые грустные стихи в блокнот, озаглавленный, конечно же, «В ссылке». И когда Россу исполнилось 35, он спросил себя: «Почему при таких способностях я ничего путного не сделал? Да и доктор я плохой. Вот у меня каждый третий пациент – с малярией, а что я знаю об этой болезни?»
Росс вычитал, что в 1880 г. его коллега, французский военный врач Альфонс Лаверан, обнаружил в крови больного трехдневной лихорадкой артиллериста одноклеточное существо, названное «малярийный плазмодий». К статье прилагались иллюстрации, но Лаверан рисовал так плохо, что по его рисункам Росс не узнал паразита в крови своих больных и подумал, что само открытие – мистификация.
В 1894 г., проводя отпуск в Англии, Росс заглянул в альма-матер (больницу Святого Варфоломея), где его заверили, что плазмодий существует, и дали адрес недавно прибывшего из Китая светила тропической медицины Патрика Мэнсона. Тот прославился, когда установил, что слоновую болезнь вызывает червь, попадающий в кровь при укусе комара. Мэнсон показал Россу плазмодий под микроскопом и продемонстрировал в клинике, как паразит исчезает из крови больных, которых лечат хинином. 1 ноября 1894 г., прогуливаясь с Россом под ручку по Оксфорд-стрит, Мэнсон высказал предположение, что малярию тоже переносят комары: «Вот вы, молодой человек, живете в малярийной стране. Могли бы проверить». Конечно, малярия тогда водилась и на берегах Англии, но Мэнсон в Китае заработал подагру и был уже не в силах ловить комаров и часами сидеть над микроскопом. Он поделился своей догадкой именно с Россом, поскольку тот, как человек возвышенного образа мыслей, при удаче помянул бы Мэнсона как автора идеи. Другие наверняка приписали бы все лавры себе.
Охваченный энтузиазмом Росс по возвращении в Индию бросился искать малярийных больных. Опыт с виду прост: поймать комара, дать ему укусить человека с лихорадкой, потом вскрыть это насекомое и найти в его кишках паразитов. Нужен только микроскоп.
В реальности каждому из этих действий надо было учиться. Комаров ловят так, чтобы они не получили травм и не умерли. После первой же охоты Росс отправился на базар, нашел там несколько человек с лихорадкой и дал каждому по рупии за укус. Пока шли в больницу, где это должно было произойти, пойманные комары передохли. Росс наловил новых, но тем временем больные сбежали вместе с его рупиями.
Далее: испуганный комар не хочет кусаться. Оказалось, надо смочить водой сетку, под которой лежит больной, – мокрая тряпка в помещении вызывает у насекомых аппетит. Правда, тут же налетают комары со всей окрестности: вскроешь такого, а он еще никого не кусал и паразитов внутри него нет. Только через два года до Росса дошло, что лучший способ добиться, чтобы комар укусил, – это просто приставить к коже пробирку, в которой он сидит. По энтомологии Росс ничего не читал, как и его гуру Мэнсон.
По верной догадке Мэнсона, в комарином организме плазмодии должны вести половую жизнь, потому что в крови человека они только делятся. А Росс увидел, что в желудке комара плазмодии не просто не хотят брачных утех, а прямо-таки загибаются. Доктор всюду носил микроскоп с собой и так часто приникал к окуляру на жаре, что веки его правого глаза распухли. Без толку. «Не бросайте это дело, – писал ему Мэнсон, – ищите паразитов, как будто они – чаша святого Грааля, а вы рыцарь Галахад… Не могут же они залезть в комара просто так, для забавы».
На самом деле плазмодию для размножения нужен не абы какой комар, а именно анофелес. Но этого никто не знал.
Внезапно осенью 1896 г. Росса оторвали от занятий и направили в Бангалор бороться с эпидемией холеры. Ему поручили организовать вывоз нечистот, кишевших вибрионами. Этой работой занимались парии – отверженные из самой низшей касты индийского общества. Вместе с ними при свете звезд в три часа ночи Росс выходил на санитарную работу, вызвавшую у него прилив вдохновения. Теперь он писал куда лучше, чем в своих романах:
«Вывоз отходов – величайшая работа, за исключением научных открытий, какую может делать человек… Твое ремесло, Санитар, простое! Ты должен вытереть дочиста эти трущобы, вымести нечистоты и болезни. Ты будешь работать во тьме, пока другие спят. Никто не знает твоего труда, никто не поблагодарит, ты умрешь забытым. Великие мира сего будут презирать тебя, мешать тебе и даже карать тебя. Надменные правители не удостоят тебя и взглядом, а станут болтать о богах и ценностях, свободах и законах, занимаясь переливанием вина богатства из одного сосуда в другой, то и дело отпивая, а проливая еще больше! Но ты, Ассенизатор, всегда останешься парией. И все-таки не переживай; потому что умирающие дети выживут, а эти мерзкие трущобы однажды превратятся в город садов – и все это сделал ты!»
Услышав такие пылкие речи из уст не слишком молодого человека, бангалорский хирург Аппиа стал поклонником Росса, заразился страстью к охоте на малярийного паразита и дал себя укусить комару, напившемуся крови больного лихорадкой. Никакого результата. Теперь мы знаем, что это был комар не того вида. К тому же паразиту нужно время, чтобы созреть в желудке насекомого. Для Росса этот опыт стал опровержением слов Мэнсона, твердившего, будто комар кусает только раз в жизни, а дальше переходит на цветочки. Рональд понял, что его учитель говорит не то и полагаться нужно только на себя.
Он вышел в отпуск и отправился в джунгли на поиски разных видов комаров. И там тут же заболел малярией. Едва оправившись, Росс поймал прежде неизвестного ему комара, который в отличие от других сидел, задрав зад. Это был тот самый роковой малярийный анофелес. По рассказам аборигенов, подобных комаров после муссона бывает так много, что приходится разводить костры.
Из отпуска Росс вернулся в свой 19-й Мадрасский пехотный полк, дислоцированный в Секундерабаде. В честь прибытия доктора подали чудесный пудинг-мороженое. И все, кто его ел, заболели холерой, а тяжелее всех – Росс. Обидно сдохнуть от холеры теперь, когда до разгадки рукой подать. С обезвоживанием справился горячим чаем. Пил буквально чашку за чашкой: поставив одну, тянул руку за другой. И так несколько дней, до полного выздоровления.
Муссон лета 1897 г. все не приходил. Настала великая сушь, описанная Киплингом в книге о Маугли. На прогулке Росс увидел, как стервятник терзает труп издохшего от жажды шакала. И подумал, что в желудке птицы теперь заведутся новые паразиты. Тут в голову пришла идея решающего опыта. Надо дать комарам разных видов укусить больного малярией и понаблюдать несколько дней, какие изменения в их желудках произойдут в сравнении с контрольной группой.
Самый жаркий и душный месяц года прошел в лихорадочной работе. Винты микроскопа Росса заржавели от пота с его пальцев, линза окуляра треснула. Анофелес оказался в очереди последним. 16 августа 10 комаров получили свою порцию крови. К 20-му числу не сдохло только два. В кишечнике первого, носившего номер 38, Росс увидел крупные круглые клетки, приросшие к стенке. Внутри них, как дробинки, лежали черные гранулы – того же цвета, что плазмодии в эритроцитах человека. Росс засмеялся и сказал: «Госпожа природа, ты опять меня разыгрываешь, но теперь я одурачить себя не дам». Зарисовав на всякий случай гранулы и залив комара формалином, Рональд выпил чаю. От духоты его сморило. И во сне явилась мысль, что это может быть ящик с яйцами паразита, прикипевший к стенке желудка. Если это так, то через день в желудке последнего комара – 39-го – тоже должны быть такие гранулы, только побольше, ведь паразиты активно растут. В ночь с 20 на 21 августа Росс не сомкнул глаз. Если комар сдохнет, опыт сорвется. А что, если у него дрогнет рука и он при вскрытии запорет препарат? Росс метался на простынях до рассвета и к семи часам прибежал в госпиталь. Комар был жив. И препарат удался – за два года операция отработана в совершенстве. В желудке действительно сидели круглые гранулы со зреющими внутри паразитами, и диаметром они были больше вчерашних! Теперь стало ясно, кто конечный хозяин плазмодия и разносчик малярии. Это анофелес, никчемный комар, которому с этого дня была объявлена война.
Росса ждали Нобелевская премия по медицине, и приемы в Букингемском дворце, и аудиенция в Царском Селе, и свой институт. А все же новые триумфы не могли сравниться с тем торжеством, которое пережил Росс, заглянув в желудок комара № 39. Должно быть, нечто подобное испытал Колумб, когда 12 октября 1492 г. услышал крик «Земля!»
Покончив с 39-м комаром, Росс взял блокнот, озаглавленный «В ссылке», и записал туда экспромт. То было его лучшее стихотворение:
This day relenting God Hath placed within my hand A wondrous thing; and God Be praised. At His command, Seeking His secret deeds With tears and toiling breath, I find thy cunning seeds, O million-murdering Death. I know this little thing A myriad men will save. O Death, where is thy sting? Thy victory, O Grave?По-русски, с соблюдением размера и рифмой это может звучать так:
Вот день, когда Творец Мне чудо в руки дал. Хвала тебе, Отец! Я тайн Его искал В слезах, в поту, без сна, Чтоб наконец узреть Лихие семена Твои, мильонов Смерть! Я знаю, в чем теперь Спасенье мириад. Где твое жало, Смерть? Твоя победа, Ад?[7]ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Elena Ivanova: Читаю с тем же удовольствием, как в детстве читала «Охотников за микробами».
Ответ: В этой замечательной книге Поля де Крюи есть глава о Россе, содержание которой в наши дни представляется отчасти неполным. Мы решили обновить эту историю и написать ее несколько строже. Хотя бы потому, что автор «Охотников за микробами» явно питал к Россу личную неприязнь. Сейчас, 90 лет спустя, страсти улеглись и можно писать спокойно.
Наталия Спичакова: Узнала еще об одном великом человеке и о его открытии. Стыдно, что не знала раньше…
Ответ: Не знать не стыдно. Хуже забывать, а тем более спрашивать: «Зачем нам это знать?»
Екатерина Бубук: Очень интересно. Но хотелось бы знать, были ли у Рональда Росса семья и дети.
Ответ: Да. Его жену звали Роза, в девичестве Блоксэм. Собственно, ей было направлено первое письмо об открытии с копией стихотворения. Жена с детьми часто жили отдельно от Росса, поскольку в гарнизонах не всегда были для них бытовые условия. Когда разворачивалась вся эта история в Секундерабаде, семья Росса находилась в Бангалоре. Рональд с Розой обвенчались в 1889-м и жили счастливо. У них было две дочери – Дороти и Сильвия, которые в 1916 и 1917 гг. соответственно вышли замуж за офицеров, и двое сыновей. Старший, Рональд Кэмпбелл, погиб в Первую мировую в августе 1914 г. После его смерти Росс сильно сдал и начал болеть. Младший сын, Клей, был назван в честь любимого брата Росса Клея, офицера, который при подавлении Читральского восстания 1894 г. командовал отрядом сикхов и погиб вместе со своими солдатами, сражаясь в окружении.
51 Профилактика пищевого отравления Павел Лащенков 1899 год
29 сентября (17-го по старому стилю) 1899 г. в Харькове, отмечавшем именины Веры, Надежды, Любови и Софии, произошли сотни пищевых отравлений праздничными тортами. Подобное тогда не слишком удивляло: время от времени преподносила сюрпризы выпечка проверенных марок, видом и вкусом не вызывающая сомнений. Но теперь следствие вел выдающийся врач-гигиенист Павел Лащенков. Он установил, какой микроорганизм стоит за словами «съел что-то не то и отравился». В результате профессиональным кулинарам и любителям предписали простые правила, соблюдение которых исключает несчастные случаи.
До революции день ангела Веры, Надежды, Любови и Софии был примерно тем, чем позднее стало 8 Марта, – чествованием всех женщин. Практически в любой семье кого-нибудь звали одним из этих четырех имен. Было принято навещать именинницу с подарками, да не ей одной, а всей женской половине.
К столу подавалась лучшая выпечка, какую только можно было достать. Харьков славился ореховыми тортами с кремом. Самые вкусные и дорогие торты готовила кондитерская Пока. Она была завалена заказами к 16-му, 17-му и 18-му числам (в XIX в. это были по новому стилю соответственно 28, 29 и 30 сентября).
Осень 1899 г. выдалась аномально теплой: 28-го и 29-го числа днем было 22 градуса по Цельсию, а 30-го – все 25. В кондитерской Пока термометр поднимался аж до 37. Заказов было полным-полно, так что от работников «пар валил». Запомним это обстоятельство, оно еще всплывет.
Итак, 29-го числа именинницы с гостями съели свои кремовые торты. Через 5–10 часов участники застолья ощутили острую боль под ложечкой, началась мучительная рвота и понос. За ночь подняли на ноги всех врачей Харькова. Число пострадавших превысило 200. Да сплошь видные люди: кондитерская Пока не всем по карману. Движущей силой расследования стала канцелярия харьковского Института благородных девиц, где заболело 28 воспитанниц.
Помимо желудочно-кишечных страданий, институтки испытывали жуткий страх смерти. В те времена его относили к самым важным симптомам, считая признаком угрозы жизни больного. Картина, вообще-то, напоминала отравление мышьяком, так что именинное угощение повезли на анализ в химическую лабораторию Харьковского университета. Никаких минеральных ядов, однако, не нашли. Тогда черствый торт был доставлен в Городскую санитарную лабораторию и 2 октября попал в руки Павла Лащенкова.
Ему недавно исполнилось 35. Лащенков уже был известен в научном мире. Полутора годами раньше на стажировке у Карла Флюгге смелым опытом на себе он доказал существование воздушно-капельного пути распространения инфекций.
Так вот, пытливый Павел Николаевич увидел в отравлении тортами не постылый быт, а возможность разрешить старую медицинскую загадку. Врачей давно занимал вопрос: отчего мясо с душком, плесневелый хлеб, вонючий сыр, гнилые фрукты человек может съесть безнаказанно, а чудесный свежий торт, венец кулинарного искусства, усаживает его на судно?
Недавно открытые бактерии – возбудители бруцеллеза и ботулизма тут явно ни при чем: пострадавшие не испытывали ни мышечной боли, ни проблем со зрением. У микробиологов на примете по части пищевых отравлений были разные бациллы, или палочки, в том числе кишечная, обнаруженная Теодором Эшерихом. В его честь она называется Escherichia coli, сокращенно E. coli. Но что, если за драмой девичьего института стоят микробы, которые в норме не плодятся в желудочно-кишечном тракте?
Ко 2 октября отравленные девушки пришли в себя. Ни их фекалий, ни рвотных масс Лащенков получить не успел. Имелись только засохший торт и кондитер, умолявший не выдавать его рецепт. Достопамятный харьковский ореховый торт состоял из трех бисквитов с прослойками коричневого крема. Тайны бисквита бактериолога не волновали, поскольку тесто побывало в печи. Другое дело – крем. Для его приготовления смешивали молоко, яйца, муку, сахар и пряности (в секретном соотношении) и нагревали все это примерно до 90 градусов, полчаса помешивая в кастрюле на огне. До кипения молоко не доводили, потому что в этом случае крем получается не такой вкусный. Мало того! Смеси давали остыть и добавляли мелко нарубленный грецкий орех. Разумеется, никак не стерилизованный.
С этим орехом возбудитель и попал в крем. Лащенков разрезал кусок злосчастного институтского торта стерильным ножом и снял кусочек крема со среза чистым платиновым ушком, чтобы заразить питательную среду. Послушав кондитера, жаловавшегося на жару в кухне, поместил агар в термостат и выдерживал там при 37 градусах. Уже через сутки на питательной среде выросли оранжевые колонии давно знакомого золотистого стафилококка. Или гроздекокка, как говорили тогда по-русски, частично переводя с греческого. Этот род бактерий назвали так за привычку расти гроздьями, подобно винограду. Старый враг, возбудитель фурункулеза, виновник нагноения ран и грозных больничных инфекций, оказался к тому же причиной пищевого отравления.
Стафилококк вызывает воспаление кишечника. Морская свинка, которой впрыснули культуру бактерий из торта, сдохла через 10 часов. Для человека такое приключение ограничивается 3–4 сутками поноса и рвоты, но Лащенков припомнил, что в клинике Эшериха два пациента умерли от энтерита, испражняясь практически чистой культурой золотистого стафилококка.
После серии опытов со свинками можно было обвинять стафилококк в отравлении девушек. Но вину еще надо было доказать, то есть воспроизвести появление бактерии в торте. Между тем кондитерская продолжала работу. И хотя продажи упали, никто больше не жаловался на понос и рвоту. Лащенков сам заказал у Пока пару тортов с ореховым кремом. Один съел сразу, другому дал три дня, чтобы засохнуть. Хотя такой торт вкусен лишь в день приготовления и надо было себя заставлять глотать сладкий сухарь, печальных последствий Лащенков не дождался. Никто не сглазил и не заразил кондитерскую Пока. Все там снова было в порядке.
Помог случай. В разговоре совсем на другую тему коллега, полтавский санитарный врач Борис Леонтьевич Богопольский, обмолвился, что пару лет назад на Пасху случилась в Полтаве эпидемия очень похожих отравлений. Пострадало 46 человек. И тоже от кремовых тортов, и тоже из лучшей кондитерской – заведения Кандыбы, знаменитого своими пирожными «картошка».
Что общего в этих историях? 1) Высокая репутация производителя; 2) жара в натопленной кухне, где без отдыха трудились работники, чтобы успеть выполнить все заказы. Тогда Лащенков точно воспроизвел условия приготовления крема в своей лаборатории при 37 градусах, внеся в молоко культуру гроздекокка. Крем был выдержан при такой же температуре несколько часов, и в нем отлично расплодились стафилококки. Опыт несколько раз удачно проходил при температуре человеческого тела, хотя вырастить столь же буйный цвет бактерий, как в институтском торте, Лащенков так и не сумел. А вот при комнатной температуре стафилококки проигрывали борьбу за существование другим, менее вредным коккам, которыми не то что человека – кролика отравить не удавалось.
Из этого вывели важное для кондитерского производства правило: когда не можете простерилизовать все компоненты крема, не готовьте в жарком помещении. А если по-другому не получается, сразу же охлаждайте свое изделие. И доставлять его потребителю лучше всего в холодильнике либо на льду. Даже если от кухни до парадного стола всего несколько десятков минут.
Авторитет Лащенкова так вырос, что ему предложили покинуть родной Харьков и переехать в Томск, где он получил кафедру и лабораторию. Там в 1909 г. Павел Николаевич, продолжая опыты с ингредиентами крема, обнаружил в белке куриного яйца убивающее бактерии вещество, названное «лизоцим». На это сообщение обратил внимание Александр Флеминг, работавший с лизоцимом. Увлекшись антибактериальными средствами, Флеминг позднее с энтузиазмом занялся пенициллином. Так от Института благородных девиц на Сумской улице в Харькове потянулась цепочка событий, вызвавшая к жизни антибиотикотерапию.
52 Электрокардиография Виллем Эйнтховен 1902 год
23 сентября 1902 г. вышел на пенсию профессор Лейденского университета Самуэль Розенштайн. В его честь коллеги составили сборник научных трудов, где была опубликована первая в мире электрокардиограмма, снятая Виллемом Эйнтховеном. К этому дню создатель ЭКГ шел уже много лет, побуждаемый одновременно любовью к науке и необходимостью вернуть банковский кредит.
Кредит, которому так обязаны все сердечники мира, был нужен, чтобы откупиться от распределения. Вышло так: Эйнтховен рано потерял отца, который служил колониальным врачом в Семаранге на острове Ява. Правительство Нидерландов оплачивало учебу таких сирот в Утрехтском университете при условии, что они также станут работать в колониях. Круг профессий узок: врач, бухгалтер, учитель.
Поскольку Эйнтховена тянуло к естественным наукам, он избрал медицину. Но уже во время практики понял, что рожден не врачом, а скорее физиком. Сперва он пытался примирить эти начала, специализируясь на офтальмологии как самой точной из медицинских наук. Диплом его уже был с открытием. Речь шла об известной оптической иллюзии: если на стене рядом пятна разных цветов, красное и синее, то одно из них кажется более близким. Позднее Василий Кандинский создал целую теорию, объясняющую эти эффекты; на ней зиждилось абстрактное искусство: есть цвета агрессивные, которые как будто стремятся к зрителю (к примеру, желтый), а есть «уходящие», как бы отодвигающиеся вглубь картины, вроде синего.
Научный руководитель думал, что дело тут в разной длине волны, но студент Эйнтховен доказал иное. Зрачки у разных людей слегка смещены от центра радужки. Те, у кого зрачки чуть ближе к вискам, и среди них Кандинский, воспринимают синий как «уходящий». А те, чьи зрачки смещены к носу, – наоборот. Работа блестящая, диплом с отличием. И теперь молодого человека ждали колонии.
В 1886 г. умер заведующий кафедрой физиологии и гистологии Лейденского университета, и впечатленные открытием коллеги выдвинули Эйнтховена на вакантное место. Все хорошо, только правительство предъявило Виллему счет на 6000 гульденов за обучение и грант на работу по оптике. Эта сумма равнялась жалованью профессора за полтора года. И все же Эйнтховен предпочел заплатить и стать ученым, чем торчать в далекой колонии, где каждый день приходится делать одно и то же.
Кредит оказал громадное влияние на всю его жизнь. Была семья, требовавшая больших расходов, и наука, отнимавшая все время. Поэтому приходилось жить гораздо скромнее коллег. Другие профессора обставляли лаборатории со вкусом за свой счет; заходивших к Эйнтховену поражали голые стены. Когда возникла электрокардиография и в эту лабораторию началось паломничество со всего мира, жена в героическом усилии сделать интерьер побогаче повесила всюду кружевные шторки, за которые профессору было неудобно перед гостями. Собственно, и главное свое изобретение Виллем сделал, чтобы вырваться из бедности.
На четвертый год своего заведования кафедрой Эйнтховен увидел выступление Огастуса Уоллера, читавшего лекции по физиологии в лондонской больнице Сент-Мэри, той самой, где рожают женщины из британской королевской семьи.
Уоллер наглядно демонстрировал, что сердце – источник слабых токов, импульсы которых регулярно повторяются. Это показывал капиллярный электрометр: в тонком стеклянном капилляре встречаются ртуть и серная кислота; электрический ток меняет поверхностное натяжение ртути, и граница двух жидкостей ползает по капилляру. Токи сердца самые слабые – в 100 миллионов раз меньше тока в электрической розетке, так что сдвиги видны только в сильную лупу. Тем не менее они есть, их можно заснять на движущуюся фотопленку. Получается кривая изменения электрического поля сердца.
Феномен демонстрировал бульдог Уоллера по кличке Джимми. Он смирно стоял на столе, его лапы помещались в разных емкостях с соленой водой, от которых шли провода к прибору. Опыт привлек всеобщее внимание. В парламенте тут же нашлись депутаты, желавшие привлечь Уоллера к ответственности за жестокое обращение с животными. Но физиолог показал на себе, что исследование совершенно безвредно.
Правда, пользы тоже не было. Ясно, что больные сердца работают не так, как здоровые, но кривая получалась слишком пологой: ртуть тяжела, у нее большая инерция, которая скрадывает все пики на кардиограмме. Уоллер опустил руки… но ему же не надо было отдавать кредит! Эйнтховен взялся применить это изобретение в клинике. За пять лет он разработал математический метод коррекции показаний электрометра. Сложные расчеты, с дифференцированием и интегрированием, позволяли воссоздать истинный облик зубцов кардиограммы. В 1895 г. Эйнтховен дал им названия, которые они носят до сих пор: зубец P (соответствует возбуждению предсердий), Q (срабатывает межжелудочковая перегородка), высокий зубец R (возбуждение левого желудочка), S и T (возбуждение и расслабление желудочков). Конечно, всякий раз высчитывать кривую для каждого больного нереально – калькуляторов еще не было. Эйнтховен не унывал, надеясь, что пока он осмысляет значение зубцов, люди что-нибудь изобретут.
И тут в историю кардиологии ворвался человек, не имевший к медицине никакого отношения. Звали его Клеман Адер. Ему тоже понадобились деньги. Инженер Адер мечтал создать летающую машину тяжелее воздуха. Он сделал планер, похожий на летучую мышь, и разработал легкую паровую машину в качестве двигателя. А чтобы оплатить ее производство, изобрел чуткий прибор для регистрации сигналов, передающихся по подводным телеграфным кабелям. Длина лежащих на дне морском кабелей громадная, сопротивление большое, а токи слабые, хоть и посильней, чем в нашем сердце.
Адер придумал струнный гальванометр. Действие его основано на законе Ампера: провод под током в магнитном поле отклоняется. И тем сильней, чем больше ток и мощнее поле. Дергающаяся от точек и тире проволочка то и дело закрывает отверстие, которое снимается на движущуюся пленку. Благодаря Адеру скорость передачи сигналов через Атлантику выросла с 400 до 600 в минуту. Правда, сделанный на гонорар за это достижение «авьон» рухнул, пролетев несколько десятков метров, – Адер не придумал для него систему управления (с этой задачей справились позднее братья Райт). Зато Эйнтховен приспособил струнный гальванометр для регистрации сигналов сердца.
Лишь проволока Адера не годилась – она была слишком толста. Виллем заменил ее посеребренной кварцевой нитью диаметром всего два микрона. Изготавливалась она по экзотической технологии: человек с водородной горелкой плавил кварц, в расплав окуналась стрела, которую другой человек выпускал из лука, так что нить вытягивалась и остывала на лету. Получалась струна, колебавшаяся от сердечных токов так, что выходила вполне современная электрокардиограмма. К большому удовольствию Эйнтховена, она в точности совпала с его расчетами.
Теперь можно было выпускать приборы для диагностики болезни сердца. Эйнтховен обратился в мюнхенскую компанию Edelmann. Там с радостью взяли чертежи, и скоро прибор был готов, но тут выяснилось, что никаких отчислений Виллему по немецким законам не полагается. Гальванометр изобрел Адер, токи сердца засек Уоллер – Эйнтховен вообще ни при чем.
Выручили голландца связисты: они с удовольствием покупали гальванометры его конструкции для телеграфного сообщения с колониями. В том числе и с теми, от работы в которых Виллем откупался. Контракт с предпринимателем Эдельманном был разорван, но немец успел выпустить несколько десятков электрокардиографов. Купили их университеты, где работали ученые, заметившие публикации Эйнтховена.
Первым стал профессор Казанского университета Александр Самойлов. Он очень похож на Эйнтховена: тоже рано потерял отца, разочаровался в медицине (поработав во время холерной эпидемии 1892 г.), ушел в физиологию. Самойлов сразу же познакомился с Эйнтховеном, и они стали друзьями. В Казани впервые был диагностирован по кардиограмме порок сердца и в первый раз прозвучала аббревиатура ЭКГ.
К 20-летию первой кардиограммы Самойлов послал Эйнтховену шуточное поздравление, которое просил зачитать вслух струнному гальванометру, так как тот «умеет хорошо и много писать (но не всегда достаточно ясно и порой слишком много) – читать же он совсем не может». Вот отрывок из этого письма: «Я почти влюблен в Вас, и если я хоть один день не писал с Вами, то чувствую, чего-то не хватает. Я откровенный человек и должен Вам сознаться, что бывали моменты, когда я Вас, уважаемый струнный гальванометр, хотел бы разбить на 1000 кусков… Ваши металлические части никогда меня не раздражали, но струна! Когда, наконец, приступаешь к опыту, то оказывается, что струна не хочет больше проводить или же начинает дрожать, как будто ее кто-то испугал или у нее приступ малярии (мы пробовали раз хину, но это не помогло)». А дальше – комплименты юбиляру.
Эйнтховен ответил в том же духе: «Струнный гальванометр в восторге от похвалы, высказанной в его адрес… Он ответил мне, что затруднения, касающиеся струн, могут быть устранены, если выписывать их из Америки, где механики изготовляют их прекрасно. Но во время чтения гальванометр вдруг рассвирепел: “Как это я не умею читать? Это невыносимая, ужасная клевета! Разве я не читаю самые сокровенные тайны человеческого сердца?”»
Все это говорилось о первой машине Эйнтховена, занимавшей две комнаты и требовавшей пять человек обслуги. Много с тех пор утекло воды и клетчатой фотобумаги. Эйнтховен получил Нобелевскую премию. Потом не стало его, не стало Самойлова, появились осцилляторы, электролампы, транзисторы. Но только 80 лет спустя промышленность выпустила прибор, который по чувствительности и точности превзошел первую громадную машину, изготовленную кустарным способом.
Этот пример Самойлов любил приводить в разговорах с разным советским начальством как иллюстрацию отношений науки и промышленности: «Все завоевания техники можно сравнить лишь с крохами со стола науки. Мы должны развивать науку, иначе наступит крах не только науки, но и техники».
53 Местное обезболивание новокаином Альфред Эйнхорн и Генрих Браун 1904 год
27 ноября 1904 г. был запатентован и отправлен на клинические испытания препарат для местной анестезии, известный как новокаин. Это название – торговая марка, означающая новый, безопасный аналог кокаина.
Что с кокаиновой анестезией не все в порядке, стало ясно после самоубийства профессора Коломнина. Руководитель хирургической клиники Военно-медицинской академии 18 ноября 1886 г. делал операцию на прямой кишке молодой женщине с хронической сердечной недостаточностью. Ей был противопоказан хлороформный наркоз, и Сергей Петрович Коломнин решил испробовать совсем новую тогда методику местной анестезии. Единственным препаратом был кокаин, который начали использовать офтальмологи в 1884 г.
При закапывании раствора кокаина в глаз осложнений не возникало и можно было проводить любые операции. Но при подкожных инъекциях, а также при введении в мочевой пузырь, уретру, мошонку, кишки – отравления были нередки. Коломнин сделал клизму на целых полтора грамма кокаина. Во время операции пациентка чувствовала боль, а через три часа скончалась с явными признаками отравления. Информация попала в газету: корреспондент, путавший фистулотомию с трахеотомией, сообщал, что в академии врачи загубили человека ядом. Защищая честь клиники, знаменитый Сергей Петрович Боткин – покровитель Коломнина – заявил, что кокаин был с примесью. Но сам Коломнин чувствовал вину. Пять суток не мог он толком ни есть, ни спать. Наконец заперся в своей квартире, написал записку, что «хотел добра» и выстрелил в себя из револьвера «смит-вессон». В его левой руке был зажат скальпель – очевидно, на случай неудачного выстрела.
За первые 15 лет употребления кокаина только опубликованных случаев отравления при местной анестезии насчитывалось полторы сотни. Но выстрел Коломнина произвел огромное впечатление на врачей: такое поведение казалось редким даже по тем временам. Большинство вслед за Боткиным сказало себе: «Он был хороший человек, но душевнобольной. У каждого хирурга есть свое персональное кладбище, и профессионал должен уметь с этим жить». Нашлись, однако, единицы, поставившие себе задачу как-то «унять» кокаин и сделать его безопасным. Таким был Генрих Браун, хирург и зубной врач из Лейпцига.
Он воспроизводил в опытах на своем теле все, что по части местной анестезии проделывали коллеги в разных странах. Начали со снижения дозы. О полутора граммах больше речи не было, допустимое количество уменьшилось в 25 раз. Эксперименты на себе по дозировке кокаина стоили здоровья многим врачам, невольно ставшим наркоманами, в том числе великому хирургу Уильяму Холстеду.
Отрабатывались разные заменители, в первую очередь продукты разложения кокаина и его аналоги, найденные в листьях тропических растений. Инъекции одних Браун счел очень болезненными, других – опасными, третьих – неэффективными. Похоже, заколдованному кокаину не было альтернативы.
Вторым шагом было перетягивание резиновым жгутом (турникетом) – так называемое обескровливание конечностей, которые должны подвергнуться операции. Действительно, скорость всасывания яда и откачки его с кровью близятся к нулю. Браун обнаружил, что так эффект достигается намного меньшими дозами кокаина и обезболивание продолжается еще долгое время после удаления жгута. Это решало проблему при лечении панариция и вросшего ногтя. Но мочевой пузырь не изолируешь никаким жгутом. Нельзя также заморозить его распылением эфира, как делали дантисты. Требовалось нечто совсем иное.
Браун заметил, что на лейпцигской бойне мясники останавливали кровь необычным способом. Поранившись, они выжимали над порезом надпочечники, и самое сильное кровотечение прекращалось. Кто и когда это придумал, неизвестно – метод, во всяком случае, старинный.
В 1895 г. польский врач Наполеон Цыбульский получил гормон надпочечников эпинефрин, который выделяется при стрессе и сужает сосуды, поднимая давление. Шесть лет спустя японец Дзёкити Такаминэ добился полной очистки этого гормона, после чего начался его промышленный выпуск под торговой маркой «Адреналин».
Среди первых заказчиков нового препарата был Браун. Он решил имитировать турникет на любом органе, введя в него сначала адреналин, а через несколько минут, когда кровоснабжение почти прекратится, – кокаин.
На себе Браун установил наибольшую безопасную дозу. Начиная с половины миллиграмма препарат вызывал симптомы запыхавшегося бегуна – учащенное дыхание и пульс за 100. Малейшие примеси или просто несвежие растворы вызывали головные боли, дурноту и обморок. Зато если сделать все как следует, обезболивание длится часами даже при весьма малых дозах кокаина.
Сообщение Брауна об этом в 1903 г. принесло ему всемирную известность. Поэтому химик Альфред Эйнхорн, создатель новокаина, как только 27 ноября 1904 г. запатентовал свой препарат, отправил его на испытания именно Брауну.
Эйнхорн, профессор Мюнхенского политехнического института, искал замену кокаину с 1890 г. Он перебирал один за другим продукты разложения кокаина, привлекая к работе многочисленных дипломников. Одним из них был Рихард Вильштеттер, которому все удавалось с необычайной легкостью. Химическое строение кокаина все еще было неизвестно, и синтез оставался мечтой. Вильштеттер хотел его осуществить. Германия переживала химический бум, свободных мест в академических лабораториях не было, и Эйнхорн разрешил своему бывшему дипломнику за плату работать в студенческой лаборатории с семи до десяти утра.
Дела шли неплохо, пока Эйнхорну не пришла в голову безумная мысль, будто Вильштеттер хочет украсть его будущую победу. На рассвете, когда молодой человек готовился начать экстракцию, Эйнхорн влетел в лабораторию и в крайне резком тоне запретил любые работы с кокаином. Вильштеттер в замешательстве бросился к своему учителю Адольфу фон Байеру (известному открытием барбитуратов). Как быть? Молодому, никому не известному специалисту некуда идти от Эйнхорна. И премудрый Байер дал совет: работайте с атропином, который очень похож на кокаин; так и к синтезу подберетесь, а когда сделаете, будет все равно – победителей не судят.
Действительно, через два года, в 1898-м, Вильштеттер синтезировал кокаин, и Эйнхорн смягчился. Теперь, зная строение молекулы наркотика, можно было конструировать заменитель – грубо говоря, взять из молекулы кокаина звено, отвечающее за анестезию, отбросив то, которое отвечает за привыкание.
Эйнхорн сотрудничал с фирмой Hoechst. Конкурирующий концерн Merck тут же переманил Вильштеттера, создав ему все условия для научной работы. Однако теперь направление было понятно, и с помощью другого дипломника – Эмиля Ульфельдера – Эйнхорн все же получил заменитель кокаина. Он подобрал его как отмычку, испытав десятки вариантов.
Получив новокаин для испытаний, Браун распустил слух, что этот новый препарат совершенно его не устроил и никуда не годится. Так Браун смутил Эйнхорна и обеспечил себе десять месяцев спокойной работы вне конкуренции. За это время он подобрал дозировки, изучив взаимодействие нового препарата с адреналином. Недостатком был краткий срок обезболивания. Зато новокаин, в отличие от других эрзацев, не мешал сосудосуживающему действию адреналина, а в комбинации с ним обеспечивал анестезию, например, вместо 15 минут на все 35. Это делало возможными операции на зубах и подкожных опухолях, с которых Браун и начал испытания. К счастью, у самого Брауна и его пациентов не было столь распространенной аллергии на новокаин, иначе история этого препарата тогда бы и закончилась. В 1906 г. он поступил в продажу.
Монополию на его производство Hoechst сохранил до мировой войны. С первыми же выстрелами страны Антанты остались без новокаина, как и нейтральные до поры Соединенные Штаты, куда немецким торговым кораблям путь был заказан. Чтобы прорвать блокаду, была построена коммерческая подводная лодка «Дойчланд», способная взять на борт 800 тонн груза. Она дважды перевозила через Атлантику сальварсан и новокаин, взамен доставив из США каучук, никель, цинк и серебро.
После триумфального введения новокаина в практику Брауну предложили возглавить громадную больницу в Цвиккау (ныне Heinrich-Braun-Klinikum), которой он и руководил до самой смерти в 1934 г. При изучении его тела обнаружили многочисленные некрозы кожи – память об испытаниях препаратов для местной анестезии.
54 Измерение артериального давления Николай Коротков 1905 год
26 декабря 1905 г. хирург Николай Коротков сделал в клиническом госпитале Военно-медицинской академии сообщение о природе открытых им звуков, которые слышны при ослаблении манжеты тонометра. По итогам совещания было решено использовать «звуки Короткова» для измерения верхнего и нижнего давления у больных гипертонией. Скрестить тонометр с фонендоскопом Николай Сергеевич додумался, чтобы спасти раненых от ампутации.
История началась с того, что 18 июня 1904 года он сел с незнакомой девушкой в Транссибирский экспресс, а из вагона они вышли уже мужем и женой. Такие случаи время от времени происходят на длиннейшей дороге России. Вот один из первых.
Коротков родился в купеческой семье среднего достатка. Родители оплачивали его учебу в Московском университете. Содержали, пока он приобретал ценный опыт, безвозмездно оперируя в клиниках Боброва и Фёдорова. У купцов, чьи наследники подались из бизнеса в разночинные профессии, обычно был с детьми уговор: «Сынок, учись сколько сочтешь нужным. Но если ты создашь семью, обеспечивать ее будешь сам». И вот время неожиданно настало, причем когда Коротков отправился на войну.
Он готовил диссертацию по травматической аневризме. При повреждении артерии кровь изливается, раздвигая ткани, так что образуется пульсирующее кровавое озеро. Прорыв стенки аневризмы приводит к смертельно опасному внутреннему кровотечению.
В боях с японцами такие ранения случались нередко. Русские врачи называли патроны вражеской винтовки «Арисака» калибра 6,5 мм «гуманными». Причиной гуманности было тщедушие японского пехотинца, который не выдерживал сильной отдачи выстрела крупнокалиберной пулей. Тонкие японские пули в прочной мельхиоровой оболочке мало деформировались при попадании. В среднем нанесенные ими раны заживали быстрее. Зато пуля малого калибра кувыркалась в мягких тканях, ушибая кровеносные сосуды и вызывая аневризмы.
Коротков уже видел такие раны в Благовещенске, когда китайские бандиты во время «боксерского восстания» 1900 г. раздобыли японское оружие. При первом известии о войне с Японией он записался добровольцем в санитарный отряд Георгиевской общины сестер милосердия Красного Креста. Подошел к делу основательно. Захватил с собой всю литературу об аневризмах, начиная с трудов Пирогова, и новые приборы из Военно-медицинской академии.
Все это вылетело у него из головы, когда при посадке в поезд среди своих медсестер он увидел Елену Алексеевну. Коротков был хорош собой, недурно пел и очаровывал девушек, рисуя их портреты карандашами либо красками. Живопись – отличный повод провести с дамой несколько часов в доверительном разговоре. За подобными занятиями Коротков позабыл, что не предупредил о своем отъезде начальника академии. Только на китайской границе, со станции Маньчжурия, отбил он в Петербург телеграмму с просьбой отложить защиту диссертации до его возвращения с войны.
С того дня Елена Алексеевна находилась при нем неотлучно. Под Ляояном они вместе прыгали на ходу из одной теплушки с ранеными в другую, потому что конструкция таких вагонов не предусматривала переходов. В Харбине вместе мокли целый месяц под желтым ливнем. И вместе оперировали, с потерей в жаловании переведясь из лазарета Красного Креста в сводный военный госпиталь № 1. Туда по всему фронту собирали для Короткова раненых с подозрением на аневризму.
В те времена эту кровавую опухоль – размером у кого с орех, у кого с кулак – не всегда умели отличить от абсцесса. По вычитанной у Пирогова рекомендации Коротков стал выслушивать аневризмы фонендоскопом: даже если пульсация в них незаметна, течение крови внутри создает некоторый шум. Коротков лично оперировал 35 таких раненых: перевязывал артерии выше и ниже места повреждения, обычно удаляя мешок аневризмы.
Не все пациенты хорошо переносили операцию. У большинства кровообращение восстанавливалось мгновенно: кровь шла по коллатералям, которые окружают артерию, как боковые рукава – крупную реку. Такие обходные пути выручают при аневризме. Но как не у всех рек есть вторые русла, так не везде в теле человека развиты коллатерали. Каким образом до операции установить их наличие? Как предсказать, окончится ли перевязка артерии благополучно или недостаток кровоснабжения вызовет гангрену, так что лучше уж сразу ампутировать?
Коротков стал замерять ниже раны артериальное давление – если коллатерали пропускают крови вдоволь, оно должно достигать величины, которой хватит для обеспечения конечности. Интересно было, кстати, какая это величина: ее никто не знал. Использовался тонометр, который придумал итальянский пульмонолог Шипионе Рива-Роччи в 1896 г. Рива-Роччи сделал из отрезка велосипедной шины манжету, которая плотно охватывала конечность. Грушей нагнетали в шину воздух, пережимая артерию. Потом воздух медленно стравливался через кран, и давление в шине, при котором кровь начинала проходить под манжетой и прощупывался пульс, считалось равным максимальному (то есть верхнему, систолическому) артериальному давлению. Нижнего давления замерять не умели вовсе.
Коротков удлинил манжету Рива-Роччи, чтобы она могла охватить и бедро – при ранении в ногу. Он думал, что необходимое для нормализации давление должно достигать хотя бы 75 миллиметров ртутного столба против 120 в здоровой конечности. Оказалось, кровоснабжение восстанавливается и при 30, а в пальцах – всего при нескольких миллиметрах. Это было установлено 24 декабря 1904 г. опытом на пациенте, которого гангрена лишила всех пальцев, кроме мизинца. И это значило, что давление бывает не равно нулю, даже если пульс не заметен.
Привыкнув слушать фонендоскопом кровеносные сосуды при обследовании, Коротков делал это и при замерах давления. В начале 1905 г. он обнаружил, что при ослаблении манжеты в определенный момент слышны звуки, похожие на приглушенные удары бубна. Видимо, пережатый сосуд издает их, едва через него просачиваются первые капли крови, когда пульс еще неощутим. Если стравливать воздух дальше, звуки нарастают, затем исчезают. Коротков догадался, что в этот момент давление внутри манжеты падает ниже минимального (диастолического), так что сосуд больше не пережимается. Первые опыты измерения верхнего и нижнего давления выполнялись «на здоровом человеке», как писал Коротков, не уточняя, что это была Елена Алексеевна.
К тому времени она ждала ребенка. 14 апреля Коротковы подали в отставку и уехали с войны в Петербург. Николай Сергеевич предъявил свои наблюдения в клинике Фёдорова. Возможность предсказывать силу коллатералей с помощью тонометра произвела на хирургов громадное впечатление.
Но когда 21 ноября Коротков сообщил на научном совещании терапевтов о новом, гораздо более точном способе измерения давления, его здорово «покусали». Главная претензия состояла в том, что автор метода не знает природы своих звуков. Что, если их издает сердце и тогда при пороках, к примеру, они искажены? Идея узнать нижнее давление казалась и вовсе невероятной. Этого еще никто не делал даже за границей.
Коротков хотел ответить экспериментом, но сказалось напряжение полутора лет. Те же терапевты Военно-медицинской академии диагностировали туберкулез обоих легких и запретили подниматься с постели. Нужно было перележать обострение в больнице и немедленно сменить климат. И все же из последних сил он поставил свой опыт. Бедренная артерия собаки была изолирована от сердца зажимом. В артерию вводилась трубка, по которой под давлением, близким к природному, нагнетался раствор соли (время от времени Коротков снимал зажим и подпускал кровь, чтобы собака не лишилась конечности). При манипуляциях с тонометром отрезанная от сердца артерия с физраствором издавала все те же звуки. Коротков полагал, что причина в схлопывании и разлипании сосуда.
Так он и сказал на новом совещании 26 декабря. Опять прозвучали глубокие сомнения, пока слово не взял председатель. То был Михаил Владимирович Яновский, главный терапевт Военно-медицинской академии, а фактически всей армии. Он еще не видал Короткова, поскольку на предыдущем заседании отсутствовал. (Тогда умер Сеченов, и Яновский ездил на похороны.)
Начал председатель с того, что это не схлопывание, потому что для такого звука нужен воздух, а его в сосудах нет. Но и сердце тут ни при чем. Причина – звуковая волна, которую вызывает затрудненный ток крови, турбулентное течение (что впоследствии подтвердилось). А в остальном докладчик прав, резюмировал Яновский: «…должен сказать, что вы в своих наблюдениях обнаружили известную талантливость и остроумие. Вы легко подметили тот факт, мимо которого прошли многие исследователи, занимаясь этим вопросом». И терапевты стали выслушивать звуки Короткова при измерении давления. Сначала в Военно-медицинской академии, через год в Польше, через два в Германии, а через десять лет и в Америке.
У Коротковых родился сын. Чтобы прокормить семью и спастись от чахотки, Николай Сергеевич нанялся врачом на золотые прииски. Целебный воздух сосновых лесов остановил верхушечный процесс. Жена и сын проводили с доктором лето и осень, уезжая от суровой сибирской зимы в Европейскую Россию. В 1911 г., когда сыну Серёже пора было готовиться к экзаменам в гимназию, Елена Алексеевна оставила мальчика на зиму отцу, чтобы тот натаскал его по математике и русской речи. Коротков работал тогда в Андреевской больнице треста «Лензолото» и стал невольным свидетелем печально знаменитого Ленского расстрела. 17 апреля 1912 г. 250 бастующих рабочих были застрелены на улице, а еще столько же с ранениями попали в больницу Короткова. Несколько дней он не смыкал глаз и поседел, хотя ему только что исполнилось 38.
Потом из столицы прибыли две комиссии, с которыми доктору пришлось объясняться. Одна сенатская, другая общественная, во главе с еще никому не известным адвокатом Александром Керенским. Так началась политическая карьера будущего главы Временного правительства. И с ним связана какая-то тайна, из-за которой имя Короткова замалчивалось до самой смерти Сталина.
С точки зрения советской власти биография доктора безупречна. Он прекратил отношения с «Лензолотом» и вернулся в Петербург. После революции не уехал ни к белым, ни за границу. Лечил раненых красноармейцев. При военном коммунизме недоедал, как все. Из-за истощения вернулся туберкулез, и в 1920 г. Николай Сергеевич умер от легочного кровотечения.
Его сын стал врачом, но странное дело: в мединституте его учили замерять давление, ни словом не обмолвившись, что первым это сделал его отец. После войны, когда советская пропаганда трубила, будто все на свете изобрели русские и вообще «Россия – родина слонов», никто не заикнулся о человеке, чье открытие по всему миру называют «Korotkoff sounds» (носители английского языка произносят эту фамилию с ударением на втором слоге). Только во время оттепели ученики Фёдорова вспомнили русского хирурга, без которого не было бы современного тонометра.
По неизвестным причинам Елена Алексеевна, дожившая до блокады, не сохранила ни одной фотографии любимого мужа. И сын его, спортивный врач Сергей Николаевич Коротков, вновь увидел фото своего отца только в 1970 г.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Симона Белова: М-дя…. снова-снова-снова убеждаюсь: придумал новое – срочно уезжать из России. Никто не оценит. Только оболгут. Сотни лет так. Что может измениться?
Ответ: Трудно сопоставить нынешнюю Россию с Российской империей времен Короткова, где промышленное производство утраивалось за десять лет. Имея дело со старушкой, не стоит говорить, что в юности она была так же несносна.
Теперь о Короткове: Он никогда не был беден, ничем государству обязан не был, и бежать за границу, продав семейное дело в Курске, для него не имело смысла. Кроме того, уезжать стоит, если придуманное тобой выгоднее продавать за границей. А как продать использование фонендоскопа при замерах диастолического давления? Получить на этот метод патент и требовать свой процент при каждом надувании груши? Этого и Рива-Роччи не смог. Не все новые методы способны принести доход. Вон Земмельвейс придумал мыть руки перед операцией, а богаче не стал. Ему даже отъезд из страны не помог – все равно погубили. Наконец, Короткова никто не оболгал. Советская власть отчего-то молчала о нем. Оболгать пытались за границей: один немец (Фельнер), пользуясь тем, что Коротков из-за чахотки ничего не писал, пытался присвоить себе приоритет в изобретении. Но ему дали по рукам. Причем дал по рукам не русский врач, а поляк (Яновский, однофамилец Михаила), который очень гордился тем, что первым в Польше применил метод Короткова. Чужие люди защищали честь Николая Сергеевича, потому что он принес пользу всем.
Михаил Трумпе: Первый раз прочитал о Короткове в инструкции к японскому (!) тонометру. Удивился, что это такое недавнее изобретение и что о нем на родине ничего не известно. Стаж использования тонометра к тому времени приближался к 20 годам, насобачился «ловить» чужой пульс по колебаниям стрелки (в фонендоскопе почему-то не слышу).
Ответ: Здорово! В отношении фонендоскопа Вы не одиноки. Сам Василий Парменович Образцов не слышал. Только простым ухом, без приборов. Это бывает.
Михаил Трумпе: Пока пульс у мамы был хорошего наполнения, я его мог нащупать рукой. А когда руки стали пухлыми, а пульс слабый – пришлось ориентироваться либо на стрелку, либо на ее ощущения (пациент чувствует свой пульс под манжетой). Спасибо, что успокоили меня насчет фонендоскопа. Я думал, что я один такой тугоухий.
Sergey Bochek: На истории медицины подобного даже близко не рассказывали, а тут, оказывается, целая история… в том числе и история страны, поданная через призму метода и его основателя.
Ответ: Конечно, не рассказывали. Ежели вам историю начать рассказывать, вы ею, чего доброго, заинтересуетесь.
Sergey Bochek: Точно… Мы, неучи, такие!! С нами надо быть настороже, можем и заинтересоваться.
55 «Болезнь забвения» Алоис Альцгеймер 1906 год
3 ноября 1906 г. на съезде психиатров Юго-Западной Германии невропатолог Алоис Альцгеймер объявил, что существует особая «болезнь забвения», вызывающая гибель серых клеток мозга.
В юности, оканчивая медицинский факультет в Вюрцбурге, Альцгеймер не знал, какую специальность выбрать. Его больше всего увлекала работа с микроскопом, но вакансий такого рода в 1888 г. не было, и Алоис ухватился за первое же предложение – стать личным психиатром богатой душевнобольной дамы. Не прошло и полгода, как он понял, что психиатрия и есть его настоящее призвание. Альцгеймер поступил во франкфуртский Муниципальный институт душевнобольных и эпилептиков, который за специфическую архитектуру здания прозвали «Ирреншлосс» («замок безумцев»). Там он снискал славу искусного диагноста. Одного разговора с незнакомым больным ему обычно хватало для того, чтобы определить патологию, подчас очень редкую. В «замке безумцев» 25 ноября 1901 г. он обследовал пациентку по имени Августа Детер. Муж сдал ее в психиатрическую лечебницу, промучившись с ней целый год. Она стала патологически ревнива, не могла выполнять работу по дому и приставала к соседям с нелепыми разговорами. Альцгеймера удивило, что в 51 год она вела себя как выжившие из ума старики.
Сохранилась запись их исторического разговора:
– Что вы едите? [Дело было за обедом.]
– Шпинат. [В этот момент она ела свинину с цветной капустой.]
– А что вы жуете прямо сейчас?
– Сначала картошку, теперь хрен.
– Напишите «пять».
Августа пишет «Eine Frau» [ «женщина»].
– Напишите «восемь».
Августа пишет «Августа».
Вскоре Альцгеймеру предложили возглавить лабораторию в Мюнхенском университете и он оставил «Ирреншлосс». На прощание он попросил своих друзей прислать ему историю болезни и мозг Августы, когда она умрет. В том, что ждать недолго, сомнений у него не было.
Действительно, весной 1906 г. Августа скончалась. Ее мозг имел удивительные признаки деградации, каких Альцгеймер прежде не видал. Особенно впечатляли бляшки, позже получившие название «сенильных».
На съезде в Тюбингене 3 ноября Альцгеймер рассказал про эти «милиарные фокусы», как он называл бляшки. И сделал важнейшее предсказание: многие психические болезни будут диагностировать по характерным для них патологическим образованиям в мозгу. Микроскоп еще не раз послужит психиатрии! Это пророчество собравшихся психиатров не впечатлило. Вопросов оратору не задавали. Его выступление упомянула только одна газета – местная хроника – единственной фразой: «Доктор Альцгеймер из Мюнхена доложил об особенном болезненном процессе, который за четыре с половиной года вызывает существенные потери нейронов».
Масштаб события понял один человек – не кто иной, как именитый Эмиль Крепелин, чья «Психиатрия» была настольной книгой каждого специалиста в Европе и Америке. Дорабатывая свой учебник для 8-го издания (1910), он вписал туда «альцгеймерову болезнь». Крепелин и Альцгеймер считали ее редкой патологией, только с виду напоминающей старческую деменцию. А оказалось, пожилые люди просто больше подвержены ей. Сто лет спустя, с увеличением средней продолжительности жизни, число больных такой деменцией приблизилось к 30 миллионам. И трудно найти взрослого человека, который не слыхал бы грозной фамилии «доктора из Мюнхена».
56 Профилактика анафилактического шока Александр Безредка 1907 год
10 января 1907 г. в Париже микробиолог Александр Михайлович Безредка, работавший в лаборатории Мечникова, сообщил, что открыл метод предотвращения анафилактического шока. Мечникову показалось, что это блестящее открытие поможет избежать преждевременного наступления старости. Своей идеей Мечников решил поделиться с давним оппонентом, писателем Львом Толстым.
Анафилаксия в переводе с греческого – «защита наоборот». Эту болезнь вызывают собственные антитела, призванные защищать организм, а вместо этого причиняющие ему вред. После воздействия даже небольшого количества чужеродного антигена (впервые это явление заметили в 1902 г. при лечении противодифтерийной сывороткой) против него вырабатываются антитела, и много – более чем достаточно. Они подстерегают новые частицы антигена. Как оперативники в засаде, разбредаются по закоулкам тела и укрепляются на стенках капилляров. На организацию такой «засады» требуется 10–12 дней. У морских свинок она ставится на три месяца. У человека, возможно, на всю жизнь.
Когда с новой инъекцией сыворотки в кровь поступает тот самый антиген, антитела задерживают его. Беда, что «одной рукой» они хватаются за неприятеля, а «другой» держатся за здоровые клетки тканей. Эти клетки поражаются продуктами борьбы антигена с антителом и выделяют «сигналы тревоги»: гистамин, серотонин и пр. Сосуды расширяются, давление резко идет вниз, начинается отек. Безредка наблюдал, как морская свинка падает в судорогах на бок и погибает от паралича дыхательного центра. Это явление он назвал «анафилактический шок». К сожалению, такой шок вызывает чуть не каждую сотую смерть в больницах и потому он на слуху далеко за пределами круга специалистов.
Сначала врачи растерялись. Чтобы придумать, как избежать шока, нужно было сначала представить себе хотя бы изложенную выше аналогию. Не случайно она пришла в голову именно Безредке. Он занимался близкой темой в Институте Пастера, куда его пригласил Мечников.
Родился Безредка в 1870 г. в Одессе, изучал химию в тамошнем университете. Под влиянием Мечникова – преподавателя и друга семьи – заинтересовался медициной. Но поступить на медицинский не смог, потому что во времена его юности туда старались не принимать лиц иудейского вероисповедания. К счастью, именно тогда Мечников переходил к Пастеру и обещал взять к себе Безредку, если тот окончит медицинский факультет Сорбонны. С 1893 г. Александр учился в Париже, одновременно работая у Мечникова препаратором.
Мечников – по его собственным словам, «зоолог, заблудившийся в медицине», – нуждался в помощниках-врачах. Сам он как эрудированный научный руководитель был сокровищем. Безредка и сотрудники называли его «ходячей библиографией». За своего вождя они были готовы в огонь и в воду, тем более что он не мешал им работать творчески.
Острейшими проблемами Парижа на рубеже веков были сифилис и брюшной тиф. Пастер считал, что против них должна помочь вакцина из живых, но ослабленных возбудителей. Безредка решил подвергнуть тифозную палочку нападению антител. Когда они с разных сторон вцепляются в микроба, как собаки в медведя, он становится не столь активным. Его можно вводить в организм, чтобы обучить иммунитет с ним бороться.
Пока возились с тифом, возникла новая напасть – анафилаксия. Ей не подвергаются повторно те, кто сумел ее пережить. Морская свинка, выдержавшая два укола сывороткой в брюшину, спокойно переносила смертельную дозу аллергена. Наверное, после шока заканчиваются антитела, которые вызвали реакцию. Быть того не может, подумал Безредка, чтобы тут обошлось без центральной нервной системы. Он стал делать и первую, и вторую инъекцию прямо в мозг. Шок убил 24 свинки из 31, как и ожидалось. Но укол в брюшину делал животных нечувствительными к мозговой инъекции. Мало того, реакции не было, если между инъекциями проходило не 12 дней, а полтора часа.
Это была первая победа. Безредка сообщил о ней 10 января 1907 г. и предложил проверить такой метод: сначала чувствительной к сыворотке свинке вводится небольшая доза, а через полтора часа – уже основная. Но тут в Институте Пастера закончились подопытные морские свинки. Новых нашли через знакомых в Департаменте здравоохранения (Health Board) Нью-Йорка, и дальше Безредка управлял опытом по телеграфу.
Его аналогия сработала. Итак, в капиллярах стоит засада, там рассредоточены антитела. Если сразу ввести большую дозу антигена, борьба с ним начнется по всей площади сосудов. Но малая доза соберет на себя большинство антител: они выскакивают из своих закоулков и отовсюду бросаются на чужаков. Так это понимал Безредка. Еще он подозревал, что при отключении центральной нервной системы тревогу не поднимут даже в случае большого вторжения. Действительно, оказалось, что под наркозом анафилактического шока не бывает (1 случай на 15 000 пациентов).
Сделанное в лаборатории открытие убедило Нобелевский комитет, что пора наградить создателя учения об иммунитете. В Стокгольме лауреат Мечников случайно узнал, что премию по литературе собирались присудить Толстому, но секретарь комитета отклонил выдвижение, потому что ему не нравилось религиозное учение Льва Николаевича. Мечников увидел в этом повод для встречи с Толстым и попросился к великому писателю в гости.
Пока он ехал в Россию, Лев Николаевич засел за книжки, чтобы поддержать разговор с великим ученым. Но общались они как будто на разных языках. Мечников утверждал, что человек должен жить 120–150 лет, а стареет раньше времени из-за самоотравления организма. Выражаясь по-современному, старость – процесс аутоиммунный. Но если ввести малую дозу «яда старости», организм будет десенсибилизирован и сохранится в хорошей форме до тех пор, пока человек сам не пресытится жизнью. Толстой отвечал, что нет смысла продлевать жизнь, пока в мире торжествует зло: «Горе не в том, что мы живем мало времени, а в том, что мы плохо живем, живем против себя и своей совести».
Лев Николаевич не хотел превращать встречу с великим человеком в банальный спор атеиста с верующим. В доме стоял рояль и гостил пианист Александр Гольденвейзер. Он тем вечером был в ударе. Послушали Шопена, которого Мечников и Толстой оба любили. Всплакнули немного, обругали Скрябина и «всех этих нынешних». Расстались дружески. Потом даже обменялись парой писем.
В этом споре Безредка сначала был на стороне Мечникова. Ученый совершенствует жизнь на Земле и должен заниматься наукой. Как Чехов сказал, «в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса». Это Безредка блестяще продемонстрировал на фронте, куда его призвали как натурализованного французского гражданина. Сначала фельдшером в санитарный поезд, а потом, разобравшись, – главным микробиологом Верденской крепости. Он обучал военных врачей своему методу предотвращения шока от инъекции противостолбнячной сыворотки. Метод и поныне носит имя Безредки. Уже на той войне он спас тысячи жизней.
Демобилизовавшись, Безредка возглавил лабораторию своего умершего в 1916 г. учителя. Париж наводнили русские эмигранты, и Александр Михайлович находил помощь и работу для многих ученых соотечественников. Он считал это частью занятий наукой. Когда на стажировку в Европу стали приезжать советские врачи, ветеринары и микробиологи, три четверти из них хоть немного, но поработали у Безредки. Видя, как он симпатизирует своим, они – кто по убеждению, а кто по поручению – предлагали ему помочь делу Коминтерна во Франции. Безредка отговаривался, что француз он только по паспорту и не имеет морального права вмешиваться в общественную жизнь.
Да и желания отрываться от науки не было. Безредка обнаружил, что саркомам разных видов предшествует вирусная инфекция. Возникла мысль сделать вакцину от вирусов или отравить раковые клетки токсинами специально «обученных» микроорганизмов. Оказалось, микробы и паразиты способны остановить развитие злокачественной опухоли. Особенно отличился малярийный плазмодий.
И от этих идей все же пришлось отвлекаться на общественную жизнь. Помогая сотрудникам-эмигрантам, Безредка формально вошел в президиум организации, носившей название Общество здравоохранения евреев (ОЗЕ). Она была основана в Петербурге в 1912 г. и занималась профилактикой болезней детей из еврейских семей самого разного достатка: вакцинацией, летними лагерями, диспансеризацией и пр. Отделения ОЗЕ имелись по всей империи. Оказавшиеся за пределами Советской России члены в Прибалтике, Польше, Румынии, Финляндии и странах Западной Европы образовали Союз ОЗЕ со штаб-квартирой в Берлине. Почетным главой союза стал Альберт Эйнштейн. После прихода к власти нацистов штаб-квартира переместилась в Париж, а место Эйнштейна занял Безредка.
Сохранилась их переписка. В первом послании, 1930 г., Александр Михайлович просил великого физика организовать сбор пожертвований. Эйнштейн устроил концерт пианиста Артура Шнабеля, где сам играл на скрипке (чуть ли не единственный раз на публике). Второе письмо, 1935 г., Безредка уже как глава Союза направил Эйнштейну в Принстон. Там рассказывается о 62 немецких эмигрантах, которых устроили в СССР.
Рабочий кабинет Безредки в Институте Пастера стал залом совещаний Союза ОЗЕ. С каждым днем обстановка ухудшалась, и надо было действовать. Весной 1937 г. Безредка вошел в делегацию французских врачей, посетившую Москву, чтобы проведать своих подопечных. 45 лет не бывал он на родине. Газетный отзыв о поездке написал самый восторженный. В Москве красивое метро, где в буфетах продают вкусные пирожные. Люди одеты неплохо, советские микробиологи, у которых он гостил, живут в отдельных квартирах, а их лаборатория имеет «более чем достаточный бюджет». Но в действительности многие беженцы из Германии уже исчезли. Сопровождавший делегацию венеролог Вольф Броннер (большевик с 1904 г.) был вскоре арестован как французский шпион и расстрелян. В качестве убежища СССР явно не годился.
В Центральной Европе Союз ОЗЕ перешел на нелегальное положение. Из Германии и Чехословакии после погромов Хрустальной ночи еврейских детей вывозили через границу с фальшивыми документами. Для их размещения арендовали замки на юге Франции, подальше от немецкой границы.
Безредка очень переживал, что сейчас, когда ему нет еще 70 и он полон ценных идей по части борьбы с раком, приходится заниматься не своим делом, а незаконным перемещением людей через границу. Летом 1939 г. он впал в депрессию, заболел и вынужден был лечиться на курорте.
Едва оправился, германская армия захватила Польшу. Оттуда пошли сообщения одно ужаснее другого. Франция и Британия формально объявили Гитлеру войну, их армии пересекли немецкую границу – и остановились. Александр Михайлович отказался это понимать. Что ж это силы добра с перевесом в людях и технике не остановят кошмар на востоке Европы?
28 февраля 1940 г. Безредка умер от сердечного приступа. Он не увидел разгрома Франции и не застал катастрофы своего народа. Через устроенные им явки прошли сотни детей. Многие выжили. Младших переправили в Америку и Швейцарию, старшие вступили в ряды Сопротивления.
57 Прижизненная диагностика инфаркта Василий Образцов и Николай Стражеско 1910 год
1 января 1910 г. Василий Парменович Образцов на первом съезде русских терапевтов рассказал, как диагностировать инфаркт миокарда при жизни пациента. С этого дня началась история лечения этой грозной болезни. Доклад специально назначили на 19 декабря 1909 г. по старому стилю – как подарок на новый, 1910 год всем терапевтам мира, жившим по григорианскому календарю.
Медицинская карьера Образцова тоже началась с подарка. Сын бедного священника, по окончании вологодской семинарии в 1870 г. Василий раздумал идти в попы и хотел продолжить учебу. Из светских наук выпускникам семинарий позволялось изучать только медицину. Образцов решил отправиться в Петербург и там поступить в Медико-хирургическую академию. Денег на дорогу не было, шел он пешком. На прощание крестная мать дала ему старинный петровский рубль. Крестная, готовившая просфоры для отцовской церкви в городке Грязовец, некогда выучила маленького Васю читать и открыла его страсть к науке. На сей раз просвирня вручила Образцову свою самую ценную вещь, чтобы в случае крайней нужды мальчик мог продать ее нумизмату.
Подстраховка не понадобилась. Мало того что Образцов был от природы одарен удивительно острым зрением и тонким осязанием – ему был дан еще абсолютный слух и красивый тенор. А поскольку в семинарии он выучил церковную службу наизусть, то на всякий праздник имел гарантированную подработку в хоре. С петровским рублем Василий не расставался, как с талисманом.
Окончив академию и став земским доктором в Великом Устюге, Образцов с недоумением обнаружил, что его наука не нужна. Обыватели восьмитысячного городка имели всего три диагноза – сифилис, алкоголизм и систематическое недоедание, иногда сочетая их. Поэтому Василий обрадовался началу русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в которой он был обязан принять участие как младший врач выдвижного госпиталя.
Резервный батальон на переправе в Зимнице, который Образцов обслуживал как медик, тоже не радовал разнообразием. Болгария удивила русских солдат обилием и качеством плодов, собиравшихся даже в бедных крестьянских хозяйствах. «Чего мы этих болгар освобождаем, они ж богаче нас живут?» – изумлялись освободители и вкушали плоды. А затем страдали животом и становились пациентами Образцова. Были, конечно, и раненые, но по большей части то, чему учили в академии, не пригождалось. Юный доктор обнаружил, что уже не понимает содержания статей в медицинских журналах: скажем, где находится arteria carotis?
На войне щедро платили. По завершении боевых действий Образцов впервые в жизни получил на руки тысячу рублей золотом. На них он поехал доучиваться в Германию за свой счет. По возвращении защитил степень доктора медицины и продолжил армейскую службу в Киевском военном госпитале. Киев был избран как крупный южный город, где болеют не только от водки, грязи и голода. Надежды вселяла также близость к университету, где можно слушать лекции и работать в лаборатории.
Университет оказался не похож на немецкие: чужих туда пускали неохотно, даже за деньги. Профессора слушали выступления Образцова в Обществе киевских врачей, но скептически: не может этот младший ординатор знать больше нас. Госпиталь был также не похож на немецкие – там было слишком грязно. Страшно было не воровство, а свинство, что и высказывал по прямоте своей Василий начальнику госпиталя. На четвертый год Образцов наконец всем надоел и получил предписание о переводе в Минский военный госпиталь. То есть в ссылку. В Минске никакого университета не существовало, не было там гениального Минха, который выполнял для киевских врачей поучительные вскрытия, и немецких журналов там не читали.
Перед Образцовым встал гамлетовский вопрос: подчиниться, чтобы гарантировать содержание молодой жены и шестилетней дочери Натальи, или выйти в отставку и попробовать кормиться частной практикой. Образцов избрал второе. Оказалось, частная практика очень стимулирует мысль. В 1886 г., обследуя страдающего запорами 55-летнего чиновника, он сумел прощупать поперечную ободочную кишку. В те времена считалось, что такое возможно только в патологических случаях. Устанавливать местонахождение внутренних органов, а тем более различать, который из них болит, не умели. Склифосовский на вопрос о диагнозе отвечал «воспаление брюшной полости», и только при операции выяснялось, что это – аппендицит, колит или рак тонкого кишечника.
Образцов довел пальпацию до совершенства: он научился прощупывать практически любой орган брюшной полости. От больных отбоя не было. Василий Парменович обзавелся дорогим выездом, купил поместье в деревне и роскошный дом на Фундуклеевской. Это здание сохранилось, его занимает польское консульство (ул. Богдана Хмельницкого, 60).
Лечить Образцов не любил – его называли «терапевтом-нигилистом». Понимая, как мало помогали тогдашние лекарства, он редко направлял пациентов к аптекарю, делая ставку на физиотерапию, диету и особенно на хирургию. Ни один консилиум перед серьезной операцией в Киеве не обходился без Образцова. Иногда он молчал или говорил: «Не знаю, братцы!» Но если уж выносил суждение, ошибался редко. Его диагнозы были шедеврами. Так, однажды он предположил, что очередное «воспаление брюшной полости» у дамы вызвано каловым камнем величиной с горошину в просвете аппендикса. И это полностью подтвердила операция. В наши дни такая точность не всегда достигается с использованием рентгена.
Всего этого Образцову было мало. Он стремился описать новые формы болезней, для чего нужна целая больница пациентов и студенты-помощники. С больницей было просто. Частная практика за два года так прославила его, что городская дума пригласила заведовать терапевтическим отделением Александровской больницы. Но к студентам министр народного просвещения Делянов Образцова не подпускал.
Министр был из тех, кто желает все контролировать, каждое назначение подписывал лично и требовал полицейское дело на любого преподавателя в самой дальней точке империи. Оказалось, что десять лет назад в Великом Устюге Образцов сочувствовал агитаторам, которые «ходили в народ» (а им сочувствовал любой интеллигентный человек, заброшенный в Великий Устюг). В бытность же студентом Василий Парменович катался на рысаке по кличке Варвар. Это весьма компрометирующее знакомство: позднее на этом Варваре террорист Степняк-Кравчинский приезжал убивать шефа жандармов Мезенцева, а еще раньше на нем же бежал из заключения князь Кропоткин – теоретик анархии. Кто знает, как долго еще бы не научились диагностировать инфаркт, если бы в 1890 г. не заболел животом командующий войсками Киевского военного округа генерал Драгомиров. Он знал Образцова еще с войны, где они вместе «спивали» на переправе в Зимнице. Образцов умело и быстро вылечил его. Драгомиров поручился за политическую благонадежность своего врача.
Происки жандармов прекратились. Университет смог предложить Образцову кафедру частной патологии и терапии, где он и набрал свою «команду мечты». Проверял годность студента просто: один раз показав пальпацию органов брюшной полости, он приглашал кандидата к постели другого пациента и предлагал ему стул. Большинство садились так, что прощупывать было несподручно, и отбраковывались. Первым сделал все правильно будущий «капитан команды» Николай Дмитриевич Стражеско. Он вообще был очень ловок. Однажды, гуляя по Новоелизаветинской улице, в последний момент выхватил из-под колес экипажа гимназистку. Как следует разглядев девушку, нашел ее красавицей и влюбился. Три года безрезультатно фланировал он по Новоелизаветинской – гимназистка не появлялась. Когда улица стала Пушкинской, а Стражеско приняли к Образцову и пригласили к нему домой в гости, оказалось, что это Наталья, дочь Василия Парменовича. И Стражеско стал зятем своего мэтра.
Вместе они оборудовали Александровскую больницу на личные доходы Образцова от частной практики и начали охоту на сердечные патологии. 17 декабря 1899 г. привезли первого пациента, у которого они сумели при жизни диагностировать инфаркт. Это был 49-летний инкассатор артели. Его тошнило, знобило и мучила отдающая в левую руку боль в грудине. Интерн предположил, что это «ревматизм грудины». Стражеско тихонько пробормотал: «А не есть ли это закупорка венечных сосудов сердца?» (коронарных артерий). Образцов обернулся и произнес: «Вероятно, он прав». Когда больной через трое суток умер, диагноз подтвердил патологоанатом.
Следующий случай выдался 3 апреля 1908 г., когда Образцов и Стражеско уже перешли в университет и руководили терапевтической факультетской клиникой. В то время Образцов в Вене на съезде немецких терапевтов рассказывал, как различать колит и энтерит, и больного наблюдал один Стражеско. Железнодорожник Иван Пышкин, огромного роста и очень тучный, 57 лет. Поднимаясь по лестнице, почувствовал сильную одышку. Симптомы похожие, через неделю – дыхание Чейна – Стокса, пульс нитевидный. Смерть. Стражеско сохранил препарат его сердца с некротизированным миокардом. По возвращении Образцова из командировки решено было следующего такого больного показать студентам.
Пока такого пациента ждали, на жизнь Образцова покусился профессор патологии Владимир Линдеман. 40 лет от роду, этнический немец, при этом член клуба русских националистов, которые враждовали с так называемыми сознательными украинцами. После распада Российской империи перебрался в Варшаву и там прослыл большим патриотом Польши, но это впереди. А в 1908 г. он только женился на княжне Варваре Владимировне Чегодаевой, много моложе него. И скоро обнаружил, что жена увлеклась 57-летним Образцовым. Прямо на университетском совете Линдеман назвал Василия Парменовича подлецом и швырнул ему через стол перчатку.
Никто не хотел участвовать в этой дуэли, так что секунданта Линдеман вербовал насильно: его ассистент Николай Вашетко согласился, иначе не бывать ему доцентом. Секундантом Образцова стал его друг химик Сергей Реформатский.
Василий Парменович никогда не брал в руки оружия, а Линдеман был известен как профессиональный стрелок и охотник. Он всюду хвалился: «Я всажу этому негодяю пулю в лоб с одного выстрела!» Казалось, глава русской терапевтической школы обречен. Киевский губернатор Алексей Гирс вызвал в себе Вашетко и Реформатского и велел замять дело любым путем. Но противники были непримиримы. Образцов действительно влюбился, думал развестись с женой и обручиться с Варварой Владимировной. Линдеман жаждал крови.
На всякий случай секунданты приобрели две одинаковые пары пистолетов, чтобы пару с боевыми патронами как-нибудь подменить на другую, заряженную пыжами. Кроме того, уговорили Линдемана увеличить дистанцию с 12 шагов до 15. Отмерять должен был секундант Образцова, химик Реформатский, ростом 2 метра 15 сантиметров. Когда он старательно шагнул пошире 15 раз, обманутый муж сказал, что негодяи превращают его дуэль в фарс, в котором он участвовать отказывается.
Образцов развелся и таинственным образом сумел договориться с попами о венчании, хотя разведенных не венчали. В 1909 г. Варвара Владимировна в законном браке родила дочь Евгению, а еще через два года сына Василия.
Третий инфарктник не заставил себя ждать. 4 декабря 1908 г. становой пристав Василий Роговский, 57 лет, у которого сердце болело уже пять месяцев, был госпитализирован после неприятного разговора. 11 декабря его показали студентам на клиническом разборе, представив как явно выраженный случай закупорки венечной артерии.
Из анализа трех случаев следовало, что при этом явлении боль за грудиной, как при стенокардии, становится постоянной, а пульс прощупывается только на сонной артерии, поскольку сердце работает лишь частью своего мышечного аппарата. Вот критерии, по которым надо ставить такой диагноз, и чем быстрей, тем лучше.
Образцов не любил писать, и доклад за него составил Стражеско. Когда стало известно, что на европейский Новый год Василий Парменович едет в Москву, богатые киевские сердечники скупили билеты в его вагоне и всю дорогу приставали к нему с вопросами. Высадка на Брянском (Киевском) вокзале в Москве в окружении пациентов напоминала въезд Христа в Иерусалим.
Это был день высшего триумфа Образцова. Вскоре он обнаружил у себя диабет и стенокардию и оставил профессорскую должность, уступая путь молодым. После революции киевские врачи выбрали его главой своего профессионального союза, и все 14 раз, когда в Киеве менялась власть, Образцов находил общий язык с новыми хозяевами города, выручая врачей разных национальностей и убеждений – поляков, евреев, немцев, русских националистов и сознательных украинцев. До конца войны его слушались все: в ходе боевых действий любая армия страдала от тифа и нуждалась в медицинской помощи. Когда же большевики победили и остались навсегда, Образцов утерял свое значение.
Все заработанные деньги он вкладывал в недвижимость, которую конфисковали, кроме дома на Фундуклеевской. Теперь она называлась улицей Ленина. Фундаментальное отличие состояло в том, что в домах на улице Ленина не топили печи, потому что в городе не было дров. Василия Парменовича поразил инсульт. Паралич правой руки постепенно проходил, но речь была утрачена. На частную практику рассчитывать не приходилось, и Образцов голодал. Из денег у него остался только заветный петровский рубль.
Близких рядом не было: Стражеско после смерти брата, расстрелянного за нарушение комендантского часа, уехал в Одессу; Варвара Владимировна с детьми вовремя перебралась за границу. Ученики Образцова следили за ним, мешая ему покончить с собой.
Когда 12 декабря 1920 г. он заболел вирусной пневмонией, его отвезли в частную Георгиевскую лечебницу, так что умер он в тепле.
Талисман – старинный рубль – передали Стражеско, в семье которого он и хранится.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Alexey Britanov: Семинаристам непросто было. Моему прадеду, чтобы поступить в мед из семинарии, пришлось в Томск ехать… В Питер, наверно, только «стобалльникам» тогда светило…
Raya Eyyubova: Врачи забыли, как пальпировать, или не хотят, когда есть УЗИ?
Ответ: Врачи древности пробовали мочу на вкус, чтобы диагностировать диабет, а теперь с появлением химического анализа в этом нет необходимости. Кроме того, при нынешней эпидемии ожирения часто трудно что-нибудь нащупать в брюшной полости. Но этап в истории медицины, конечно, важный. Одна своевременная диагностика аппендицита чего стоит. Сколько людей спасти удалось благодаря пальпации! Возможно, среди них были и наши с Вами предки.
Denis Pashevin: Совершенно случайно злодей Линдеман в свободное от убийств время раскрыл патогенез аутоиммунного гломерулонефрита. А личная жизнь – она так неспроста называется.
Ответ: А мы как раз про личную жизнь. Это главное для всех, в том числе и для выдающихся врачей. Если жизнь профессиональная определяется наставниками, коллегами и возможностями работодателей, то личную человек творит себе сам. И как в зеркале, отражается в ней. Наши истории – о том, как личные проблемы побудили героев совершить дела, изменившие медицину. А следовательно, и личную жизнь: вашу, нашу, каждого.
58 Жертвы иприта и рождение идеи химиотерапии рака Западный фронт 1917 год
12 июля 1917 г. около бельгийского городка Ипр немецкая армия впервые пустила в ход отравляющее вещество, названное по месту сражения «иприт». Этот страшный яд оказывал действие, которого не ожидали даже сами немцы. Изучая последствия применения иприта, врачи обнаружили, что новое оружие можно обратить против опухолей. Так возник важнейший метод лечения рака – химиотерапия.
Как водится, новое оружие применили, не зная толком, с чем имеют дело. Весной 1917 г. немецкое командование осознало, что силы на исходе. В бой бросали все ресурсы без разбора, лишь бы удержать вражеское наступление. Химики предложили маслянистую жидкость, пары которой оказывали удушающее действие и раздражали глаза, судя по опытам на обезьянах. Отравляющее вещество с запахом горчицы, прозванное «горчичный газ», плохо разлагалось и заражало местность надолго. Для отличия начиненные им снаряды помечали желтым крестом.
Когда химический завод в Адлерсхофе выдал первую партию таких снарядов, в цеху произошел взрыв. При тушении пожара и расчистке завалов никто не погиб. Военные решили, что новая отрава не так уж сильна, и не хотели принимать ее на вооружение. Но деваться было некуда: англичане собрали под Ипром ударную группировку, которую надо было хоть чем-нибудь остановить. Для пробы артиллеристы обстреляли загон с кошками. Все кошки погибли, значит, «желтый крест» как яд вполне пригоден. Отчего умерли животные, никто особо не разбирался. В 22 часа 12 июля немцы начали артобстрел и за ночь обрушили на противника 50 тысяч снарядов с 125 тоннами «горчичного газа».
Англичане ощутили сильный запах. Он чувствовался всего несколько минут. На самом деле это грозный симптом: если человек «принюхался» и больше не чувствует запаха, значит, началось отравление. Тогда этого еще не знали. От нового газа немного першило в горле, но не сильней, чем от порохового дыма. Маслянистые лужи под ногами выглядели вполне безобидно. Проведя на всякий случай полчаса в газовых масках, британцы сочли, что ничего страшного нет, поснимали противогазы и легли спать. Сон их был крепок и спокоен. Но к утру они совершенно ослепли. Кожа по всему телу чесалась, в паху и под мышками ощущалась жуткая боль. Кричать и даже говорить сил не было: легкие заполнила пена и каждый вдох давался так тяжело, что казался последним.
Задыхающиеся люди с повязками на глазах (они были не в силах выносить солнечный свет), держась друг за друга, брели в тыл, ведомые медсестрами. Из 6000 готовых наступать бойцов пострадали 2143, умерли 95. К большинству остальных вернулось зрение, но ожоги и нарывы по всему телу не заживали месяца три. Эти-то не поддающиеся лечению нарывы и были сюрпризом для всех.
Немцы при опытах на шимпанзе и кошках не удосужились посмотреть, что творится у них под шерстью. До 12 июля 1917 г. лишь один человек испытал на себе все прелести иприта. Это был не кто иной, как Николай Зелинский, в будущем великий химик и создатель противогаза. За 30 лет до описываемых событий, в 1886 г., молодой Зелинский был на практике в Гёттингенском университете. Научный руководитель Виктор Мейер поручил ему синтезировать вещество, которое как раз и оказалось ипритом. Зелинский случайно облился своим продуктом и еле выжил. Он едва дышал, надолго ослеп и три месяца со страшными язвами пролежал в местной клинической больнице. Мейер послал остатки иприта в больницу на исследование. Лабораторные кролики демонстрировали те же симптомы, что и пострадавший. Когда же раздражение появилось на коже лаборанта, эксперименты сразу прекратили. Потом о них вообще забыли, а журнал потеряли.
В 1917 г. немцам уже некого было спросить: Зелинский на стороне противника, а Мейер двадцать лет назад впал в депрессию и принял цианистый калий. Только после боевого применения все бросились изучать иприт. Британские врачи установили, что у отравленных падает уровень лейкоцитов в крови. Вскоре на фронт прибыл американский хирург Эдвард Крамбхаар, в будущем знаменитый кардиолог и историк медицины. С ним была его супруга Хелен, тоже врач, верный помощник и ассистент. Постоянно оперируя, они урывали время ото сна, чтобы внимательно изучить тела отравленных.
Рассматривая под микроскопом их костный мозг, Крамбхаар заметил, что деления клеток совершенно не видно. Между тем в костном мозге этот процесс должен происходить активно: там из бластов образуются новые клетки крови. Вот почему так трудно лечить причиненные «горчичным газом» язвы: иприт останавливает митоз, а значит, и любую регенерацию.
Этот вывод сразу же применили на практике. Немцы часто использовали смеси газов. Если анализ показывает снижение числа лейкоцитов и активности митоза, значит, пациент пострадал от иприта. Всего по обе стороны фронта таких отравленных насчитывалось около миллиона двухсот тысяч человек, из них до конца войны скончалась девяносто одна тысяча. Остальные в массе своей не дожили до старости, умирая от инфекций дыхательных путей.
После войны на смену «горчичному газу» пришли в пять раз более ядовитые азотистые иприты. Перспектива их применения казалась сомнительной: теперь газ приняли на вооружение всех армий, и никто и мечтать не мог о монополии на иприт, которая была у Германии целый год с лета 1917-го.
Но после Перл-Харбора стало ясно, что от японцев можно ожидать всего. С декабря 1941 г. в Йельском университете по заказу военных фармакологи Луис Гудман и Альфред Гилман начали поиски антидота к азотистому иприту. А как проверить, действует ли антидот? Вспомнили работу Крамбхаара – если митоз идет, значит, иприт нейтрализован. Активнее всего делятся раковые клетки, вот на них и можно проверять. Тут Гудмана осенило: да ведь инъекция иприта должна останавливать рост опухоли!
Если на опыты в интересах вооруженных сил изводили стаи кроликов, то для проверки этой гипотезы у Гилмана была всего одна мышь. У нее вызвали лимфому, затем ввели ей иприт – опухоль исчезла. Через две недели случился рецидив, после новых инъекций опухоль опять уменьшилась, однако теперь ее клетки стали резистентными к яду, и мышь все-таки умерла от рака. Но она прожила целых 84 дня, то есть на порядок больше, чем без лечения. Этот результат сообщили хирургу-онкологу Густаву Линдскогу. Он решился предложить такую химиотерапию кому-нибудь из безнадежных пациентов больницы Нью-Хейвен. По счастливой случайности первым согласился пациент с формой лейкоза, чувствительной к иприту. Будь у него другая патология, химиотерапия возникла бы на много лет позже.
История болезни была засекречена, потому что дело касалось применения боевого отравляющего вещества. В медицинской карточке вместо словосочетания «азотистый иприт» значится «субстанция X». Врачебная тайна до сих пор запрещает публиковать имя, фамилию и биографию больного.
Мы мало знаем об этом замечательном человеке, который вошел в историю медицины под инициалами J.D. Родился он в 1894 г. в Российской империи, на территории современной Польши. В 1912 г. эмигрировал в США. Не имея семьи, в одиночку снимал четырехкомнатный дом в Меридене (штат Коннектикут), где работал на шарикоподшипниковом заводе. Вот, собственно, и все.
К врачам он обратился в феврале 1941 г. по поводу увеличения лимфоузлов и болезненных ощущений. Диагностировали лимфосаркому, облучали с некоторым результатом. После рецидива оперировали, затем опять облучали. Летом 1942-го рост опухоли возобновился. Она мешала открывать рот и как следует дышать. Шея настолько распухла, что не давала повернуть голову, а спать J.D. мог только в кресле.
На предложение попробовать инъекции иприта больной согласился, понимая, что терять уже нечего. В 10 утра 27 августа 1942 г. ему ввели внутривенно первую дозу яда. На четвертый день химиотерапии опухоль спала, J.D. стал способен есть ложкой и спать в постели. За неделю внешние симптомы исчезли полностью, а через месяц наступила ремиссия – анализ крови показал отсутствие раковых клеток.
Конечно же, наблюдалась и характерная для отравленных ипритом лейкопения, то есть падение числа лейкоцитов в крови. Начались кровоизлияния и замещение костного мозга жировой тканью. Через некоторое время вернулась опухоль, и новые инъекции не смогли ее убрать. Спустя 96 дней после начала химиотерапии J.D. умер от побочных эффектов лечения. Но его фотографии, приложенные к публикации, произвели глубокое впечатление на врачей.
К 1946 г., когда работу рассекретили, азотистый иприт получили уже 67 онкобольных в разных городах Америки. Появилась статистика, которая с тех пор неуклонно улучшается. Лейкоз перестал быть смертным приговором: современная химиотерапия позволяет добиться стойкой ремиссии у 75–85 % больных. «Горчичный газ», с которого все началось, для медицины уже в далеком прошлом. Теперь остается исключить его использование по прямому назначению.
59 Радиоконтрастные препараты Жак Форестье и Жан Сикар 1921 год
1 декабря 1921 г. было объявлено об открытии радиоконтрастных свойств соединений йода. Виновником торжества стал студент-медик, который сделал пациенту инъекцию не туда. Редкая врачебная ошибка имела столь же замечательные последствия.
Дело было в Париже, в хирургическом отделении больницы Некер. Терапевтическим отделением там заведовал профессор Жан-Атанас Сикар, специалист по лечению различных болей. Излюбленным его препаратом был липиодол – раствор йода в масле опийного мака. Это средство обладает одновременно бактерицидным и обезболивающим действием. Вводили его больным ишиасом и остеохондрозом.
Инъекции выполнял студент Жак Форестье – здоровый 20-летний детина, профессиональный регбист. Только что в составе французской сборной он выступал на Олимпийских играх и взял серебряную медаль. Ему поручили ввести два кубика липиодола пациенту с остеохондрозом, затем отвести больного на рентген. А Форестье по ошибке вколол препарат в эпидуральное пространство. 40-процентный раствор йода вошел в контакт с оболочкой спинного мозга! Страшно было подумать, что может случиться. Форестье побежал рассказать профессору о своей ошибке. «А что с пациентом?» – спросил Сикар. «Он и бровью не повел». Действительно, больной как ни в чем не бывало лежал на кушетке и ждал, пока обезболивающее подействует.
Ему решили ничего не говорить и повели на рентген, как планировалось. Надо сказать, что Сикар уже замечал странные явления после обычных инъекций липиодола. На снимках в местах уколов внутри ягодичных мышц показывались светящиеся «дорожки», и вроде бы они шли вдоль главных нервов. Профессор был готов увидеть нечто неожиданное. В рентгеновском кабинете он стал наклонять туда-сюда стол, на котором лежал пациент, и на экране флюороскопа было видно, как капельки масла опускаются вдоль позвоночного канала.
Так был открыт контраст, о котором врачи давно мечтали. Он позволил визуализировать на рентгене не только спинномозговой канал, но и бронхи, уретру, мочевой пузырь, матку. Все это первым сделал Сикар вместе с Форестье. Надо отдать должное профессору, он не оттер студента от всемирной славы. Напротив, он эту славу обещал, и Форестье с энтузиазмом провел громадную техническую работу.
Начали они с опытов на собаках. Их эксперименты потом повторили в разных странах, и не везде животные так же хорошо переносили липиодол, как люди. Несколько собак умерло. Потом выяснили, что им был введен бракованный препарат. Случись это с тем пациентом, кто знает, каким путем пошла бы рентгенология. Но все закончилось хорошо.
Вернее не закончилось, потому что человечество каждый год потребляет несколько сот миллионов доз липиодола.
60 Спасение диабетика инъекцией инсулина Фредерик Бантинг 1922 год
23 января 1922 г. была сделана первая инъекция инсулина человеку. Укол спас жизнь ребенка, находившегося в терминальной стадии диабета. Сам диагноз «диабет» перестал быть приговором. Героям этой истории сразу же присудили Нобелевскую премию, вокруг которой разыгрались неслыханные страсти: Нобелевский комитет был впервые обвинен в сотрудничестве с «мировой закулисой».
Вернувшись домой с фронта Первой мировой войны, канадский хирург Фредерик Бантинг разработал раненую руку и открыл частную практику. Дела пошли неважно. Чтобы свести концы с концами, Бантинг стал демонстратором на кафедре патологической анатомии в университете города Лондон (провинция Онтарио). 30 октября 1920 г., готовясь ассистировать на лекции о поджелудочной железе, Бантинг наткнулся на статью с описанием любопытного клинического случая.
У больного забились камнями протоки, по которым попадают в кишечник пищеварительные секреты из поджелудочной железы. В результате железа атрофировалась, но диабет почему-то не развился. А ведь еще 30 годами ранее Оскар Минковский обнаружил, что при удалении поджелудочной железы наступает диабет и скорая смерть. Бантинг задумался. На самом деле в поджелудочной железе есть еще один орган – островки Лангерганса, секрет которых поступает не в кишечник, а сразу в кровь. Теперь-то мы знаем, что этот секрет и есть инсулин, который регулирует уровень сахара в крови. Но тогда роль островков Лангерганса была неясна. Прочитав статью, Бантинг лег спать. Среди ночи он проснулся с мыслью о том, как получить «антидиабетическое начало».
Тут же он набросал для памяти исторический документ, озаглавленный Diabetus. Да, тогда будущий спаситель диабетиков писал название этой болезни с ошибкой – что по-английски, что по-латыни она пишется diabetes. Далее шел текст: «Перевязать протоки поджелудочной железы у собаки. Оставить ее в живых, пока не атрофируется железа, останутся островки. Постараться извлечь их секрет, чтобы избавиться от гликозурии» (то есть от сахара в моче).
С этой запиской он обратился в единственную на всю Канаду лабораторию, где занимались диабетом, – к профессору физиологии Джону Маклеоду в Университет Торонто. Физиолог не поверил в идею эксперимента. «Сколько ученых уже пытались давать диабетикам измельченную поджелудочную железу, и все зря», – сказал он. Например, «знаменитый румынский врач Николае Паулеску»; были названы и еще несколько имен. Но именно такого опыта никто вроде бы до тех пор не проводил, и Маклеод разрешил Бантингу попробовать. Ему предоставили лабораторию на два месяца, пока хозяин проводит отпуск в родной Шотландии.
Однако Бантинг был хирургом, а не ученым: он даже не умел измерять уровень сахара в крови и моче. Маклеод решил оставить ему одного из двух своих студентов-дипломников. Молодые люди подбросили монетку: кому все лето пахать, а кому кататься на велосипеде и ухаживать за девушками. «Пахать» выпало Чарльзу Бесту. Он и не подозревал, что это билет в бессмертие.
С самого начала работа у Бантинга и Беста не заладилась. Из 19 прооперированных ими собак 14 умерли от сепсиса или потери крови – из-за неопытности экспериментаторов. Бюджет проекта был самый скромный. Чтобы купить новых животных и материалы, Бантинг распродал все свое имущество. В случае неудачи ему было бы некуда идти.
Когда хозяин лаборатории вернулся из отпуска, то узнал, что экстракт из островков Лангерганса одной из собак снизил уровень сахара в моче собаки с удаленной поджелудочной железой. Маклеод раздумал выгонять Бантинга из лаборатории и дал ему в помощь биохимика Коллипа, чтобы очистить экстракт и извлечь из него белок, который снижает сахар.
В те времена Рождество было не мертвым сезоном, когда научная жизнь замирает, а временем конференций. На Рождество 1921 г. Бантинг доложил о своем эксперименте членам Американского общества физиологов. Там сидели специалисты по диабету, засыпавшие его вопросами по теории. Увидев, что коллега в этой теме плавает, Маклеод вмешался и перевел разговор на биохимию, результаты эксперимента, который «мы провели», – профессор прикрывал начинающего своим авторитетом. После собрания Бантинг набросился на Маклеода: «Кто это “мы”?» Он уверовал, что физиолог собрался присвоить его открытие.
Все должен был решить эксперимент на человеке. Спустя две недели, 11 января 1922 г., Бантинг и Бест ввели себе инсулин, чтобы убедиться в его безвредности. Следующая инъекция была сделана мальчику по имени Леонард Томпсон – доходяге, от которого разило ацетоном. Этот симптом означал, что больше месяца больной не протянет. Укол вызвал у Леонарда страшный приступ аллергии. Тут в дело вступил биохимик Коллип. Он попросил сдать ему весь препарат для очистки новым методом. «Каким?» – спросил Бантинг. «Пока не скажу», – ответил Коллип. Вообразив, что это козни коварного Маклеода, Бантинг бросился на Коллипа с кулаками. Хорошо, что Бест оказался сильнее хирурга, и Коллип спасся. Он всего-навсего собирался очистить инсулин – и сделал это. 23 января Бантинг ввел мальчику очищенный препарат. Результат оказался настоящим чудом. Запах ацетона исчез, в глазах больного зажегся огонек, у него появился аппетит. Через неделю он выглядел здоровым. Конечно, он и дальше зависел от инъекций, но приговор ему был отложен на неопределенный срок.
Новость об этом исцелении облетела весь мир. И тут же с другого конца Земли раздался голос «знаменитого румынского врача» Паулеску. Он, видите ли, еще в 1916 г. проделал над собаками тот же опыт, что и Бантинг с Бестом. Тут Румыния вступила в войну, Паулеску призвали в армию, так что отчет его вышел только весной 1921 г. в одном бельгийском журнале. Да, с людьми он не работал, но идея опыта – его, и пусть Маклеод докажет, что не видел той статьи.
Кроме войны, Паулеску мешало заниматься наукой необычное хобби. Он был помешан на идее борьбы со всемирным масонским заговором. Еще в 1913 г. вышел его толстый труд на эту тему, а в 1922-м при участии Паулеску в Румынии возникла новая мощная партия – Национальный христианский союз, знамя которой представляло собой румынский флаг со свастикой посередине. Для поднятия авторитета вождю партии как раз не помешала бы Нобелевская премия.
Разумеется, Нобелевский комитет решил присудить премию за инсулин. В Канаду отправился датчанин Август Крог, лауреат премии 1920 г., с заданием найти героя и выдвинуть его. У Крога был и свой интерес: его жена болела диабетом, и по возвращении домой он тут же организовал в Дании производство инсулина.
Наблюдая кипящие в Канаде страсти, Крог решил выдвинуть и Бантинга, и Маклеода. Хирург-энтузиаст, конечно, душа предприятия, но руководитель лаборатории все организует, вынося сцены, которые устраивает Бантинг. Самое главное, Маклеод договорился с компанией Eli Lilly о привлечении ее ресурсов для доработки технологии производства без передачи компании патента на инсулин. Это было весьма важно, иначе бы все диабетики мира попали в рабство к Eli Lilly. А что мог показать Паулеску? Только идею опыта на собаках, который к тому же он проделал не первым.
Оказалось, французский профессор Эжен Глей, который открыл назначение паращитовидной железы, сделал такой опыт с собакой еще в 1905 г. Тогда он никому не сказал о результатах, а просто сдал отчет на хранение в Биологическое общество. Но теперь Глей извлек документы из депо и всюду рассказывал о своем приоритете. Он уже собрался ехать в Стокгольм качать права, когда его одернул сам Оскар Минковский: выходит, что за те 17 лет, пока отчет был задепонирован, сотни тысяч людей умерли от диабета лишь потому, что автор не решился на публикацию. Как бы его не посадили в тюрьму за массовое убийство. Глей затих, и Нобелевскую премию 1923 г. выдали Бантингу с Маклеодом.
Бантинг тут же сказал, что вся заслуга Маклеода в том, что тот вовремя уехал в отпуск, а премии достоин Бест. И отдал половину своей премии Бесту. Маклеод в ответ отдал половину своей награды Коллипу, без которого не случилось бы чуда 23 января.
Но Паулеску не успокоился. Раз Глей никому не сказал о своем опыте, значит, идея все же его, Паулеску. И тому подтверждением журнал. На следующий год умер нобелевский лауреат Анатоль Франс, и тут румынский профессор сделал совершенно неслыханное заявление. Нобель – это представитель международного капитала, рассуждал он, а этот капитал – сами знаете кто: евреи, стоящие за мировым масонством. И Нобелевский комитет им служит. После смерти Анатоля Франса оказалось, что его мозг весит всего 1017 граммов. Это намного ниже среднего. И неудивительно, ведь евреи – это вырождающаяся нация.
Математика Паулеску звучала безумно, но безумные идеи очень убедительны. То, что Анатоль Франс свою премию 1921 г. пожертвовал голодающим Советской России, «ложилось в строку»: евреи распространяют большевизм. В этом заявлении Нобелевский комитет, помимо патологии, увидел прямое нападение на себя. Маклеода попросили выступить и как-нибудь нейтрализовать буйного румына.
В наши дни Нобелевские лекции читают порой накануне вручения премии. А тогда эти два события разделяло несколько лет. И вот 26 мая 1925 г. Маклеод прочел свою Нобелевскую лекцию. В ней он отметил идеи Глея и Паулеску – куда же без них. А потом достал козырь: у инсулина оказались русские корни.
Идею опыта на собаках высказал еще в 1900 г. преподаватель петербургской Военно-медицинской академии Леонид Васильевич Соболев. Он защитил целую диссертацию о перевязке протоков поджелудочной железы, при которой не развивается диабет. И правильно объяснил роль островков Лангерганса. К тому же он заметил, что эти островки у эмбрионов больше, чем поджелудочная железа, и можно не забивать взрослых собак для получения «антидиабетического начала». Получить его самому Соболеву помешал рассеянный склероз, от которого он скончался во цвете лет. Его сообщение вышло на немецком языке в 1901 г., и пусть Глей с Паулеску докажут, что не читали.
К тому же учитель Соболева, академик Иван Павлов, оказал Леониду Васильевичу любезность и в ходе опытов лично прооперировал трех кроликов. Павлов был еще жив-здоров, и с ним шутки были плохи.
Остается вопрос, была ли работа Соболева известна канадцам. В 1935 г. Бантинг приезжал в Ленинград на физиологический конгресс и там представился Павлову. Они беседовали и фотографировались вместе. Быть может, Иван Петрович и вспоминал тогда своих трех кроликов, но претензий к Бантингу не высказывал. Разговор шел о будущем.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Елена Софронова: Интересно и то, что Бантинг, несмотря на итоговое признание его авторства, открытие патентовать не стал и даже не подумал обогатиться. Продал его Университету Торонто за 1 доллар.
Ответ: А по-другому и быть не могло. Так же поступили Бест и Маклеод.
1. Им не хотелось судиться друг с другом и с университетом.
2. Бантинг собирался вести исследования, не думая о деньгах, и получил, что хотел. Владение патентом погрузило бы его в бухгалтерию и бесконечную судебную возню. Благодаря Маклеоду Бантинг своевременно познакомился с внутренней стороной работы крупных компаний вроде Eli Lilly. И осознал, что выгоднее иметь не патент, а имя, под которое дают гранты на самостоятельные исследования.
61 Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии Мартин Киршнер 1924 год
18 марта 1924 г. была впервые побеждена молниеносная легочная эмболия – одна из самых грозных патологий. До этого дня она не поддавалась никакому лечению и за считаные минуты душила пациентов насмерть прямо на глазах беспомощных врачей.
В 1907 г. один из самых искусных в мире хирургов – Фридрих Тренделенбург – объявил охоту на легочную эмболию. Он сказал, что победа над ней обессмертит имя того, кому удастся этот «бравурштюк» (от нем. Bravourstück – буквально «шедевр, достойный слова браво»). Тренделенбург придумал операцию по удалению тромбов из легочной артерии, разработал нужные инструменты, описал методику… но сам применить ее не смог. Его ученики преуспели в опытах над собаками, однако пациенты-люди гибли, чаще всего прямо на столе.
Счет открыл безвестный хирург из Кёнигсберга Мартин Киршнер. Он не был учеником Тренделенбурга и вообще не входил в круг блестящих немецких светил. Начинал как терапевт. В 1906 г. был призван на военную службу, где приглянулся великому герцогу Саксен-Веймар-Эйзенахскому и был откомандирован в ставку как личный врач его светлости. Сопровождал герцога в путешествии по Цейлону и Индии. Поначалу было интересно, но скоро надоело положение игрушки вельможи, для которого все кругом – обслуга. Киршнер переехал в университетский городок Грайфсвальд, известный своей хирургической школой, и там пару лет ассистировал бесплатно, лишь бы сбежать из терапевтов. Когда клинике Кёнигсбергского университета понадобились новые хирурги, грайфсвальдская команда переехала туда, пригласив Киршнера. В Кёнигсберге он и провел ту самую операцию.
14 марта 1924 г. швее Иоганне Кемпф, 38 лет от роду, оперировали ущемленную бедренную грыжу. На третий день начался жар и кашель – так бывает сразу после возникновения пробки в легочной артерии. Коварная эмболия маскируется под пневмонию, которую и заподозрили. Утром 18-го приставленный к Иоганне ассистент усадил ее в постели, чтобы прослушать легкие. Как только больная улеглась опять, она ощутила страшную боль в груди. Прижав руки к сердцу, пациентка сказала: «Мне конец. Передайте привет моему папе!» Через восемь минут пульс у нее не прощупывался, кожа посинела, а поднесенное к губам зеркальце лишь чуть-чуть запотело. Киршнер счел, что терять уже нечего, и велел готовиться к операции Тренделенбурга.
Происходило это в здании, где сейчас расположен медицинский Центр имени Пирогова (бывшая Портовая больница). Те, кто бывал там, могли видеть 115-метровый коридор, по которому бегом провезли каталку с умирающей Иоганной Кемпф. Инструменты для памятной операции Киршнер заказал давно и держал в емкости со спиртом, чтобы не терять времени на дезинфекцию. Наркоз не понадобился: пациентка и так без сознания. Баллон с кислородом и маска были наготове. Окунув руки в спирт и смочив им операционное поле, Киршнер повел операцию строго по методике Тренделенбурга: сделал Т-образный разрез, удалил часть второго ребра и пересек третье, подбираясь к сердечной сумке. Перевязка внутренней грудной артерии; раскрытие плевры – зажимы, раскрытие перикарда – зажимы. Зондом завели резиновый жгут, который ассистент натянул, чтобы пережать основание аорты и легочной артерии. Кровоток прекратился полностью, сердце встало. Тренделенбург предупреждал, что оно не заработает, если кровообращение не восстановить за 40 секунд. Вот сколько времени было отпущено на самое главное. Киршнер сделал продольный надрез на легочной артерии, просунул в щель щипцы-корнцанг и вытащил сначала из правой, а потом из левой артерии длиннющие сгустки. Это и были проклятые эмболы. В следующий заход – еще один сгусток, покороче, третий заход уже ничего не дал. Тогда Киршнер зажал щель в артерии двумя пинцетами, жгут отпустили и по расчищенному сосуду в легкие пошла кровь. Сердце почти сразу же забилось как надо. На все манипуляции, начиная с первого разреза, ушло четыре минуты – меньше, чем вы читаете этот рассказ. И все же Киршнер опасался за разум своей пациентки: мозг долго оставался без кислорода. Первые сутки Иоганна действительно была не в себе, потом оправилась. Через пять недель она сумела доехать на поезде до Берлина и показаться участникам хирургического конгресса. Коллеги стоя приветствовали Киршнера и старика Тренделенбурга, который доживал последние месяцы, но все же успел увидеть воплощение своей идеи.
Иоганна чувствовала себя хорошо и вернулась к работе, выдерживая даже ночные бдения над срочными заказами. Когда четыре года спустя она приехала на следующий конгресс, в успех Киршнера поверили и пробовали его повторить, но за десять лет удалось это лишь пятерым – сноровка не та. Слава победителя эмболии гремела на всю планету. Придя к власти, Гитлер настоял, чтобы Киршнера выбрали председателем Немецкого общества хирургов: для пропаганды на этом месте была нужна знаменитость.
Однако через год наш герой тихо сдал свой пост под тем предлогом, что ему нужно строить в Гейдельберге университетскую клинику, не имеющую равных в Европе. На самом же деле Киршнеру очень не хотелось вступать в нацистскую партию, а председатель общества хирургов Германии должен был не просто состоять в НСДАП, а еще и занимать в ней какую-нибудь руководящую должность. Это было для Киршнера неприемлемо. Даже когда в университетах ввели обязательное нацистское приветствие и профессор, зайдя в аудиторию, должен был вскидывать руку и кричать «Хайль Гитлер!», Киршнер этого избегал. Он обычно входил, держа в обеих руках препарат, и «волей-неволей» начинал говорить без церемоний: «Господа, перед вами образец почки…»
Не желал он и воевать. После захвата Франции Киршнера все же послали в армию, но вскоре он выбыл по состоянию здоровья. Диагностировал у себя злокачественную опухоль, и, к сожалению, то была не симуляция. Оперировал его любимый ученик Рудольф Ценкер; он обнаружил рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Ценкер соврал, что сумел убрать опухоль, и ловко подсунул учителю гистологический препарат другого, более благополучного пациента. Киршнер сделал вид, будто поверил, а сам переписал завещание. Распорядился, чтобы на похоронах не было ни речей, ни венков. Над могилой люди в мундирах не стреляли в воздух и не кричали «Хайль!» Из посторонних присутствовал только пастор.
Эпитафию себе Киршнер избрал краткую: «1. Joh. III 18». Это ссылка на третью главу Первого послания апостола Иоанна Богослова, стих 18-й:
«Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
62 Ангиография головного мозга Эгаш Мониш 1927 год
28 июня 1927 г. португальский профессор Эгаш Мониш сделал первый в истории рентгеновский снимок сосудов головного мозга. Родилась церебральная ангиография – важнейший метод обнаружения опухолей. Выполнять этот снимок было тяжело и опасно. Подагра так изуродовала руки профессора, что ему было трудно сделать даже обычный укол. Но Монишу позарез понадобилось громкое открытие. К власти в стране пришел диктатор. И если бы не ангиография, наш герой мог попасть в тюрьму как известный либерал, который уже участвовал в заговоре с целью свержения диктатуры. В Португалии конца 1920-х потихоньку начинали сажать.
Тот давний заговор 1908 г. был для профессора грехом молодости. Мониш – хороший невролог, ученик самых знаменитых специалистов того времени: Бабинского, чье имя носит важный симптом, и Сикара, сделавшего первую рентгенограмму с контрастом. Учителя очень любили Мониша как человека, но между собой говорили, что вряд ли он далеко пойдет в науке, слишком уж похож на Сирано де Бержерака: склонен к общественной деятельности, чуть что хватается за шпагу и вдобавок имеет авторские амбиции.
Действительно, если в 1901 г. юноши всей Европы получали представление о сексе из откровенных сцен в романах Флобера и Мопассана, то у португальской молодежи был иной источник знаний – докторская диссертация Мониша «Половая жизнь» (A vida sexual). Этот 600-страничный труд читается как роман и был написан с прицелом на публикацию. Очень быстро вся страна узнала, кто такой Эгаш Мониш, чем он и пользовался, чтобы избираться в депутаты. Трижды побывал в тюрьме – при монархии за критику королевской особы, за попытку свержения диктатора-фаворита и за дуэль. У португальских политиков было принято защищать свою честь с рапирой в руке. А уж нашему герою сам бог велел: он был потомком рыцаря Эгаша Мониша, знаменитого средневекового поэта-трубадура, и, будучи рожден как Антониу Каэтану ди Абреу Фрейри, взял себе имя славного предка.
Его последняя дуэль, пятая по счету, произошла в Париже, в 1919 г. Мониш как представитель Португалии готовил Версальский договор, решавший судьбу Европы после Первой мировой. Мало кто знает, что Португалия участвовала в боевых действиях на стороне Британии, Франции и России. Сражались португальцы на Западном фронте, понесли большие потери и такие расходы, что после перемирия им не на что было вернуть свой корпус домой. В таких условиях Мониш выговорил родине возможность покрыть часть военных расходов за счет побежденной Германии и кусочек немецкой колонии в Африке.
Пока шла работа над договором, в Португалии застрелили главу правительства, которое направило Мониша в Версаль. На смену профессору прислали политика Афонсу Кошту, который и втравил Португалию в войну. Кошта с ходу устроил Монишу разнос в присутствии всей делегации: и денег-то выторговал мало, и новая колония размером с гулькин нос – ничего не умеете, кроме как молотком по коленке стучать, так и сидите в своей клинике. Правда, сам Кошта впоследствии ничего большего на переговорах не добился. Но хамил он, будучи уверен, что ему ничего не будет: из-за приступа подагры Мониш не мог удержать в руках рапиру. А невропатолог все же вызвал обидчика на дуэль, поцарапал его и не дал себя заколоть. После этого случая он решил, что в политике Португальской Республики приличному человеку делать нечего. И ушел в бизнес.
Эгаш Мониш был из богатой семьи. Инвестировал он в дела наукоемкие. Сначала вкладывал средства в страховую компанию, где отвечал за расчеты медицинских рисков. Потом договорился с фирмой Nestlé и наладил в Португалии выпуск ее молочных продуктов. Но скоро стало ясно, что и в бизнесе не отсидишься.
Военные расходы подорвали португальскую экономику. Демократически избранные правительства никак не могли свести бюджет – им приходилось влезать в долги, чтобы угодить разным группам избирателей. Когда сменилось 44 премьера, власть захватили военные. Глава хунты генерал Кармона позвал на пост министра финансов экономиста Антониу Салазара. Тот приехал с убийственной программой: всю власть в стране должен получить министр финансов. Вложения в наукоемкий бизнес отменяются за ненадобностью. У Португалии есть колонии по всему экватору, и государство может неплохо жить продажей природных богатств. В первую очередь вольфрама: без вольфрама нет нормальных ламп накаливания – спрос гарантирован. Государство контролирует весь бизнес во благо народа, которому платят скромное жалованье, развлекая историческими праздниками, песнями фаду и фатимскими чудесами. Бедность населения делает страну привлекательной для туристов: розничные цены низкие. Пресса воспевает мудрость правительства, ругая либералов, коммунистов и социалистов. Стабильность обеспечивают армия и тайная полиция, на которые пойдет половина бюджета.
Генерал Кармона, когда лечился у Мониша, сказал, что напуган программой Салазара и уже отослал экономиста домой. Но доктор, зная слабохарактерность своего пациента, понял, что Салазар неизбежен, и надолго. Несогласным оставалось бежать из страны либо сдохнуть от желтой лихорадки на острове Сан-Томе, как героям баллад Сезарии Эворы. Потомка трубадуров эти варианты не устраивали, и он принялся за дело.
В те времена рентгенология бурно развивалась после открытия контраста, но человеческий мозг оставался невидимым. Кровеносные сосуды были неразличимы на рентгене, поэтому диагностировать опухоль мозга и указывать ее местонахождение у живых пациентов не умели. Изучив литературу по теме, Мониш взялся решить эту проблему.
Рассуждал он так: если на время пережать внутреннюю сонную артерию и впрыснуть в нее раствор бромида стронция, заполненные раствором сосуды мозга станут видимыми в рентгеновских лучах. Опыты на собаках дали прекрасные снимки. С пациентами университетской неврологической клиники в Лиссабоне все было намного сложней. Так как сам Мониш делать ничего не мог, работали его помощники – хирурги Антониу Мартинш и Алмейда Лима. Действуя наугад, они совершили все ошибки, которые только можно сделать при церебральной ангиографии.
В случае с первым пациентом они промахнулись иглой шприца мимо артерии. Второму стало больно, он ворочался на столе, и снимок не получился. У третьего, страдавшего паркинсонизмом, после инъекции прошел тремор, а снимок не удался. В случае с четвертым пациентом опять промахнулись мимо артерии, началась лихорадка. Тогда Антониу Мартинш решил при каждом исследовании делать разрез, чтобы видеть артерию и вводить шприц точно в нее.
У пятого больного снимок получился нечетким, а у шестого передержали лигатуру. Рентгенограмма показала только сонную артерию и часть передней мозговой артерии с образующимся на глазах тромбом. От этого тромба пациент через восемь часов скончался. Группа впала в мучительные раздумья. Может быть, вообще бросить эту затею, пока все живы и на свободе? В конце концов сочли, что это бром спровоцировал тромбоз. Решили перейти на соединения йода.
Седьмому больному вводили уже йодид натрия, но со страху отпустили лигатуру слишком рано, и снимок не получился. На восьмом пациенте у хирурга дрогнула рука, в шприц набралась кровь, и пять кубиков контраста оказались разбавлены тремя кубиками крови. И только с девятым пациентом, у которого была опухоль гипофиза, все сделали как надо и вовремя – разрез, лигатуру, инъекцию и снимок. С этой рентгенограммой Мониш примчался в Париж и там потряс до глубины души и Бабинского, и Сикара. Сетка сосудов головного мозга была видна как на учебном препарате.
Известие прогремело на весь мир. На родине завистники попытались затравить Мониша. Начальство запретило делать артериографию в лиссабонской клинике, а полиция получила донос, что либералы губят людей почем зря. Но в те дни как раз воцарялся Салазар, и властям стало не до медицины. А через три года, когда диктатор окончательно прибрал страну к рукам, церебральную ангиографию делали уже по всему свету.
Мониш не остановился на достигнутом. Прочитав, что после иссечения лобной доли мозга злые шимпанзе становятся добрыми и общительными, профессор предложил Алмейде Лиме сделать такую операцию человеку. То была печально известная лоботомия. До появления аминазина операция была самым эффективным методом успокоения буйного душевнобольного. Правда, половина пациентов продолжала существовать с интеллектом домашнего животного, но врачам было приятнее иметь дело с добрыми зверьками, чем с буйнопомешанными Homo sapiens. Больные придерживались на сей счет иного мнения. Один старый пациент решил отомстить Монишу за уничтожение человеческой личности. Пришел к нему на прием и через стол разрядил в доктора весь барабан своего револьвера. Четыре пули попали в цель.
Мониш едва не погиб. Он пережил тяжелую операцию. Сам Салазар ежедневно справлялся об его здоровье. Но когда Мониш вернулся к работе, диктатор отказался его принять. Профессор хотел убедить Салазара что-то сделать с португальской медициной.
Продолжительность жизни в стране была самой низкой в Европе – 49 лет (для сравнения: в Швеции того времени – 71 год); один врач на 1400 человек, да и тот большинству не по карману; детская смертность – 88 на 1000; эпидемии туберкулеза и коклюша. Салазар и слушать ничего не хотел: есть стабильное государство, торговое сальдо положительное, госдолг микроскопический, все довольны – чего же вам еще?
Когда в 1949 г. Монишу присудили Нобелевскую премию, тайная полиция не позволила ему лично поехать на церемонию в Стокгольм. Мало ли какие заявления сделает там этот либерал? На нобелевском банкете посол Португалии произнес от имени лауреата краткую речь ни о чем.
Через два года умер старенький президент Кармона. Премьер-министр Салазар стал подыскивать на роль марионеточного президента – ширмы для своей диктатуры – кого-нибудь поприличнее. Самым авторитетным в мире жителем Португалии оказался Мониш. Ему предложили баллотироваться на президентских выборах. «Что, вспомнили? – ответил старый доктор. – Нет! Теперь это мне уже не интересно».
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Марина Мокроносова: Фантастика! Как это все уместилось в жизнь одного человека?!
Ответ: И не говорите. С трудом втиснули главную сюжетную линию в один пост. Эгаш Мониш еще массу популярных книг написал, в жанре нон-фикшн. Это у нас не уместилось.
63 Скрининг рака шейки матки: «Пап-тест» Георгиос Папаниколау 1928 год
5 января 1928 г. греческий биолог Георгиос Папаниколау объявил, что создал метод обнаружения рака на бессимптомной стадии. Этот анализ, который на порядок снизил смертность от рака шейки матки, называется в честь автора «мазок Папаниколау» или кратко «Пап-тест».
Началось с того, что молодой биолог Георгиос Папаниколау не нравился своему будущему тестю, полковнику Маврогени. Во-первых, дочь полковника Андромаха (для близких просто Махи) была слишком влюблена в этого Георгиоса и выходила замуж как-то скоропостижно, не спрашивая мнения отца. Во-вторых, Папаниколау был сыном доктора и окончил медицинский факультет в Афинах, а сам врачом быть не хотел. Отправился в Германию, учился там у Вейсмана генетике, по ней защитил диссертацию. Не может в Греции генетика кормить семью. Наконец, это просто неравный брак. Маврогени – прославленное на всю страну семейство. Из него, например, национальная героиня Манто Маврогенус, на чьи деньги началось победоносное восстание за независимость Греции от Османской империи. Безработный биолог для девушки с такой фамилией – не пара.
Полковник утешался тем, что Махи по-прежнему жила с родителями и редко видела мужа. Тот поступил штатным физиологом в экспедицию князя Монако Альбера I. Чудаковатый князь был океанологом, ходил по 10 месяцев в году в море на своей научно-исследовательской яхте, и Папаниколау вместе с ним – без жены.
Но для Георгиоса экспедиция на яхте «Ирондель-II» стала самым счастливым временем в жизни. Он изучал генетику обитателей моря вблизи Канарских островов, и работодатель, Альбер I, не чаял в нем души. С тяжелым сердцем он отпустил Георгиоса на войну 1912 г.
То была Первая Балканская война: Греция, Болгария, Сербия и Черногория договорились выгнать турок из Европы, а все европейские владения Турции поделить между собой. Папаниколау поступил врачом на военный корабль. Греческие моряки отличились – выдавили турецкий флот из Эгейского моря и готовились уже бомбардировать Стамбул, когда между союзниками начались трения. Например, греки взяли Салоники и присоединили этот важнейший промышленный город к своему королевству, а болгары пытались оформить сдачу Салоник им, чтобы забрать город себе. Дело явно шло к войне с Болгарией.
Воевать с единоверцами-болгарами Папаниколау совершенно не хотел. На флоте у него были приятели среди американских добровольцев – бывших граждан Греции, которые некогда эмигрировали в США, а теперь пришли на помощь родине. Они тоже воевать с болгарами не собирались и сматывали удочки, призывая Папаниколау ехать с ними. И вот, как только в 1913 г. заключили мир, Георгиос отправился в Нью-Йорк, прихватив с собой жену.
Поскольку никто в Америке не мог произнести греческих имен и фамилий, Махи превратилась в Мэри, а Георгиос просил называть его «доктор Пап». Настоящим доктором он без знания языка и с греческим дипломом работать не мог. Несколько месяцев они с женой были продавцами в магазине одежды, а вечерами Георгиос играл в ресторане на скрипке. Потом товарищи по оружию организовали для него должность научного колумниста в единственном на всю Америку греческом журнале «Атлантис». Папаниколау пошел брать интервью о сцепленных генах у Томаса Ханта Моргана. Ученые разных стран знают друг друга по фамилиям. И Морган спросил журналиста, не родственник ли он тому Папаниколау, который писал статьи по генетике.
Услыхав, что колумнист и есть тот самый Папаниколау, Морган дал ему рекомендацию в лабораторию патологии при клинической больнице Корнеллского университета. Там начальник поручил греческому биологу изучать воздействие алкоголя на морских свинок. Ему разрешили взять несколько животных для собственных опытов. Поскольку исследовал Георгиос хромосомы, ему нужны были те морские свинки, у которых происходила овуляция. В других лабораториях забивали по 50 животных, чтобы взять единственную овулирующую свинку. Папаниколау такие ресурсы и не снились. Он не мог себе позволить ни одного промаха. Ему пришло в голову, что наверняка в разные дни цикла состав клеток в эпителии влагалища и матки различается. И Георгиос начал брать у свинок мазок из влагалища, используя инструмент отоларинголога – носовое зеркало. Соскоблив таким зондом с эпителия резервные клетки (Папаниколау говорил «эксфолиативные»), можно было изучить их под микроскопом и точно выяснить день овуляции.
Но раз это работает с морскими свинками, можно проводить похожую манипуляцию с женщинами, чтобы отслеживать эндокринные изменения. Строение половых органов свинки и человека сильно различается. Для отбора клеток с поверхности влагалища и шейки матки женщины был нужен зонд другой конструкции – щеточка особого рода. Такой зонд Папаниколау отработал на своей Мэри. Ей пришлось делать мазок ежедневно в течение 21 года. Она уволилась из магазина и помогала мужу в лаборатории: других лаборантов у него быть не могло. К 1923 г. новый безболезненный и безвредный метод анализа был готов.
В клинике бралось огромное количество анализов. Добавляя к обычному мазку на флору свой, Папаниколау получил материал от сотен женщин. И в одном из этих мазков совершенно случайно обнаружилась раковая клетка. У пациентки не было никаких симптомов онкопатологии шейки матки. Видимо, раковые клетки только возникли в эпителии и опухоль еще не проросла вглубь ткани. На этой стадии рак можно было остановить без операции.
В те времена рак шейки матки был самой распространенной злокачественной опухолью среди женщин, особенно малообеспеченных. Они слишком редко проходили обследования, и если рак у них выявлялся, то обычно на неоперабельной стадии.
Папаниколау почувствовал, что на его долю выпала громадная удача. Изучив сотни случаев, он сделал доклад о возможности раннего обнаружения рака женских половых органов с помощью простого и дешевого мазка на атипичные клетки. Выступление 5 января 1928 г. сопровождалось фотографиями и было необычайно емким и энергичным. Это образец рассказа об открытии. К сожалению, его автор считался второразрядным исследователем и конференция была второсортной – она посвящалась вопросам «улучшения человеческой расы». Туда съехались чудаки, делившиеся соображениями о здоровом образе жизни и евгенике. Папаниколау смотрелся среди них белой вороной.
Светила гинекологии заметили его доклад, но верили они только в биопсию, которая гарантированно обнаруживает опухоль. Мысль, что опухоли можно не дать созреть, казалась им дикой. К сожалению, так же думал и руководитель Папаниколау, который распорядился свернуть все работы по мазку и продолжать спаивать морских свинок. Доктор Пап послушался только с виду: он тайком продолжал отбирать мазки, совершенствуя методику окрашивания препаратов. Папаниколау просто дожидался, пока его начальник уйдет на пенсию.
В 1939 г. это наконец произошло. Новый руководитель увидел в «греческой затее» коммерческий потенциал и выделил для работы над мазком команду настоящих гинекологов. Они убедили всех женщин Нью-Йорка сделать «Пап-тест», как для простоты назвали мазок Папаниколау. Обнаружилось, что он определяет раннюю онкопатологию в 95 % случаев. Благодаря ему смертность от рака шейки матки снизилась сразу на 70 %. Папаниколау прославился на весь мир. К 1957 г. инвесторы были готовы дать ему денег на организацию института борьбы с раком, который должен был называться его именем.
Все эти годы Папаниколау мечтал основать институт в Греции. В первую очередь он отправился на разведку в Афины – и не узнал своей родины. С кадрами была беда. Послевоенную Грецию населяли люди, не горевшие желанием трудиться и согласные только на руководящие должности. К тому же политическая ситуация в Греции была крайне неустойчива. В любой момент власть могли захватить коммунисты или военная хунта. Первые национализировали бы институт, а вторые назначили бы директором кого-нибудь вроде полковника Маврогени, и тогда пиши пропало.
Другим вариантом был Париж, но и там качество научных работников не удовлетворило трудолюбивого Папаниколау. С некоторым сожалением вернулся он в Америку и построил свой институт в Майами. Через месяц после открытия этого процветающего до сих пор учреждения «доктор Пап» умер от инфаркта. Он чуть-чуть не успел получить Нобелевскую премию, на которую его уже выдвинули.
До внедрения в клинику «мазка на цитологию» рак шейки матки убивал 14 женщин из 100 000, сейчас – менее одной. Пап-тест регулярно сдают несколько сот миллионов человек. Из них несколько десятков тысяч обязаны жизнью греческому генетику, который сначала хотел всего лишь сэкономить морских свинок.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Михаил Островский: Самое главное, на мой взгляд, это то, что метод сохранил имя автора. Я всегда за то, чтобы имена наших выдающихся коллег оставались в памяти последующих. Мне ужасно не нравится, когда из названия какого-то симптома исчезает имя. Это несправедливо. Может, это делают чиновники от медицины из зависти? Вот и появляются безликие «симптомы поколачивания по…» А скажешь: «симптом Пастернацкого» или «Щеткина – Блюмберга», и сразу все понятно. И респект «отцам-основателям»! А как звучит, например, «лихорадка Сокольского – Буйо» или, если вы французский подданный, то «Буйо – Сокольского». Кстати, я лично был свидетелем, как появился симптом с именем девушки-фельдшера из кардиологической бригады, с которой вместе работал почти 40 лет назад… Ну попробуй оставить свое имя, придумай хоть какой-нибудь, малюсенький симптомчик! Так что спасибо еще раз за этот рассказ. А уж сколько миллионов женщин сказали спасибо этому Папе!
64 Введение катетера в сердце Вернер Форсман 1929 год
5 ноября 1929 г. был опубликован рентгеновский снимок, из которого выросла кардиохирургия: в сердце человека был впервые введен катетер. Доктор Вернер Форсман экспериментировал на себе и остался жив. Сейчас постановка центральной вены – процедура рутинная. Подобные снимки делают, чтобы исключить пневмоторакс, перфорацию вены, внутреннее кровотечение, тромбоз; рентгенологи описывают их ежедневно тысячами. Но то был самый первый.
Дело было в немецком городке Эберсвальде. Получая звание врача, интерн Форсман сразу попросил своего заведующего хирургическим отделением разрешить ему ввести себе в сердце катетер. Заведующий сказал, что в принципе опыт безопасный, делают же его на лошадях. Но большие дяди не поймут:
– Ты ведь даже не академик…
– Но когда все узнают, начнутся исследования. Это же Нобелевская премия!
– Нобелевскую премию абы кому не дают, а всемирной славы в 25 лет тебе не простят. Не высовывайся, сынок!
Форсман не послушал руководителя и сагитировал такого же юного коллегу сделать опыт тайком. Но когда экспериментатор уже ввел себе в вену 35 сантиметров катетера (до сердца, как показали опыты на трупах, всего 65), коллега испугался, что сейчас случится страшное, и опыт пришлось прервать. Ведь до Форсмана никто такого не делал, опасаясь тромбоза и остановки сердца. Если сердце лошади спокойно переносит введение катетера, то кроличье сердце останавливается. А кто знал, на кого больше похож в этом отношении человек – на лошадь или на кролика?
Но Форсман рискнул и ввел себе катетер в одиночку. Если бы с ним что-то случилось, никто бы не пришел на помощь. Правда, этажом ниже у него была сообщница – медсестра рентгенологического кабинета. Она помогла ему сделать исторический снимок. Ради этого Форсман полгода обхаживал ее, так что она принимала его внимание за нечто большее, чем желание сделать себе рентген.
Газетчики живо растиражировали снимок как сенсацию. Дирекция больницы в Эберсвальде уволила молодого человека за проведение опытов без разрешения (замечательно, что сейчас эта больница носит имя Форсмана). Заведующий хирургическим отделением, чей запрет и был нарушен, оказался хорошим человеком: он упросил своего коллегу из берлинской Шарите взять Форсмана в исследователи. Два года молодой человек продолжал опыты в Шарите и других больницах, но везде его загружали текущей работой, а помощников не давали. Форсман девять раз вводил в свое сердце катетер, он сделал еще один рискованный опыт – впрыснул контрастный раствор, чтобы сердце и примыкающие к нему сосуды стали видимыми на рентгене. Было неизвестно, как поведет себя сердце при введении контраста. Обошлось, но снимки не получались. Форсман понял, что в одиночку ничего не сделает: ему просто не хватает знаний.
В 1932 г., когда его в очередной раз уволили, он бросил кардиологию и стал урологом, а также вступил в рвущуюся к власти Национал-социалистическую партию и штурмовой отряд. Гитлер обещал быструю карьеру врачам-арийцам. Сначала все шло неплохо, пока больнице, где работал Форсман, не поручили делать «евгенические стерилизации для очистки расы». Стерилизовать слабоумных должен был как раз уролог. Форсман всячески увиливал от этих операций и перешел в другую больницу. Но там он приглянулся личному врачу Гиммлера, который предложил ему делать эксперименты над заключенными. Когда Форсман отказался, то почувствовал на себе внимание СС. Поскольку наш герой лечил всех без разбора, в нарушение запрета от ноября 1938-го на лечение евреев, дело принимало грозный оборот. Форсман завербовался военным врачом в вермахт. Он думал, что там его будут окружать честные и порядочные прусские офицеры – такие же, как его отец. Но пройдя Польшу, Норвегию и особенно Восточный фронт, окружение в Демянском котле, Форсман понял, что разница между армейскими офицерами и эсэсовцами не так уж велика.
После войны как бывший нацист он попал под запрет на профессию и мог быть только фельдшером. Потом ему разрешили работать врачом – но никакой частной практики, только страховая медицина.
Между тем в США опыт Форсмана благодаря публикациям 1929–1931 гг. заметили. Американцы научились и отбирать катетером кровь из сердца, и замерять давление внутри сердца и сосудов, и вводить контраст. Практически все методы, предполагающие катетеризацию вен и артерий, вышли из того эксперимента. В 1956 г. ведущим специалистам в этой области присудили Нобелевскую премию, а вместе с ними и Форсману как первопроходцу.
Ему предлагали исследовательские гранты, места в ведущих университетах, но он отказался. Не стало былой веры в себя, а без нее нечего и пробовать. Положенную ему долю Нобелевской премии – 38 тысяч долларов – Форсман потратил на образование своих шестерых детей. Все они стали исследователями.
65 Банк крови Сергей Юдин 1930 год
23 марта 1930 г. главный хирург московского Института скорой помощи Сергей Сергеевич Юдин впервые в истории перелил пациенту трупную кровь. Это событие породило современную практику консервирования и длительного хранения донорской крови. Был преодолен важный психологический барьер: открылся путь к пересадке органов здоровых доноров, погибших в результате несчастного случая.
В исторический день 23 марта 1930 г. инженер Е. И. Ш., москвич 33 лет, решил покончить с собой популярным у древних римлян способом. Он перерезал себе сосуды левого локтевого сгиба и лег в теплую ванну. В Институт имени Склифосовского самоубийца поступил почти без признаков жизни: помутненное сознание, зрачки расширены, дыхание поверхностное, пульс на руке не прощупывается. Он был бледен и недвижим, как восковое изваяние. Юдин уже 18 месяцев дожидался такого безнадежного пациента, чтобы испытать на нем вливание посмертной крови.
Прежде кровь и органы умерших считали ни на что не годными из-за образующихся в них страшных трупных ядов. В 1928 г. выяснилось, что время имеет значение. Завкафедрой факультетской хирургии Харьковского мединститута Владимир Шамов на съезде хирургов Украины доложил, что обескровленные собаки оживают после переливания им крови собак, убитых за пять – десять часов до операции. Присутствующий в зале Юдин спросил Шамова, отчего тот не проделал то же самое на безнадежных больных в своей клинике и не вошел в историю медицины. Докладчик ответил, что в плановой хирургии такие эксперименты при неудаче грозят уголовной ответственностью. Они могут сойти с рук разве что самому Юдину в Институте скорой помощи.
Действительно, в Институт имени Склифосовского нуждающиеся в трансфузии раненые поступали сотнями. Невостребованных трупов неустановленных лиц тоже хватало, но до 14 % этих неизвестных при жизни были сифилитиками. Никто в Москве не брался провести реакцию Вассермана быстрее, чем за четыре часа. Обескровленный пациент столько ждать не может. Юдин решил провести переливание трупной крови наугад, выбрав тело неизвестного поприличнее, когда привезут вскрывшего себе вены самоубийцу в безнадежном состоянии. Это и оказался инженер Е. И. Ш.
Газеты писали, что донор был сбит автобусом, а спасенный самоубийца через два дня пошел домой. И то и другое не совсем правда. Донор, мужчина 60 лет, пробыл в институте 18 часов и скончался от сердечной недостаточности. Проведенная позднее аутопсия показала жировое перерождение печени. Скорее всего, несчастного погубил алкоголь. Юдин вскрыл брюшную полость трупа, обнажил нижнюю полую вену на всем протяжении и стал отсасывать кровь большим шприцем Жане. Не без труда отобрал он 420 миллилитров крови, когда в дверь постучал дежурный врач: торопитесь, начинается агония.
Стали вводить смесь крови с физраствором через вскрытую локтевую вену. По словам Юдина, после вливания 200 мл смеси «пострадавший порозовел, стал дышать спокойнее и глубже, а к концу переливания крови к нему вполне вернулось сознание». Он открыл глаза и начал с удивлением рассматривать стоящих над ним людей. 29 марта бедняга уже чувствовал себя нормально, но душевная травма была так велика, что его повезли на освидетельствование в психиатрическую лечебницу. Там Е. И. Ш. признали здоровым и выписали.
К Юдину возникли вопросы у судебно-медицинского эксперта, получившего обескровленный труп с зашитым животом. Отделаться от прокуратуры помог следующий съезд украинских хирургов, признавший опыты Юдина научно обоснованными, и военные медики, которые увидели перспективу в переливании посмертной крови. Весной – летом 1930 г. Юдин сделал еще несколько переливаний, все удачные. По счастью, у доноров реакция Вассермана оказалась отрицательной. Но чтобы гарантировать отсутствие бледной спирохеты в донорской крови, нужен был метод ее консервации более чем на сутки. Над этой проблемой медики безуспешно бились с 1914 г., когда было сделано первое непрямое переливание. Юдин всего за полгода решил глобальную проблему, чтобы спасти идею использования посмертной крови. Решение оказалось крайне простым.
7 октября в Институт имени Склифосовского поступил 53-летний мужчина с кровавой рвотой. В анамнезе – многолетняя изжога, ни дня без соды. Подозревали язвенное желудочное кровотечение. Для готовящейся операции отобрали два литра крови из тела человека, скончавшегося от стенокардии. Но в последний момент больной от операции отказался: на рентгене ничего определенного, а боли нет. Заготовленную кровь частично использовали, а оставшиеся 550 мл «на всякий случай» поставили в комнатный ледник (предок холодильника, в котором продукты лежали на льду). Пациент остался в клинике. Через трое суток он проснулся ночью от боли и кровавой рвоты и теперь был согласен на операцию. Для переливания Юдин взял посмертную кровь из ледника. По виду она за три дня никак не изменилась. Резекция прошла благополучно.
16 ноября 1932 г. на заседании французского Национального хирургического общества в Париже Юдин доложил о 150 трансфузиях посмертной крови, сохранявшейся в леднике при температуре до +2 °C более двух недель. При обсуждении врач из фашистской Италии кричал: «Это богохульство, на которое никогда не пойдет ни один итальянец!» Французы более сдержанно заметили, что и в их католической стране такое в ближайшей перспективе нереально. Но кто мешает хранить в холодильнике кровь живых доноров? Юдин ответил, что так даже лучше, только живых доноров пока нет (эту службу еще предстояло создать).
Так началось соревнование между живыми и мертвыми донорами, в котором живые пока выигрывают. К этической проблеме Юдин обратился в 1949 г., оказавшись в одиночной камере № 106 внутренней тюрьмы на Лубянке по обвинению в связях с иностранцами и преклонении перед Западом. Из трех лет заключения его в течение 27 месяцев не вызывали на допросы. Юдину выдали ручку, карандаш и бумагу, но в недостаточном количестве, и приходилось писать на листках туалетной бумаги. Их Юдин склеивал манной кашей, а когда каши не давали, связывал стебельком от веника, которым подметали его камеру.
Написанный так двухтомник вышел после смерти Юдина в 1960 г. и удостоился Ленинской премии. Однако важную главу об этике выбросили как «мистическую». Автор, передовой врач и одновременно верующий человек (перед войной, особо не маскируясь, он крестил в церкви детей своих знакомых), размышлял, насколько вообще правильно пускать в дело трупы. Убеждая себя и окружающих, Юдин избрал девизом слова «смертию смерть поправ», отражающие суть использования трупа для спасения чьей-то жизни. В 1960-х гг. – эпоху последних гонений на церковь – слова пасхального тропаря выглядели несколько вызывающе. И все же совместными усилиями вдова Юдина Наталья Владимировна и его верная операционная сестра Мария Петровна Голикова добились, чтобы пропущенные места из рукописи вошли в отдельную книгу «Размышления хирурга», изданную летом 1968 г. К тому времени вдова умерла, а Мария Петровна лежала в больнице с параличом четырех конечностей, подключенная к аппарату искусственного дыхания. Но ей посчастливилось дожить в сознании до того торжественного дня, когда в палату принесли сигнальный экземпляр.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Roman Mikhailovich: А как же порядок оказания медицинской помощи… Стандарты… Сертификаты… Теперь еще аккредитация… Во времена Юдина их не было, может быть, поэтому все и получилось???
Ответ: Если бы на флагманском корабле Нельсона был телекс, то он бы не выиграл ни одного сражения.
Олексій Сліпуха: А от чомусь високе досягнення расейськіх вчених (переливання крові від трупа) не використовують в сучасній медицині?[8]
Ответ: Это важный, но пройденный этап. В 1975 г. было подсчитано, что заготовка трупной крови экономически невыгодна, так как:
1. Трудно убедить родственников умерших быстро дать согласие;
2. Нужно проводить массу анализов, которые живой донор сдает за свой счет.
Открытие Юдина, которое используется, – хранение крови в холодильнике, одного цитрата для длительной консервации мало. Сейчас это кровь живых доноров. Ее заготавливать проще.
Леван Стажадзе: Отличная статья. Что же касается трупной крови, то мой личный опыт – положительный. В 1960-е гг., когда я работал в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского (в том числе зав. отделением реанимации), трупная кровь использовалась очень широко. Уверен, на новом уровне и с учетом современных требований к вопросу о ее использовании следовало бы вернуться.
От нее отказались (в основном) из-за введения новых стандартов для переливания. А вот на современном уровне изучить свойства трупной крови с использованием различных консервантов, с преобладанием эритроцитов или же других компонентов (по заказу!!!) – это может быть серьезной задачей. Во всяком случае, в условиях большой кровопотери у пострадавших иметь до 3,5 литра крови от одного «донора» – это серьезно…
Мне в 1966 г. было поручено изучить вопрос и представить соображения по поводу открытия отделения реанимации в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Б. А. Петров в качестве старшей сестры отделения предложил просить Марину Петровну. Марина Петровна внесла серьезный вклад в становление отделения. Человек исключительной чистоплотности во всем, работяга, прививала всем юдинскую самоотдачу ради больного. Действительно, у нее случился стволовой инсульт, Павел Осипович Андросов наложил трахеостому и несколько недель она была на ИВЛ. Ее рассказы про Сергея Сергеевича касались только его деловых качеств и удивительных успехов в хирургии.
Ответ: Интересно, она ведь по паспорту Мария Петровна, а Вы ее называете Мариной, как Юдин ее окрестил [в честь Марины Мнишек]. Прозвище пристало и заменило имя.
Леван Стажадзе: Так и было. В «Склифе» ее все знали и звали Марина Петровна, в том числе тогдашние лидеры института, ученики и соратники С.С. – Петров, Арапов, Андросов, Бочаров, Виноградова и др.
Наталия Наваско: А за что его посадили все-таки?!
Ответ: Вопрос «За что?» неуместен, как и с другими безвинно репрессированными. Корректен вопрос «С какой целью?». Вот на него мы можем ответить точно, так как изучены архивы МГБ. Инициировал арест министр госбезопасности Виктор Абакумов, который по указанию Сталина готовил «дело генералов» во главе с маршалом Жуковым. Юдин, с одной стороны, имел множество контактов с иностранными хирургами и даже принимал их делегацию в Институте имени Склифосовского. С другой стороны, дружил со многими видными военными, например с генералом Жадовым. В штабе Жадова он в январе 1944 г. столкнулся с неожиданно нагрянувшим Жуковым; они поговорили. После смерти Берии Юдин признался Потемкиной (дочери Марии Петровны), что из него в декабре 1948-го – январе 1949 г. выбили под пыткой нужные показания на Жукова, только ход им по какой-то причине не дали, и дело не состоялось. Продержав Сергея Сергеевича без толку до февраля 1952 г. в тюрьме, ОСО при МГБ отправило его в ссылку по трем обвинениям:
1. На протяжении многих лет поддерживал преступную связь с иностранными разведчиками (связь была, если понимать под разведчиками иностранных дипломатов и корреспондентов, среди которых были и разведчики, но слово «преступную» не годится, так как он их просто оперировал, как Чолертона, которому вырезал аппендикс);
2. Нелегально передавал за границу научные работы по военно-полевой хирургии (это были обычные публикации в научных журналах);
3. Среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию (вроде замечания «Ох уж эти французские каблучки советского производства!»).
Как видите, все три пункта весьма расплывчаты. Доказательной базы по ним нет. Осуждение было нужно только для поддержания реноме, будто «наши органы никогда не ошибаются».
Примечание
Хотя это и анекдотично, приходится все же дать разъяснение насчет туалетной бумаги. Многих она смущает: «туалетная бумага в ГУЛАГе, какая ерунда». Собственно в ГУЛАГ Юдин не попал. Он сидел сначала в Лефортовской тюрьме, потом на Лубянке, затем отбывал ссылку в Бердске и Новосибирске. В Лефортове ему выбили зубы и колотили резиновой палкой, но не били по рукам и голове, так как было указание сберечь его как хирурга. Там же Юдин начал писать книгу с ведома следователя, ему выдали несколько листов бумаги. По легенде, сделано это было после того, как он 19 дней держал голодовку; на самом деле, видимо, за него замолвила слово женщина-лекпом – врачебная солидарность.
На этой дозволенной бумаге и выполнен эскиз титульного листа книги о переливании посмертной крови. В мае 1949 г. дело на маршала Жукова решено было притормозить. Юдина перевели на Лубянку, где он сидел в 106-й одиночной на пятом этаже. Там, в отличие от Лефортова, в камерах не было унитазов, и по нужде водили в конец коридора. Чтобы подследственные не обменивались записками, бумаги в общем туалете не держали: каждый приходил со своим листочком, который ему выдавал дежурный. По свидетельству Марии Петровны, на день выдавали два листочка. Рулонной бумаги в СССР еще не было, население пользовалось газетами, но подследственным газет не полагалось. Поэтому давали пару листков тонкой бумаги для машинописи (чуть толще папиросной), которую на Лубянке и называли «туалетной». Ни в коем случае не писчей и уж тем более не машинописной – за писание на этих листочках сажали в карцер. Для Юдина сделали исключение: новой бумаги не давали, на нецелевое использование туалетной смотрели сквозь пальцы. Эти-то листочки Юдин склеивал кашей или сшивал стебельком от веника. Кашу давали рисовую или манную, не каждый день, и узники Центральной тюрьмы обычно съедали ее до молекулы как самое питательное блюдо, но для Юдина было важнее, чтобы листочки рукописи не рассыпались.
Дальше вышло новое послабление: разрешили иногда выписывать с воли продукты на 200 рублей в месяц. На бумаге, в которую были завернуты эти продукты, Юдин тоже мог писать. А когда в 1951 г. ему было велено перепечатать начисто «Этюды желудочной хирургии», в камере поставили пишущую машинку: для внутренней тюрьмы на Лубянке случай уникальный. К тому времени книга о переливании посмертной крови, начатая в Лефортове, была уже закончена. В 1952 г. решением Особого совещания Юдин был приговорен к 10 годам ссылки, выбрал местом пребывания Бердск в расчете на то, что дадут работать в не слишком далеком от этого города Новосибирске. Как известно, расчет оправдался.
Константин Фёдоров: Горжусь, что довелось оперировать в операционной, в которой работал С. С. Юдин. Это была 8-я детская клиническая больница в Новосибирске (а ранее – областная). Теперь это Детская больница скорой помощи.
66 Выживание больных авитаминозом в экстремальных условиях Леонид Старокадомский 1933 год
В конце августа 1913 г. русская гидрографическая экспедиция подошла к берегам Северной Земли, последнего еще неоткрытого крупного архипелага на нашей планете. Первым увидел его судовой врач Леонид Старокадомский – калека, в 28 лет спасенный от гангрены ценой ампутации руки по локоть. И эта инвалидность парадоксальным образом стала билетом за полярный круг.
Старокадомский – из семьи небогатого чиновника, который не получил высшего образования и потому не выслужил потомственного дворянства. Леонид преодолел этот барьер, отучившись в Военно-медицинской академии на казенный счет, за что нужно было несколько лет провести в армии.
В 1903-м дело шло к войне с Японией и молодых врачей стали перебрасывать на флот в Кронштадт. На службе в морском госпитале Старокадомский, анатомируя, забыл обработать крохотную ранку на пальце, что привело к гангрене. После ампутации приуныл, но демобилизоваться не мог: у него недавно родился сын. Освоив специальные манипуляции, позволяющие оперировать одной рукой, Леонид Михайлович изъявил желание служить дальше. Ему поручили крестьянское терапевтическое отделение, на которое было жалко боеспособного медика.
То был единственный на весь город стационар, куда поступало гражданское население, а также паломники, стекавшиеся со всей России к знаменитому протоиерею Иоанну Кронштадтскому. Старокадомский насмотрелся на болезни, каких иной военный врач за всю карьеру не видал: тяжелый туберкулез, оспу, крупозную пневмонию и всевозможные формы других инфекций. Не вылезая из бактериологической лаборатории, однорукий доктор приобрел вкус к биологии.
Из прочих наук его занимала этнография. Еще мальчиком Старокадомский прочитал книгу о быте чукчей. Воинственные оленеводы, живущие в меховых мешках на пятидесятиградусном морозе, будоражили воображение. В 1908 г. военные моряки заговорили об экспедиции в те края на двух ледоколах-«ледодавах», которые проектировал капитан 2-го ранга Александр Колчак. Старокадомский обсуждал проект больше всех, но поскольку от желающих участвовать отбоя не было, решил, что инвалида не возьмут точно. А оказалось, наоборот!
В отличие от однорукого доктора, Колчак во флотской среде был свой. Пробивал он экспедицию при поддержке знакомых в высших кругах. Заместитель морского министра Бострем обещал царю, что по Северному морскому пути при новой войне с Японией можно перебросить флот за 9–10 дней. (С такой скоростью проходят лишь атомные ледоколы XXI века, а для других судов плавание и сейчас продолжается более 20 суток.)
Успех интриги устраивал не всех. Просились в экспедицию самые инициативные, то есть те, кого старались не отпускать. Пошли скандалы. Главный санитарный инспектор флота Александр Зуев решил сразу выбрать среди морских врачей того, с кем в принципе легко расстаться. Начал с инвалида. Вызвал Старокадомского и предложил плавание в Ледовитом океане. Леонид Михайлович ответил восторженным согласием.
Оставалось понравиться командирам кораблей – Колчаку и Федору Матисену. Они брали только лучших. Старокадомский долго взахлеб рассказывал им о чукчах и цинге – главной медицинской проблеме северных походов. Витамины еще не открыли, и причина этой болезни оставалась неизвестной. Зато знали, что цинги не бывает при 1) эмоциональном подъеме; 2) двигательной активности и 3) обилии свежей пищи. Поэтому жить надо дружно и часто ходить на охоту. Народ в экспедиции по большей части молодой и здоровый. Рассчитывая на массу свободного времени, доктор вызвался препарировать пойманных животных, чтобы не терять форму.
За все время разговора Матисен с Колчаком так и не заметили, что вместо левой руки у Старокадомского протез, пока доктор не сознался сам. Чтобы показать свою пригодность и высокое качество протеза, он тут же спустился по штормтрапу на руках – и был принят.
10 ноября 1909 г. ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» вышли из Кронштадта и взяли курс на Владивосток, базу экспедиции. Шли Суэцким каналом, затем через Индийский океан и Сингапур. Неприятности были сравнительно редки. На стоянке в Джибути, купаясь в Красном море, матрос сел на морского ежа, и Старокадомский извлекал обломки 10-сантиметровых игл. Остальное время посвящалось зоологии.
Не всегда это было безопасно. Однажды на острове Жохова доктор нос к носу столкнулся с белым медведем. По счастью, зверь никогда не встречал человека и сделал вид, будто занят своими делами. Старокадомский тоже демонстративно отвернулся, старательно записывая показания барометра. Его товарищи увидели эту сцену в бинокль и бросились на помощь, не чая успеть. Обошлось.
Трижды – в 1910, 1911 и 1912 гг. – ледоколы выходили из Владивостока, протискивались на некоторое расстояние вдоль сибирского берега и возвращались. Отозвали и Колчака, и Матисена, сменился начальник экспедиции, а задача выполнена не была. Во Владивостоке Старокадомский оброс пациентами. Организовал туберкулезную амбулаторию, взялся изучать проказу у народов Севера.
Наконец в 1913 г. начальника экспедиции хватил инсульт, и на смену прислали молодого Бориса Вилькицкого. Его отец возглавлял Гидрографическое управление и шефствовал над экспедицией. И Борис никак не мог ее возглавить, потому что старик Вилькицкий стеснялся разговоров, будто он пристраивает сынка. Только после смерти отца мечта Бориса исполнилась. Он смело повел ледоколы туда, где на картах была обозначена мифическая Земля Санникова.
Но ему не хватало опыта плавания во льдах. Спрашивать подчиненных он не мог, чтобы не терять авторитет. Тут и пригодился врач, который знал не меньше моряка-полярника. Вот, к примеру, корабль вошел в полосу битого льда. Вилькицкий выжидал, пока доктор останется один, и говорил ему:
– Леонид Михайлович, я сейчас дал приказ поворачивать на обратный курс.
– Почему, Борис Андреевич?
– Лед впереди…
– Ну какой же это лед? Язык мелкого битого льда, который не мешает ходу. Если станет плотнее, всегда можно выйти.
Вилькицкий безмолвно удалялся и спустя некоторое время командовал «Полный вперед!».
Северную Землю открыли еще более анекдотически. В ночь со 2 на 3 сентября Старокадомскому досталась неприятная «собачья» вахта – с полуночи до четырех утра. Когда на смену пришел мичман Гойнинген-Гюне, доктор сказал, что справа по курсу наблюдает гористый берег. Оказалось, не галлюцинация. Мичман видел то же самое. Доктор бросился в штурманскую рубку будить начальника:
– Борис Андреевич, впереди открылся берег!
– Довольно островов, – сквозь сон сказал Вилькицкий, – нам надо проходить на запад.
– Идите смотреть! Теперь это высокие горы.
С гор дул теплый фён – поток воздуха температурой 14 градусов, тогда как над морем был всего 1 градус выше нуля. Сомнений не было: земля. 4 сентября (22 августа по старому стилю) команды обоих пароходов высадились на ней и подняли российский трехцветный флаг. Им открылся «лунный» пейзаж – необитаемый остров, который они назвали именем цесаревича Алексея. Тем не менее доктор вызвался пополнить зоологическую коллекцию. Пройдя весь остров с востока на запад, увидел еще один, названный островом Старокадомского.
За исследованиями едва не упустили конец навигации. Карское море заполнилось льдами, закрыв путь на запад. На востоке было посвободней, но до русских портов угля не хватало. Вилькицкий еле дотянул до самого северного порта Аляски – Сент-Майкла. Американский городок поразительно отличался от русских гаваней по другую сторону Берингова пролива: водопровод, электрическое освещение, свежие фрукты из Калифорнии (немедленно купленные для профилактики цинги) и телеграф. Вилькицкий отправил в Петербург депешу об открытии большого архипелага.
Телеграфист рассказал новость соседям. Мигом она стала известна газетам. Когда ледоколы пришли во Владивосток, весь город знал подробности, включая фамилии командиров и доктора. Первое публичное сообщение с показом фотографий делал Старокадомский. Потом он отправился поездом в Петербург и повторил свое выступление в Географическом обществе. Затем в Москве и военных портах: Кронштадте, Ревеле (Таллин), Либаве (Лиепая) и Гельсингфорсе (Хельсинки).
Звездный час участников экспедиции окончился в Гражданскую войну. Кто пошел в Красную армию, кто в Белую и затем в эмиграцию; а там одни в Америку, другие в Кригсмарине (военный флот Третьего рейха). Старокадомский остался в санитарном управлении Красного флота. В мае 1931 г. коллегия ОГПУ выслала его как вредителя из «бывших», но на высокую должность начальника медсанчасти Северо-Восточной экспедиции, работавшей на Дальстрой – спецслужбу, занимавшуюся добычей колымского золота. В устье Колымы на берегу бухты Амбарчик заключенные строили порт для снабжения приисков. Полярных врачей опытнее Старокадомского в стране не было, и он отплыл на место в каюте парохода «Сучан», в трюме которого везли 200 осужденных по уголовным статьям.
На Колыму шла тогда целая эскадра – шесть пароходов и ледорез «Фёдор Литке». Предполагалось, что заключенные поставят палатки, расселятся в них и перетащат на сушу 15 000 тонн груза. Но до зимы выгрузили только треть, и суда ушли зимовать в более удобную Чаунскую губу, где таким образом возник порт Певек.
На отдельном лагпункте Амбарчик не было ни свежего мяса, ни овощей, и у «пассажиров Дальстроя», как официально называли зэков, началась цинга. К январю 1933 г. из 200 человек умерли 45, остальные поголовно болели. Лагпункт мог остаться вовсе без рабочей силы, и Старокадомского по радио вызвали из Певека.
57-летнему доктору в сопровождении капитана Сиднева предстояло ехать по тундре 600 километров в самую темную пору полярной ночи, по лютому морозу с ураганным ветром. Не дожидаясь перемены погоды, Старокадомский взял в единственную руку чемоданчик с инструментами, погрузил на нарты два пуда сушеной смородины и двинулся в путь. Ехали восемь суток, ночуя в развалинах поварен, построенных русскими купцами в XVIII в.
Заключенным говорили, что доктор выехал, но начальству не верили, а от врачей не ждали ничего хорошего. В Амбарчике имелся врач Миткевич. Он пил спирт, спал до двенадцати и больных не осматривал, повторяя: «А что я могу сделать?»
Появление однорукого доктора среди бурана произвело ошеломляющее впечатление. Немедленно заварив всем кисель, Старокадомский решил использовать душевный подъем, который для врачей его школы значил не меньше, чем овощи-фрукты. В экспедиции Вилькицкого для развлечения команды устраивали карнавалы, футбол и музыку. Но как с пустыми руками заставить людей забыть о своем отчаянном положении?
И Старокадомский увлек их рассказами о другой жизни, где не было ни голода, ни оперуполномоченных. Он, как «политический», не имел со своими пациентами ничего общего. Однако нашлась масса интересных тем и для них. Как живется на Аляске; как правильно готовить мясо моржа; о мамонтовой кости на Ляховских островах и деревянных горах Новой Сибири; как похитить колонию хищных цейлонских муравьев вместе с их царицей и уцелеть. Рассказчик не умолкал, как Шахерезада. В жизни некоторых больных не было более интересных месяцев, чем эти два, проведенные в лазарете с одноруким доктором. До апреля все пациенты были выписаны, но к полноценной работе смогли вернуться только 34. Остальных отселили на заимку Сухарная, отдохнуть и подкормиться.
На смену доходягам привезли новых «пассажиров», но без сушеной смородины, потому что на Большой земле некому было об этом подумать. К октябрю началась цинга уже среди новичков, пятеро умерли. И они тоже не сумели выполнить план по разгрузке. Люди, доставка которых стоила столько денег, сразу же пришли в нерабочее состояние. Уморить их, чтобы списать, мешало присутствие чукчей. Они овладели английским лучше, чем русским, меняя свою охотничью добычу на контрабанду из США и Канады. Все происходящее в Амбарчике становилось известно американцам.
Пришлось организовать беспримерную в истории эвакуацию «пассажиров» по воздуху. Летчик Фёдор Куканов на трехмоторном «Юнкерс-Гиганте» за 13 рейсов вывез 93 человека. Полгода спустя за сравнимое количество спасенных пассажиров «Челюскина», перевезенных на сопоставимое расстояние, шестеро летчиков стали Героями Советского Союза.
На спасении заключенных великих наград не заслужишь, даже если это генеральная репетиция другого подвига. Куканов получил орден Красной Звезды и квартиру, а Старокадомский – скромную должность инспектора по морскому флоту в Наркомздраве. Зато когда более именитых полярников сажали массово и надолго, доктор уцелел и продолжал заниматься любимым делом: переводить иностранные труды по гигиене. Внимательно следил он за сообщениями о кислоте, которая препятствует развитию скорбута (цинги), за что в 1932-м и названа аскорбиновой. Эти сведения Старокадомский включил в бесчисленные руководства.
В 1944-м с него сняли судимость. Культивируя восхищение имперским прошлым, однорукого дедушку охотно демонстрировали публике как живой памятник преемственности. Нет на карте архипелага Земля Императора Николая II, есть Северная Земля. Нет острова Цесаревича Алексея, есть Малый Таймыр. Но западнее него располагается остров Старокадомского, и так будет впредь.
67 Преодоление резус-конфликта Рут Дарроу 1935 год
22 июля 1935 г. в Чикаго родился младенец по имени Алан Дарроу. Через неделю он умер от гемолитической желтухи. Причиной смерти был еще неизвестный науке резус-конфликт. Несчастная мать, по профессии врач, поклялась родить снова, хотя разменяла уже пятый десяток. Она знала, что у следующего ребенка обязательно будет желтуха, от которой нет средств. И все-таки миссис Дарроу сдержала свою клятву. Для этого ей, обычному терапевту, предстояло в одиночку выяснять природу таинственной болезни.
В девичестве Рут Рентер, 1895 г. рождения, ничем особо не выделялась. Разве что говорливостью и желанием быть всем полезной, чтобы попасть в центр внимания. Эти качества определили выбор первой профессии: Рут стала телефонисткой. Лет в 28 ей довелось ехать в одном купе с ребенком-инвалидом и помогать ему. В ту ночь Рут поняла, что ей нравится заботиться о больных. Она отнесла свои сбережения в медицинский колледж и стала учиться на педиатра. Во время учебы познакомилась с красивым физиологом по имени Честер Дарроу, несколько моложе нее. Они стали мужем и женой. Диплом получала уже беременной, в 1930 г. родила девочку, через два года – вторую. Хотела еще сына.
И вот, когда Рут было 39 лет, на свет появился Алан. С виду вполне здоровый мальчик. На второй день он пожелтел и ослабел: шевелился вяло, пищал тихо. Диагностировали «эритробластоз плода». Это название ничего не объясняло. В крови новорожденного много эритробластов, то есть незрелых эритроцитов, еще неспособных разносить кислород. Печень перерабатывает их, выделяя билирубин, от которого желтеет кожа. Никто не знал, почему так получается. Диагноз распространенный: только в Соединенных Штатах с 100 миллионами населения эритробластоз убивал за год до 10 тысяч младенцев, в основном белых. При легкой форме помогало переливание крови, которое сделали и Алану Дарроу.
Желтизна исчезла, но Алан ослабел так, что не мог сосать грудь. Его начали кормить смесью. Рут возмутилась: ее молоко должно сделать ребенка сильнее, искусственники же вялые. В бутылочку Алана стали наливать грудное молоко его матери. Ребенок вроде бы выздоравливал, но едва Рут сказала мужу-физиологу: «Кажется, наш малыш выкарабкался», – Алану стало хуже. Его рвало, он больше не мог есть и с трудом дышал. Через два дня наступила мучительная смерть.
Протокол вскрытия: печень и селезенка увеличены, в них обнаружена масса эритробластов, мозг серьезно поврежден, череп заполнен кровью (непосредственная причина смерти). Несчастная Рут чувствовала, что сама загубила мальчика своим молоком и что не будет ей покоя до тех пор, пока она не родит снова. Но сначала надо понять, как справиться с желтухой.
Быт семейства Дарроу изменился. Из супружеской спальни Рут переехала в прихожую – под тем предлогом, что там стоял телефон, а к больным детям часто вызывают по ночам. На самом деле миссис Дарроу потеряла сон: ночами она читала и думала о желтухе, а днем на работе обсуждала свои мысли с коллегами. Вернее пыталась обсуждать, потому что, завидев ее издали в больничном коридоре, врачи сворачивали в сторону или прятались на лестничной клетке, лишь бы не вступать в бесплодные разговоры. Это же помешательство – ну куда рожать после сорока с таким диагнозом? Желтуха, сопровождающая эритробластоз или гидропс (та же патология, начинающаяся еще в утробе матери), щадила старшего ребенка. Но раз проявившись, она уже не оставляла семью и тяготела над ней проклятием. Ничего тут не поделаешь. В общем, слушать поток сознания Рут могли только ее старшая дочь да единственная подруга. «Как быть, – жаловалась им Дарроу, – если я могу думать только вслух?»
За два года она изучила все написанное о желтухе новорожденных со времен Гиппократа и сформулировала собственную теорию. Дарроу рассуждала так: раз во время патологической беременности никаких особых симптомов мать не ощущает, это не ее болезнь. Из тканей ребенка даже при самой легкой форме всегда страдают эритроциты. Такую избирательность поражения можно объяснить только тем, что материнский организм вырабатывает антитела против эритроцитов плода. Рут опубликовала о своей догадке статью в медицинском журнале. Говорливость и тут подвела: работу никто не стал читать, потому что она получилась слишком длинной – 40 страниц! По тем временам для сообщения о важном открытии и даже для теории это было чересчур.
Но в чем причина конфликта матери и младенца? Дарроу отбросила мысль о различии групп крови: желтуха начиналась, даже если по известной тогда типологии AB0 у матери и плода была одна группа. Что бывают и другие типологии, знал только один человек. И этот человек дал обещание молчать.
Звали его Филип Левин. В 1920-х гг. он работал в Рокфеллеровском институте под руководством отца гематологии Карла Ландштейнера, который открыл группы крови. Ландштейнер был чудак. В лаборатории просто бог, но за ее пределами – затравленный и робкий субъект. Переехав из Европы в Штаты, где на него молились, он все еще вел себя как жертва преследований. Так, Ландштейнер виртуозно играл на фортепиано, но не притрагивался к инструменту, который стоял у него дома. Он говорил: «Стану играть, так соседи тоже начнут, а этого я не перенесу». Ландштейнер думал, что группа крови для каждого организма индивидуальна. Он уже разделил род людской на четыре части, открыв агглютиногены A и B, и мечтал найти другие факторы, чтобы формула крови каждого человека стала индивидуальной, подобно отпечаткам пальцев (заметим, что про ДНК тогда еще не знали).
Так вот, Левин открыл факторы M, N и P, которые не вызывали агглютинации и не имели клинического значения. Ландштейнер чувствовал, что за этим кроется нечто большее. Для такой загадки Филип Левин как исследователь казался простоватым. И когда у молодого человека истек срок контракта с Рокфеллеровским институтом, Ландштейнер не стал его продлевать. На прощание он взял с Левина слово, что тот не будет искать новые группы крови.
Но жизнь сама поставила перед Левином эту задачу. Летом 1937 г. он заведовал больничной серологической лабораторией в Нью-Джерси, когда к нему поступил образец крови молодой женщины, едва не умершей после переливания крови мужа. А ведь у них обоих одна и та же группа – первая. Сыворотка крови больной вызывала агглютинацию эритроцитов мужа. Левин стал проверять эту сыворотку на совместимость с кровью других доноров, и оказалось, что для пациентки годится кровь только одного из семи человек с первой группой. Это соотношение неуклонно воспроизводилось в эксперименте. Оно явно указывало на какое-то деление по группам крови, не связанное с антигенами A и B. Знакомый Левину акушер тут же предположил связь феномена с эритробластозом плода – ведь больная родила мертвого ребенка с гидропсом. Пора публиковать статью, но Левин тянул, не желая нарушать обещание, данное Ландштейнеру, которому был всем обязан.
Тем временем Рут забеременела. Случился выкидыш, не связанный с гемолитической болезнью. Пока климакс щадил нашу героиню, она еще могла родить. Дарроу жадно глотала все новые статьи по гематологии, в надежде, что наука шагнет вперед и поможет ей.
Летом 1939-го Левин все же напечатал свою работу. Группа Ландштейнера сразу же ответила на нее. Новый помощник отца гематологии, Александр Винер, исследуя фактор M у человека и макак-резусов, наткнулся на ту же реакцию, что и Левин. Кровь 85 % людей реагировала на антитела к найденному в эритроцитах макак белку. Таким донорам Винер дал название резус-положительных. Остальные имели отрицательный резус. Теперь с эритробластозом все стало ясно: когда резус-отрицательная мать вынашивает резус-положительный плод, кровь ребенка может смешаться с кровью матери. Ее организм начинает вырабатывать против резус-фактора антитела, которые и обрушиваются на плод. Среди азиатов и чернокожих отрицательный резус – редкость, но из белых семей в группе риска – почти 12 %.
Рут Дарроу немедленно сделала анализ на новый фактор. Ей сообщили, что резус положительный. Это привело Рут в отчаяние: красивая теория не подтверждается, а гемолитическая желтуха возникает от чего-то еще. Потом, через три года, выяснилось, что то была ошибка и резус, конечно, отрицательный. Но Рут не могла ждать эти три года. Ей было уже 45, оставался последний шанс. Она решила рожать у себя на работе, в чикагской Больнице для женщин и детей. Ответственность за все происходящее Рут взяла на себя.
До самых родов 21 сентября 1941 г. плод активно шевелился в утробе. В последние дни беременности и во время схваток Рут старалась дышать глубоко, чтобы даже при недостатке эритроцитов кровь ребенка стала побогаче кислородом. Это было оправданно: когда перерезали пуповину, уровень кислорода в крови новорожденной девочки оказался в норме, несмотря на большое количество бесполезных эритробластов.
Желтуха проявилась через час. Несмотря на переливание плазмы, девочке становилось все хуже. За сутки ее печень заметно увеличилась в размерах. Еще немного, и билирубин нанесет смертельный удар. Тогда Рут решила полностью заместить кровь ребенка. Резус это или нет, антитела действуют в крови. И если их убрать вместе с кровью, все прекратится. Девочке перелили цельную кровь в количестве, равном одной трети всего объема в организме, и повторили эту процедуру дважды. Вводили также глюкозу и препараты для профилактики внутренних кровотечений, от которых страдал Алан. За заботами о ребенке Рут и не заметила, как ей стукнуло 46. Через сутки после забытого дня рождения девочка пошла на поправку.
Семья Дарроу обрела наконец покой. Ежегодно 22 июля все собирались за праздничным столом, вспоминая Алана. Многолетнее напряжение дорого стоило Рут. Она умерла в 61 год, когда главному ее творению – девочке Гейл – было всего лишь 15. Гейл выросла настоящей красавицей, и очень здоровой, просто кровь с молоком. Когда она вышла замуж, «резусную болезнь» больше не лечили переливаниями крови, а предотвращали иммунизацией материнского организма сывороткой, которую создал Левин. И уже выросло первое поколение врачей, в глаза не видавших эритробластоза.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Мельникова Елена [доцент СПбГУ]: 85 % людей являются резус-положительными (RhRh и Rhrh, соответственно гомо- и гетерозиготны) и 15 % – резус-отрицательными (rhrh). До сих пор большинство нашего населения не осведомленo достаточно об этом. Иммунный конфликт возникает у резус-отрицательной матери (rhrh) и резус-положительного плода (RhRh и Rhrh). Во время беременности мама начинает вырабатывать Rh-антитела, губительно действующие на резус-положительный белок крови плода. Особенно опасны при этом последующие роды, когда антитела накапливаются в крови матери в большой концентрации. Все это приводит к рождению детей с анемией, желтухой (гемолитическая болезнь) и другими патологиями. Это генетика, господа!
Anna Kiriluk: Почему первые две дочери Рут не болели? Они тоже были отрицательными?
Ответ: У них резус был положительным, унаследовали от отца. Когда Рут вынашивала и рожала первых дочерей, их эритроциты не попали в ее кровь, и механизм продуцирования антител не запустился. Он мог не заработать и в третью… приводят случаи трех благополучных беременностей без всякой профилактики и гемолитической болезни. Это как русская рулетка.
Евгений Божин: Удивляет нерасторопность акушеров: иметь 10 тысяч смертей в год (и это только в США) и отдать первенство в выявлении причин проблемы гематологу, наблюдавшему единичные случаи агглютинации крови одной группы.
Ответ: Они потихонечку подбирались к разгадке: уже установили, что гидропс, эритробластоз и желтушная анемия – это одна патология. И что первые роды без проблем всегда проходят, заметили. Если бы не вмешались Дарроу с Левином, лет через десять – пятнадцать дошли бы. Просто Дарроу некогда было ждать, а Левин очень хотел перейти из больницы куда-нибудь в науку (откуда его Ландштейнер выставил).
Ирина Панкращенко: Говорят, с первыми детьми не бывает конфликта.
Ответ: Да, это установили в 1932 г. педиатр Стюарт Клиффорд и акушер Артур Хертиг из Бостона, и этот факт очень помог Рут в ее рассуждениях. Логично получается: до первых родов никаких чужих эритроцитов в кровь резус-отрицательной матери не поступает, и первый ребенок успевает родиться, даже если при родах механизм иммунного ответа заработал. Но в таком случае следующего резус-положительного ребенка уже поджидают готовые с ним бороться антитела.
Иммунный ответ возникает не сразу. По аналогии – вооружение и мобилизация армии тоже занимает время. Поэтому, если чужеродный фактор будет быстро уничтожен введенной сывороткой с антителами (дружественным иностранным контингентом), синтез собственных антител (вооружение своих, уволенных в запас) даже не начинается. На этом принципе основана современная профилактика.
Екатерина Маерс: А какое место в этой истории Джеймсу Харрисону отводится?
Ответ: Это уже другая история. В ней участвовал Левин как организатор производства того иммуноглобулина RhoGAM, который делали из плазмы крови донора Харрисона [его кровь содержит очень сильные и устойчивые антитела к антигену резус-фактора; начиная с 1954 г. Харрисон регулярно сдавал кровь, и за 1954–2018 гг. препараты из плазмы его крови предотвратили более двух миллионов случаев конфликта].
Идею отсматривать доноров и выбирать антитела для профилактики высказала Рут Дарроу – она сделала сообщение о своих родах и предложила вместо нервотрепки с переливаниями крови заняться профилактикой.
Irina Shaposhnikova: Боже, как хорошо, что я, резус-отрицательная мать двух больших резус-положительных детей, читаю это только сейчас. Очень впечатляет.
Ответ: Вообще мы пишем это не для того, чтобы пугать резус-отрицательных мам, а чтобы их обнадежить – вот, средство есть, и нашли его при царе Горохе. Впрочем, кто хочет бояться, тот испугается даже царапины.
68 Клещ как переносчик весенне-летнего энцефалита Лев Зильбер 1937 год
19 мая 1937 г. в поселке Обор Хабаровского края вирусолог Лев Зильбер высказал идею, что весенне-летний энцефалит переносят клещи. Сейчас болезнь, которую вызывает открытый экспедицией Зильбера вирус, именуется клещевым энцефалитом.
Что тайга весной опасна и там с первой зеленью появляется лихорадка, знали с незапамятных времен. Болезнь эта в 40 % случаев была смертельна, а пережившие ее часто становились инвалидами: слепыми, глухими или паралитиками. Страдали охотники и лесорубы, грибники и сборщики орехов, но медицина взялась за энцефалит, лишь когда на реке Уссури разместились части Красной армии, готовые отразить нападение японцев, оккупировавших север Китая.
Тайга была набита войсками. Ради маскировки не строили казарм, жили в палатках среди глухого леса – и несли ужасающие санитарные потери. В январе 1937 г. военврачи поведали об этом директору Центральной вирусной лаборатории Наркомздрава Льву Зильберу и предложили организовать экспедицию ближайшей весной.
Они обратились именно к Зильберу, потому что он был известен как эпидемиолог еще с Гражданской войны, когда в рядах той же Красной армии боролся с сыпнотифозной вошью. Позднее уже в качестве микробиолога он раскрыл причины вспышки брюшного тифа в Дзержинске и чумы в Нагорном Карабахе.
Власти Дзержинска по его настоянию раскопали канализационную трубу и обнаружили, что коллектор был подсоединен к городскому водопроводу. В Карабахе все было страшней: Зильбер высказал уверенность, что эпидемию легочной чумы вызвали а) добытый школьником чумной заяц и б) местный врач, который госпитализировал школьника, перезаразившего всю больницу. Азербайджанскому ГПУ больше нравилась версия с заграничными диверсантами, и в отместку за опровержение этой версии Зильбера на три месяца засадили в бакинскую тюрьму. Но то был 1931 г., когда «органы» еще могли ошибиться, так что Лев Александрович был освобожден и затем возглавлял в Москве разные учреждения, занимавшиеся вакцинами и сыворотками.
После сообщения об открытии в Англии вируса гриппа (1933) Зильбер увлекся вирусами. В его лаборатории научились разводить вирус гриппа в организме обычных мышей (англичане сумели выделить его только в опыте на хорьках) и сделали вакцину, которой в 1936 г. благополучно привили 26 москвичей-добровольцев (то была первая вакцинация от гриппа в России). Более того, Зильбер установил, что лейкоциты не убивают вирусы, а избавляется организм от этой заразы путем выведения с мочой (отсюда рекомендация пить побольше жидкости при простуде).
Но все эти успехи Зильбер воспринимал как промежуточные. Его главной целью был рак: он считал (и впоследствии это подтвердилось), что превращение нормальной клетки в опухолевую часто вызывается вирусом. Исследовательская программа лаборатории на 1937 г. затрагивала эту проблему, от которой и отвлекли Зильбера военврачи.
По плану Наркомздрава, в состав экспедиции должны были войти десять профессоров. Но Зильбер отказался в этом участвовать, полагая, что тогда на месте возникнет десять мнений о том, что делать дальше. А ответственное решение может принять только один человек. Поскольку, кроме Льва Александровича, такого смельчака не нашлось, нарком обороны Ворошилов приказал формировать экспедицию во главе с одним Зильбером, дав ему право выбирать кого угодно.
Отобрана была исключительно молодежь: ребята мало знали и потому были свободны от заблуждений. Кроме того, предстояло жить в дощатых бараках, не спасавших ни от гнуса, ни от дождя, и работать до упаду – такое может выдержать только юность. Участники экспедиции могли также заболеть энцефалитом. Возбудитель и переносчик болезни были неизвестны; одна надежда – на собственную иммунную систему. Как раз тогда была только что доказана белковая природа антител, и Зильбер заставлял своих сотрудников поедать по восемь яиц в день, обогащая организм белком.
17 мая прибыли в Хабаровск и узнали, что времени на подготовку и разведку нет: против ожиданий, энцефалитный сезон был уже в разгаре из-за ранней весны. Штаб-квартиру поместили в поселке Обор, куда вела проложенная прямо по земле, без насыпи, железная дорога. Тамошний леспромхоз врубился глубоко в тайгу, а болел каждый сотый.
Страдальцы лежали в больничке при леспромхозе, куда Зильбер и пришел в памятный день 19 мая изучать истории болезни. Скорбные листы за три года свидетельствовали, что болеют люди, работавшие в тайге и преимущественно весной. Контакта между собой они не имели. Это исключало воздушно-капельный путь заражения. Самые ценные сведения дала первая больная сезона, госпитализированная 4 мая и уже выздоравливающая. Домохозяйка, в тайге не работала. Но недели за две до болезни ходила собирать прошлогодние кедровые орехи и по возвращении домой обнаружила на себе впившихся клещей.
В конце апреля комаров в тайге еще не бывает. И хотя Зильбер ничего не знал о клещах, он счел, что других переносчиков быть не могло. Как некогда в Дзержинске, ему разом представился механизм распространения инфекции. Некие таежные животные (бурундуки? ежи? мыши-полевки?) – это природные хозяева вируса. Клещ (какой?) кусает их и заражается вирусом. (Каким? Его предстояло еще выделить; а может быть, это и не вирус вовсе.) А потом клещ (?) нападает на человека.
Члены экспедиции работали как заведенные. Одни соорудили виварий для бурундуков и полевок. Другие заразили мышей суспензией мозга погибших людей и вызвали у них энцефалит. Из мозга мышей было выделено 20 штаммов вируса. Третьи занялись клещами и профилактикой среди лесорубов и топографов: виновность клеща еще не была доказана, но всем, кто ходил в тайгу, строго предписали беречься от паукообразных. Самыми сообразительными оказались топографы. Они гнали перед собой стадо коров, которые отвлекали кровососов на себя. И заболеваемость среди топографов упала до нуля. Это значило, что экспедиция на верном пути.
Но трудностей возникала масса. Когда муссон принес обильные дожди, ученые проснулись в воде и едва успели спасти от затопления клетки с лабораторными мышами. Были заболевшие энцефалитом. Военврача Валентина Соловьева, который примкнул к экспедиции на месте и был весьма полезен знанием обстановки, поцарапала зараженная обезьянка. Соловьев на полгода ослеп. Бактериолог Михаил Чумаков, вскрывая череп умершего долотом за отсутствием набора патологоанатома, поранился и едва не умер от энцефалита. Он навсегда оглох и потерял возможность работать правой рукой.
Напоследок добытый дорогой ценой вирус выкинул неожиданный номер: сыворотка крови переболевшего человека не могла его нейтрализовать. Это значило, что в крови нет антител к этому вирусу. Либо энцефалит вообще не инфекция, либо выделили не тот вирус. А сезон уже заканчивался, и новых выздоравливающих было не сыскать. Тогда взяли кровь у выживших после болезни в мае, в том числе у вышеупомянутой домохозяйки. Ее сыворотка «сработала». У всех отлегло от сердца. Но что бы это значило?
Анализируя ход болезни, невропатолог экспедиции Алексей Шаповал сделал вывод: «Инфекция развивается без сопротивления». Оказалось, такое бывает. В случае клещевого энцефалита на первых порах иммунная система почти не вырабатывает антител к вирусу, и он беспрепятственно поражает все нервные клетки поблизости от места укуса. Поэтому так важно, куда именно забрался клещ. Если больной переживет самый опасный первый период, антитела производятся со все большим размахом и в конце концов спасают организм, а после победы их производство еще расширяется.
По возвращении домой с триумфом Зильбер был арестован за то, что якобы открыл вирус с целью заражения комаров, которых он собирался распустить рядом с дачей товарища Сталина. Сам ученый ни в чем не сознался, хотя ему на допросах сломали два ребра и отбили почки. Зильбер чуть не умер в лагере Печорстроя от стенокардии, но сумел постоять за себя и вернуться в науку.
Было так: у жены начальника лагпункта начались родовые схватки. Акушеров среди врачей лазарета не нашлось. Построили заключенных: «Медики, шаг вперед!» Зильбер без раздумий вышел из строя. На ходу вспоминая курс гинекологии, он определил, что плод вроде бы лежит правильно, а женщина с виду здорова. Тогда Лев Александрович выгнал всех из помещения и велел роженице орать что есть сил: якобы это облегчает боль. Ребенок родился быстро, Зильбер перевязал пуповину, но долго не пускал никого в комнату. Наконец, через пять часов он предъявил гражданину начальнику жену с младенцем и сказал, что роды были патологические, так что с трудом удалось избежать несчастья. Начальник поверил и назначил Зильбера руководить лазаретом.
Истощенные пациенты лазарета сплошь страдали пеллагрой – недостатком витамина PP. Зильбер придумал подкармливать их дрожжами, выращенными на ягеле, которого в тундре вокруг было предостаточно. Кипячением готовился препарат антипеллагрин, который вливали внутривенно. Он творил чудеса: больные, которые не могли пошевельнуть рукой и умирали от поноса, вставали с постели, а смертельная диарея прекращалась. Ближайшие лагеря переняли передовой опыт. Зильбер даже устроил для этого конференцию врачей Печлага. Он также вернулся к опытам по раковой иммунологии на мышах, которых зэки ловили ему за белковый концентрат из дрожжей.
О победе над пеллагрой прознали на Лубянке. Зильбера перевели в Москву, где им занимался генеральский чин – комиссар госбезопасности 2-го ранга. Он предложил поработать в шарашке, занимавшейся бактериологическим оружием. Лев Александрович отказался, пытаясь растолковать комиссару, что его идея гораздо важнее оружия: ведь война скоро кончится, а рак останется.
Канцерогены, говорил он, подобны механизму, которым взводят курок. «Но ведь убивает пуля. Так и при раке – убивает вирус, а все, что считают причиной рака, дает вирусу возможность “выстрелить”», – объяснял Зильбер в понятных слушателю метафорах. И просил дать ему возможность разместить в журнале статью о вирусной теории рака под любой вымышленной фамилией, чтобы советские исследователи могли пользоваться этими данными. Комиссар только и спросил с презрительной улыбкой: «Может, еще опубликовать это ваше “произведение” в “Известиях” или “Правде”?»
Наконец Зильбер нашел возможность передать написанную микроскопическими буквами на клочке бумаги статью своей бывшей жене Зинаиде Ермольевой, создательнице советского пенициллина. Ермольева собрала целое созвездие медицинских светил во главе с Бурденко и Орбели, которые обратились к Сталину с предложением освободить автора столь ценной идеи. Едва Зильбер вышел на свободу, нарком здравоохранения Митерев ласково принял его, обещал институт и предложил написать в центральную газету статью «Проблема рака». Материал вышел в 14-м номере «Известий» в 1945 г.
Вскоре автор был опять вызван к тому же самому комиссару 2-го ранга. Оказалось, у жены комиссара нашли рак, и теперь он интересовался, нет ли какого-нибудь нового метода лечения. Картина была безрадостная: опухоль обнаружили слишком поздно. Зильбер сказал, что для своевременной диагностики и профилактики надо исследовать поведение вирусов в организме, чем он и намеревался заняться в 1937 г. Напоследок съязвил: «А что, товарищ комиссар, читали вы “Известия” с моей статьей?»
Комиссар улыбнулся и ответил: «Чего у нас не бывает, товарищ профессор…»
Примечание
В литературе и документальных фильмах о Зильбере утвердилось неизвестно откуда взявшееся мнение, будто он был освобожден по приказу Сталина и великий вождь якобы даже принес Льву Александровичу свои извинения. Высказываются версии, что Сталин (или кто-то из Политбюро) боялся рака и потому освободил ведущего теоретика раковой иммунологии. Однако рассказы самого Зильбера и Ермольевой, которая организовала его освобождение (и к которой его привезли прямо из тюрьмы в марте 1944-го), этого не подтверждают.
Военный прокурор, занимавшийся реабилитацией Зильбера, не обнаружил в его деле никакого постановления об освобождении. Он так и сказал Льву Александровичу: «Вас не только арестовали, но и освободили незаконно». Ермольева намекала, что высокопоставленный гэбист, чью дочь вылечили пенициллином, объяснял, как было дело.
Письмо-ходатайство об освобождении Зильбера украшали автографы группы знаменитостей: Бурденко, Орбели, Гамалея, Морозов, Ермольева, Соловьев, Шубладзе, Чумаков, Энгельгардт. Формальным лидером подписавших был Бурденко, главный хирург армии, у которого на столе стояла «вертушка» для прямой связи с Верховным главнокомандующим.
Нет никаких следов распоряжения Сталина ни в устной, ни в письменной форме. И Ермольева, и Зильбер считали, что распоряжение об освобождении отдал лично Берия, испугавшись, что на самом верху переспросят у Бурденко, в чем дело. Ведь такого созвездия просителей, да еще столь важных для фронта, прежде не собиралось. Вероятно, Сталин так ничего о Зильбере и не узнал. Позднее они не виделись и не говорили; ни о каких «извинениях» Зильбер не рассказывал. Скрывать подобный факт он при своем громадном честолюбии не стал бы, особенно в последние десять лет, т. е. после XX съезда[9].
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Dasha Karpenko: Невозможно не думать о том, каких высот достигла бы советская наука, если бы гениальные ученые жили с целыми почками, с целыми пальцами, не дрожали за себя и семью…
Ответ: Так ставился вопрос в 1960-е гг., когда ученые направляли в правительство коллективные письма против Лысенко. А ведь на деле никакой «советской», «российской» или «английской» науки нет. Наука – всеобщее достояние. Зильбер брал идеи у англичан, а идеями Зильбера пользовались французы (тесные связи с Институтом Пастера налажены еще со времен Гамалеи). Преступление против ученого, где бы он ни жил, – это покушение на будущее всего человечества.
И не только смерть, но даже простая изоляция советских ученых от зарубежной научной жизни сильно навредила медицине всего мира. Например, Зильбер еще в 1928 г. открыл обмен генами между микробами. Хватились много лет спустя, когда оказалось, что это основа механизма возникновения резистентности к антибиотикам. И многим ли известно, что коллектив лаборатории Зильбера в 1937 г. вплотную подошел к исследованию структуры ДНК бактерий? Кто знает, быть может, двойную спираль открыли бы на десяток лет раньше, и в этом случае мы бы уже теперь имели те средства борьбы с диабетом и рассеянным склерозом, которые сейчас проходят испытания, а в продаже появятся через десять лет. Люди, которые в эти годы умрут от этих двух патологий, еще живы, но уже убиты теми, кто некогда вынудил Зильбера вместо генетики вирусов заниматься пеллагрой.
Да, он и от пеллагры спас в лагерях тысячи людей. И между прочим, оставил нам важное наследство: обнаружил, что при росте дрожжей на ягеле образуется много белка. В Печлаге прекратился квашиоркор, потому что повара стали добавлять в кашу белковый концентрат, полученный лагерной лабораторией Зильбера. Берите на заметку, вдруг пригодится.
69 Флюорография Мануэл Абреу 1937 год
9 июля 1937 г. бразильский врач Мануэл Абреу начал первый в мире эксперимент по массовой флюорографии. Новый метод рентгеновского исследования при минимальных расходах позволил выявить всех больных туберкулезом легких в Рио-де-Жанейро и прекратить эпидемию. Опыт Абреу немедленно переняли во всем мире.
Как только появились рентгеновские снимки, возникла мысль сделать их всем поголовно, чтобы пресечь распространение туберкулеза: больных отселить в диспансеры и там вылечить. Первыми заговорили об этом военные врачи. В 1898 г. в Лионе произвели над призывниками такой эксперимент. Оказалось слишком дорого.
Техника того времени знала два вида рентгеновских исследований: большой снимок на специальной пленке или бумаге (рентгенография) и просвечивание с проекцией на экран без фиксации на пленке (рентгеноскопия). Большие снимки стоят больших денег, а просвечивание требует присутствия врача, который глядит на экран и с ходу ставит точный диагноз. Чтобы таким образом обследовать население в целом, каждый сотый должен быть медиком.
К началу Первой мировой войны доля чахоточных молодых людей в армиях Европы превышала 1 %. Это была самая распространенная инфекция, причем на ранней стадии больной, ни о чем не подозревая, заражает других. Эпидемия нарастала, пока на ее пути не встал Абреу.
В медицине он кажется человеком случайным. Из обеспеченной семьи, имел возможность не работать. Среди его родных не было чахоточных. Медицинское образование получил ради статуса. Призвания не ощущал, считал себя поэтом. Жил в отсталой стране. И все же именно Абреу разрешил техническую проблему раннего обнаружения туберкулеза легких.
Его отец был авантюристом из Португалии. В 13 лет наслушался рассказов о сказочных богатствах Бразилии, сел на пароход и уплыл в Рио-де-Жанейро. К 30 годам действительно сколотил там состояние на лотереях. Когда Мануэл окончил два факультета – юридический и медицинский, Абреу-старший затосковал по Европе и перевез семью в Париж. Было это в июле 1914 г., перед самым началом мировой войны.
Мануэл собирался слушать лекции светил французской медицины, а светила разъехались по фронтам и госпиталям. И молодой Абреу загулял. В богемных кафе юный доктор приучился к сигарам, так что с тех пор не курил только во сне. За столиком он слагал стихи, по моде – без рифмы, верлибром:
Проходит всё, Кратки фантомы наших двадцати. Взрастает злость Всё толще, горше, Всё нетерпеливей. Злость как посольство боли В нашем убежище…С темы разочарования поэт переходил на любовь, умоляя свою даму раскрыть «ту тайну, что больше тебя самой», взамен обещая поселиться «в узком пространстве, разделяющем наши тела». Абреу был очень хорош собой, и муза (представительница новой тогда профессии, манекенщица по имени Марсель) к нему благоволила.
К нему также благоволили хирурги, которым он днем помогал при операциях: медиков не хватало и лучше гулящий ассистент, чем никакого. Как-то в 1915 г. Абреу доставлял документы из госпиталя 13-го округа, к которому был прикреплен, в центральную больницу Отель-Дьё. Принимал бумаги пожилой терапевт, описавший врожденную желтуху, которая в его честь называется «синдром Жильбера». И вот прославленный Огюстен Николя Жильбер сказал бразильцу: «Пойдем-ка со мной, посмотрим одного моего старого друга». Абреу мог не ходить, но Жильбер говорил так по-отечески, что отказаться было немыслимо. Старик тщательно пальпировал и выслушивал своего друга, ничего подозрительного не обнаружил. Потом то же самое сделал Абреу. Как ни старался, тоже ничего не нашел. Тогда Жильбер попросил Абреу сопроводить больного на рентген и потом принести снимок. Все радиологи Отель-Дьё были мобилизованы, так что рентген делала только медсестра мадемуазель Лемэр. Она с ног валилась и не давала потачки даже блатным, однако красивому бразильцу помогла.
С первого взгляда на снимок Жильбер определил пиопневмоторакс и прогрессирующий туберкулез. Окажись на месте Абреу любой врач из Отель-Дьё, флюорография появилась бы намного позже. Парижские доктора давно привыкли к тому, что рентген может опровергнуть любой диагноз. Но бразилец впервые держал в руках рентгеновский снимок. Его поэтическое воображение было потрясено: тени на черно-белой пленке могли открыть непостижимую тайну. В этот момент Абреу нашел себя. Он со всею страстью принялся изучать новую технику, да так успешно, что через год Жильбер рекомендовал его на должность начальника больничной рентгеновской лаборатории.
Предыдущий начальник, опытный рентгенолог Эдме Гиймино, не вылезал из окопов. Он приехал в отпуск познакомиться с Абреу и рассказал об эпидемии туберкулеза на передовой. Гиймино был просто в отчаянии: рентгеновской пленки и фотобумаги на фронте не хватает. Пытаясь выявить туберкулезников, он пробовал фотографировать обычной камерой светящееся (флуоресцирующее) изображение на экране. Такие фото дешевы, их можно отсматривать в удобной обстановке через лупу или на проекторе. Только эмульсия слишком зернистая, флуоресцирует экран слабо, светосилы объектива не хватает. Этот разговор Абреу запомнил на всю жизнь. Фактически Гиймино сформулировал идею флюорографии, но одно дело высказать идею, а другое – добиться ее воплощения.
Вернувшись с войны, фронтовики перезаразили своих близких, и теперь за год во Франции умирало от чахотки больше 200 человек на 100 тысяч. Зато с фронта пришли и врачи, началась энергичная борьба с туберкулезом. Абреу решил, что он сейчас нужнее дома, в Рио-де-Жанейро, где эпидемиологическая обстановка была еще тяжелее без всякой войны. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме; муза вышла замуж, так что в Париже его ничто больше не держало.
Дома за 10 лет ничего не изменилось, но умиления это не вызывало. Всё те же разговоры: кто как отдохнул да что почем в магазинах. Одно-единственное научное достижение: Карлус Шагас описал трипаносомоз, который по всему миру называют болезнью Шагаса. Впервые появился в Бразилии врач, известный по имени за пределами страны. Бразильский президент Вашингтон Луис назначил Шагаса главой Департамента здравоохранения. Тот сразу же организовал специальное ведомство по борьбе с туберкулезом, для начала в пределах Рио-де-Жанейро, с лечением больных в диспансерах и радиологической службой, которую создавал Абреу.
Эффектный молодой доктор замелькал в светской хронике. Вот он принят в медицинскую академию, вот в Берлине дискутирует о тенях сосудов, вот первая красавица Дулсье Морейра Сезар Эверс влюбилась в него с первого взгляда, бросив мужа-американца. Не успел Абреу жениться на Дулсье, как журнал «Критика» сообщил, что «великий радиолог» перед свадьбой своего подчиненного «отведал» его невесту, 27-летнюю журналистку Силвию Серафин. Которая давно уже его любовница. Известие сопровождалось весьма фривольной карикатурой.
Силвия знала о подготовке материала и накануне просила хотя бы не иллюстрировать его. Пока доктор Абреу ломал голову, что делать, Силвия опять отправилась в редакцию «Критики». На сей раз она по дороге зашла в оружейный магазин, приобрела дамский револьвер «Галан» 22-го калибра и застрелила автора карикатуры. В итоге на Рождество 1929 г., несмотря на мировой экономический кризис, в Рио-де-Жанейро только и говорили, что о личной жизни Мануэла Абреу и оправдательном приговоре Силвии в суде. По счастью, скоро случился государственный переворот, и про доктора на время забыли.
Он с женой объезжал новостройки, подыскивая новую квартиру, и на глазах у Дулсье упал в шахту лифта. Сильно разбился. Жена была на четвертом месяце беременности, от испуга случился выкидыш. Постепенно Абреу понял, что детей у них не будет никогда. И с ним произошло то же, что в сходной ситуации случилось с Генрихом Квинке: Абреу стал усиленно бороться за жизнь пациентов-детей. Ситуация с туберкулезом среди них сложилась чудовищная: рентгенография показывала, что болен уже каждый пятидесятый. В своем бетонном подвале Абреу работал как заведенный при сорокаградусной жаре, но сделать более сорока снимков за день не успевал. Пора было вернуться к идее флюорографии.
Только что появились цинк-кадмий-сульфидные экраны, которые в рентгеновских лучах испускают яркий зеленый свет. Пленка Agfa обычного формата 24 × 36 мм, заряженная в типовую камеру Leica, давала хорошие снимки с таких экранов. Абреу расположил фотоаппарат в 60 сантиметрах от светящегося экрана, загородив от бокового света тубусом, по которому флюорограф узнается и теперь. Все, кроме тубуса, предоставили отделения германских фирм, потому что установка предназначалась для нового Немецкого госпиталя, открытого в Рио-де-Жанейро летом 1936 г. Передовая больница Бразилии строилась на деньги немецкого землячества; Абреу был приглашен туда главным рентгенологом.
Так в июле 1936 г. открылся первый в мире флюорографический кабинет. Как только Абреу доложил о нем на конференции, посыпались заказы. Casa Lohner, дочерняя фирма концерна Siemens в Бразилии, стала производить флюорографы серийно (до 1942 г.).
Оставался вопрос о пригодности флюорографии для поголовной диагностики населения районов и городов. Первый опыт производился с 9 по 21 июля 1937 г. в штаб-квартире Департамента здравоохранения на улице Резенди, 128. За 12 суток были получены прекрасные снимки 758 человек, из них у 42 обнаружился скрытый туберкулезный процесс. Помимо того что так получалось в полтора раза быстрее, чем прежде, флюорография стоила в 20 раз меньше просвечивания.
Немедленно была развернута программа ликвидации туберкулеза в пределах Рио. Начали с двух групп населения, среди которых разносчики инфекции особенно опасны, – с банковских работников и пищевиков. Из 2008 обследованных служащих банков туберкулезные изменения в легких нашли у 6,7 %, а среди 10 457 работников пищевой промышленности больными оказались 3,4 %. За 1937 г. было обследовано 20 000 человек. Смертность от туберкулеза в Рио пошла на убыль в 1945-м, когда флюорографию сделали миллиону человек, то есть половине населения города.
Осенью 1937 г. к Абреу явился Ганс Хольфельдер, самый именитый в мире специалист по лучевой терапии, председатель Немецкого общества рентгенологов. Хольфельдер не особо афишировал свою деятельность в СС (с 1933 г.) и участие в программе принудительной стерилизации умственно отсталых рентгеновским излучением и радием. Он обещал Абреу статьи в немецких журналах, доработку флюорографа силами ведущих немецких фирм и удешевление метода. Поскольку не было оснований не доверять известному ученому, бразилец поделился протоколами, ноу-хау и технической документацией.
За 1937–1939 гг. в Германии вышла всего одна статья Абреу, про его роль в рождении флюорографии немецкие рентгенологи скромно молчали. Хольфельдер сначала воспроизвел тактику бразильца в обследовании личного состава СС (каждый сотый оказался болен и был немедленно исключен), затем при щедром государственном финансировании приспособил аппаратуру для установки в автобусах. Получилось мобильное подразделение, названное «Рентгеновский штурмбанн Управления СС», так что его глава автоматически получал звание штурмбаннфюрера. Под началом Хольфельдера служило 76 «фюреров», 108 «унтерфюреров» и 663 рядовых. В марте 1939 г. они двинулись в Мекленбург и за весну провели обследование 900 000 человек.
Абреу заволновался: немцы не спешили делиться ни результатами, ни технологиями и упорно не упоминали его в своей литературе. В августе 1939 г. Мануэл отплыл в Германию выяснять отношения с Хольфельдером. Не успел корабль пересечь экватор, пришло известие о нападении Гитлера на Польшу. Пароход повернул назад, что для Абреу можно считать большой удачей: Хольфельдер сделал флюорографию оружием массового уничтожения. Его «рентгенштурмбанн» обследовал население оккупированной Польши и выявил 230 000 туберкулезников, из которых 35 000 признали «безнадежными». Гиммлер приказал поместить этих несчастных в особые концлагеря. Их судьба толком не изучена, потому что участники этого преступления не дожили до Нюрнбергского процесса: в декабре 1944 г. Ганс Хольфельдер вместе со своим штурмбанном погиб в боях с Красной армией за Будапешт.
По окончании войны к Абреу пришла всемирная слава. Он трижды выдвигался на Нобелевскую премию и едва успевал с одной международной конференции на другую. Поездка в Данию 1950 г. его поразила: никаких природных ресурсов, а народ живет куда лучше бразильцев. С тех пор Абреу твердил на каждом шагу, что богато могут жить лишь образованные и культурные народы: «Высокая культура несовместима с эгоизмом, нетерпимостью, бряцанием оружием. Дикость как чахотка: ты даже не осознаешь, что болен ею».
Бразилии, говорил он, борьба с невежеством еще нужнее, чем борьба с туберкулезом. Создали тяжелую индустрию, но все равно отстали, потому что сложную технику делают сложные люди. А люди – это единственная в стране материя, удерживающая деньги. Все извлеченные из земли богатства, которые не вложены в людей, улетучиваются за границу. «Так случилось у нас в Бразилии, – заключал Абреу, – и такая же драма повторится на нефтяном Ближнем Востоке».
После смерти Абреу Бразилия так и не освоила выпуск собственного флюорографического оборудования, продолжая импортировать его из США, Германии и Великобритании. Идея оказалась богатой. По большому счету вся рентгенография постепенно становится флюорографией: вместо прямого засвечивания пленки происходит цифровая съемка флуоресцирующих экранов.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Anna Kiriluk: Почему такая ситуация была с туберкулезом в Бразилии?! Солнце, тепло круглый год, океан рядом, круглый год овощи/фрукты/морепродукты, даже бедняки на них сидят. Как же так?!
Ответ: Туберкулез провоцируют в первую очередь определенные бытовые условия в сочетании с наличием возбудителя и удобной для его обитания средой.
Anna Kiriluk: То есть климат сам по себе не защищает?
Ответ: Климат может защищать. Например, на Крайнем Севере грипп – большая редкость. Как говорится, в Арктике можно замерзнуть, но не простудишься. Тяжело там вирусу персистировать. Микобактерии – другое дело. Им трудно там, где сухо и жарко, в Египте например. А во влажных тропиках – раздолье.
Віка Легка: Жаль, что нам так не рассказывали в институте.
Ответ: Многие факты опубликованы совсем недавно. Самая информативная книга – ди Оливейры – издана в 2012 г. До нее даже бразильские историки медицины давали ошибочную дату рождения главного героя. Судьбой польских туберкулезников вообще занялись году в 2010-м, раньше этой темой интересовались мало. История, как и любая наука, быстро идет вперед.
70 Хирургическая коррекция врожденного порока сердца Роберт Гросс 1938 год
26 августа 1938 г. впервые удалось хирургическим путем скорректировать порок сердца у ребенка. Подобные операции тогда запрещались как неоправданно рискованные. Молодой хирург Роберт Гросс отважился нарушить запрет именно в конце августа, пока начальство пребывало в отпуске. За дерзость Гросс был изгнан из профессии и отправлен в глушь разводить цыплят.
Гросс вообще не должен был делать операций, так как был слепым на один глаз, но этот факт он скрывал до конца своей карьеры. Мальчиком он обнаружил, что видит отдаленные объекты лишь одним глазом. На втором нашли врожденную катаракту. Это значило, что нарушено восприятие глубин и расстояний. Отец Роберта – мастер, собиравший рояли, – придумал для сына программу компенсации. Он строил свои инструменты без линейки: рука помнит глубину привычных мелких движений и может «подсказывать» глазу. Роберту выдали будильник с заданием разобрать и собрать так, чтобы он снова пошел. За будильником последовали карманные часы, потом наручные.
Роберт полюбил эти занятия и ежедневно что-нибудь разбирал. В юности это помогало ухаживать за девушками: Гросс покупал дохлые драндулеты, которые были по карману студенту, восстанавливал их и всегда был при машине, выделяясь среди «безлошадных» ровесников. Учился он, разумеется, на инженера, пока однажды на Рождество ему не подарили биографию канадского врача Уильяма Ослера, написанную отцом хирургии мозга Харви Кушингом. Эта медицинская биография замечательна тем, что автор отлично понимает каждое действие героя и сознает, чего оно стоило. Немало юношей в те годы избрали профессию медика, начитавшись Кушинга, как иные рвались в летчики под впечатлением от Сент-Экзюпери. Хирургия в сравнении с механикой представлялась Гроссу таким скрупулезным делом, которое дает быстрый осязаемый результат и вызывает восхищение самых достойных людей вроде Кушинга.
Роберт направился прямиком в Гарвардскую медицинскую школу, где преподавал Кушинг. Едва поступив, с ходу проник на балкон операционной великого хирурга. Когда вошел его кумир в полном облачении, Гросс так лучился от счастья, что Кушинг приметил его среди зрителей и спросил, кто он такой. Роберт гордо ответил: «Я студент-медик». «Выйдите отсюда, – резко сказал Кушинг, – и приходите, когда станете дипломированным врачом». Этого Гросс не забыл. Когда сам он стал профессором Гарварда, к нему набивались все желающие. Из них за 25 лет выгнали одного, который очень уж громко шуршал газетой.
Первая мечта Гросса осуществилась: он стал хирургом. Второй его мечтой было устроиться в Бостонскую детскую больницу, которой руководил Уильям Лэдд. То был не просто замечательный специалист, а подвижник. Блеснул он 7 декабря 1917 г., когда в канадском порту Галифакс взорвался корабль с тротилом. Среди пострадавших были тысячи детей, потому что взрыву предшествовал пожар. Дети на близких к гавани улицах припали к окнам, чтобы смотреть на зарево, и при взрыве получили страшные порезы. Из Бостона примчалась бригада хирургов-добровольцев, среди них – Лэдд. В память об их самоотверженной работе провинция Новая Шотландия, где случилось несчастье, ежегодно присылает в дар городу Бостону рождественскую елку.
Травмы детей Галифакса так потрясли Лэдда, что он решил посвятить свою жизнь детской хирургии. Оставив частную практику, проводил все свое время в финансируемой благотворителями Бостонской детской больнице – фактически больнице для самых бедных, где день госпитализации обходился всего в шесть долларов. Там Лэдд творил чудеса. Он спасал пациентов с заворотом кишок и разлитым перитонитом, причем перитонит оперировал без единого смертельного случая – до сульфаниламидов и антибиотиков! В эту больницу везли детей с других концов США. Хотя платили там немного, новое дело привлекало энтузиастов, так что Лэдд имел огромный выбор. Гросс пытался поступить к нему целых семь лет, но был принят, лишь когда отличился в других учреждениях и прошел стажировку в Англии и Германии.
И вот в Бостонскую детскую больницу к доктору Гроссу привели семилетнюю девочку Лоррейн Суини, чье сердце работало с шумом, слышным за несколько шагов. У нее был самый распространенный врожденный порок сердца – открытый артериальный проток, которым страдает примерно один из двух тысяч детей.
Наши легкие не дышат, пока мы развиваемся в утробе, а кислород получаем от матери через пуповину. Легкие снабжаются кровью в минимальном количестве, необходимом для их правильного роста. Кровь, поступающая в легочную артерию, отводится в аорту по специальному каналу, который называется «артериальный проток». Но с первым же вдохом родившегося ребенка легким требуется уже вся кровь из легочной артерии. Мышцы пережимают проток. Недели за три он усыхает и превращается в связку, которая остается человеку на память об эмбриональных временах.
Но это – в норме. Если плод испытывал недостаток кислорода или ребенок родился недоношенным, проток может закрыться не полностью. Тогда через него кровь под давлением поступает из легочной артерии в аорту, создавая характерный «машинный шум», похожий на шипение пара, выходящего из скороварки. Сердце работает несколько вхолостую, а легким не хватает крови. С таким пороком дольше 25 лет не живут. Идея перевязать открытый проток и тем нормализовать кровообращение была не нова, но до Гросса такую операцию делали только раз. Пациентка 22 лет вскоре умерла от инфекции, и осталось неясно, как надолго и насколько надежно лигатура перекрывает проток. Этот вопрос занимал Гросса много лет. Он отрабатывал операцию на собаках и трупах и надеялся осуществить ее в таком передовом учреждении, как Бостонская детская больница.
Мать больной девочки звали Мэри Эллен. Она эмигрировала из Ирландии, как и ее муж, который водил трамвай от центра города до Гарвардского университета. Этот жизнерадостный человек всегда напевал или насвистывал, и жили они с Мэри Эллен и восемью детьми хоть и скромно, да весело, пока отца семейства не сбила машина. Когда его похоронили, младшей дочери Лоррейн стало намного хуже. Осмотрев девочку, Роберт Гросс сказал, что попробует ее вылечить, но это будет совершенно новая операция, которую детям никогда не делали. Как долго Лоррейн после нее проживет, сказать невозможно.
Мэри Эллен, верующая католичка, решила посоветоваться со священником. Монсеньор Трейси (Джон Трейси Эллис, 1905–1992) был по совместительству профессиональным историком и как исследователь натерпелся от различных тупиц. Все новое он воспринимал с большим сочувствием. Расспросив женщину о Гроссе, сказал: «Миссис Суини, если Господь желает призвать к себе вашу дочь, он все равно это сделает. Попробуйте оперировать девочку, и да пребудет с нею милость Божия».
Итак, мать дала согласие на операцию, но сама отвести дочь в больницу не решилась. В те времена даже в либеральную Бостонскую детскую родителей дальше приемного покоя не пускали. Мэри Эллен сознавала, что прощание с дочерью в день госпитализации может быть прощанием навеки, и сомневалась в своей способности выдержать такую сцену. Поэтому Лоррейн отправили в больницу в сопровождении старшей сестры навестить лежавшего там родственника. А в больнице врачи объявили, что Лоррейн очень плоха и ее надо срочно госпитализировать. Девочка задумала побег. Обычно палата была заперта, но, когда врач приходил делать уколы, дверь оставалась открытой. Стоило доктору взяться обеими руками за шприц, как Лоррейн прошмыгнула между его ног, выскочила в распахнутую дверь, сбежала по лестнице, вышла на улицу и кое-как доплелась до ближайшего рекламного щита, за которым и спряталась, потому что силы совершенно оставили ее. Нашли девочку быстро. С открытым артериальным протоком далеко не убежишь.
Оставалось получить разрешение на операцию у главного хирурга. Уильям Лэдд был против. У него возникли научные разногласия с Гроссом. Допустим, пациентку уложили на правый бок, сделали разрез и прижали легкое мокрой губкой, чтобы оно не мешало. Где гарантия, что после перевязки протока легкое удастся расправить снова, что оно не опадет навсегда? Однако в кармане у Лэдда уже лежали билеты на пароход в Европу. Это знала вся больница. Едва корабль скрылся за горизонтом, Гросс приступил к операции. В то время как пациентке надевали браслет тонометра и ставили капельницу с глюкозой, сестра-анестезист Бетти Лэнк успокаивала Лоррейн, напевая колыбельную Брамса. Она пела, пока девочка не вдохнула циклопропан и не потеряла сознание.
Гросс любил работать в полной тишине. Когда добрались до сердца, стал отчетливо слышен звук, издаваемый трепещущей легочной артерией. Гросс приложил к этому сосуду стерильный стетоскоп, и шум показался ему оглушительным. Едва проток перетянули лигатурой, стало тихо.
Через несколько дней Лоррейн было не узнать: резва, как нормальный ребенок. Продержали ее в больнице две недели не по медицинским показаниям, а потому, что к ней началось паломничество врачей со всего Бостона. По возвращении из отпуска Лэдд сразу предложил Гроссу написать заявление об уходе по собственному желанию. Это все же лучше, чем быть уволенным за грубое нарушение дисциплины и профессиональной этики. Гросс уехал из Бостона и поселился на ферме, принадлежавшей его отцу. Теперь он выращивал бройлеров.
Но полное выздоровление Лоррейн решило его судьбу. В Бостонской детской больнице назрел бунт. Будь Лэдд руководителем какого-нибудь госучреждения, его слово было бы закон, а решение – волчий билет. Но в коллективе энтузиастов, которые собрались вокруг Лэдда, как флибустьеры вокруг капитана пиратского корабля, такое отношение к победителю подорвало авторитет самого Лэдда. Попечительский совет призвал Гросса из ссылки, а главный хирург сделал вид, что все простил.
Теперь эти двое были врагами. Уходя на пенсию, Лэдд попросил не выбирать на его место Гросса. Попечители выждали пару лет и все же сделали Гросса из и. о. главным. В остальном все шло как при Лэдде. Масса новаторских операций, и главный хирург работает больше всех. Весной 1972 г., сделав коррекцию открытого артериального протока в 1610-й раз, Гросс подал в отставку. Только тогда он сознался главному офтальмологу своей больницы, что все это время видел одним глазом, и ему удалили катаракту, так что до самой кончины в 1988 г. он прожил с нормальным зрением.
Лоррейн Суини, по мужу Николи, каждое 14 февраля присылала Гроссу валентинку в виде сердечка. Она без осложнений родила двоих здоровых детей, стала бабушкой троих внуков. Перед смертью Гросс пригласил ее в гости и сказал, что благодарен ее матери Мэри Эллен за шанс, а самой Лоррейн – за то, что не умерла после операции:
– А то я бы так и разводил цыплят в Вермонте.
– Слава богу, – смеялась в ответ Лоррейн, – что я хорошей ирландской породы.
Она действительно крепкой породы. В XXI в. Лоррейн стала прабабушкой. И возможно, это еще не все. Она ведь не только первой из людей перенесла хирургическую коррекцию порока сердца, но и продолжает увеличивать рекорд долголетия после такого вмешательства.
71 Профилактика клещевого энцефалита Михаил Чумаков 1939 год
29 июля 1937 г. бактериолог Михаил Чумаков заразился клещевым энцефалитом. Он стал калекой, но выжил и как следует поквитался с этой болезнью: выделил ее вирус, организовал производство вакцины и ликвидацию переносчиков в целых регионах.
Когда Чумаков оканчивал 1-й Московский медицинский институт, его отец, ветеринарный фельдшер, погиб от сибирской язвы. И Михаил выбрал специальность бактериолога, чтобы бороться с инфекциями. С радостью принял он предложение поехать в Хабаровск, где началась эпидемия непонятной болезни, поражающей нервную систему.
В мае 1937 г. прибыли на место. Руководитель экспедиции Лев Зильбер сразу предположил, что это вирусный энцефалит и переносят его клещи. Смертность среди заболевших была велика: умирал каждый четвертый, а выздоравливающие оставались калеками. Михаил вскрывал трупы, чтобы изолировать вирус, и брал сыворотку крови у выздоравливающих, чтобы ввести ее больным. В первую очередь спасали детей. В июне добились уже нескольких излечений. Препаратом мозга погибших заражали мышей. Чумаков откормил на больных мышах толпы клещей и показал, что они могут заразить других мышей. Последнее, что он успел сделать, пока не заболел, – это вызвать пассивный иммунитет у козла.
Вечером 29 июля умер больной особо тяжелой формой энцефалита, а прозекторский набор в это время увезли в другой отряд. Вскрывать же надо было срочно: стояла жара, пропадал ценный препарат. Орудуя подручными инструментами, Чумаков поранился осколком черепа. Через три дня он уже был на краю гибели. В спинномозговой канал ему вводили сыворотку выздоровевшего пациента. Нашлось применение и козлу.
Спасенный Михаил вызывал всеобщее сочувствие: обе руки парализованы, голова свернута набок, слух исчез вовсе. Без особых надежд на реабилитацию его направили лечиться в Крым.
Через некоторое время органы обвинили Зильбера в том, что он специально открыл энцефалит, чтобы заразить лично товарища Сталина. Пока главу экспедиции терзали на Лубянке, Чумакова расхваливали в газетах как главного героя. Вся страна узнала, что он научился двигать левой рукой и левое ухо сохранило 5 % слуха. Его приняли на работу в Институт экспериментальной медицины и дали лабораторию.
Уже в 1939 г. этот инвалид устроил грандиозную экспедицию на Урал, где нашел энцефалитного клеща. Более того, он установил, что клещи передают вирус по наследству своим личинкам. Это значило, что болезнь гнездится в природных очагах. Нужно было составить карту энцефалитной опасности в СССР и соседних странах, чтобы знать, где нельзя без подготовки начинать большое строительство.
За это Чумаков получил Сталинскую премию 1-й степени и квартиру в Москве, в новом доме на улице Чкалова. Правда, его тут же уплотнили: в двух комнатах поселился новый любимчик вождя Андрей Громыко, который готовился стать послом в США. Соседи подружились, и, уезжая за границу, Громыко оставил Чумаковым ключи от своих комнат.
Чумаков совершал подвиг за подвигом: в 1942 г. поборол вспышку энцефалита на Волховском фронте, в 1944-м занялся другой эпидемией в войсках – среди участников освобождения Крыма. Это была неизвестная прежде болезнь, «крымская Эбола», которую затем нашли также в Конго и назвали конго-крымской геморрагической лихорадкой. Тогда Чумаков опять рисковал жизнью, но на сей раз обошлось. За громкое открытие его сделали директором Института вирусологии.
Однако в январе 1953 г. он лишился этой должности. Из-за «дела врачей» повсюду стали избавляться от сотрудников с «неправильными фамилиями». Спустили разнарядку и Чумакову – минимум трех, с указанием имен. Он отказался, за что был уволен и положил партбилет на стол. Попытки найти еврейские корни у сына епифанского мещанина и украинской крестьянки оказались бесплодны, поэтому Чумакову не запретили заниматься наукой. Ему разрешали приходить в институт и работать. На два года его сфера деятельности ограничилась Московской областью. Но он и здесь обнаружил клещевой энцефалит. Мало того, установил, что дачники заражаются как от укуса клеща, так и через молоко энцефалитных коз.
В 1955 г. инфекции вторглись в большую политику. Прибалтийские республики охватила эпидемия полиомиелита. Уже пошли разговоры, что советская власть неспособна одолеть вирус. Соседняя Польша вовсю бунтовала. Не хватало еще, чтобы волнения перекинулись на территорию СССР. Чумаков довел эту мысль до Громыко – без пяти минут министра, тот организовал ему разговор с Микояном, отвечавшим в ЦК за питание и здоровье населения. Будто из-под земли вырос для Чумакова Институт полиомиелита. Как Михаил Петрович одолел эту страшную болезнь – отдельная грандиозная сага. Покончив с полиомиелитом, он опять взялся за личного врага – энцефалит.
Технологии уже позволяли сделать живую вакцину. В 1960-х гг. вирусологи занялись Кемеровской областью, самым важным промышленным районом Сибири. Сочетая массовую вакцинацию с обработкой лесов дустом, энцефалит в Кузбассе уничтожили. Параллельно Чумаков готовил вакцину от кори, чтобы прекратить эпидемию на Украине. Но в последний момент министр здравоохранения Борис Петровский, однокашник Чумакова по институту, закрыл украинскую программу. Михаил Петрович сказал ему прямо на коллегии: «Много дураков видал я в этом кресле, но такого, как ты, Боря, вижу впервые». Чумаков не понимал, что произошло с властью. Он считал, что оппоненты не думают о всеобщем благе по глупости, а перед ним были бюрократы, для которых главное – стабильность, штат и бюджет. Дерзкого Чумакова понизили с должности директора института до зама по науке, но он еще был нужен: партия строила БАМ. В природном очаге энцефалита собрали десятки тысяч строителей со всего Союза. Иммунизации в родных местах они не проходили, а на месте прививаться не хотели: «Зачем это?» Начальство командовало, но его больше не слушались. Былого страха не стало. В любой момент могла вспыхнуть эпидемия, чреватая чудовищным скандалом.
Тогда Чумаков двинулся по трассе БАМа во главе бригады, вооруженной безыгольными инъекторами. Их взяли у военных. Теперь мы знаем, что лучшего инструмента не найти: при подкожной иммунизации вакцина контактирует с антигенпредставляющими клетками. Тогда же это была догадка Чумакова. На первой остановке во время обеда Михаил Петрович пришел в столовую поселка Звёздный и рассказал строителям историю своей болезни. Да так красноречиво, что мужики потеряли аппетит. На следующий день они организованно, под началом бригадиров, пришли на прививку. В других поселках трудностей с вакцинацией не возникло.
Всеобщей радости по поводу перестройки Чумаков не разделял. Он видел, что «русскую планету» постигла катастрофа: власть больше ничего не хочет от ученых, не финансирует их и не защищает от карьеристов. Даже главное достижение – свобода выезда из страны – не к добру. Уезжали один за другим и любимые ученики Чумакова, и родные дети. Когда очередной «отъезжант» приходил к легендарному вирусологу за рекомендацией, то выслушивал гневную речь об измене Родине. А потом Чумаков писал и звонил в Америку, добывая для своего питомца хорошую работу в США. Там после истории с полиомиелитом его слово открывало любые двери, а друзей было куда больше, чем в Москве. После одного такого прощания Чумаков приказал убрать из своего кабинета портрет Горбачёва со словами: «Снимите эту гадину».
Научный интерес для него, как ни странно, представляло ухудшение собственного здоровья. Ноги отнялись, он больше не мог поднести ложку ко рту, осталась только речь и способность пить через соломинку. «Это энцефалит, я узнаю его, – говорил Чумаков, – вылез на фоне старческого ослабления иммунитета». В центральной нервной системе активизировался вирус, и пошел прогрессирующий процесс. Значит, вирус не исчезает, а ждет, пока носитель ослабнет. Уникальный случай – известна дата заражения, и пациент все время под наблюдением. Раз отнимаются руки и ноги, вирус надо искать в сохранных участках двигательной коры головного мозга. Чумаков завещал сотрудникам исследовать свой мозг: это будет важный эксперимент.
Когда Михаил Петрович в 1993 г. умер от пневмонии, его мозг увезли в институт, который ныне носит имя Чумакова. ПЦР обнаружила молекулы РНК вируса клещевого энцефалита – их нашли именно там, где было предсказано. Чумаков снова угадал.
72 Клиническое применение антибиотиков Говард Флори 1940 год
25 мая 1940 г. в Оксфорде патолог Говард Флори поставил решающий опыт: зараженные смертельной инфекцией мыши были вылечены первым антибиотиком – пенициллином. В нарушение всех традиций эксперимент проводился в субботу. Накануне пришло известие, что вермахт окружил британские войска во Франции и Бельгии, прижав их к морю у Дюнкерка. Дело принимало серьезный оборот – война обещала стать долгой и кровавой. Нужно было как можно быстрее испытать антибиотики, чтобы начать лечение септических раненых. И Флори отменил выходные до конца войны.
В Дюнкерке была блокирована самая боеспособная и опытная часть британской армии – почти 400 тысяч человек. Враг приостановил наступление и без всякой спешки методично истреблял их огнем артиллерии и бомбежкой. Узнав об этом, британцы, имевшие частные яхты и катера, двинулись на своих судах к Дюнкерку. Вместе с военно-морским флотом они эвакуировали более 300 тысяч британских и французских солдат. По пути суденышки подвергались атакам подводных лодок, их крушили бомбардировщики и подстерегали разбросанные с самолетов мины. Но они достигали Англии и возвращались в Дюнкерк, пока там было кого спасать.
Правительство не приказывало им выручать армию, как и не приказывало Флори заниматься пенициллином. Мало того, оно и не финансировало его работу в самый трудный период, так что решающая часть исследования была выполнена на иностранный грант.
Вначале была случайная встреча в коридоре. Флори заведовал кафедрой патологии в Оксфордском университете. Сотрудник Флори биохимик Эрнст Борис Чейн под новый, 1939 год столкнулся в коридоре с микробиологами, которые несли к себе в лабораторию плесень. Оказалось, это образец организма Penicillium notatum, который вырабатывает пенициллин. В 1928 г. именитый врач Александр Флеминг из лондонской больницы Сент-Мэри заметил, что плесень пеницилл выделяет яд, который убивает стафилококки и стрептококки, но не действует на гемофильную палочку. Флеминг назвал это избирательное оружие плесени пенициллином. Применялся он в лабораториях для изоляции гемофильной палочки, пока Чейн не решил выделить его в чистом виде. Эта задача увлекла биохимика своей сложностью: капризный пенициллин нужно экстрагировать в холоде и отгонять под вакуумом, следя за кислотностью среды. Здесь требуется аппаратура, на которую университет не давал денег, отговариваясь срочным ремонтом центрального отопления.
Когда в 1939 г. началась война, Флори написал заявки на гранты своему правительству и в Рокфеллеровский фонд в Нью-Йорке. В заявках он немного сблефовал, на основании одной интуиции утверждая, будто пенициллин не ядовит и у него есть клинические перспективы. Правительство дало 25 фунтов, а Рокфеллер – 1670 фунтов только на зарплаты в течение 5 лет, 600 фунтов на дополнительного биохимика, 500 на химикаты и еще 1000 на опыты с самим пенициллином. Едва Чейн в марте 1940 г. выделил первые миллиграммы пенициллина (не слишком чистого), его тут же вкололи мышам и вздохнули с облегчением: антибиотик действительно оказался не токсичен.
Накануне Дюнкеркской операции Флори ввел восьми мышам стрептококк, вызывающий послеродовой сепсис. Четырех мышей (группу C) приговорили, двум (группе B) ввели разовую дозу, а еще двум (группе A) делали регулярные инъекции пенициллина. Группа C издохла ночью, группа B – через день, группа A чувствовала себя великолепно.
Результат эксперимента был описан в номере журнала The Lancet от 24 августа 1940 г. Статью заметили трое ученых – Александр Флеминг в Лондоне, Мартин Доусон в Нью-Йорке и Зинаида Ермольева в Москве.
Флеминг приехал в Оксфорд посмотреть, как выглядит открытый им пенициллин. Удивленный Флори говорил потом: «Надо же, я думал, он давно умер». Гость внимательно слушал пояснения о методах очистки, но так ничего и не понял.
Доусон в нью-йоркской Пресвитерианской больнице ввел нативный пенициллин (концентрат питательной среды, на которой росла плесень) больному, умиравшему от эндокардита. Пациента не спас, но заметил, что пенициллин не ядовит для человека.
Ермольева увидела перевод статьи только летом 1941-го, когда Москву уже бомбили. Через Наркомздрав она запросила у союзников штамм плесени, но британское правительство отмалчивалось. Оно понятия не имело, что делает Флори.
А Флори меж тем превратил свою кафедру в пенициллиновую фабрику, несмотря на бомбардировки и ночные дежурства на крыше. Все свободные поверхности были уставлены сосудами с плесенью. Своих детей Флори отправил к друзьям в США, а его жена Этель поступила в травмпункт больницы Джона Рэдклиффа медсестрой. Если бы не она, пенициллин могли вообще не внедрить, потому что Этель обеспечила исследователям доступ к больным.
Первым 12 февраля 1941 г. стал констебль, который порезался шипом розы, подстригая живую изгородь. Он уже месяц лежал в больнице. Считался безнадежным: все лицо воспалено, оба глаза пришлось удалить. Пенициллина хватало на три полноценные инъекции. Приходилось извлекать неусвоенный организмом антибиотик из мочи пациента. Каждый раз так удавалось выручить до половины введенного пенициллина. На пятый день все 4,4 грамма пенициллина закончились. Констеблю стало лучше. Он продержался еще месяц, но новая инфекция вызвала пневмонию, и 15 марта пациент скончался.
Дальше были успехи. 14-летний мальчик, повредивший ногу; 6-месячный младенец с уретритом – первый больной, принимавший пенициллин перорально. Наконец, сам Флори, заразившись стрептококком, вылечил фарингит полосканием горла пенициллином. Как он сказал, «на вкус отвратительно, но работает». Было необходимо расширять производство, но вне кафедры Флори не мог гарантировать, что технология не попадет к противнику. Правительство отказалось обеспечивать безопасность, и стало ясно, что пора перебираться в США – отчитаться за грант и организовать выпуск пенициллина в промышленных масштабах. Ученые хотели было запатентовать пенициллин, но правительство отказало им и в этом: «Люди заплатили за исследование, и они должны воспользоваться его плодами». Флори согласился: не до роялти, когда война. Чейн сказал, что это идиотизм, и при первой же возможности покинул команду.
Если в Англии продукты давали по карточкам и найти питательную среду для плесени было проблемой, то в Америке имелась идеальная дармовая питательная среда – «кукурузный ликер». Это барда, оставшаяся после экстракции кукурузного крахмала. Миллионы тонн такого «ликера» просто выливали как отходы, не зная, что с ними делать. Как только на барде стали выращивать плесень, американская правительственная комиссия предложила компаниям «большой фармы» выпускать пенициллин. Компании согласились при условии, что правительство за счет бюджета построит и подарит им заводы. Одновременно на бюджетные деньги развивали технологию, да так, что в 1944 г. пенициллин стоил уже в 1000 раз дешевле, чем в 1943-м.
В Англии дело сдвинул с мертвой точки Флеминг. 5 августа 1942 г. он позвонил Флори и спросил, как вылечить друга, заболевшего менингитом и уже лежавшего в коме. Флори приехал в больницу Сент-Мэри, обучил Флеминга дозированию и сказал, что вводить надо в спинномозговой канал. Старик сначала упрямился – «яйца курицу не учат» – и колол внутримышечно, но толку не было, так как препарат не проходил в спинной мозг, где лютовали стрептококки. Наконец Флеминг решился и 11 августа сделал первую в мире интралюмбальную инъекцию антибиотика. Через несколько дней больной был выписан совершенно здоровым.
Теперь Флемингу было чем похвастаться, и он стал рассказывать об этом случае своим влиятельным друзьям из кабинета министров. 25 сентября глава Департамента снабжения призвал группу Флори и заявил: «Джентльмены, правительство предоставит вам любые нужные средства». Оксфордский заводик был тогда единственным производителем пенициллина в Англии, и его продукции едва хватало, чтобы стерилизовать ожоговые раны самых ценных воинов – пилотов и механиков ВВС. Год спустя у союзников было достаточно антибиотика для обеспечения всех раненых во время высадки на Сицилии. На Тегеранской конференции Сталин попросил Черчилля командировать в Москву Флори с образцом его пенициллина.
К тому времени Советский Союз уже производил собственный антибиотик. Пишут, будто образец целительной плесени соскребли со стенки бомбоубежища во время воздушной тревоги. Это вранье. Помощница Ермольевой Тамара Балезина, которая получила первый советский пенициллин в Институте экспериментальной медицины, рассказывала, что взяла плесень, которая поразила культуру вредоносной бактерии, выращенной в соседней «военной» лаборатории. И не в бомбоубежище, а на втором этаже здания на Воронцовом Поле, где ныне помещается посольство Индии. Та плесень принадлежала к виду Penicillium crustosum, так что советский антибиотик носил название пенициллин-крустозин.
Флори прилетел в Москву в феврале 1944 г. Хирург Иван Руфанов в больнице Медсантруд (позднее ГКБ № 23, ныне имени Давыдовского) устроил сравнительные испытания британского и советского пенициллинов. Пишут, будто советский оказался лучше. И это также вранье. При одинаковом клиническом эффекте доза крустозина была на 10–15 % выше. А это имело значение при тогдашних стаканных объемах разовых инъекций. Кроме того, советские врачи не владели методикой быстрой идентификации возбудителя и проверки его на чувствительность к антибиотику. Здесь Флори дал мастер-класс. Из достижений гость отметил искусство Галины Улановой (он побывал на балете в Большом театре) и умение советских коллег колоть пенициллин так, чтобы не было больно (союзники к тому времени старались делать повторные инъекции только с прокаином).
Зинаида Ермольева мечтала передать Флори образец своей плесени, чтобы в Англии определили строение крустозина при помощи рентгеноструктурного анализа, которого в СССР не существовало. Занималась этим анализом Дороти Ходжкин, известная своими симпатиями к коммунистам. Несмотря на эти симпатии и на то, что крустозин был менее эффективен, отправить Penicillium crustosum в Англию «компетентные органы» не позволили. Соответствующий сотрудник отобрал у Ермольевой бумажную полоску с плесенью и перетер ее о такую же полоску, полученную в подарок от Флори. Эту полоску и отправили в Англию. Когда дома Флори посмотрел на полоску в микроскоп и увидел свой же notatum, то решил, что русские так и не сумели выделить чистый штамм.
Органам очень хотелось показать бдительность и кого-нибудь посадить за попытку выдать советскую военную тайну, особенно когда Флори выдвинули на соискание Нобелевской премии. Арестовывать Ермольеву, только получившую Сталинскую премию, было как-то неудобно. Поэтому восемь лет за шпионаж дали профессору Вольфу Дорфману – первому советскому врачу, который применил в своей клинической практике пенициллин (сентябрь 1942 г., центральная поликлиника Наркомздрава РСФСР, лечение флегмоны). На свою беду, профессор знал английский язык и выполнял при Ермольевой функции переводчика.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Viacheslav Ermolaev: А что насчет истории с вывозом культуры из Англии в США? Якобы пришлось пропитать ею шерстяной пиджак, так как англичане запретили вывоз? Тоже из разряда легенд?
Ответ: Это не легенда, только было не совсем так. Английское правительство не запрещало вывоз штамма плесени.
Во-первых, флеминговский notatum в Штатах был – его использовал Мартин Доусон 15 октября 1940 г. Другое дело, что у Флори плесень после обработки и селекции была уже иной, более урожайной (давала больше пенициллина).
Во-вторых, исследователи не спрашивали разрешения у правительства, чтобы оно по глупости не запретило.
В-третьих, причина конспирации была иная. Норман Хитли и Флори боялись на пути в США попасть к немцам. Надо было сначала долететь до Лиссабона (27 июня 1941 г.), там четыре дня ожидания, затем перелет с промежуточными посадками на Азорах и Бермудах. Вероятность пленения на таком сложном маршруте – не нулевая. Если гитлеровцы отнесутся к проекту Флори серьезно, могут выследить и захватить. Чтобы в таком случае сказать «при нас ничего нет», Хитли втирал плесень в свой пиджак, а Флори – в плащ. Достаточно было просто не отдавать эту одежду в химчистку. По прибытии у них возникла новая техническая трудность: вытряхнутый из пиджака пеницилл не хотел в Штатах расти так же хорошо, как в Англии. И пока они не нашли в августе 1941-го крахмальную барду и не догадались добавить в нее лактозы, весь замысел оставался под вопросом. Но самый опасный момент – это, конечно, был перелет.
После войны стало известно, что немецкие врачи тоже читали статью в «Ланцете». Но они в 1940-м прониклись шапкозакидательскими настроениями и решили пенициллином не заниматься: там возни года на четыре, а за это время фюрер и так покорит весь мир.
73 УЗИ Карл Дуссик 1941 год
1 мая 1941 г. австрийский психиатр Карл Дуссик сообщил о своих опытах, показавших, что ультразвук можно использовать для диагностики. Это день рождения УЗИ.
Об ультразвуке знали давно, однако применение ему нашлось после того, как 7 мая 1915 г. германская подводная лодка потопила трансатлантический лайнер «Лузитания». Из 1962 пассажиров и членов экипажа выжило только 764. Немцы оправдывались тем, что в трюме парохода перевозили боеприпасы для их противника. С точки зрения военной логистики большая удача: торпеда ценой 25 тысяч франков уничтожила имущества на 30 миллионов.
Константин Васильевич Шиловский (1880–1958) – физик, политэмигрант, бежавший от охранки в 1906 г. и работавший в Париже, – подал французскому правительству проект эхолота. Проект приняли. Шиловский вместе с Полем Ланжевеном (1872–1946) за год сделал излучатель с приемником, способный засечь вражескую подводную лодку за несколько километров. По ходу дела отметили, что рыбы могут погибнуть от ультразвука, и почему-то решили, будто твердые тела его не пропускают.
УЗИ стало возможно, когда нашлись два человека – один открыл проницаемость твердых тел, а другой осмелился просветить ультразвуком свой собственный мозг.
Заблуждение развеял физик Сергей Соколов (1897–1957), который с детства привык не слушаться старших. Он был сыном небогатого крестьянина из села Кряжим Саратовской губернии. С семи лет вместе с родителями ходил пропалывать огород в ближайшем помещичьем имении. Полол плохо, предпочитая лежать на траве с книжкой. Отец за это наказывал, мать молча работала за двоих. Повинна во всем была бабушка Матрёна (мать отца), чьим любимцем был Сергей. Это она выучила ребенка читать и давала с собой книги. По настоянию бабушки любознательный мальчик окончил сначала церковно-приходскую школу, а потом интернат, откуда вышел дипломированным сельским учителем.
Педагогом не работал, потому что заинтересовался электричеством и поступил в Саратовское техническое училище. А оттуда в Гражданскую войну был призван собирать гальванические элементы для радистов Красной армии. Сергей стал комсомольцем и по рабоче-крестьянской квоте легко поступил в петроградский Электротехнический институт (ЭТИ, позднее ЛЭТИ).
Хотя институт освещали невиданные в России лампы дневного света, там не топили, как и во всем Петрограде. Хлеб студентам и преподавателям давали раз в день во время занятий. Зато комсомольская жизнь била ключом на собраниях, где студенты-«гегемоны» ругали студентов из дворян и интеллигенции. Соколов кричал едва ли не громче всех, однако нравились ему только однокурсницы из хороших семей. Одну из них, Валю Ларионову, он попросил объяснить непонятные вопросы электротехники. Закончилось свадьбой.
Привести в общежитие девушку, выросшую в отдельной квартире, было немыслимо. Чтобы снять комнату, Соколов нашел заработок – ходил по квартирам и делал электропроводку. А наладив электроснабжение бани, впервые почувствовал себя обеспеченным.
Когда молодожены въехали в съемную комнату на Каменноостровском, 73, оказалось, что в соседней квартире живет великий физик Леонид Мандельштам (1879–1944). Сергей попросился к нему в Центральную радиолабораторию. Мандельштам написал условия сложной задачи и дал на решение три дня. Соколов вышел на лестничную клетку, прямо на подоконнике решил и тут же вернулся. Ему сразу ответили: «Оформляйтесь».
Был у Мандельштама сотрудник, учившийся у Ланжевена. Ожидали, что он сумеет склеить из кристаллов кварца такой же излучатель ультразвука, как у французов. А сотрудник не сумел подобрать состав клея. Дело поручили Соколову. Тот долго колдовал, но справился. И начал играть: решил замерить, как быстро затухает ультразвук в твердом теле. На ветвях деревьев парка ЛЭТИ развесили до 800 метров проводов – ультразвук по ним прекрасно проходил. Затухал там, где в металле были раковины.
Тогда Соколову пришло в голову положить стальной лист на излучатель и залить сверху маслом. Проходящий через сталь ультразвук вызывает на поверхности масла рябь – везде, кроме как над пустотами в металле. Так возникло звуковидение.
В 1937 г. венский психиатр Карл Тео Дуссик (1908–1968) случайно прочел пересказ статьи Соколова. Дуссик наткнулся на реферат, перекладывая книги своего младшего брата Фридриха (1910–1988), начинающего физика. И подумал, что опухоли мозга тоже отличаются по свойствам от здоровых тканей, так что дефектоскопия должна их обнаружить. Но как подставить голову под луч, от которого дохнет рыба?
Психиатры того времени меньше других врачей боялись сильных воздействий на мозг. Тот же Дуссик был авторитетом в использовании инсулинового шока как средства от шизофрении: больного погружали в искусственную гипогликемическую кому (метод опасный и малоэффективный, впоследствии от него отказались). Почему бы не попробовать еще и ультразвук? Дуссик, преподававший на медицинском факультете Венского университета, заказал на соседнем физическом факультете испытательную установку вроде соколовского дефектоскопа. Пока ее строили, случился аншлюс: Австрию присоединила нацистская Германия.
Порядки в университете установились фашистские. Сразу вспомнили, что отец Дуссика, зубной врач из Чехии, – «расово неполноценный славянин», и Карл Тео вылетел со своей профессорской должности. Обиделся, уехал из Третьего рейха в США, где психиатры Венской школы весьма ценились. Но ненадолго.
Во-первых, дома остался младший брат Фридрих Дуссик, который тоже потерял работу. Только защитил диссертацию о константе распада тория, как нацисты закрыли для «расово неполноценных» всякую тематику по ядерной энергии. Но и выпускать не хотели, так что Фридрих лишился средств к существованию.
Во-вторых, от расовых репрессий бежало две трети венских врачей. Докторам теперь в Вене платили щедро, как в Штатах. И если евреев дома ждал концлагерь, то славян – вне стен университета, конечно, – еще готовы были потерпеть. Их звали назад. Карл Дуссик вернулся и стал заведующим Венской неврологической клиникой (после войны это место займет знаменитый психиатр Виктор Франкл).
В своем отделении Дуссик довел до конца задуманный опыт: подставил свой висок под ультразвук частотой 1,5 МГц – и приемник у другого виска зафиксировал ультразвуковой луч, хотя и несколько рассеянный и ослабленный. В ходе опыта Карл Дуссик не ощутил ровным счетом ничего.
Теперь они вместе с братом собрались заработать, выпуская установки для лечения ультразвуком ревматизма, и надеялись получить еще заказ на диагностический прибор. 1 мая 1941 г. Дуссик написал для медицинского журнала статью о своих экспериментах. А когда материал сдали в набор, уже шла война с Советским Союзом и автор значился как «фюрер санитарного подразделения люфтваффе». «Фюрером» он стал не по своей воле: ВВС несли на Востоке потери, в берлинском госпитале для летчиков требовались неврологи, и Дуссика призвали в армию.
Любопытно, что в статье, вышедшей, когда немцы стояли под Москвой, упоминается Соколов. Который как раз в это время поставлял «фюреру» Дуссику пациентов, поскольку на токарном станке в лаборатории ЛЭТИ вытачивал стаканы для зенитных снарядов.
В 1941-м Соколов несколько часов пролежал на Кировском мосту, пока шел обстрел. Затем его как ценного специалиста эвакуировали в Горький. В 1943-м берлинский госпиталь люфтваффе разбомбили, и Дуссика вместе с пациентами отправили в глубокий тыл на курорт Бад-Ишль в больницу Кайзеркроне. После войны там некоторое время был американский военный госпиталь, а затем государственная больница, где в 1946 г. братья Дуссик вернулись к своим опытам.
Голову пациента погружали в ванну с водой, высовывался только нос. Затем сканировали в двух плоскостях, передвигая датчик. Приемник с другой стороны головы улавливал измененный ультразвук, перепады мощности которого меняли яркость свечения электрической лампочки. Эти изменения фиксировала фотобумага на вращающемся барабане. Так состоялось первое в истории ультразвуковое сканирование человеческого тела. Карл Дуссик провел его на себе летом 1946 г. Там, где на снимке должны были находиться заполненные ликвором желудочки, действительно помещалось темное пятно.
Братья обрадовались и просветили мозг 34-летней пациентки, которая с трех лет страдала эпилептическими припадками. В теменной доле зафиксировали странное крестовидное затемнение. Заведующий хирургическим отделением доктор Крюгер выполнил операцию и обнаружил плоскую опухоль – астроцитому, которую не могли выявить ни ангиография, ни ЭЭГ. Больная полностью выздоровела.
После 300 опытов с УЗИ, которое Дуссик назвал «гиперфонографией», в 1947 г. вышло сообщение с резюме на трех языках. В Бад-Ишль прибыли американские военные врачи из штаба оккупационных войск. Опыт переделали в США. Оказалось, что темные пятна при таком сканировании возникают не из-за опухолей, а оттого, что кости черепа везде имеют разную толщину и поглощают звуковые колебания неравномерно. «Патологическая картина» и «тени желудочков» наблюдались даже на пустом черепе, без всякого мозга.
Зато отраженный ультразвук давал весьма ценные результаты. Опухоли действительно отражают звуковые волны сильнее здоровых тканей. Но установки были необычайно громоздкими: чтобы звуковая волна не терялась в воздухе, пациент погружался в ванну с водой, держа в руках огромный излучатель.
Знакомый всем посетителям кабинета УЗИ датчик-трансдьюсер создал тот же Соколов. Задумывалось это устройство как ультразвуковой микроскоп размером с ручной фонарик. В 1955 г. на конгрессе в Брюсселе изобретатель так объяснил его устройство: «Узкий пучок ультразвуковых лучей, испускаемых пьезоэлектрической кварцевой пластинкой, “освещает” рассматриваемый предмет. Рассеянные предметом лучи проходят через акустическую линзу, собираются ею и попадают на приемную пластинку…»
К тому времени Соколов, необычайно удачливый в науке, чувствовал себя плохо. Внедрив контроль качества на оборонных заводах, он из ученого стал администратором, все время которого уходило на то, чтобы доставать, добывать и выбивать. Министры ненавидели Соколова, потому что его дефектоскопы выявляли много брака и мешали выполнять план.
Когда неприятности подорвали здоровье Сергея Яковлевича, он обратил внимание на медицину. Сначала сконструировал ультразвуковой небулайзер – распылитель для ввода лекарств в носоглотку больных астмой. Потом задумал трансдьюсер и рвался доложить о нем в Брюсселе, хотя врачи запретили ему лететь самолетом, пугая острой сердечной недостаточностью. Тем не менее Соколов слетал, вернулся очень довольный – и немедленно попал в больницу. Он и там проводил совещания своей кафедры, приговаривая: «Так много дел, а я лежу. Вот поправлюсь, стану помогать медикам, я уже кое-что придумал!»
Не в силах вынести больничный режим, Соколов отпросился домой. Врачи давали ему всего несколько дней, но он прожил еще полгода, пока 20 мая 1957 г. не умер от остановки сердца. Ожидая машину, которая должна была везти его в лабораторию.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Олександр Риков: Паровоз изобрел Черепанов, автомат АК – Калашников, первую советскую баллистическую ракету – Королёв, первую советскую атомную бомбу – Курчатов.
Ответ: Вы приводите случаи, когда отечественные специалисты либо копировали западную технику, либо создавали ее при прямом участии западных коллег. Это не про Соколова. Если открыть немецкий журнал[10], то там сказано, что Соколов первым применил ультразвуковую дефектоскопию на практике. Напечатано в 1942 г., когда признавать советские достижения в чем бы то ни было немцы избегали. А тут им деваться было некуда: к тому времени Соколов оформил германский, французский и американский патенты на дефектоскоп.
Олександр Риков: Спасибо за информацию.
Ответ: Примечательно, что госпропаганда, орущая, будто мы все на свете изобрели и «можем повторить», обходит стороной тех русских ученых, чей приоритет никем за границей не оспаривается. Из наших героев так вышло с Коротковым и Соколовым. Ни в Петербурге, ни на малой родине того и другого – соответственно в Курске и Саратове – нет улиц Короткова и Соколова. Украинские пользователи сообщают, что там в отношении великих земляков было так же, но положение меняется. С 2016 г. есть в Бердянске улица Хавкина. В Одессе тоже есть, только это переулок, где и асфальт не везде. Умолчание о настоящих первооткрывателях объясняется, видимо, тем, что начальство не заказывало Короткову измерить нижнее давление, а Соколову – собрать дефектоскоп. Пропаганда внушает населению, что все хорошее на свете совершается по приказу свыше. Если же мы пороха не выдумали, то лишь потому, что нам это не было поручено.
74 Гемодиализ Виллем Колф 1943 год
17 марта 1943 г. голландский терапевт Виллем Колф начал лечение первого в мире пациента с почечной недостаточностью, чье состояние удалось облегчить при помощи гемодиализа. Это день рождения искусственной почки. Началась ее история с боязни говорить о смерти, а закончилась успехом вопреки вражеской оккупации, военному дефициту лекарств и смертельному риску, которому подвергал себя доктор Колф.
Глядя на своего отца – директора туберкулезного санатория, Виллем не хотел быть врачом. Все видели торжество, с каким доктор выписывает выздоравливающих, но только домашние знали, каково ему, когда больной умирает и нужно сообщить родным. Виллему казалось, что сам он не вынесет такого разговора с родственниками пациента.
Поэтому, когда природная склонность к медицине все же победила и Колф окончил Лейденский университет, он стал искать какую-нибудь кафедру, где можно вести научную работу с чужими пациентами. Однако к 27 годам он успел жениться. Профессора не хотели брать семейного аспиранта, отговариваясь тем, что «доктор должен быть доступен 24 часа в сутки». Согласился один только Лео Полак Даниелс из Гронингенского университета. Этот единственный в Нидерландах профессор медицины – еврей считался человеком эксцентричным. Даниелс любил свою жену-голландку и уважал тех, кто рано женится и притом хочет заниматься наукой. Собственных тем он аспирантам не навязывал, но за какое-то минимальное количество больных молодые люди должны были отвечать.
Колфу выделили четыре койки. На одной из них лежал 22-летний деревенский парень по имени Ян Брюнинг. Он медленно умирал от уремии со всеми ее ужасными симптомами – запредельным давлением, головной болью, потерей сознания, рвотой, слепотой. После смерти Брюнинга молодого доктора ждал тот самый кошмар, которого он так стремился избежать: пришла мать пациента, старая крестьянка в строгом черном платье с белым воротничком, и нужно было рассказать ей о смерти сына.
Колфа угнетало бессилие медицины. Больной погиб из-за лишних 20 граммов мочевины, скопившихся в его крови после отказа почек. Как же так: осень 1938 г., почечную недостаточность описали век тому назад, а врачи до сих пор не научились выводить шлак из крови? Принцип очистки предложил еще в 1861 г. Томас Грэм (1805–1869). Когда кровь уремического больного налита в мешочек из полупроницаемой мембраны (например, в бычий пузырь) и этот мешочек опускают в соляной раствор, то мембрана тут же начинает восстанавливать справедливость: с одной стороны мочевина есть, с другой нет, надо уравнять концентрацию. А если соляного раствора снаружи много – целый бассейн, то содержание мочевины в крови опустится почти до нуля. Грэм назвал это явление «диализ».
Диализ крови – гемодиализ – делали собакам еще в 1910 г., но животные плохо переносят эту процедуру. Немецкий врач Георг Хаас в 1920-х гг. установил, что люди выдерживают ее гораздо лучше, свертывание крови вне организма предотвращается гепарином, но даже в ходе самого удачного эксперимента Хаас убрал из тела больного только два грамма мочевины. Колф прочел также, что лучшая полупроницаемая мембрана – это целлофан, в который упаковывают сосиски.
В Голландии как раз распространилась мода на хот-доги. Сосиски для них готовили в американском целлофане фирмы Visking. Он был прочен и дешев. Колф добавил мочевину в кровь, которую налил в целлофановую трубочку. Получилась «сосиска» длиной 40 сантиметров. Достаточно 20 минут полоскать эту «сосиску» в физрастворе, чтобы вся мочевина вышла. Для полной очистки крови взрослого человека должно хватить 10 метров целлофановой трубочки. Колф придумал намотать ее на барабан, который вращается в ванне с раствором. Профессор Даниелс приветствовал эти эксперименты и отпускал на них средства, пока Голландию не захватили гитлеровские войска.
Евреям запретили занимать любые должности. Когда стали сгонять в гетто, Даниелс и его жена приняли яд. Новым профессором назначили голландского национал-социалиста. Слушаться его Колф не желал и нанялся терапевтом в больницу города Кампен. Его прельстила зарплата в 10 000 гульденов (3000 долларов) в год. На такие деньги можно было самостоятельно построить искусственную почку. Правда, за это он работал единственным терапевтом на 23 000 жителей Кампена, зато главный врач разрешал экспериментировать по ночам.
Колф скупил в столице все запасы американской целлофановой ленты для сосисок и осенью 1942 г. заказал свой аппарат на кампенской фабрике эмалированной посуды BK. Там сделали бак и легкий нержавеющий барабан из дюралевых обломков сбитого в 1940 г. немецкого бомбардировщика. Поскольку все предприятия оккупированной Голландии должны были работать только на вермахт, оказалось, что выставить счет за свою машину фабрика не может, – Колф так и не сумел оплатить эту работу. В качестве компенсации директор BK Хендрик Берк стал соавтором первых статей о гемодиализе и так вошел в историю медицины.
Барабан приводился в движение мотором от швейной машинки «Зингер», который на первом же диализе отказал. Жена Колфа Янке 15 минут вращала барабан вручную, пока не повредился целлофан. Из разрыва кровь сочилась в бак, где барабан моментально сбил ее в пену, которая хлынула на пол. С тех пор на полу в палате 12А лежали тут и там кафельные плитки, чтобы по ним можно было добежать до диализатора, как по камушкам, не выпачкавшись кровью.
«Нулевой» уремический пациент – забытый при депортации в Освенцим старый еврей Гюстав Буле – после той неудачной процедуры так и не вышел из комы. Без опроса больного судить о клиническом эффекте диализа невозможно. Случай оценить его представился 17 марта 1943-го.
Одна из последних не реквизированных немцами машин скорой привезла 29-летнюю уборщицу Янни Скрейвер. С ней приехал отец, пожилой крестьянин.
Как это бывает при гломерулонефрите, больная попала на диализ от специалиста совсем иного профиля. Янни пришла к офтальмологу, жалуясь на пониженное зрение. Окулист направил ее к терапевту. За три месяца наблюдения самочувствие девушки быстро ухудшалось. К 17 марта отекшие веки почти закрыли глаза; давление – 245/150, пульс – 100, шумы в сердце указывали на воспаление перикарда, постоянная рвота, носовые кровотечения и такая боль в груди, как будто сверху лежат камни. Содержание мочевины в крови стремительно росло, гемоглобин падал, изо рта пахло мочой. Янни не совсем понимала, где она и что с ней будут делать. Согласие на процедуру нужно было просить у ее отца.
Доктор вывел старика за порог и попытался описать все как можно проще:
– Кровь Янни отравлена. Мы отберем часть крови, очистим от яда в машине и вернем обратно. Если вы согласитесь, обещаю, ничего страшного с ней не произойдет.
– Я вам верю. Но ей точно станет лучше?
– Этого я гарантировать не могу.
– Тогда пусть сначала придет пастор. А потом – давайте.
После того как пастор Гастман поговорил с больной наедине, ее отвезли в палату 12А. Там Колф отобрал из лучевой вены 200 миллилитров крови и залил в барабан, впрыснув туда же гепарин. Темная кровь при контакте с воздухом быстро покраснела – из этого наблюдения родилась идея искусственных легких. 22-минутный диализ прошел без ЧП. В отдиализированном стакане крови концентрация мочевины упала с 172 до 5 мг/куб. см. Но это был всего лишь стакан.
И все-таки на следующее утро Янни сказала, что чувствует себя намного лучше. У нее появилась надежда. Объективных улучшений не наблюдалось – давление высокое, содержание мочевины медленно растет. Но хуже точно не стало. Через два дня – второй диализ, уже литр крови, еще через три дня – третий, полтора литра. Давление немного снизилось, но мочевина неумолимо росла, а больная испытывала те же мучения.
На седьмой раз, 31 марта, Колф решил изменить ситуацию радикально, подключив девушку к аппарату напрямую. В бедренную артерию была введена игла, по резиновой трубочке кровь поступала в аппарат, откуда возвращалась через другую иглу в вену. Вся диализная группа – сестра Мария тер Велле, техник Боб ван Нордвейк и сам Колф – ощущала, что делается нечто невиданное. За несколько часов через аппарат прошло 12 литров крови, давление ненадолго нормализовалось, и удалось извлечь сразу 24 грамма мочевины.
Все шло хорошо, пока из артерии не вынули иглу. Из-за гепарина кровь никак не останавливалась, и жгут не помогал. Спас девушку хирург, перевязав артерию. Зато на следующий день спал отек век. К Янни вернулось полноценное зрение, теперь она могла читать газету, и ее уже не так часто рвало. Следующие диализы, при которых в сосуды вместо ржавых игл вводились стеклянные канюли, прошли еще удачнее. Но к двенадцатой процедуре все крупные вены и артерии были так изрезаны, что не осталось больше живого места для подсоединения.
Пришлось прекратить лечение и оставить девушку, которую четырежды выводили из уремической комы, наедине с болезнью. Самоотравление продолжилось, и 12 апреля наступила смерть. После вскрытия Колфа стала терзать совесть. Не заигрался ли он, как выражается его главврач? К чему были эти 26 дней напряжения, если больная почти все это время страдала?
16 апреля в дверь постучал отец Янни:
– Доктор, вы сделали все, что могли, и я пришел сказать вам спасибо.
– Не стоит благодарности. К сожалению, мне мало что удалось.
– Нет, стоит! Сколько я вам должен?
Колф отказался от денег и пробовал сбежать, но старик настаивал. Наконец Виллем назвал сумму 60 гульденов – свой двухдневный заработок. Крестьянин отсчитал деньги и поехал хоронить дочь.
Безуспешных попыток спасти кого-нибудь с помощью диализа Колф предпринял еще 15. Патологии были очень серьезные – рак, отравление сулемой, осложнения после пневмонии и операций. Почти все эти люди сейчас были бы спасены; но у Колфа не было ни придуманных позднее шунтов, ни антибиотиков, ни нормальных игл; американский целлофан закончился, а купленный на черном рынке немецкий трескался еще при наматывании.
К осени 1944 г. стало совсем не до диализа: немцы привезли в Кампен 30 тысяч человек – кого угоняли на работы в Германию, кого заставляли рыть окопы. Всех их надо было осмотреть, а кого-то и лечить. За последнюю военную осень и зиму Колф как терапевт выдал липовые справки для избавления от работ 803 «симулянтам». Он ходил по краю: немецкий военный врач иногда проверял его диагнозы. Мало того, в кампенской больнице еще и готовили покушение на шефа местного гестапо, а также лечили раненых из боевых ячеек голландского Сопротивления.
Наконец война завершилась, и в казармах вместо насильно угоняемых в Германию оказались под стражей голландские фашисты и коллаборационисты. Одна из них, 67-летняя София Схафстадт, попала в палату 12А с острой почечной недостаточностью. Она была 17-я по счету диализная пациентка. Ее уже списали как безнадежную, доставили почти в коме, с давлением 250/160. Она только похрапывала и реагировала исключительно на сильную боль.
После 11 часов диализа давление и мочевина пришли в норму. Врачам показалось, что веки пациентки задрожали. Виллем Колф наклонился над ней и спросил:
– Госпожа Схафстадт, вы меня слышите?
Она медленно открыла глаза и ответила:
– Теперь я разведусь с мужем.
На следующий день ее почки заработали. Это была сенсация. Впервые в истории человека после уремической комы выписывали как полностью здорового. Но из больницы старую нацистку возвращали в тюрьму, тогда как Колфу надо было выхаживать ее и наблюдать как выдающийся медицинский феномен.
По счастью, глава местной боевой дружины Сопротивления Йо Аудсхорн когда-то получил от Колфа спасительную справку. Он отдал доктору старушку, которую полгода назад застрелил бы не задумываясь. Госпожа Схафстадт действительно развелась. Она переехала в другой город, где о ее преступлениях не знали, опять стала кататься на велосипеде и умерла семь лет спустя от патологии, не связанной с почками.
По ее истории болезни Колф защитил диссертацию и стал профессором. Первая же его лекция называлась «Как жить без почек и сердца». Обе эти фантастические идеи он лично воплотил в жизнь.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Yulia Oshalik: Как он ее вылечил раз и навсегда? Ведь сейчас те, кому положен диализ, делают его раз в какое-то время…
Ответ: Если хроническая почечная недостаточность, то так и есть. А вот когда недостаточность острая: у раненых после потери крови, у жертв отравителей, при побочном действии лекарств, как у этой старушки (острая почечная недостаточность, ОПН), – тогда может и одного диализа хватить. Дальше включаются собственные почки, если повреждены они не фатально.
Влад Богос: У меня сосед, алкоголик, отказали почки. Несколько месяцев провел в больнице на диализе. Включились почки, и уже лет 20 живет и пьет каждый день.
Maria Houtchens: Д-р Колф на удивление скромный и спокойный человек, и мало кто знал подробности его, без преувеличения, великого достижения… Во всех больницах мира стоят машины диализа и дают/продлевают жизнь миллионам. Спасибо за рассказ о нем. Он умер в 2009 г. в возрасте 97 лет и сохранил здравый ум до последнего.
Ответ: Да, он герой целых трех наших историй. По подсчетам американских нефрологов, за время его жизни на программном диализе жило 30 миллионов человек. Если бы не он, их ждала бы уремия и мучительная смерть.
Anna Kiriluk: Это ж надо – всю жизнь, по сути, терпеть ненавистного мужа и только из-за такого кризиса решиться! А сколько таких женщин?
Ответ: Ага, развестись с мужем, потому что его фамилия в Голландии была на слуху и ассоциировалась с гитлеровским режимом – он считался видным голландским национал-социалистом и коллаборантом. Бедненькая! Как она раньше-то терпела…
75 Противотуберкулезные препараты Зельман Ваксман и Йёрген Леманн 1943 год
19 октября 1943 г. был выделен стрептомицин – первый антибиотик, эффективный при туберкулезе. Не прошло и 10 лет, как эту победу вознаградили Нобелевской премией – но присудили ее не тому, кто получил антибиотик, и не тому, кто начал им лечить.
Лауреат этой премии не был ни врачом, ни физиологом. Он был воплощением американской мечты. Зельман Ваксман, эмигрант, сошедший с парохода без копейки в кармане, стал богат и знаменит на весь мир.
Зельманом он тоже стал в Америке. На родине, в местечке Новая Прилука под Винницей, его звали Золман Яковлевич. Уехал он из Российской империи в 1910 г. Не от погромов уезжал и не от охранки, а оттого, что после смерти матери не желал смотреть на родные места.
Случилось все скоропостижно. 20-летний Золман жил в Одессе с компанией веселых друзей-земляков, готовился поступать в университет. Все они были влюблены в красавицу Машу, каждый сделал ей предложение. И вдруг телеграмма: матери очень плохо. Земский доктор диагностировал кишечную непроходимость. Нужен хирургический стационар. Была ужасная ночь в поезде до Киева, где врачи оперировать отказались: слишком поздно привезли, и вообще это неизлечимо. Две недели мать умирала в муках на глазах у Золмана. Похоронив ее и поставив на могиле памятник, он сел в поезд, идущий за границу.
Поначалу жил в Нью-Джерси на ферме своих дальних родственников. Ваксман хотел стать врачом и подал документы в Колумбийский университет. Но если в Одессе ему было трудно поступить из-за квоты на инородцев, то здесь просто не хватало денег. Можно было позволить себе разве что расположенный поблизости Ратгерский сельскохозяйственный колледж, и то потому, что его студенты жили на ферме бесплатно. Там была специальность «Микробиология» – сравнительно близко к медицине, что примиряло Зельмана с судьбой.
Мир бактерий оказался увлекательным. Внимание Ваксмана привлекли актиномицеты, лучистые грибки, как их называли. Это бактерии, внешне похожие на нити грибницы, отчего их поначалу считали микроскопическими грибами. Самые живучие бактерии почвы: когда случается засуха или отравление гумуса, актиномицеты умирают последними. Логично было предположить, что у них есть оружие против других микробов, которым они побеждают в борьбе за существование, когда места под солнцем перестает хватать на всех. Это оружие Ваксман назвал словом «антибиотики».
Никто до него не систематизировал актиномицеты, огромное количество организмов вовсе не имели названий. Ваксман давал имена, чувствуя себя праотцом Адамом, который некогда нарекал животных и растения. Один из открытых им родов «лучистых грибков» Зельман назвал по их виду «ожерелья-грибки», на латыни – Streptomyces. Выделенный из них антибиотик и есть стрептомицин.
Систематика почвенных бактерий дала Ваксману имя в науке. Он как профессор читал лекции в своем колледже, который стал университетом. Женился на старой знакомой, эмигрировавшей одновременно с ним. К 1924 г. им уже хватало денег на билеты в Европу, и Ваксманы отправились навестить своих в Новой Прилуке.
Зрелище было печальное. Половина домов заброшена или в руинах, люди одеты в лохмотья, разговоры только о вещах и еде. Знакомые бросились к Ваксману, как дети к отцу, который навещает их в больнице. Рыдали, описывая свои несчастья, проклиная разруху, петлюровцев, белых, а пуще всего Чека. Даже красавица Маша поблекла – плакала и говорила то же, что и все. Общий возглас был: «Забери нас отсюда к себе!» Но как забрать? Зельман сам только зацепился в Америке, жил от зарплаты до зарплаты. Чтобы «забрать», нужно стать богатым. Случай представился не сразу.
Когда Ваксман вернулся в Америку, у него появился новый студент – француз Рене Дюбо. Именно он в 1939 г. выделил из почвенных бактерий первый антибиотик. Поскольку это вещество убивало грамположительные бактерии, окрашивавшиеся по методу, предложенному Гансом Кристианом Грамом, Дюбо назвал его «грамицидин», «убийца по Граму». Грамицидин помогал заживлению ран, инфицированных грамположительными бактериями, однако был беспомощен против грамотрицательных. А это были губители рода человеческого, и в их число входила туберкулезная палочка, отнимавшая пять миллионов жизней ежегодно.
Дюбо открыл эру антибиотиков. По всему миру стали изучать антагонизм между почвенными бактериями и туберкулезной палочкой. В Москве юный микробиолог Александра Кореняко обнаружила, что актиномицеты подавляют рост возбудителя туберкулеза. Ваксман понял: пора пускать в дело его коллекцию культур актиномицетов, самую большую в мире – 500 видов, собранных за 25 лет. Расходы по исследованию их свойств брала на себя фармацевтическая компания Merck, взамен требуя исключительные права на патент, если найдется ценный организм.
Многие актиномицеты давали угнетавшие палочку Коха антибиотики, но эти антибиотики были ядовиты. Иногда казалось, что ничего не выйдет, пока студент Альберт Шатц не испробовал мазок, взятый из горла цыпленка. Живший там стрептомицес давал вещество, убивавшее грамотрицательные бактерии и не слишком ядовитое для мышей. Такой же стрептомицес нашли через несколько дней в сильно унавоженной почве. На агаре эта культура никакого антибиотика не вырабатывала. Шатц догадался ввести в питательную среду мясной бульон как замену навозу или слизистой цыпленка – и получил в достаточном количестве стрептомицин.
К нему сразу же проявили интерес ветеринар Уильям Фелдман и терапевт Корвин Хиншоу из клиники Мэйо, самой передовой хирургической больницы США. Фелдман заведовал в Мэйо разведением подопытных животных. Однажды они с Хиншоу возвращались на попутной машине с какого-то совещания в другом городе. Пошел сильный снег, и машина застряла. Разговорились, решили вместе перепробовать все новые антибактериальные препараты, чтобы подобрать наконец лекарство от туберкулеза. Для этого была снята ферма, где разводили морских свинок, которым Фелдман с Хиншоу кололи по очереди то культуру палочек Коха, то антибиотики.
Начальство заметило их отлучки с работы и велело прекратить эксперимент. Но двое продолжали – по ночам, в выходные и отпуске. Хиншоу все время менялся с коллегами часами, чтобы вовремя добраться к своим свинкам. Он уже был под угрозой увольнения, когда получил от компании Merck ваксмановский стрептомицин и начал с ним работать.
Еще до конца испытания стало ясно, что стрептомицин сметает грамотрицательные бактерии без остатка, обладая при этом умеренным побочным действием. Фелдман и Хиншоу приступили к лечению людей. Спасли от туберкулезного менингита маленькую девочку, а 20 ноября 1944 г. вступили в борьбу с настоящей чахоткой. В клиническом санатории от легочного туберкулеза умирала 21-летняя девушка по имени Патрисия Томас. Через четыре месяца после начала лечения, к апрелю 1945-го, она выздоровела полностью. Это выглядело настоящим чудом.
К тому времени подоспело известие об успешном применении стрептомицина при застарелом цистите. Убедившись, что стрептомицин – это серьезно, Ваксман решил пересмотреть контракт с фирмой Merck. Если отдать им исключительные права на патент, компания станет монополистом, антибиотик будет стоить дорого, а ведь большинство чахоточных – люди бедные. Оформив на себя и Шатца патент, Ваксман предложил Джорджу Мерку новую сделку: изобретатели отказываются от роялти (отчислений с продаж от компании), но могут продать права на стрептомицин и другим фирмам. Прикинув объемы будущего производства, Мерк согласился и по щедрости своей тайком от Шатца положил Ратгерскому университету особые роялти, которые выплачивали Ваксману за выдающиеся заслуги. Часть этих денег «отец антибиотиков» возвращал университету на исследования, а на остальные хотел «забрать» к себе земляков из Новой Прилуки.
В августе 1946 г. он прилетел в Москву читать лекции о стрептомицине в Академии наук. И узнал, что забирать ему некого: немцы уничтожили все еврейское население местечка. В живых осталось только трое.
Чтобы утешить Ваксмана, ему показали в нервном отделении клиники педиатрического института на Новокузнецкой 9-летнюю Ниночку – первую в СССР больную, спасенную от туберкулезного менингита его стрептомицином. То был «мерковский» препарат, купленный за бешеные деньги на черном рынке. Ниночка выучила английское стихотворение и продекламировала его умиленному гостю. Ответных комплиментов она не слышала, потому что от побочного действия антибиотика совершенно оглохла.
Были новости и похуже: возбудитель туберкулеза научился переносить стрептомицин. Доктор Фелдман заразился от больного такой резистентной формой. Это было весьма опасно. Например, одновременно с Фелдманом резистентную палочку заполучил писатель Джордж Оруэлл, который, несмотря на инъекции стрептомицина, умер, едва успев закончить свой роман «1984».
Помощь Фелдману пришла с совершенно неожиданной стороны. В том же октябре 1943-го, когда Шатц получил стрептомицин, в шведском городе Мальмё химик Карл-Густав Росдаль синтезировал пара-аминосалициловую кислоту (ПАСК). Идею подал работавший в Швеции датский врач Йёрген Леманн, уже знаменитый тем, что он инъекцией первого антикоагулянта впервые уничтожил послеоперационный тромб.
Леманн прочитал, что туберкулезная палочка очень любит аспирин и, получив его, потребляет вдвое больше кислорода. И подумал: раз микроб так охотно втягивает в себя аспирин (ацетилсалициловую кислоту), надо приделать к молекуле этой кислоты такое дополнение, чтобы наевшейся бактерии не поздоровилось. Леманн придумал, чем дополнить кислоту, и выяснилось, что никто на свете не умеет синтезировать ПАСК. Росдаль потому и взялся: его увлекала сложность задачи.
Когда он наконец в пять стадий «сварил» ПАСК, Леманн в своей больнице (клинике Гётеборгского университета) уже развел целую стаю морских свинок для испытаний. Чтобы не заразить пациентов, животных разместили в самом дальнем конце коридора, длиннейшего больничного коридора в мире – 1600 метров. Леманн носился с работы в виварий и обратно на велосипеде.
Вдобавок от него ушла жена. Она страдала от недостатка внимания. То Йёрген месяцами испытывал антикоагулянт и говорил: «Вот закончу, поедем в отпуск», теперь ПАСК. Супруга забрала с собой старшего сына и оставила Леманну младшего. Чтобы все успеть, он поселился в подсобке, разрываясь между стиркой, пациентами, готовкой и морскими свинками.
Но чудеса, которые творил ПАСК, искупали все. Сигрид, 24-летнюю пациентку, Леманн вылечил от туберкулеза даже на месяц раньше, чем Фелдман и Хиншоу спасли Патрисию. А главным открытием было то, что против комбинации стрептомицина с ПАСК резистентности не возникало. Именно такое комбинированное лечение помогло Фелдману.
Тем временем Шатц узнал про выплачиваемые Ваксману роялти и предъявил на них свои права в суде. В 1950 г. стороны договорились в досудебном порядке: из 20 %-ных отчислений Ваксману осталось 10 %, Шатцу полагалось 3 %, остальное поделили между Ратгерским исследовательским центром и стипендиатами. Так Шатц вырвался из бедности, но приобрел в научном мире репутацию сутяги. Он больше не мог найти работу в Штатах и уехал в Латинскую Америку.
В 1951 г. Нобелевский комитет распространил среди лауреатов опросный лист, чтобы собрать имена номинантов на следующий год. Почти все упомянули авторов метода лечения туберкулеза: Ваксмана, Фелдмана, Хиншоу и Леманна.
В США прибыла делегация шведских академиков собирать информацию. Фелдману и Хиншоу дали отвод их собственные руководители. По словам Хиншоу, его начальник сказал гостям, что эти двое самовольно бегают с работы на какую-то ферму, хотя им запрещено возиться с заразными свинками. И вообще они прогульщики, полезность их отлучек неочевидна, а Нобелевская премия создаст им большие проблемы.
Остался еще Леманн, которого Ваксман признавал достойным и даже послал ему поздравительную телеграмму. Нобелевский комитет часто упрекают в том, что «своим» скандинавам премии дают за любую мелочь, а здесь такое открытие! Но ректор Каролинского института, присуждающего премии по физиологии и медицине, из чистой зависти (как говорят) заявил коллегам: «Через мой труп!» Все же Леманн ожидал награды, и для него было неприятным сюрпризом, когда Нобелевский комитет сообщил о награждении одного лишь Ваксмана «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного против туберкулеза».
Шатц направил личное письму шведскому королю Густаву VI, указывая, что он соавтор открытия, как написано в патенте. Король ответил, что не имеет права вмешиваться в дела Нобелевского комитета. Однако формулировку переделали. Когда 12 декабря 1952 г. Зельман Ваксман предстал перед королем Швеции, ректор Каролинского института объявил, что премия присуждается «за изобретательные, систематические и успешные исследования микробов почвы, которые привели к открытию стрептомицина, первого антибиотического средства против туберкулеза».
Король, который с юных лет интересовался лечением туберкулеза, вступил с лауреатом в светскую беседу и среди прочего заметил, что «у нас в Швеции тоже создают новые лекарства от чахотки». Однако развивать эту тему не стал.
Йёргена Леманна на церемонию не пригласили. Встречи с ним Ваксман не искал. Поначалу Леманн переживал, шагал из угла в угол по комнате, ничего не мог делать. Новая жена говорила ему: «Ну напиши ты им в Стокгольм!» Но Йёрген решил всем назло не показывать обиды. В тот вечер, когда вручалась премия, Леманн пригласил к себе в гости лучшего друга. Они откупорили бутылку шампанского, выпили за здоровье Ваксмана, а потом сочинили о нем газетную статью, полную всяческих комплиментов.
Однако в ученом кругу история произвела тягостное впечатление на молодежь. Новое поколение считало, что давать премию одному только руководителю – это приравнивать науку к военному делу, где вся слава достается полководцу. Такой порядок оправдан в армии. Он стимулирует офицеров стремиться к более высоким званиям. Но для ученых с их разделением труда это не работает.
В конечном счете премии стали присуждать не только теоретику – голове эксперимента, но и тому экспериментатору, который выполнил основную работу. Так вышло, например, с парами Сезар Мильштейн – Георг Кёлер (1984, премия за открытие моноклональных антител) и Андрей Гейм – Константин Новоселов (2010, открытие графена).
Постарались загладить несправедливость и в отношении обиженных. Когда клинику торакальной хирургии Каролинского института возглавил Оке Ханнгрен, в юности спасенный Леманном от туберкулеза (Оке буквально кормили пара-аминосалициловой кислотой), Леманн получил от института почетную медаль.
В Ратгерском университете по прошествии многих лет сочли, что достижения, равного получению стрептомицина, у них не было. Разыскали пенсионера Альберта Шатца и также наградили его почетной медалью.
Вообще, Альберт Шатц пережил всех главных героев этой истории. Он даже застал времена, когда у Нобелевского комитета появился сайт в интернете. И зайдя на страницу о премии 1952 г., с негодованием обнаружил, что под фотографией Ваксмана стоит первый вариант формулировки – «за открытие стрептомицина».
Шатц опять написал королю Швеции, теперь уже Карлу XVI Густаву, и просил заменить формулировку на сайте той, что провозглашалась во время церемонии вручения. Шатц умер в 2005 г. На сайте все пока по-прежнему.
76 Лечебная педагогика против ДЦП Андраш Петё 1945 год
15 апреля 1945 г. венгерский врач Андраш Петё организовал в разрушенном войной Будапеште Экспериментальный отдел лечения детей-инвалидов – первую в мире лечебно-педагогическую организацию, которая начала ставить на ноги пациентов с ДЦП. Пока доктор Петё разрабатывал свою методику кондуктивного развития, его несколько раз пытались убить вместе с пациентами, но спасали хорошие люди. Иногда – не очень хорошие люди, которые вовремя перешли на другую сторону.
В доме Красного Креста на улице Оршо, 27, детскому врачу Андрашу Петё впервые пришлось наблюдать своих пациентов круглосуточно. С 15 мая 1944 г. (дата начала депортации венгерских евреев в Освенцим) по 18 января 1945 г., когда наступающая Красная армия освободила Будапештское гетто, доктор Петё не решался выйти на улицу. Ни с желтой звездой на груди, ни без нее. Это затворничество и породило метод, который ныне применяют десятки институтов имени Петё в разных странах мира.
До войны автор метода не был известен. Расти в одной-единственной медицинской специальности ему казалось скучно: он работал ортопедом и пульмонологом, неврологом и психиатром. 1930-е гг. провел на должности директора австрийского санатория, в душе считая себя писателем. Сочинял и публиковал на немецком языке стихи, рассказы, драмы, сценарии. Когда Третий рейх поглотил Австрию, он перебрался в родную Венгрию – тогда наименее антисемитскую страну Европы.
Друг-венгр, психиатр Миклош Кун порекомендовал его врачом в дом Красного Креста. Там были дети с разными формами церебрального паралича, туда подбрасывали недоношенных младенцев и приводили сирот с функциональными расстройствами. Петё – последователь Павлова и ученик Фрейда – не считал их больными. «Чтобы говорить, нам мало только рта, а чтобы ходить – недостаточно только иметь ноги». Никто не зовет обычных детей пациентами, пока они не научились ходить. У парализованных, по мнению Петё, пострадала сама способность учиться, и это отразилось на походке и общем развитии: «Отвлекитесь, наконец, от парализованных мышц и займитесь личностью в ее целостности».
Пока доктор так рассуждал, Красная армия в сентябре 1944 г. вступила на территорию Венгрии. В ответ 15 октября немцы привели к власти нилашистов – венгерских нацистов. Те собрались разгромить дома Красного Креста, а евреев, которые там находились, расстрелять у берега Дуная. На помощь пришло испанское посольство: диктатору Франко не нравилась идея убийства из-за одной лишь национальности. Его дипломаты провозгласили пациентов Петё и самого доктора потомками испанских евреев-сефардов, претендующими на гражданство. Какое-то время герб Испании на воротах дома по Оршо, 27, служил надежной защитой.
Глядя на своих пациентов с ДЦП, Петё обнаружил, что, если поставить им интересную или необычную задачу, они выполняют ее даже «парализованными» конечностями. Достаточно их только направлять, слегка помогая. Тут нужен не столько врач, сколько «направитель», которого Петё назвал «кондуктором» или «кондуктологом». Первым кондуктологом стал он сам. Поскольку дом был битком набит больными, они никогда не оставались одни. И это оказалось хорошо: дети учатся друг у друга. Групповые занятия для «паралитиков» намного эффективнее.
В декабре 1944-го занятия могли прекратиться навсегда. 30 ноября Красная армия почти окружила Будапешт, и сотрудники испанской миссии выехали из города. Нилашисты решили, что испанский герб теперь «не считается», и снова принялись за детский дом. Путь им преградил персонаж совершенно фантастический – итальянский фашист Джорджо Перласка. Он застрял в Будапеште в служебной командировке с поручением купить мясо для сражающейся в донских степях итальянской дивизии. Разочаровавшись в Муссолини, не скрывал этого, в результате попал под арест, откуда бежал в испанскую миссию. За былые заслуги – Перласка сражался на стороне Франко в гражданской войне в Испании – получил испанское гражданство. Из Джорджо стал Хорхе. После отъезда посла написал сам себе бумагу о том, что является поверенным в делах Испании на территории Венгрии. Потом явился с этой бумагой к министру иностранных дел и заявил, будто его страна (Испания) признала правительство нилашистов. Все это он делал не только ради права на испанскую собственность в Будапеште, в том числе на детский дом и склад продовольствия.
Мало того что авантюрист Перласка спас Петё с больными детьми от репрессий и голодной смерти, организовав их питание со склада миссии. Он еще направился на станцию, где пойманных на улице евреев грузили в поезд для отправки в Освенцим. И там объявил сотню пассажиров этого поезда испанцами. Всего за 45 дней он таким образом выручил 5218 человек.
К новому, 1945 г. в детском доме не стало газа, электричества, воды. Доктор Петё успокаивал пациентов разговорами: вот сейчас на улице канонада, скоро придут русские, война закончится. «А что ты будешь делать после войны?» – спрашивал он ребенка. И объяснял, что для овладения той или иной профессией нужно освоить такое-то движение. Оказалось, мотивированные задания даются гораздо лучше. Петё мечтал о специальных игрушках для развития моторики у парализованных. Те, чье детство пришлось на времена Брежнева, могут вспомнить венгерские конструкторы с надписью «PETŐ». Это имя доктора, разработка его института.
Но 16 января 1945-го доктора с его кондуктивной педагогикой и развивающими игрушками могло не стать, потому что Адольф Эйхман от имени Гиммлера по радио приказал уничтожить все 144 тысячи будапештских евреев – испанские они или нет. Тогда командир полиции нилашистов Пал Салаи обратился к немецкому генералу Шмидхуберу, чья танковая дивизия окружила гетто. Полицейский сказал, что после неизбежной капитуляции даст русским показания, как Шмидхубер руководил бойней, и тогда генерал ответит за это не как солдат, а как убийца. И приказ не был выполнен. 18 января Красная армия освободила гетто, 11 февраля Шмидхубер погиб в бою, а 13-го Будапешт был взят полностью.
Идея кондуктивного развития настолько захватила доктора, что после войны он был согласен работать над ней бесплатно. Старый друг Миклош Кун подыскал ему место. Директор государственной больницы для инвалидов просил у Красного Креста одеяла, так как немцы все забрали. Кун выдал одеяла с условием, что больница выделит помещение Андрашу Петё. 15 апреля 1945 г. доктор и четыре студентки-медсестры приступили к лечению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Им предоставили две пустые комнаты и ванную для мытья и стирки. В окнах палаты не было стекол, на койках – матрасов. И тем не менее через год результаты были такие, что слух об эксперименте прошел по всей Венгрии. Неврологи посылали Петё самых безнадежных пациентов, которые могли только недвижно лежать и мычать. Доктор брался за всех способных самостоятельно пить и жевать твердую пищу – отсутствие этих навыков считал слишком серьезным нарушением. Бюджета у отдела не было, Петё жил частной практикой, да еще платил из своего кармана медсестрам. Взамен девушки должны были находиться при пациентах неотлучно и заниматься с ними, не щадя ни себя, ни детей. Сестры превратились в кондуктологов – стали одновременно медиками и педагогами.
Через три года отдел заметило правительство и сотрудникам стали выдавать зарплату. В 1950 г. Петё стал директором института, куда везли уже пациентов из-за рубежа – румын, болгар и даже англичан. Успех и слава породили множество врагов нового метода, прежде всего среди врачей. Ортопеды презирали кондуктологов за отказ от оперативного лечения, а в министерстве их прямо звали шарлатанами. Исправление дефектов познавательных способностей тогда не считалось лечением, а кондуктология – специальностью. На конфликтах с медиками Петё нажил стенокардию, язву, осложненное гидроцеле и почечную недостаточность.
Выручил доктора Петё важный пациент – секретарь венгерского ЦК Бела Биску. Его боялась вся Венгрия, потому что он как министр внутренних дел преследовал участников восстания 1956 г. Биску после травмы страдал ишиалгией, которую смог вылечить только Петё. Институт перевели из минздрава в министерство культуры и просвещения, построили новое здание и организовали подготовку кондуктологов. Едва кадры института смогли работать и воспроизводить себя без участия Петё, его не стало. Он умер после шестичасового совещания с партийным руководством 11 сентября 1967 г., в свой день рождения.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Inna Chochina: Мы, конечно, немного не так кое-что учили… А есть ли какая-нибудь информация о его отце?
Ответ: Мария Хари, которая возглавила институт после смерти Петё, писала, с его слов, что отец Андраша был по профессии домоправитель, в пожилом возрасте из-за болезни Паркинсона был прикован к инвалидной коляске, так что Петё довольно рано пришлось зарабатывать на жизнь и помогать близким. Это обстоятельство повлияло на его выбор профессии – врачи неплохо зарабатывали, и на выбор специальности. Между прочим, Петё лечил и больных паркинсонизмом.
Татьяна Зальцман: Да, это из ее книги. Это нам как раз сама Хари Мария рассказывала:)
Ответ: Она говорила, что у Петё в сейфе лежала его автобиография на немецком. Интересно, ее издавали хотя бы в Венгрии?
Татьяна Зальцман: Отдельно не видела, но в одной из книг достаточно много было информации. Хотя больше чужих воспоминаний.
Женя Косицына: Там и сейчас работают замечательные кондуктологи, чудесные специалисты и отличные люди. Ну то, что благодаря Петё мой средний сын ходит в обычную школу, – норма для Петё. Если есть шанс, они его реализуют.
Но я хотела о другом случае сказать. У меня старший очень тяжелый, 65 операций на мозге, шунты и антисифон в мозге, ДЦП, эпилепсия, аутизм, идиотия… При последнем Сашином визите было принято решение в верхах института: «не брать в программу ментальников». Нерентабельно, нет видимой динамики. А у нас она есть, просто очень незначительная для окружающих, но огромная для нас. Саше было лет 14, когда мы туда попали, я с огромным трудом убедила департамент, что Сашке надо. И ему дали шанс.
И вот когда стало известно, что ментальников брать не будут, нас очень поддержала Elena Horvath, за что ей огромное cпасибо. Она работала с ментальниками с утроенной силой, стараясь выжать из них максимум. За последний визит Лена так помогла Сашке, что при последнем собеседовании нам было что показать. Санька жевал, надевал штаны и даже носки сам. Мы прошли контрольный визит чудесно, и нас оставили в программе. Лена показала, что и у ментальников на методе есть отличная динамика, только очень маленькая. Чем сложнее поражение, тем тяжелее реабилитация.
Лена так верила, что Санька можно многому научить! Человек не только работал как высококлассный специалист, но еще ВЕРИЛ и старался помочь. Elena Horvath сама ходила к старшему кондуктологу и доказывала, что у Сашки есть динамика. На последнем занятии она даже научила его развинчивать крышку, он и сейчас пытается. А потом закончилась «волшебная эпоха Лужкова», Собянин закрыл все программы… Но все, чему в Петё научили Санька, мы помним и применяем в жизни. Благодаря Петё мы жуем, едим вилкой, надеваем брюки и кофту, носки и тапочки. Именно там мы научили его ходить в туалет.
Обидно, что у нас в ментальников не верят и шанса им не дают…
Ответ: Вы – молодец, Вы верите. А все-таки хорошая специальность у кондуктологов: бьешься-бьешься, и вот он результат. И благодарны такие замечательные люди, как Вы.
Екатерина Филиппова: Кондуктологи – замечательные люди! С огнем в глазах! Был опыт работы в ДНРО[11] Хатасской больницы (г. Якутск), таких «безнадежных» и «нерентабельных» вытягивали со дна беспомощности, заставляя ДУМАТЬ… Жаль, что сама больница по условиям как после нацистской бомбежки…
77 Вирус Зика Джордж Дик и Алек Хэддоу 1947 год
18 апреля 1947 г. была обнаружена инфекция, вызванная знаменитым ныне вирусом Зика. За 60 лет никто палец о палец не ударил, чтобы сдержать распространение вируса. Расселившись по всем частям света, он мутировал и показал, на что способна оставленная без присмотра стихия.
Открытие оплачено дорогой ценой: его дала Вторая мировая. В 1941 г. в саваннах Африки разразилась малоизвестная итало-британская война: из Эфиопии, Эритреи и Сомали выбивали войска фашистской Италии. То была война врачей. Как случается в тропиках, побеждает тот, кто лучше справится с тифом, гельминтами, дизентерией, а прежде всего – с малярией. За итальянцев сражался Альдо Кастеллани (1874–1971). Его имя известно, так как он додумался при ветрянке мазать пузырьки на коже малиновым фукорцином, который называют «краской Кастеллани», а кое-где даже «каштеляной». А на британской стороне воевал подполковник медицинской службы Джордж Дик (1914–1997) – человек, своими руками выделивший вирус Зика.
В британском тылу боролся с малярией будущий соавтор открытия, энтомолог Алек Хэддоу (1912–1978). Он изучал анофелесов (малярийных комаров). Когда слово «Зика» прогремело на весь мир и биографы разобрали наконец бумаги Хэддоу, то с изумлением обнаружили рисунок, сделанный Алеком в семь лет: очень реалистично изображен многократно увеличенный желтолихорадочный комар Aedes aegypti, важный разносчик вируса Зика и впоследствии главный враг Хэддоу.
Алек с детства хорошо рисовал. Особенно удавались насекомые. Он заинтересовался ими настолько, что выучился в Университете Глазго на энтомолога с самым высоким баллом на курсе. Лучшему выпускнику присуждали грант на самостоятельное годовое исследование. Выполнив его в 1935 г., Хэддоу понял: времена надвигаются такие, что средства на энтомологию дадут, только если делать что-нибудь в медицине, – и окончил еще медицинский факультет, успев с дипломом к началу войны. Тут его и направили в Кению.
Там Алек прослыл великим колдуном. Впечатление производил его килт, оглушительная игра на волынке и редкие для Африки ярко-зеленые глаза; но пуще всего – талант гипнотизера. Энтомолог договорился с местными мальчиками, что те за небольшую плату станут приманкой для комаров. Чтобы ребятам не было больно, когда их кусают, Алек внушал мальчикам, что они ничего не чувствуют. И получалось. Пошли слухи. Наконец британская колониальная администрация попросила Хэддоу на всякий случай прекратить сеансы.
Он так и сделал. Но все только больше уверовали в его чары, когда Хэддоу заметил, что грязные мальчики привлекают комаров сильней, чем вымытые. Вернее, привлекает их одежда, в которую въелся засохший пот. Сами мальчики даже не нужны: достаточно развесить в пустой хижине их тряпье и поставить рядом бутылки с теплой водой. На этом карьера шамана прервалась, так как в 1942-м Хэддоу пригласили в Уганду штатным энтомологом института по изучению желтой лихорадки, организованного Рокфеллеровским фондом.
Располагалось это знаменитое учреждение в поселке Энтеббе – на берегу озера Виктория среди банановых плантаций рядом с главным аэропортом страны. Сейчас это Угандийский институт вирусологии (UVRI). Тогдашнее название «Рокфеллеровский» породило в XXI в. россказни, будто вирус Зика вывели в Африке по заданию Рокфеллера. На самом деле американские врачи и энтомологи еще в 1944 г. покинули Уганду, передав институт британским коллегам из Колониальной исследовательской службы, на которую работали Дик и Хэддоу.
От американцев осталось наследство: 1) виварий с макаками-резусами, заменившими людей в качестве приманки; 2) инсектарий для экспериментов над комарами – переносчиками желтой лихорадки; 3) опытный лес Зика. Этот лесок длиной полтора километра и шириной не более 500 метров тянется вдоль залива озера Виктория. В его названии на языке лингала – «зиика» – европейцы опустили одну И. Слово это значит «заросший».
Пройти через темный лес трудно, поскольку везде плотно растут шестиметровые кусты. Деревья по большей части хлебные и манговые, высотой до 25 метров. По косогору лес спускается к самому заливу, берега которого затянуты папирусом. Очень удобно: на узкой полосе есть всё – от болота и влажного леса до сухой опушки с маленькой саванной. Границей служит шоссе Кампала – аэропорт Энтеббе. За шоссе располагалась духовная миссия с большой школой, где учеников регулярно осматривали врачи. Любую новую инфекцию миссионеры тут же выявляли, и у каждого пациента была готовая медицинская карточка.
Рокфеллеровский фонд обустроил институт ради борьбы с желтой лихорадкой в Бразилии. Там еще в 1920-х гг. извели в городах основного переносчика инфекции – комара Aedes aegypti, «египетского кусаку». Но в лесах болезнь свирепствовала. Она косила обезьян, как некогда людей, и со временем ожидалось ее возвращение. В Уганде все обстояло иначе. Там антитела к вирусу находили в крови 70 % обезьян и только 30 % людей, а приматы оставались носителями инфекции, нисколько от нее не страдая. Отчего так, было загадкой.
В 1940 г. в Колумбии сделали важное открытие. Когда на лесоповале в час заката спилили высокое дерево, из упавшей на землю кроны вылетела туча комаров, которые накинулись на лесорубов. Оказалось, большинство комаров и москитов плодится в кронах деревьев, над пологом леса. Особенно активны они после заката, когда от нагретой за день листвы устремляются вверх потоки теплого воздуха, в котором комар может лететь далеко без особых усилий. В Африке наблюдали полеты дальностью до 170 километров. Обезьяны, главный объект охоты кровососов, перед закатом забираются на верхние ветки, где спят первым, самым крепким сном. Вот когда их жалят комары, заимствуя вирус лихорадки у больных и наделяя им еще здоровых.
Чтобы отловить переносчиков и проверить наличие вируса, Дик и Хэддоу помещали подопытных резусов на специальных платформах в 25 метрах над землей. Макакам кололи обезболивающее, чтобы они давали себя кусать, и обкладывали бутылками с теплой водой. Мальчики-ассистенты забирались на платформы по лестнице, извлекая комаров из ловушек и замеряя температуру тела резусов, которых называли «дозорными».
18 апреля 1947 г. дозорный макак-резус № 766, прикованный цепью на платформе № 5, почувствовал себя плохо. У него поднялась температура до 39,7 – сразу на 2 градуса. 20 апреля беднягу госпитализировали, взяли образец крови и впрыснули сыворотку мышам: одних кололи в живот, других в мозг. Те, что получили инъекцию в мозг, через 10 дней заболели. Дик выделил из их мозга вирус, который совершенно точно не вызывал желтую лихорадку. Из разных лабораторий прислали сыворотки с антителами, нейтрализующими известные вирусы. Ни одна не действовала: стало быть, налицо новый. Кажется, не слишком опасный: за пять суток 766-й поправился.
Вскоре нашли переносчика. В ночь с 11 на 12 января 1948-го в 320 метрах от исторической платформы попали в ловушку 84 комара Aedes africanus. Это была часть огромной работы, проводимой Хэддоу: за девять лет он вместе с ассистентами поймал и идентифицировал 384 252 комара десятков разных видов. Пойманные 84 комара были перемолоты в пыль, смешаны в центрифуге с обезьяньей кровью и слюной. Эту суспензию впрыснули в мозг мыши, которая через шесть дней погибла. Убивший ее вирус был идентичен тому, от которого температурил макак № 766. Теперь открыватели могли дать новому вирусу название; выбрали слово «Зика» – по месту обнаружения.
Хотя вирус казался неопасным, Алек был рад, что переносил его «африканский кусака» – Aedes africanus. Этот комар предпочитал нападать не на людей, а на обезьян. Недоумевали, отчего в крови большинства пойманных приматов этого вируса не было. Теперь-то мы благодаря генетикам знаем, что возник он не так давно, около 1917 г. (не ранее 1892-го и не позднее 1943-го). Он просто не успел распространиться. К сожалению, у него еще все было впереди.
И Дик, и Хэддоу не гнались за славой. Первую статью о вирусе Зика они опубликовали только через пять лет, подробно изучив его свойства и механизм передачи. Перед публикацией взяли пробы крови у 99 угандийцев – антитела обнаружились только у шести. Никто из них не помнил у себя какой-то особенной лихорадки. Тем не менее Дик обнаружил размягчение мозга у больных мышей и предсказал, что вирус может вызвать дегенерацию нервной системы: «Отсутствие описанных случаев болезни у человека не значит, что этот вирус редок или неважен».
Это предупреждение объяснили авторским честолюбием и проигнорировали. Первое клиническое описание лихорадки Зика дал Дэвид Симпсон (1935–2011), бывший студент Дика, который в 1951 г. возглавил кафедру микробиологии больницы Виктории в Белфасте. Там Симпсон наслушался рассказов про лес Зика и в 1962 г. поехал в Уганду работать под началом Хэддоу. В Африке Симпсон открыл вирус Конго, идентичный возбудителю крымской геморрагической лихорадки, и печально известный Марбург, выморивший целую лабораторию в ФРГ.
Хэддоу к тому времени построил стальную башню, чтобы не карабкаться на деревья к дозорным обезьянам по шаткой лесенке в полной тьме. Симпсон ловил комаров на этой башне и там стал жертвой «африканского кусаки». Наблюдал у себя головную боль, отеки суставов конечностей и самый знаменитый симптом лихорадки Зика – розовую сыпь по всему телу, даже на ладонях и подошвах стоп. Ничего особенного, кроме температуры; полегче, например, чем денге с жуткой ломотой в костях.
На фоне лихорадки Эбола это выглядело бледно. И никого не насторожило, что к 1976 г. 40 % населения Нигерии уже имело антитела к вирусу Зика. Когда в 2007 г. на микронезийском острове Яп переболело три четверти населения, ничего страшного как будто не произошло. Подозрительно, что переносчик неизвестен, но болезнь-то легкая.
А через шесть лет лихорадка вспыхнула уже на Таити, где французские врачи отметили, что болезнь может передаваться от матери плоду, а также вызывать временный паралич мышц (синдром Гийена – Барре). В 42 случаях под угрозой были дыхательные мышцы, но реанимация всех спасла. В июне того 2013 г., еще до тревоги, сборная Таити по футболу вместе со своими болельщиками поехала в Бразилию на Кубок конфедераций. На поле таитяне отличились тем, что проиграли Испании 10:0. Но вирус, который они оставили после себя, пережил важную мутацию – он выучился размножаться в организме желтолихорадочного комара Aedes aegypti и стал активнее внедряться в клетки – предшественники нейронов.
Результатом этого стала эпидемия 2015 г., заставшая Бразилию врасплох. У женщин, заболевших во время беременности, рождались микроцефалы с таким маленьким черепом, что возможностей уменьшенного мозга не всегда хватало для поддержания самых примитивных функций. При среднем для Бразилии числе таких патологий 200 в год за 2015-й появилось на свет 1400 микроцефалов. Заболевшая в городе Натал 25-летняя словенская девушка в октябре того года вернулась в родную Любляну и попросила прервать беременность, потому что плод на 29-й неделе перестал шевелиться. Никаких генетических болезней анализ не выявил. Девушка была совершенно здорова, имела все прививки и по молодости лет первый раз переживала серьезную вирусную инфекцию, так что причина патологии могла быть только одна: возбудитель. В его поисках «сняли со стены старое ружье», 68-летнего «дедушку» – штамм MR766, тот самый, из Уганды, 1947 г.
И оказалось, что дедушка еще о-го-го. Он способен вызвать все последствия для развивающегося мозга, которые наблюдались у микроцефалов. Геном этого вируса изменяется с фантастической быстротой: на 1 % за 10 лет. Поэтому он смог постепенно освоить нового переносчика и атаковать эмбрионы.
Начался завоз новой лихорадки в северные страны, где среднемесячная температура порой падает ниже +15 °C и вирус не развивается в комарином организме. В феврале 2016 г. две девушки – из Москвы и Ярославля – заразились в отпуске на доминиканском побережье. Уже в России они выздоровели, никто в их семьях не пострадал. А в Техасе тогда же заболела жена ученого, заразившегося в Сенегале. Так выяснили, что лихорадка Зика передается половым путем. Когда лихорадка проходит, вирус исчезает из крови, но еще пару недель живет в сперме и моче.
Теперь мы начеку, предупреждены, вооружены. Испытываются вакцины, морятся комары. Вспомнили о родине вируса. Когда Уганда получила независимость и в 1966 г. начались государственные перевороты, европейские ученые уехали, оставив неплохую смену из местных кадров. Диктатор Иди Амин не закрыл институт вирусологии, потому что Симпсон когда-то играл вместе с ним в одной сборной по регби, то есть от ученых мог быть толк. Угандийские специалисты продолжали работать почти без бюджета и открыли еще десятки новых вирусов. Однако за многие годы спроектированная Хэддоу «дозорная башня человечества» проржавела. Деревянные платформы сгнили. Инсектарий в аварийном состоянии, в него зайти нельзя. А сам лес Зика собираются вырубить и построить там престижный микрорайон. На дороге в аэропорт, у самой воды. Зика – название громкое, будет хорошо продаваться.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Anna Kiriluk: То есть взрослым Зика ничем не угрожает?
Ответ: Несомненно, угрожает. Он вызывает синдром Гийена – Барре, который в тяжелой форме парализует мимические и дыхательные мышцы. Пока они парализованы, необходима интенсивная терапия, иногда на несколько недель. В Бразилии бывали и смертельные случаи этого синдрома, когда реанимация не спасала.
Anna Kiriluk: Мутировал из другого, безопасного вируса под воздействием чего-то абсолютно сам? А то любители Мирового Правительства Рептилоидов (коих удивительно немало и среди людей с верхним образованием) здесь углядят зловещий след:)
Ответ: Мутация всегда случается под воздействием чего-то. Например, многие атомы углерода в смысловой молекуле РНК вируса являются атомами радиоактивного изотопа С14 и со временем распадаются, невольно разрушая молекулу. А радиоактивный углерод возникает в атмосфере под воздействием космических лучей. Поскольку люди в 1917 г. не умели еще стимулировать мутации, вирус Зика определенно возник без участия человека.
78 Имплантация искусственного хрусталика глаза Гарольд Ридли 1950 год
8 февраля 1950 г. в Лондоне прошла в обстановке секретности первая успешная операция по имплантации искусственного хрусталика глаза. Это стало возможно после того, как хирург Гарольд Ридли увидел сбитого летчика-аса, который отправился на боевое задание, забыв надеть защитные очки.
Лейтенант Гордон Кливер по прозвищу Маус имел на своем счету семь сбитых немецких самолетов. В последнем бою 14 августа 1940 г. немецкая пуля разбила плексигласовый фонарь его кабины и осколки мгновенно ослепили Кливера. На такой случай военные летчики носят очки. Но для Мауса то был не первый вылет за сутки, и, бросаясь в очередной раз к своей машине, он просто оставил очки на земле.
Лейтенант Кливер вслепую выполнил полубочку, повернув самолет вверх шасси, и выпал из кабины. Пролетев почти до самой земли, чтобы немец не подстрелил в воздухе, он раскрыл парашют и смог приземлиться на ноги, ничего себе не повредив.
Оба его глаза и кожа лица были нашпигованы осколками оргстекла. Кливера возили по госпиталям, пока не нашелся искусный хирург из центральной глазной больницы Мурфилдс (Лондон), который извлек многие осколки и вернул лейтенанту зрение на правом глазу. Хирурга звали Гарольд Ридли.
В строй лейтенант не вернулся, но сумел принести пользу на административной должности в королевских ВВС. Периодически осколки в глазу беспокоили его и он обращался к Ридли, чтобы тот произвел удаление. Так повторялось 18 раз на протяжении 8 лет.
Наблюдая пациента, Ридли заметил, что куски плексигласа не вызывают ни нагноения, ни раздражения. Видимо, оргстекло не отторгается тканями глаза. В 1948 г. хирург ознакомил с этим случаем своего студента. Тот задал наивный вопрос: почему бы при катаракте не заменить помутневший хрусталик линзой из оргстекла?
Тогда катаракту лечили единственным способом: удаляли помутневший хрусталик и заменяли его очками с такими толстыми линзами, что пожилым пациентам трудно было держать голову прямо. Делали очки на фирме Rayner, где у Ридли был приятель – оптик Джон Пайк. Он сразу же загорелся мыслью сделать искусственный хрусталик. Пайк, в свою очередь, дружил с химиком из компании ICI, который изготовил плексиглас высокой чистоты.
Получив свою линзу, Ридли целый год искал добровольцев с катарактой на одном глазу, которые решились бы попробовать имплантацию во благо всего человечества. Наконец, дала согласие 45-летняя медсестра Элизабет Этвуд. 29 ноября 1949 г. Ридли удалил ей катаракту и стал готовить к имплантации.
Он сознавал, что это переворот в хирургической офтальмологии. Веками врачи учились извлекать из глаза инородные тела, а теперь им предстоит делать обратное. Нужно было запечатлеть ход операции на телекамеру, но без присутствия съемочной группы. Ридли зачастил в кембриджскую штаб-квартиру фирмы Marconi’s Wireless Telegraph Co., где по его заказу изготовили беспроводную камеру для операционной. Целый месяц носился он на своем «бентли» из Лондона в Кембридж и обратно со скоростью 130 километров в час, несколько раз едва не разбившись.
8 февраля 1950 г. интраокулярная линза (ИОЛ) была успешно имплантирована медсестре Этвуд. Ридли выполнил еще несколько операций в полной тайне. Ему было нужно пронаблюдать за пациентами пару лет, чтобы убедиться в безвредности методики. Но судьба не дала ему этого срока.
Один пациент, собравшись на плановый осмотр, перепутал строки в телефонной книге. Он записался на прием к офтальмологу Фредерику Ридли – однофамильцу, не имевшему к Гарольду никакого отношения. Едва другой Ридли взглянул на оперированный глаз, пришлось рассекретиться.
Гарольд не стал патентовать свое изобретение, чтобы оно распространилось как можно скорее. Он только напечатал статью, заявив приоритет. Но этим обидел патриарха британских офтальмологов Стюарта Дюка-Элдера. Тот почему-то решил, что должен быть в числе авторов. И когда Ридли явился на Оксфордский офтальмологический конгресс с пациентом, которому операция вернула остроту зрения 1,0, коллеги устроили ему бойкот. Дюк-Элдер отказался показывать делегатам конгресса снятый на телекамеру фильм и осматривать пациента. Ридли с надеждой обратился к делегации США, но американские офтальмологи тоже обиделись и демонстративно покинули зал.
Такого удара Гарольд Ридли не ждал. Он привез на конгресс жену, чтобы та насладилась его триумфом. Думал попасть на церемонию вручения Нобелевской премии, а оказался в психиатрической лечебнице с тяжелой депрессией. Лечился 30 лет, пока его шельмовало профессиональное сообщество. Милейшие коллеги, с которыми были самые теплые отношения, дружно ругали ИОЛ и того, кто их придумал. Пугали осложнениями, ненаучным подходом. И почти 30 лет им верили в большинстве стран мира. Но только не в СССР.
Московский «Вестник офтальмологии» также критиковал Ридли и заявлял, что интраокулярные линзы – новомодное западное увлечение, которое ничего, кроме вреда, причинить не может. Эта статья попалась на глаза заведующему отделением чебоксарского филиала Института Гельмгольца Святославу Фёдорову. Тот отличался независимым характером и к 30 годам усвоил, что если начальство кого-то критикует, то наверняка это человек дельный, а если какую-то инициативу клеймят как «вредную», то это нечто многообещающее.
Фёдоров сразу решил вживить искусственный хрусталик кролику. Плексигласа в Чебоксарах хватало. Труднее всего было найти человека, способного выточить из оргстекла крохотную линзочку. Лучшие мастера Чувашии изготовляли запчасти для тракторов на Чебоксарском агрегатном заводе, но и они в линзах преуспели не сразу. К счастью, идеей заразился технолог Семен Мильман. Первый свой искусственный хрусталик он делал целые две недели. Наконец, принес изделие Фёдорову, и тот живо заменил им хрусталик в глазу кролика. Нетронутый глаз животного завязали и положили в углу комнаты морковку. К восторгу экспериментаторов, кролик сразу же увидел овощ и набросился на него.
После ряда таких опытов Святослав Фёдоров вживил акриловую линзу 12-летней школьнице Лене Петровой, у которой с двух лет была катаракта на одном глазу. И все получилось. Чебоксарскому доктору удалась операция, с которой не справились московские хирурги. Много лет спустя Фёдоров, познав тонкости и риски нового дела, говорил, что успешная имплантация девочке Лене кустарным инструментом линзы с агрегатного завода была фантастически маловероятной удачей. С этой счастливой случайности началась самая головокружительная в истории русской медицины карьера, окончившаяся участием в президентских выборах.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Любовь Шабшина: А когда в Британии стали имплантировать искусственные хрусталики? И кто это начал?
Ответ: Сразу, с 1951 г. Ридли начал и, несмотря на депрессию, продолжал. У него нашлись отважные последователи в разных странах. Но мало! Посмотрите на групповую фотографию, где Ридли с Фёдоровым. Там собраны почти все хирурги мира, которые к 1960 г. решились сделать в своих клиниках такую операцию. Интересно, что фото сделано в Лондоне в 1966 г., в то время как офтальмологический конгресс проходил в Мюнхене. Так вот, в Мюнхене, где почти все они были, им запретили учредить свой клуб. Сам Ридли до выхода на пенсию в 1971 г. сделал 1000 таких операций и лично выполнял перевязки. По-настоящему лечение катаракты путем имплантации ИОЛ во всем мире стало массовым после того, как в 1980 г. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило применять искусственные хрусталики глаза в США. К тому времени благодаря Фёдорову и враждебному отношению к идее этой операции среди американских офтальмологов Советский Союз обгонял Соединенные Штаты по части имплантации ИОЛ. Как только FDA разрешило (там была своя интересная коллизия), конечно, все одумались. Старика Ридли стали повсюду звать и привечать, осыпали наградами. Тогда он окончательно пришел в себя.
Teyran Shamsadinskaya: Увидев впервые старые, кустарно изготовленные гинекологические инструменты прабабушки-гинеколога, сравнив их с инструментами бабушки-гинеколога и с инструментами сестры-гинеколога, проследила всю историю развития акушерства. Инструменты раньше изготовлялись мастерами, зачастую просто работающими на заводах. Правда, я выбрала сосудистую хирургию, но и по нашим инструментам можно проследить развитие и изменения в изготовлении оборудования.
79 Первый нейролептик – аминазин Анри Лабори и Поль Шарпантье 1950 год
11 декабря 1950 г. химики получили аминазин. Началась революция в психиатрии – теперь миллионы больных не держат годами в стационарах, а, пролечив, возвращают в общество.
Заказывал этот препарат не психиатр, а философствующий хирург; испытания, вопреки светилам, устроили рядовые ученые, безвестные эмигранты на вторых ролях. Панацею от душевных болезней они не нашли, но «настоящих буйных» больше не стало.
Хирург Анри Лабори, которому пришло в голову вязать людей не смирительными рубашками, а таблетками, служил во французском военном флоте. 31 мая 1940 г. его торпедный катер «Сирокко» эвакуировал окруженных из Дюнкерка. Немцы потопили корабль, Лабори несколько часов болтался в море. Этот случай навел его на мысль, что все реакции организма при переохлаждении замедляются и такой эффект наверняка может сделать хирургические операции проще и безопаснее.
После войны Лабори служил на военно-морской базе в Бизерте, где оказался одновременно хирургом и анестезиологом. Там он оперировал, пробуя комбинации низких температур с барбитуратами и разными веществами, которые усиливали наркоз. Эксперименты заметил главный физиолог военного госпиталя Валь-де-Грас (Париж) терапевт полковник Шарль Жом. Выписанный из колонии Лабори одним махом оказался в одной из лучших больниц Европы, да еще с возможностью изобретать. И как назло, один из его первых пациентов после удачной, хоть и трудной операции умер от гемодинамического шока.
Природу этого явления тогда знали плохо. Лабори предположил аллергическую реакцию. Поэтому в свой наркотический «коктейль» он ввел антигистаминный препарат фенотиазин. С ним пациенты расслаблялись лучше, доза наркоза стала меньше, и можно было отменить непременный укол морфина после операции. Лабори запросил производителя фенотиазина, фирму Rhône-Poulenc, нет ли у них препарата посильнее. Техническое задание досталось химику Полю Шарпантье. У того был любимый прием: известно, что введение атома хлора в биологически активные вещества дает новые, с усиленным действием. 11 декабря 1950 г. Шарпантье хлорировал фенотиазин. Продукт реакции (это и был аминазин) под кодом RP-4560 был направлен в фармакологическое отделение.
Там работала Симона Курвуазье, придумавшая новый опыт на животных: в двухэтажной клетке крысы жили на первом этаже, а ели наверху, куда забраться можно было только по канату. Острота реакции измерялась скоростью, с которой крысы принимали решение подняться, оценивалась и ловкость движений. Так вот, обколотые RP-4560 крысы утратили интерес к окружающему миру настолько, что не забирались наверх, даже когда их били током.
Лабори получил свой препарат и составил коктейль для склочных пациентов. Седативный эффект был невелик, зато желание ругаться с врачом пропадало начисто. В госпитале Валь-де-Грас было психиатрическое отделение. Туда Лабори отнес RP-4560 и сказал: «Возьмите эту штуку, и смирительная рубашка вам больше не понадобится».
Однако психиатры того времени боялись «химии» как огня. Лоботомия казалась более надежным и безопасным средством усмирения «буйнопомешанных»: она хотя бы не влекла гибель больного. Нашелся только один смелый психиатр – Лев Григорьевич Черток (1911–1991) родом из Лиды в Белоруссии. Во время войны у него были такие приключения, что любая проблема «на гражданке» казалась ему ерундой. До 1938 г. Лев Черток учился в Праге. Когда ее заняли гитлеровцы, бежал в Париж, не дожидаясь начала репрессий в отношении евреев. Едва он натурализовался как Леон Шерток, немцы вошли в Париж. Шерток уехал на каникулы в деревню Нуарво, где местные жители внушали больше доверия, чем парижане. Деревенские французы не только справили беглецу новые документы, но даже спрятали у себя детей из депортированной еврейской семьи. В период оккупации Шерток участвовал в движении Сопротивления и так привязался к стране, что остался во Франции и успешно лечил гипнозом больных в больнице имени Поля Гиро. Там он и получил разрешение испытать аминазин, чтобы подобрать терапевтическую дозу. Но с оговоркой – не на себе: начальник слишком ценил Леона и опасался за его работоспособность.
Все же доброволец должен был иметь психиатрическую подготовку, чтоб изложить все нюансы действия препарата. Из специалистов решилась только итальянка Корнелия Кварти (партизанское прозвище – Мимма). Это была женщина редкой красоты, храбрости и выдержки. При Муссолини работала в антифашистском подполье, организуя побеги военнопленных. Однажды ее арестовали, но прямых улик не нашли, и следователь тайной полиции отпустил девушку, потому что не может такая красотка заниматься политикой. Ей дали другое поручение – распространять листовки, что она и делала до самой победы. Весной 1945-го поступила в Миланский медицинский университет, окончила – и разочаровалась в научной среде. Общество конформистов Корнелии претило. Она предпочла уехать во Францию и защищать диссертацию у Шертока.
В октябре 1951 г. научный руководитель и Лабори поставили ей капельницу с аминазином – таблеток еще не было. Корнелия рассказывала все, что испытывает, пока не потеряла сознание. Через 15 минут она очнулась в чудесном расположении духа и наговорила собравшимся комплиментов, в ее устах звучавших весьма приятно. Испытала Корнелия Кварти и нейролептический синдром, за который больные так не любят аминазин. Но игра стоила свеч. Назвать препарат «нейролептиком», то есть «хватающим нерв», придумал профессор Жан Деле – один из тех, кто сначала был против испытаний. После опыта над Кварти он решился на лечение острых психозов и многое сделал для введения нейролептиков в повседневную практику.
Есть несколько версий, кто и когда стал первым больным, получившим курс аминазина. Вероятно, раньше всех курс прошел все-таки 57-летний парижский рабочий, госпитализированный в декабре 1951 г. с расстройством поведения. Он ходил по улице с цветком в горшке, приставал к прохожим и произносил в кафе жаркие речи о том, что нынешнее поколение равнодушно к свободе и движется туда, куда ведут. Связали его с большим трудом. 50 миллиграммов аминазина успокоили пациента, через неделю к нему вернулось чувство юмора и он стал заигрывать с медсестрами; еще через две недели был выписан как «практически готовый к нормальному образу жизни». Действительно, проповедовать в кафе любовь к свободе он перестал и даже забыл, как это делается.
80 Аппарат для чрескостного остеосинтеза Гавриил Илизаров 1951 год
24 декабря 1951 г. на предновогоднем собрании Курганского областного научно-медицинского общества Гавриил Абрамович Илизаров представил свое изобретение – «аппарат для остеосинтеза». С этого сообщения началась революция в ортопедии.
Илизаров, травматолог Курганской областной больницы, постоянно летал по области на «кукурузнике» У-2. Область большая, лететь долго. В «кукурузнике» не почитаешь, а голова работает. Так со скуки был придуман аппарат для фиксации, чтобы ходить на сломанной ноге, пока она заживает.
Нога выше перелома пронзается стальной спицей. Через верхний отломок кости спицу проводят медицинским сверлом – дрилем. Потом вторая спица, под прямым углом к первой. Спицы вкручиваются в кольцо, как в обод велосипедного колеса, и натягиваются. Другое кольцо приделывают к нижнему отломку. Под контролем рентгена хирург манипулирует кольцами, сопоставляет отломки по форме и стягивает кольца между собой нарезными стержнями. При ходьбе стержни принимают на себя вес больного. Функция ноги не страдает. Никакой атрофии, пролежней, нарушений кровообращения. Сжатие отломков усилено, кость срастается скорее, койка освобождается быстрее. Вроде бы все безупречно.
Первый набросок аппарата Илизаров показал соседу – слесарю с трикотажной фабрики Григорию Николаеву. Сделали модель. Доктор стал скупать разные железки, подбирая марку стали. Советовался с конструкторами, изучил учебник сопромата, все заново рассчитал. Николаев и его приятель слесарь Николай Рукавишников сделали кольца и спицы. Недавний пациент токарь Иван Калачёв выточил стержни и гайки. От эскиза до готового аппарата прошло больше года.
В отделении нашлось немало желающих первыми испробовать на себе аппарат Илизарова: больные говорили, что рука у него легкая. Самой несчастной казалась Мария Крашакова. Из-за неправильно сросшегося перелома она 15 лет – полжизни – передвигалась на костылях. Давно утратила веру в медицину, согласилась «для очистки совести». Два дня после операции дежурил Илизаров у ее постели. Осложнений нет. На третьи сутки она встала, прошлась на костылях. Через неделю – без них. Самой не верилось, отвыкла за 15 лет. Через три недели рентген показал полное восстановление, линии сращивания почти не видно. Илизаров снял аппарат и отправил Марию в родной Макушинский совхоз. На станции ее никто не встретил, и Крашаковой пришлось девять километров до дома идти пешком. Нога не подвела!
К новому году набралось уже девять случаев применения аппарата. Переломы, ложные суставы, замедленная консолидация, неправильное срастание – везде успех. Доклад вызвал удивление и восхищение. Главный хирург области Яков Витебский, сам новатор, сказал: «Дерзай, Гавриил, мы тебя поддержим». На следующий год Илизаров опробовал дистракцию, постепенное раздвигание колец по мере срастания. Ногу хромого пациента удалось удлинить на 11,5 сантиметра. Минздрав выдал авторское свидетельство на аппарат, официально разрешил его применение. Дальше потребовалась помощь ученых. Илизаров представил аппарат в свердловском травматологическом институте ВОСХИТО[12] и предложил объяснить, что здесь происходит с регенерацией кости, нервов, кровеносных сосудов. Биологи принялись за дело, почуяв открытие. Все шло неплохо до 1956 г., когда Илизаров впервые выступил на крупной конференции, куда съехались врачи из разных областей.
Коллеги так и набросились на Илизарова: какая надобность поднимать больного на третий день? Какое может быть костное сращение за 18 суток? А как же 3–4 месяца в гипсе? Раздражал именно малый срок излечения. Одни говорили: «Удивляюсь, но не подражаю». А другие советовали завышать время: «Почему три недели? Полтора-два месяца уже очень хорошо».
Чтобы доказать способность костей расти на миллиметр в день, Илизаров разработал для свердловских ученых опыты на собаках. В 1959 г. Владимир Стецула, который проводил эти эксперименты, доложил на съезде в Харькове, что костная ткань при постепенной дистракции в аппарате регенерирует с той же скоростью, что и кожа. Перелом – та же рана, и он может заживать быстро, как мягкие ткани!
Эта новость рассердила руководителей ЦИТО, головного ортопедического института в Москве. Не то чтобы они возражали против открытия законов роста костной ткани. Но такие важные мощи должен обретать римский папа на Ватиканском холме, а не безвестные монахи в лесной обители. Вокруг директора ЦИТО Мстислава Волкова сложилась могущественная группа влияния, которую в Кургане прозвали «московские друзья». Прекратить деятельность Илизарова «друзья» не могли. Ну и пусть усатый знахарь балуется своими железками… Ни клиники, ни журнальных статей, ни экспериментальной базы ему не видать.
В материальном плане Илизаров жил неплохо. Влиятельные (на местном уровне) пациенты помогли ему получить двухкомнатную квартиру и купить «Волгу» ГАЗ-21. Его травматологическое отделение на 30 коек собрало команду молодых, полных энтузиазма врачей. Все из разных городов, даже из Москвы. Приехали, прочитав газетные публикации об аппарате.
Они помогли открыть новый биологический закон, о котором Илизаров доложил на первом Всесоюзном съезде травматологов-ортопедов в 1963 г.: дозированное растяжение стимулирует рост и регенерацию тканей. Под такую проблему, по идее, надо создать новый институт, но этот замысел «московские друзья» тихонько утопили. Какие бы чудеса ни творил Илизаров в своей больнице, снабжалась она как заштатная.
Из-за нехватки белья и скученности в таких больницах свирепствовал антибиотикорезистентный стафилококк. Погибло сразу несколько пациентов и в отделении Илизарова. Этого терпеть было нельзя. Мало того что каждый пациент был произведением искусства – не хватало еще, чтобы враги прознали о несчастии и заявили, будто «аппарат убивает». Гавриил Абрамович решился на политическую манифестацию.
Он собрал рваные штопаные простыни и пижамы и пришел с ними в обком партии. Оттолкнул милиционеров, дежуривших у кабинета первого секретаря, и вывалил эти лохмотья к ногам главы региона. О наказании за такую дерзость и речи не было. Уже шаталось кресло под Хрущёвым, и расходившиеся от Кремля сейсмические волны ощущали на периферии. «А вдруг он что-то знает?» С бельем стало полегче. И еще помогли наладить первое некустарное производство аппаратов (прежде их делали те же слесари и токарь). Вышли на Красногорский механический завод, который изготавливал фотоаппараты «Зенит», танковые прицелы и космическую оптику. Там как раз налаживали цех для выпуска мелкоразмерного крепежа. Размещался цех в церкви, отобранной у разорившегося колхоза «Путь Ленина». Это красивейший храм Николая Чудотворца в Николо-Урюпине, шедевр допетровской архитектуры. Несколько лет аппараты Илизарова выпускали только там. Гаечный цех покрывал нужды исследователей, не более того. Распространение чрескостного остеосинтеза было немыслимо без производства, а его блокировали сразу несколько ведомств в союзе с ЦИТО, который визировал промышленное производство только собственных аппаратов, напоминавших илизаровские.
Изобретатель сначала думал, что его лавры хотят присвоить. Но нет, враги делали свои аппараты для галочки – не развивали методик их применения, и массовый выпуск этих конструкций приводил к захламлению больничных складов.
Сподвижники Илизарова переживали от такой явной несправедливости, а он был весел и в ус не дул: «Не бывает так, чтобы люди не хотели себе добра. Не понимают сегодня – завтра обязательно поймут». Собственное уныние Илизаров умело вытеснял, что ему дорого обошлось: он не дожил до старости и в последние годы испытывал серьезные проблемы с психикой. Уже в середине 1960-х он понял, что проживет недолго.
Как раз тогда сочувствующие позвали Илизарова в Москву. Он почуял ловушку: там отпущенные ему годы уйдут на дипломатию. И решил оставаться до конца в Кургане, но «жать», как он выражался, изо всех сил. Он и «жал». Раз в полгода рождалась методика лечения остеосинтезом еще одной патологии. Минздрав преобразовал коллектив Илизарова в проблемную лабораторию при Свердловском НИИТО, для которой областные власти отвели два этажа новой городской больницы в Кургане. Все достижения лаборатории подбирались в диссертацию Илизарова. Эта кандидатская по богатству – настоящая пещера Али-Бабы. Когда автор защищал диссертацию в Пермском мединституте (1968), ученый совет присудил звание кандидата наук, а потом, после перерыва, – сразу доктора. За 15 лет горстка врачей и ученых, располагая лишь отделением городской больницы на 130 коек и дружественной лабораторией в Свердловске, сделала столько, сколько ортопеды любой европейской страны за столетие.
«Московские друзья» мешали публикациям Илизарова в медицинских журналах, но не могли заблокировать провинциальную прессу. Корреспонденты на местах, обреченные годами раздувать новости из ничего, изголодались по настоящим героям и любили писать об Илизарове. Их материалы рождали слухи, из которых сложился миф на традиционный для России сюжет: «Где-то далеко, за уральскими горами и лесами, живет доктор-кудесник. Он творит чудеса, за что начальство его не жалует. Попасть к нему трудно, зато лечит он все». Миф очень помогал Илизарову: пациенты прибывали с неколебимой верой в исцеление, что уже полдела.
Кто не мог прибыть, писал жалобы в Минздрав, а то и выше. В ответ на жалобы из Москвы и Ленинграда ехали в Курган главные хирурги. Возвращались потрясенными. В конце концов министерство преобразовало лабораторию Илизарова в филиал Ленинградского НИИ травматологии и ортопедии (не московского же!). В Кургане решено было построить клинику, способную принять толпы безнадежных пациентов. Стройка пошла ни шатко ни валко. Публикации в ортопедических журналах по-прежнему задерживались. Минмедбиопром с производством аппаратов не торопился.
У Волкова официально спросили, как он относится к Илизарову. «Отношусь нормально, но у Гавриила Абрамовича не было, нет и никогда не будет академической школы». В переводе это значило: «Я в Москве, и пациенты у меня соответствующие. А вам на местах желаю успеха в лечении пролетариата подручными средствами». Так оно и было, пока в Москве не попал в аварию шестикратный рекордсмен мира по прыжкам в высоту, чемпион Союза, Европы и США, член ЦК комсомола Валерий Брумель.
Его подвозила знакомая мотогонщица. Показывая класс, разогналась до 100 километров в час. Только что прошел дождь. На выезде из-под моста переднее колесо оказалось на мокром асфальте, тогда как заднее было еще на сухом. Мотоцикл вильнул, гонщица и пассажир вылетели из седла. Девушка упала на мягкий грунт и не получила ни царапины, а Брумель с размаху ударился ногой о бетон так, что не сразу отыскал свою правую ступню. Она висела на коже и связках. В «Склифе» ногу собрали, а потом начались операции. За два с половиной года 25 малых операций и 7 больших, многие в ЦИТО. Результат: укорочение ноги на 3,5 сантиметра, тугоподвижность голеностопа, плохо сросшийся перелом (о прыжках – забыть). Остеомиелит: гниение зараженной кости с перспективой ампутации. Случай безнадежный.
И тут в ЦИТО нашелся изменник, который рассказал Брумелю об Илизарове, начертил схему аппарата и убедил позвонить в Курган, если хочется сохранить ногу. Сам Брумель не выдал информатора. В его мемуарах этот врач фигурирует под именем Николай. Много лет спустя открылось, что это был Владимир Голяховский, научный сотрудник ЦИТО, друг Чуковского и сам тоже детский поэт.
Илизаров справился одной-единственной операцией. Разрубил большеберцовую кость в двух местах, зачистил пораженные остеомиелитом отломки. И постепенной дистракцией в аппарате удлинил ногу, убрав хромоту. Через день после операции Брумель на костылях прошел 60 шагов, чтобы посмотреть по телевизору передачу «КВН». Через две недели он ходил уже с палкой, через месяц гонял вокруг больницы на велосипеде. Через четыре с половиной месяца аппарат сняли, а через восемь месяцев Брумель снова прыгал, уже на 2 метра 5 сантиметров.
Об Илизарове он твердил на каждом шагу. По радио, в газетах, давал интервью иностранным корреспондентам. Буквально продюсировал фильм Элема Климова «Спорт, спорт, спорт», где показана история его лечения и возвращения в прыжковый сектор. Наконец, Брумель привел Илизарову второго знаменитого пациента.
Великий композитор Дмитрий Шостакович болел с 1958 г. Немела вся правая половина тела. Чтобы играть на рояле, Шостаковичу приходилось брать правую руку в левую и класть ее на клавиатуру. Он опасался, что руки откажут на публике, и перестал выступать в концертах. Кости стали необычайно ломкими. Больной всего боялся: сначала прыгать через лужи, потом подъема по лестнице и наконец уже любого движения. Случай сочли безнадежным и советские, и западные врачи. Поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Ждать отказа дыхательной мускулатуры осталось недолго.
Министерство культуры запросило мнение Илизарова. Тот с полным правом ответил, что не его профиль. Но Брумель хорошо изучил характер Гавриила Абрамовича и понял, что его можно взять «на слабó». Валерий был знаком с верным другом Шостаковича виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, который уверял, что склероз этот не столько органический, сколько «на нервной почве». Организовали встречу Илизарова с Шостаковичем, якобы для разовой консультации. Илизаров с первого взгляда определил, что Ростропович прав, и пригласил композитора в свою лабораторию.
Освободили техническое помещение под неврологическую палату. Построили шведскую стенку для упражнений, провели даже городской телефон. Не нашлось только линолеума, чтобы застелить пол. Линолеум не продавали в магазинах! Шостакович приехал в Курган 25 февраля 1970 г. и остановился в гостинице. Его сопровождал Ростропович, который сотворил чудо. Дал концерт, одна контрамарка – и линолеум появился. Чего не добыли даже контрамаркой, так это лечебного питания. В Кургане было так плохо с продуктами, что жена Шостаковича раз в три дня летала в Москву самолетом за мясом.
Илизаров сделал ставку на гимнастику и внушение, что все будет хорошо (при этом раз в три дня по рекомендации неврологов Шостаковичу делали инъекции новейших препаратов). Нагрузка ежедневно возрастала. К лету композитор уже сам забирался в автобус, играл с больными детьми в футбол, а главное – снова мог музицировать. Удавались даже быстрые этюды Шопена. Понимая, как Шостакович тоскует по музыке, Ростропович организовал в Кургане музыкальный фестиваль. А когда прибыл туда с оркестром Свердловской филармонии, узнал, что строительство илизаровского филиала стоит, потому что нет кирпича. Ростропович рассказывал так: «10 апреля 1970 г. я приехал в Курган навестить Шостаковича… Была пятница. Когда мы ехали, по дороге повсюду были плакаты “Все на ленинский субботник!”».
Субботник был не простой, а священный, приуроченный к столетней годовщине со дня рождения Ленина. Ростропович отправился к начальнику треста Курганжилстрой: «Говорю ему: “Завтра мы с оркестром приедем на субботник, будем работать на законсервированном здании илизаровского центра. Дайте нам 200 пар рукавиц, кирпич, раствор, дайте нам крановщика!” А он – мне: “Где же я возьму все это?” Я ему в ответ: “В Москве я скажу, что вы сорвали мне субботник!” Этот начальник гнал всю ночь грузовик кирпича».
Когда музыканты в самом деле уложили в стену весь кирпич, Илизаров повел экскурсию по зданию и чуть не разбился, провалившись в незаделанное отверстие в полу. К счастью, внизу была куча керамзита.
Чтобы и дальше держать строителей в тонусе, звезды музыкальной эстрады организовали настоящее дежурство у Шостаковича. Его по очереди навестили Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха. Все они давали в конференц-зале больницы благотворительные концерты, о которых газеты не писали, но зато знали строители, постоянно убеждаясь в повышенном внимании к своему объекту.
Тем временем Брумель порвал связку на колене и был вынужден оставить спорт. Но рано «московские друзья» радовались, что он теперь не победит на Олимпиаде и не скажет на весь мир спасибо доктору из Кургана. Брумель видел, как Илизаров изнемогает в борьбе, и в помощь ему вложил всю свою спортивную волю к победе. Ретрограды получили противника хитрого, неутомимого, с выдумкой, большими связями и не обремененного работой.
Шостакович поправился и написал Брежневу восторженное письмо с просьбой дать Илизарову орден Ленина – высшую государственную награду за заслуги в трудовой деятельности. И орден Илизарову немедленно вручили! То была пощечина Волкову, у которого такой награды не было. Мало того, Шостакович в больнице говорил с главой Советского комитета ветеранов войны Алексеем Маресьевым (эту встречу устроил Брумель). Прославленный летчик и герой «Повести о настоящем человеке» затеял многоходовую комбинацию с целью вывести Илизарова на члена Политбюро, курирующего медицину. В 1971 г. это был Александр Шелепин. Весьма оригинальный член Политбюро, который из принципа курил дешевые сигареты «Новость» и ездил на работу без охранников и на метро. Так он поступал и на должности председателя КГБ, и в бытность главным партийным контролером. Он тогда помог Брежневу лишить Хрущёва власти, а теперь его отодвинули, поручив профсоюзы и больницы.
На ковер к Шелепину вызвали руководителей всех ведомств, которые от Илизарова отмахивались, главного редактора журнала, который его не печатал, и Волкова. Директор ЦИТО и редактор «заболели», прислали заместителей. После неприятного для всех этих лиц допроса Шелепин зачитал заранее заготовленное решение Политбюро. Курганский филиал преобразуется в самостоятельный институт[13]. На его оснащение и строительство нового большого корпуса выделяются колоссальные деньги: 18 миллионов рублей. Илизаров получает настоящую медицинскую империю: 1300 сотрудников и столько же коек, грандиозный виварий для опытов, самые современные измерительные и аналитические приборы.
Такой победы Илизаров не ожидал. Он-то помнил, как в 1956-м Шелепин, возглавляя комсомол, устроил травлю писателя Владимира Дудинцева за роман о трагической судьбе советских изобретателей: это якобы неуважение к нашему государству и вообще клевета. А теперь Шелепин изо всех сил поддерживает реального изобретателя, которого начали травить в том же 1956 г.
Но если Гавриил Абрамович за 15 лет не согнулся, Шелепин стал уже не тот. Он познал на себе, что такое опала. И, возможно, захотел использовать остаток своего влияния на что-то хорошее, войти в историю не только как невезучий интриган и организатор политических убийств в Европе.
Когда в 1975-м Суслов с Брежневым уничтожили Шелепина, выведя его из Политбюро, Илизаров стал уже неуязвим. В его институте запустили фабрику аппаратов, готовили десятки диссертаций, обучали врачей со всех концов Союза и соцлагеря. Слава достигла западных стран. Три года спустя Илизарову присудили Ленинскую премию. По протоколу полагался одобрительный отзыв головного ортопедического учреждения. Директор ЦИТО пытался не подписать эту бумагу. Но курганцы деликатно объяснили Волкову, что автограф имеет исключительно ритуальное значение и лучше его все-таки поставить.
81 Ген, ответственный за наследственное нейродегенеративное заболевание Америко Негретте 1952 год
Осенью 1952 г. молодой венесуэльский врач Америко Негретте обнаружил на берегах озера Маракайбо многотысячную семью больных хореей Гентингтона. Эта смертельная болезнь начинается с дрожи в руках, а приводит к распаду личности, деменции и параличу. Благодаря открытию доктора Негретте впервые выявили ген, ответственный за наследственное неврологическое заболевание, и нашли способ его лечить. Заодно были установлены мутантные гены, вызывающие рак молочной железы, а также дан старт проекту «Геном человека».
Озеро Маракайбо – залив Карибского моря в северо-западном нефтеносном штате Венесуэлы. Интенсивная добыча идет уже сто лет. Береговое население доходов с нефти не имеет, живет за чертой бедности. Самое нищее место – Сан-Луис, квартал города Сан-Франсиско, где обитают презренные парии, больные хореей.
Когда-то берега озера были засажены деревьями ливи-ливи, на которых созревают дубильные орешки. Они вывозились в Гамбург на огромных четырехмачтовых шхунах. В 1862 г. корабельным священником одной такой шхуны служил испанец Антонио Хусто Дориа. Он встретил в Сан-Франсиско прекрасную креолку Петронилью Гонсалес, списался на берег и сложил с себя сан. Как говорится в тех местах, повесил сутану на гвоздь. Лучше бы он повесился сам, горько шутят венесуэльцы. Потому что Дориа привез проклятую болезнь. И прежде, чем она его доконала, наделал детей. Их потомство в наши дни превышает 18 тысяч человек, из которых более 14 тысяч живы. Половина – больна либо непременно заболеет: вероятность передачи смертоносного гена – 50 %.
В течение 90 лет все это было неизвестно медицинской науке, пока врачом медпункта Сан-Франсиско не стал молодой столичный поэт Америко Негретте. Он принял должность с энтузиазмом, рассчитывая в этой дыре обрести вдохновение.
У единственной на весь город аптеки доктору попался подозрительный субъект. Он еле стоял на ногах, то и дело с размаху падая под колеса машин. Если это была попытка суицида, то заведомо безнадежная. Водители будто ждали падения и невозмутимо тормозили. Негретте сердито спросил: «У него есть семья? Почему он в полдень уже набрался и разгуливает в подобном состоянии?» И услышал, что прохожий не пьян, а болен «пляской святого Витта». Таких «санвитеро» целый квартал.
У Негретте захватило дух. Пляска святого Витта! Что-то средневековое, с картины Брейгеля. Это в двадцатом-то веке? Доктор помчался в квартал Сан-Луис.
Общественное здание там одно – управа, она же школа, она же пункт охраны порядка. Никакого порядка нет и в помине: рядом, в единственном баре «Красный бык», открыто продаются наркотики. И женщины, принимающие в номерах над баром. Обычный креольский «шанхай», как в любом штате Венесуэлы. Но тут вы будто попадаете в кукольный театр, где вместо кукол – люди. Кто-то невидимый дергает их за ниточки, заставляя ритмично повторять размашистые движения, гримасничать, жмуриться, кивать, кланяться, припадать на подгибающуюся ногу и валиться на землю. Падать стоя, сидя, даже на корточках.
Везде взрослые ведут с прогулки детей, а те капризничают. Здесь – наоборот: пятилетний, ухватив мамину юбку, тянет за собой женщину под сорок. Она же молотит воздух руками, показывает язык и пускает слюни. Все ясно: мальчик пришел забрать маму домой. В Сан-Луисе рыбачат и торгуют с шести лет, иначе пропадешь.
Из первой экскурсии Негретте понял одно: он попал в самое необычное место на свете. И надо разобраться, что тут происходит. Почему он до сих пор ничего не знал об этой болезни?
Наутро полицейский отвел Негретте в хефатуру (исп. jefatura) – так при тогдашнем диктаторе Хименесе именовалось управление внутренних дел с неограниченными полномочиями. Глава этой конторы, городской шеф (jefe) дон Марио Морильо, сказал доктору: «Мне стало известно о вашем вчерашнем визите в квартал санвитеро. Не советую вам ходить туда». И долго рассказывал, что это самое криминальное место, исправно поставляющее медикам избитых, колотых, стреляных и просто безумцев.
Получив такое распоряжение, доктор обещал себе не вылезать из квартала Сан-Луис. Во-первых, по природному упрямству. А во-вторых, он решил войти в доверие к этим несчастным, установить в деталях клиническую картину болезни, узнать ее причину и научиться ее лечить.
Причину ему назвали сразу: «Это у нас в роду. Мало кто хочет вступать в брак с теми, у кого в крови беда [венесуэльцы зовут хорею не болезнью, а бедой, el mal]. Оттого наши семьи переженились, и беда в каждом доме». Действительно, хорея Гентингтона встречается по всему миру – в Москве и Шанхае, у подножия вулканов Новой Гвинеи и Неаполя, в пустынях Африки и Австралии, и везде болеет примерно один из десяти тысяч. А в деревнях на озере Маракайбо – каждый десятый.
Спасения нет. У кого беда проявляется легкой неуклюжестью, обычно лет в 30–40, того числят «потерянным» (perdido). Или «потерянной» (perdida), потому что с равной частотой болезнь поражает мужчин и женщин. «Потерянного» ждут пытки бессонницей и голодом. Постоянная двигательная активность уносит по 5000 килокалорий в день, как у профессиональных атлетов. При нищенских доходах питание не восполняет утрату, и хореатик скоро становится живым скелетом. Другая пытка – одиночество. От недосыпа, истощения, страха близкой смерти портится характер. Больные бьют своих детей, сами не зная за что. Скандалят на улице, задираются. Недаром у квартала Сан-Луис дурная слава. «Потерянному» как никогда важно внимание близких, а он делает все, чтобы оттолкнуть их. Ему кажется, будто каждый прохожий хочет его обидеть, а каждый полицейский – забрать в участок.
Задремав ненадолго, больной видит во сне разную жуть: поножовщину, стрельбу, разбитые головы, и все венчается появлением полиции в мундирах. Есть густонаселенная хореатиками деревня Лагунета. Добраться туда можно только на лодке. Все 22 дома, церковь и магазин стоят среди воды на сваях, полицейского участка нет и не будет. Но даже в Лагунете мотивом ночных кошмаров выступает полиция.
До Негретте в Сан-Луисе врачей не видали. «Потерянные» охотно давали себя осмотреть и жаловались на жизнь, как жалуются чиновнику. Того нет, этого нет. Жалуются, хотя понимают: не даст он ни того, ни этого. Доктор чувствовал, что чего-то главного ему не говорят.
Засел за книги. Научное название беды – хорея, что по-гречески значит «пляска». Описал ее в 1872 г. американский врач Джордж Хантингтон (в России его фамилию передавали как «Гентингтон», и заболевание до сих пор называют хореей Гентингтона). В 1911 г. Алоис Альцгеймер, уже открывший свою «болезнь забвения», заявил, что причина гиперкинеза, то есть собственно пляски, – в поражении полосатого тела. Это часть мозга, на которой сверху лежат большие полушария мозга с их знаменитой корой. Сначала умирают нервные клетки полосатого тела, потом серые клетки коры. А с ними гибнет интеллект и сама личность, которая есть не что иное, как тонкий слой нейронов. Это с ним мы носимся как со своим «я».
Болеть хореей Гентингтона – это как иметь сразу паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз. Негретте чувствовал, что здесь ключ ко всем наследственным нейродегенеративным заболеваниям. Он был заинтригован как профессионал.
Через месяц после первого посещения квартала его окликнула старушка:
– Сыночек! [Негретте был тщедушный и маленького роста.] Дурачок, ты же ничего не знаешь!
Жители Сан-Луиса были убеждены, что где-нибудь в Соединенных Штатах есть настоящие врачи, способные лечить хорею Гентингтона. А в их нищей стране медики соответствующие, оттого и беда.
– Сыночек, до каких пор будешь к нам ходить? Тебя здесь не любят.
Но говорила она улыбаясь, и Негретте подумал, что ходить сюда надо обязательно. Вечером старушка опять увидела его и предложила табурет:
– Умаялся, небось.
Доктор действительно с ног валился и охотно присел. Тут его осенило: чтобы завоевать любовь обездоленного человека, попроси у него что-нибудь. Пускай даже последнее. Подав, нищий чувствует свою значимость. И Негретте сказал хозяйке:
– Какие вы все прижимистые! Корки лимонной не предложите голодному врачу.
Ему тут же принесли лимон. «Вот теперь вы мои», – подумал доктор.
Старушка была местным «лидером мнений». Перед Негретте распахнулись все двери. Доктор стал своим, его звали в гости, изливали ему душу. И начала проступать картина накопления патологических личностей среди тех, кого беда пощадила. Братья и сестры больных тоже страдают: у кого депрессия, у кого алкоголизм, слабоумие, плохая память и обучаемость или тяжелый характер. От эгоизма и холодности – плохие отношения с родственниками. Наряду со списком хореатиков Негретте стал вести второй список: дефектных.
Болезнь усиливает либидо. Бывший тихоня может испытывать постоянную эрекцию и пристает к женщинам на улицах, преследует их, когда они возвращаются домой в поздний час. Иметь больше десяти детей от разных партнеров здесь нормально. Когда знаешь, кто кому кем приходится, считай, перед тобой огромная генетическая лаборатория. Ценными информаторами оказались дети больных – в судьбе родителей они видели свое будущее.
Если беда обходила этих детей стороной и они вступали между собой в брак, их потомство тоже было здоровым. Как заметил Хантингтон, «свободен раз – свободен навсегда». Это называется доминантное наследование – соответствующий закон был открыт Менделем как раз в то время, когда отступник Дориа снимал свою сутану ради прекрасной креолки. Доминантный ген, вызывающий болезнь Гентингтона, проявляется в каждом следующем поколении. Когда болен один родитель, вероятность передачи хореи по наследству 50 %, когда оба – 75 %.
Душевная близость с пациентами омрачалась развитием болезни. Твой друг деградирует как личность. Нарастает частота и размах его патологических движений. Вот чувства покидают его одно за другим: сначала он перестает различать сладкое и соленое, потом уже не ощущает никаких вкусов, даже горькой хины. Затем перестает понимать обращенные к нему вопросы. Перестает делать вид, что понимает. Перестает узнавать тебя. Так больно это видеть, что через несколько лет Негретте решил больше не ходить в квартал Сан-Луис. Сообщения о крупнейшей в мире гентингтоновской семье сделали ему имя в науке. Он стал профессором, возглавил институт неврологических заболеваний. Теперь в Сан-Луисе работали его студенты. Госпиталь штата передал институту целый этаж. Туда и пришла в 1979 г. девушка ангельской красоты, американка Нэнси Уэкслер.
Ее предки по материнской линии погибли от хореи Гентингтона. Установить родословную нельзя: когда дед бежал из России, семейные связи оборвались. Первыми заболели братья матери – три любимых дяди Нэнси. На уход за ними требовалось столько денег, что отцу девушки пришлось сменить профессию. Психиатр Милтон Уэкслер переучился на психоаналитика, переехал в Голливуд. Стал работать со звездами кино, сценаристами, художниками. Нэнси пошла в клинические психологи. Когда она стажировалась у Анны Фрейд (дочери основоположника), заболела ее родная мать.
Отец сказал Нэнси и ее сестре Элис: «Есть и другие плохие новости. Вы, девочки, после тридцати можете заболеть с вероятностью 50 %». Сестра Элис ответила: «50 %, что я останусь здоровой, – не такая уж плохая новость». А Нэнси решила не иметь детей, пока не появится надежный генетический тест. Теперь до нее дошло, почему дяди так нянчились с ней и с Элис, а своих детей не оставили, хотя были красавцы и музыканты. И почему они врали, будто болезнь передается лишь по мужской линии.
Уже несколько лет как мать Нэнси стала другим человеком. Думала и говорила только о себе. С ней стало скучно. Прежде она, дипломированный биолог, называла по песне любую птицу, сейчас не узнавала даже соловья. Ее одолела нерешительность. Советовалась по каждому пустяку (например, как расставить мебель у себя в комнате), а получив совет, негодовала, что на нее давят. Милтон даже развелся с ней, но теперь понял, что дело в болезни. Он сказал Нэнси: хорея передается по наследству, вот ее уязвимое место. Ты в опасности, так найди этот ген и придумай, как его обезвредить.
Милтон верил, что ученые могут работать за гонорар, как артисты и сценаристы. Уэкслеры создали Фонд изучения наследственных заболеваний (Hereditary Disease Foundation, HDF) и привлекли к финансированию научных семинаров свои голливудские контакты. За подготовку работ исследователям платила какая-нибудь средней величины звезда, которая и выслушивала сообщения ученых. Потом фонд стал давать небольшие гранты, по 2000 долларов. Когда вице-президентом стал знаменитый архитектор Фрэнк Гери, автор проекта музеев Гуггенхайма в Бильбао и Нью-Йорке, сумма гранта увеличилась. Доходит порой до 50 000 долларов.
Нэнси начала с опроса больных в США. Там хорея Гентингтона – постыдная семейная тайна. Каждая гентингтоновская семья считала себя единственной и не желала выдавать родственников, особенно при сложных отношениях с ними.
Выявлять отдельные гены тогда не умели – только участки хромосом, на которых они локализованы, и сцепленные с этими генами фрагменты ДНК, переходящие от родителей к детям, – так называемые маркеры. Чтобы достоверно разыскать маркер, нужен генетический материал трех-четырех поколений больных. И не одной семьи, а десятков. Нужны тысячи больных, живущих много лет на одном месте. В Соединенных Штатах, стране мигрантов, такого не найти. И тут Нэнси припомнила фильм о хореатиках Маракайбо. Его показывали на конференции по случаю столетия публикации Хантингтона.
Негретте заключил с Фондом изучения наследственных заболеваний соглашение о взаимной поддержке. Отвел Нэнси с ее помощниками в квартал Сан-Луис и объяснил местным, что это не шпионы и проходимцы, а исследователи, приехавшие за генетическим материалом – образцами крови и кожи (в 1979 г. для генетического анализа срезали полоску кожи с руки). Американцы объехали деревни, где было много больных. Везде собиралась толпа на них поглазеть.
– Как же так? – кричали из толпы, – вы летаете на Луну, а беду не лечите?
«Как это правильно!» – думала Нэнси про себя. А вслух говорила, припоминая базовый испанский и показывая шрам от анализа на руке:
– Я одна из вас! Моя мать умерла от того же. Смотрите! Я сдавала кожу, чтобы ученые больше узнали о беде. Но вас много, и вы лучше всех могли бы помочь сделать так, что ее не станет. В мире нет никого важнее вас – для больных и тех, кто еще заболеет.
Этим людям впервые сказали, что от них хоть что-нибудь зависит. И они охотно сдавали кровь. Тем более что американцы платили донорам и кормили больных за счет фонда. Венесуэльцы охотно рассказывали свою родословную. Ни переписи, ни регистрации гражданского состояния в тех местах не бывало, но все помнили, кто кому кем приходится. Получилось гигантское генеалогическое древо на 14 тысяч лиц с пометками, кто здоров и кто болен. Поскольку беда находила всё новые жертвы, а пациенты продолжали плодиться, экспедиции стали ежегодными.
В 1982 г. по дороге из водной деревни американцы попали на озере в шторм и чуть не погибли. А везли они тогда образцы крови, в которых был открыт генетический маркер хореи Гентингтона.
Нужно было установить, какие маркеры переходят из поколения в поколение, от дедов ко внукам. И проверить связь каждого маркера с болезнью на сотнях проб от разных людей. Как раз это венесуэльцы и обеспечили.
Скромная группа генетиков, общавшихся по телефону, работала результативнее НИИ. В Гарварде канадец Джим Гузелла вырезал из ДНК фрагменты, содержащие маркеры. В Бостоне американец Майк Коннили сличал на компьютере данные о присутствии того или иного маркера в крови с пометками на генеалогическом древе. Оптимисты думали, что на такую работу уйдет лет двадцать. Из ДНК человека можно выделить несколько тысяч маркеров. А результат показал всего лишь двенадцатый по счету. Так в ноябре 1983 г. стало ясно, что хорею вызывает мутантный ген, какой-то из сотни с короткого плеча четвертой хромосомы. И каждый теперь мог проверить, заболеет он или нет.
Вот когда врачам стало ясно, что надо расшифровать весь геном человека. Не только орфанные и раковые заболевания, но и артрит, ожирение, диабет, аллергия – все это иксы в гигантском уравнении ДНК. Пора записать его, чтобы вычислить одно неизвестное за другим.
15 лет потратила Нэнси на создание генетического теста. И вот ей 38, еще не поздно родить. За работой она не сомневалась, что хочет знать свое будущее. Но теперь, когда это стало возможно, спросила совет отца. Милтон сказал: «Если тест окажется положительным, с нами все кончено. Давайте жить счастливо, пока можем». И Нэнси до сих пор не прошла свой тест, хотя ей уже за 70. Всякий раз, когда ее одолевали сомнения, она ходила по краю тротуара и успокаивала себя: «Не падаю – значит, здорова».
Только несколько тысяч человек из группы риска решились на такое исследование. В основном женщины, по большей части пожилые. И далеко не все, узнав свой приговор, смогли жить дальше.
У мальчика по имени Анхель из деревни Лагунета (которая стоит на воде и не имеет полицейского участка) болезнь проявилась необычайно рано – в два года. Он прожил 11 лет. Но благодаря ему стало ясно, как возникает болезнь и чем ее лечить.
Один из его генов на четвертой хромосоме был настолько тяжелее и длиннее, чем у других больных, что разница бросалась в глаза. Лишних 100 раз повторялся участок, кодирующий глутаминовую кислоту в белке, который назвали гентингтин. В норме он для жизни необходим. Пока не совсем ясно зачем. Но мыши, у которых отключали кодирующий его ген, быстро погибали. Однако, если повторов больше 35, мутантный патологический ген штампует токсичный гентингтин. Яд убивает сначала нервные клетки базальных ядер, отвечающие за остановку лишних движений, а потом и серые клетки коры больших полушарий. И чем больше в гене лишних повторов, тем раньше начинается и тяжелее протекает болезнь.
Группа Нэнси выяснила это в 1993 г., задолго до расшифровки всего генома человека. Генетик Джиллиан Бейтс в лондонской больнице Гайс Хоспитал вставила 150 повторов в ген лабораторных мышей. И трансгенные животные через три недели демонстрировали симптомы хореи Гентингтона: танцующие движения, худобу при усиленном питании, проблемы с памятью и обучением. Умирали за пару месяцев, тогда как здоровая мышь живет два года.
Теперь стало можно пробовать новые препараты на мышах. Не ждать годами, как у людей, проявится хорея или нет. И принцип работы лекарства понятен. Белки печатаются не прямо с ДНК, а с промежуточной инструкции, которую клетка получает из ядра. Эта инструкция называется матричной РНК, сокращенно мРНК. Препарат должен распознавать патологическую мРНК и связывать ее, выводя из оборота. Опыты на мышах показали, что мозг больного в этом случае выздоравливает и симптомы исчезают. В этом направлении фонд Уэкслер и повел активную работу. Попутно были открыты 14 манипуляций с ДНК, благодаря которым стал возможен анализ на ген, вызывающий рак молочной железы. Уже вовсю делали профилактические ампутации груди, а болезнь Гентингтона никак не поддавалась.
Правительство Венесуэлы купило бар «Красный бык», чтобы превратить в центр помощи хореатикам. Они часто падают – надо лечить переломы, болеют пневмонией – нужно колоть антибиотики, страдают от вшей и гельминтов, как и все в Сан-Луисе. Семь лет искали деньги на ремонт здания, наконец открыли диспансер «Любовь и вера», существовавший исключительно на средства того же американского фонда.
Ремонт был сделан к президентским выборам 1998 г. Выиграл их Уго Чавес, провозгласивший Боливарианскую революцию, целью которой была качественная медицинская помощь каждому больному венесуэльцу. Когда ничего из этого не вышло, объявили, что причина – козни США.
Чавесу было приятно хоть что-нибудь запретить американцам, и в 2002 г. группа Уэкслер не смогла въехать в страну для сбора генетического материала. Вмешался Негретте, знаменитый на всю Латинскую Америку. Ученых временно оставили в покое. Но после смерти Негретте в его институте нашлась женщина-генетик, обосновавшая недопуск иностранцев на берега Маракайбо.
В 2010 г. она поместила в издании ЮНЕСКО статью о биоэтике. Там говорилось, что американские ученые нарушают законы Венесуэлы. Они платят своим донорам долларами США, а не боливарами (неконвертируемая денежная единица, курс которой на черном рынке в разы отличался от официального). Скрывают диагноз от еще не заболевших носителей мутантного гена. (Что с того, что каждый четвертый, выслушав такой приговор, кончает с собой?) Право на информацию и самостоятельность решений гарантировано Боливарианской конституцией. А почему за 30 лет американцы так и не создали средства от хореи Гентингтона? Что-то здесь нечисто…
Статья прекрасно дополняла диктаторские фантазии, будто враги готовят генное оружие, чтобы «выморить нас и всю нашу нефть забрать себе». Вывоз биоматериалов из Венесуэлы запретили законом. Нэнси прилетела в Каракас на переговоры. Ее посетил министр здравоохранения и заверил, что лично он за сотрудничество, но с геополитикой ничего поделать не может.
Через год мир узнал, что Чавес умирает от рака. Казалось бы, режим должен стать мягче к больным. Нэнси опять прилетела на переговоры. Ладно, мы не собираемся нарушать ваши законы. Но разрешите хотя бы финансировать «Любовь и веру». Разрешите бесплатно кормить ваших больных – им нужно дорогостоящее лечебное питание. Это миллион долларов в год, но мы не просим денег.
На носу были выборы 2012 г., и желание уесть Америку опять победило. Нэнси больше не прилетала. Диспансер «Любовь и вера» закрылся в 2014 г. за отсутствием денег, лекарств, шприцев и подгузников.
А через пару лет в Калифорнии начались успешные клинические испытания первого лекарства от хореи Гентингтона. Когда синтез токсичного белка блокируется, гиперкинез утихает и мозг выздоравливает. Объявив об этом, Нэнси стала добиваться разрешения поехать в Венесуэлу, как только завершатся положенные по закону процедуры. С тем чтобы даром раздать лекарства людям, имеющим важные заслуги перед наукой.
Президент Трамп ввел персональные санкции против руководства Венесуэлы за то, что оно лишает свой народ доступа к жизненно важным лекарственным средствам. Папа римский Франциск принял группу больных хореей, обещал содействие. У парий с озера Маракайбо вся надежда на папу.
Когда был только открыт генетический маркер болезни Гентингтона, Нэнси позвали на телевидение и спросили, что она сделает на следующий день после того, как ей дадут «таблетки от хореи».
– Прилечу в Венесуэлу. Зайду в каждый дом, где есть больные, вручу им эти таблетки. И все будут кричать от счастья. Не представляю себе ничего прекрасней.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Сергей Клюшников: Антисмысловые нуклеотиды в клиническом триале вводятся эндолюмбально. Третья фаза испытаний начинается в 2019 г. одновременно в 15 странах, в том числе и в России.
Возможность возникновения мутации – экспансии тринуклеотидных CAG-повторов – de novo[14] заложена в самой биологии человеческого генома. На протяжении эволюции человека количество микросателлитных повторов в генах, в том числе и в гене НТТ (гентингтин), медленно, но неуклонно увеличивается. Такая распространенность заболевания среди индейцев озера Маракайбо объясняется «эффектом основателя» и неконтролируемым инбридингом (близкородственными браками).
Алина Корбут: Я стесняюсь спросить, а презервативы там не в чести? Я не подвергаю сомнению репродуктивные права этих людей… Но либидо как бы еще не повод само по себе…
Валентина Голяка: Як на мене, це нормально – маєш серйозну спадкову хворобу – не розмножуйся. Може, я чогось не розумію…[15]
Ответ: Когда открылся диспансер «Любовь и вера», там главный врач, венесуэльский доктор Марго де Юнг, с трудом уговаривала женщин на стерилизацию. Уговорила немного, но и это достижение для тех мест, где плодиться – единственная радость в жизни.
82 Коронарное шунтирование Владимир Демихов 1953 год
29 июля 1953 г. биолог Владимир Петрович Демихов в эксперименте на собаке сделал первую успешную операцию коронарного шунтирования, ставшую теперь важнейшим хирургическим методом лечения инфаркта и стенокардии. Слава об этой операции вызвала зависть именитых советских хирургов, которые начали борьбу с Демиховым и пошли даже на его похищение.
Десятки тысяч людей с пересаженным сердцем и сотни тысяч больных, которым делали коронарное шунтирование, обязаны жизнью ржавому гвоздю. Этот гвоздь летом 1929 г. валялся в пыли на большой дороге при въезде в хутор Кулики. Он пробил скат легковой машины, ехавшей из Урюпинска в Камышин. Водитель вышел поменять колесо. Экзотический для Куликов процесс наблюдал 13-летний хуторской мальчик Володя Демихов.
Шофер объяснил ему, что в автомобиле можно заменить вообще любую деталь – он всегда как новый. А дальше произнес фразу, решившую судьбу мировой трансплантологии: «У животных тоже можно менять части тела». И рассказал, что у ящерицы вместо оторванного хвоста вырастает новый. Володя сразу же задался вопросами: «А у собаки тоже вырастет новый хвост? А из отрезанного хвоста почему кровь идет?» Учительница объяснила, что у собаки есть сердце, которое толкает кровь. Вскоре мать застукала Володю с ножом в руке, когда он собрался разрезать щенку бок и постичь, как работает сердце. Щенок был спасен, а сын выпорот за живодерство. Не помогло: юный Демихов заболел жаждой анатомических познаний. Поняв, что огородника из него не выйдет, родные отправили Володю учиться.
В то время для деревенского мальчика вратами знаний было фабрично-заводское училище. Получив специальность слесаря и работая на Сталинградском тракторном заводе, Демихов задумал создать металлическое сердце. Он поступил учиться на физиолога в Воронежский университет и там провел первый такой опыт. Громоздкий аппарат не помещался в грудную клетку, но кровь перекачивал. Перспективного студента перевели в Московский университет, где он получил диплом биолога перед самой войной.
Мобилизовали его патологоанатомом во фронтовой госпиталь. Здесь Демихов приобрел квалификацию хирурга, насмотрелся на погибших со вполне здоровым сердцем и умирающих от осколка в сердце. Если бы можно было пересадить раненому орган убитого товарища! Демихов придумал для этой операции название «трансплантация». Ему грезился Центр Пересадки Важных Органов Человека – ЦПВОЧ, большой госпиталь для реабилитации ветеранов, с банком запасных органов на выбор.
Все в один голос говорили, что у теплокровных животных это невозможно: иммунитет неминуемо отторгает подсаженный орган как чужеродный. Однако Демихов умел не соглашаться со «всеми». Иммунитет, конечно, мешает, но на него часто списывают свое неумение. Хирурги просто не могут обеспечить кровоснабжение нового органа, и он отмирает. Да так бывает и с собственным сердцем человека при ишемической болезни, когда забиты коронарные артерии.
Венечные, по-латыни коронарные (coronariae) артерии называются так, потому что венчают сердце короной. Они доставляют кислород в миокард – те самые мускулы, сокращение которых и есть биение нашего сердца. Зимой 1507 г. Леонардо да Винчи, тайно вскрывая трупы во флорентийской больнице Санта-Мария-Нуова, обнаружил, что смерть может вызываться пробкой в коронарной артерии. Особенно подвержена закупориванию склеротическими бляшками левая коронарная артерия в том месте, где она, пронизав сердечную сумку, ложится непосредственно на миокард. Вот главная причина стенокардии и инфаркта.
Еще на войне Демихов придумал снабжать миокард кровью в обход пробки. Надо перебросить к сердцу внутреннюю грудную артерию и сшить ее с коронарной ниже места склеротического сужения. Такой обходной путь называется шунтом. Первый же предложенный Демиховым шунт – маммарокоронарный (от старого латинского названия внутренней грудной артерии – arteria mammaria interna) – оказался самым надежным.
Операцию шунтирования нужно выполнять стремительно, не оставляя сердце без питания надолго. Война породила решение этой проблемы: появились сосудосшивающие аппараты. Не было только хирургической больницы, где решатся на подобную операцию. Демихов начал в одиночку. Без денег, связей и медицинского образования.
Приехав с фронта в Москву, он устроился преподавать физиологию в Московском пушно-меховом институте, где получил помещение для опытов. Затем разыскал своего однокурсника Арона Гурвича, с которым некогда много спорил об иммунитете. Израненный на войне Гурвич работал в Институте биологической и медицинской химии. Он помог другу – принес с работы морфин для анестезии и поймал в Нескучном саду двух бродячих щенков. 23 февраля 1946 г. сердце одной собаки было пересажено другой, и реципиент прожил с двумя сердцами 15 минут. Это было сделано без гипотермии, аппарата искусственного кровообращения, иммунодепрессантов.
В том же году Демихов сумел пересадить собаке одновременно сердце и легкие, и животное прожило шесть суток. На этом деятельность исследователя в пушно-меховом институте закончилась: начальство сочло, что он занимается ерундой.
Но теперь Демихову было с чем идти к самому передовому хирургу России Александру Васильевичу Вишневскому, чье имя до сих пор на слуху благодаря лечебной мази. Демихов увлек старика идеей центра трансплантации и получил экспериментальную лабораторию. В Институте Вишневского было в 1951 г. впервые пересажено сердце, а в 1953-м выполнена первая операция коронарного шунтирования. Пес по кличке Злой остался жив, потому что Демихов и его верный сотрудник Владимир Горяйнов успели соединить артерии за полторы минуты. Вторая такая операция была произведена 1 ноября. Подопытная собака прожила больше семи лет. Операцию засняли на пленку, которую передали в Академию медицинских наук. Светила отмахнулись: какой-то биолог будет их учить!
Тогда Демихов стал пропагандировать трансплантацию. Он поступил лектором в общество «Знание» и охотно показывал своих животных журналистам. Главным козырем явилась знаменитая собака с двумя головами: голова маленькой собачки, пришитая на тело большой, существовала за счет чужого сердца и легких больше недели. Обе головы лакали молоко, высовывали языки в жару. Маленькая кусала большую за уши, а большая пыталась то удушить маленькую, то убить ее ударом о батарею. Зато теперь было ясно, что даже голова в ожидании подходящего донорского тела способна жить на временном носителе. Так можно консервировать любой орган.
После этого опыта из Минздрава пришел приказ уволить Демихова. Новую работу неожиданно предложил ректор Первого меда Владимир Васильевич Кованов, противник трансплантации и сторонник теории несовместимости тканей донора и реципиента. Зачем он так сделал, стало понятно не сразу.
Кованов предложил Демихову оформить результаты опытов как диссертацию, а в 1959 г. взял с собой в Мюнхен. Внимание немцев сразу же переключилось на Демихова. Журнал Stern пригласил его показать на собаке операцию коронарного шунтирования. Из операционной шла трансляция по телевидению в прямом эфире. Демихову предложили работу в западногерманской клинике. На вопрос, как у него дела, наш герой честно отвечал, что ходу не дают, не внедряют даже хирургическое лечение инфаркта.
Кованов и академик Борис Васильевич Петровский, руководители делегации советских врачей в Мюнхене, устроили партсобрание. На нем присутствовали все, кроме Демихова (он был беспартийным). Чтобы Демихов ничего не узнал, собрание замаскировали под прогулку. Построившись рядами, врачи по цепочке передавали друг другу мысли выступающих. Кованов заявил, что Демихов якобы собирается остаться и задача коммунистов – этого не допустить. Нужно проинформировать органы, а доверенный товарищ должен выманить окаянного невозвращенца из номера. Это поручили Глебу Михайловичу Соловьёву, самому талантливому из учеников Петровского.
Демихов вообще был доверчив, а к одаренным людям особенно. От такого яркого молодого хирурга, как Глеб Михайлович, он не ждал подвоха. Соловьёв соврал, будто другой журнал – Der Spiegel – тоже просит сделать операцию в прямом эфире и сейчас из редакции приедет машина. А машина оказалась посольской: под конвоем кагэбэшников мнимый невозвращенец отправился в Москву. Из-за угла ход операции лично наблюдали Петровский и Кованов. А потом они втроем с Соловьёвым отправились отметить удачу в ту самую пивную, где Гитлер некогда провозгласил создание своей партии.
Демихова едва не посадили. Спас его двоюродный брат – служивший в Генштабе генерал Сергей Матвеевич Штеменко, который во время войны был личным докладчиком Сталина, а до 1957 г. возглавлял ГРУ.
Владимир Петрович остался невыездным, но это его не так уж и заботило: он готовил диссертацию. Здесь-то и проявились истинные намерения Кованова: оказывается, ректор должен быть указан как источник основных идей работ Демихова и как соавтор его монографий. На это Демихов не пошел. Он перевелся в Институт имени Склифосовского, далекий от академических интриг, и продолжил свои опыты в тамошнем морге. Его книга «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» (1960) – первый учебник по трансплантологии – была мгновенно переведена на английский.
Не прошли даром и прямые эфиры. Работавший в США немецкий хирург Роберт Ханс Гёц в 1960 г. сделал операцию коронарного шунтирования человеку. Умиравший от стенокардии пациент прожил без боли еще год. Гёцу тоже досталось – у американских хирургов к нему возникли какие-то этические претензии. Зато на Демихова обратил внимание ученик Гёца, южноафриканский кардиохирург Кристиан Барнард. Он дважды приезжал в Институт Склифосовского, чтобы ассистировать Владимиру Петровичу. 3 декабря 1967 г. Барнард осуществил мечту Демихова – пересадил сердце человеку. Первый пациент прожил несколько недель, второй несколько месяцев, а шестой – уже больше 20 лет.
Петровский стал министром здравоохранения и своим приказом № 600 от 2 августа 1966 г. запретил пересаживать сердце без личного разрешения министра. К нарушителям был беспощаден. Даже когда его любимец Соловьёв, директор Института трансплантации органов и тканей, сделал в 1971 г. такую операцию (спасая умирающего, не потратил время на документацию), он был снят с должности и выброшен из круга приближенных. Следующая операция пересадки сердца в СССР была сделана в 1983-м, а первая удачная – в 1987-м. К тому времени число выполненных на Западе сердечных трансплантаций перевалило за шесть тысяч, а среднее время жизни пациентов превысило десять лет.
Коронарной пластике повезло больше: с 1964 г. Василий Иванович Колесов начал делать ее в Ленинградском мединституте имени Павлова. Шунтирование превратилось в рутинную операцию. Самым большим его мастером стал Майкл Дебейки. Его пригласили в Москву в 1996 г., когда операция потребовалась Ельцину. Дебейки прилетел и тут же спросил, где можно поклониться академику Демихову. Сотрудники президентской администрации не смогли ответить. Они не знали, кто такой Демихов.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Али Гахраманов: Петровского великим хирургом сделала пропаганда, а на самом деле слова Косыгина после гибели Королёва в его адрес: «Вы не только бездарный министр, а еще и бездарный врач». История все ставит на свои места, и Демихов – непризнанный в СССР Гений!
Ответ: И у великих хирургов бывают неудачи. С Королёвым – типичная история Четвертого управления: никто не хотел отвечать, нагнали консилиум, долго всех ждали. Но кто видел операции Петровского, не мог их позабыть. Атравматичность, мягкость движений, стремительность – он был хирург-ювелир. Мы не защищаем Петровского как человека, это уже третий наш сюжет, где он фигурирует как отрицательный герой (есть один, где он положительный). Но надо быть объективным. Пока что история ничего не расставила по местам. Петровский несет ответственность за эпидемию кори, за страдания транссексуалов, за смерть тех, кому вовремя не пересадили сердце, и вообще за отставание трансплантологии: он ей навредил в мировом масштабе. И за все это никто не ответил. Вот если нынешние ретрограды будут видеть, что улица и институт больше не носят имя Петровского, что студентам рассказывают обо всех его подвигах в разделе «как не надо», они задумаются, стоит ли так уж портить жизнь другим. Пока мы делаем вид, что в прошлом все было прекрасно, мы обречены на зло в настоящем.
Anna Kiriluk: Интересно, как бы все пошло, стань Демихов невозвращенцем, начни работать на Западе™? Хотя на территории СССР пересадки навряд ли начали бы раньше…
Ответ: Начали бы у нас раньше, потому что Демихов бы там раньше начал, а мы всегда «если там делают, надо и нам сделать». Так, например, рассуждал Бураковский, когда в 1983 г., наплевав на запрет Петровского, попытался пересадить сердце: ему просто описали рутинную операцию трансплантации сердца в США. Страна-провинциал вечно берет пример со столиц. Уехал бы Демихов в 1959 г., Бураковский наплевал бы на запрет десятью годами раньше. Между прочим, Демихову предлагали уехать, звали на большие деньги. Но он не мог бросить в заложниках жену, дочь и Горяйнова.
Амир Талипов, сейчас здесь: Институт. им Склифосовского: Я был в том месте, где зародилась трансплантация как наука во всем мире. Но что мы имеем с наследием Демихова сейчас? Молодые сотрудники и студенты медицинских вузов не знают о нем, мне помогла найти его виварий и подвал пожилая архивариус Нина Васильевна и медсестра Венгер. Табличка его висит на отделении трансплантации почки, в «Склифе» прямо в холле продают иконы, а сотрудница патанатомии пыталась послать меня на три буквы, чтобы я много не болтал и не спрашивал про Демихова. Я почувствовал себя Демиховым… И мемориальную табличку за свой счет сделал проф. Хубутия, не государство. Вот вам и отношение к гениям в СССР.
P. S. Демихов был в КиргССР во Фрунзе в клинике Ахунбаева, где показал свои опыты на собаках. Акрамов полностью повторил те опыты и пошел дальше, написав кандидатскую под руководством проф. Знаменского. Я отстроил заново виварий в той больнице, где работаю с Акрамовым.
83 Вакцина от полиомиелита Джонас Солк 1954 год
23 февраля 1954 г. начались массовые испытания первой вакцины от полиомиелита. С этого дня цивилизация стала отползать от края пропасти, грозившей поглотить каждого второго.
До появления вакцины в половине случаев полиомиелит начинался и заканчивался как грипп. Примерно 40 % больных калечил паралич, и 10 % погибали от дыхательной недостаточности. Спасали только «железные легкие» – камеры, в которых работу парализованных дыхательных мышц совершает перемена давления воздуха. В этих ящиках, откуда торчали голова да ноги, проводили остаток своих дней жертвы полиовируса в промышленно развитых странах.
Полиомиелит встречался еще у древних египтян, но характер эпидемии принял с появлением городского комфорта, когда человек во младенчестве перестал контактировать с возбудителем болезни. Унаследованного от матери запаса антител ребенку хватает на несколько месяцев. Если за это время в организм не попадет полиовирус, иммунитета к нему не возникает. Такую изнанку гигиены достоверно выявили в марокканском городе Касабланка, где в чистеньком европейском квартале больных полиомиелитом насчитывалось в 20 раз больше, чем в антисанитарном бидонвиле.
С тех пор как в 1908 г. открыли проклятый вирус, он все время наступал. Так, за 1952-й в Соединенных Штатах полиомиелит убил 3145 человек и парализовал 21 269. Спустя шесть лет сравнимые потери понес Советский Союз. Санатории наполнились парализованными страдальцами, в основном детьми.
Создатель первой вакцины от полиомиелита Джонас Солк не слишком интересовался этим заболеванием. Выучившись на врача, он понял, что не хочет заниматься обычной практикой, и стал микробиологом. Во время войны участвовал в разработке вакцины от гриппа, открыл новый штамм. Оказалось, в мирное время за такое лабораторию не дают, разве что комнату в больничном подвале. Единственным грантодателем, способным финансировать полномасштабное исследование, оказался Национальный фонд борьбы с детским параличом. На деньги этой организации специалисты уже научились разводить вирусы на клетках обезьяньих почек, очищенных от микробов антибиотиками. Солк фактически пришел на все готовое: оставалось убить полиовирусы всех трех типов формалином и проверить иммуногенность на обезьянах.
В 1952 г. Солк ввел вакцину себе, своей жене и трем сыновьям. Процесс предусмотрительно снимался на пленку. Потом этот фильм демонстрировали детям во время массовой вакцинации, чтобы успокоить их перед уколом. Вакцина оказалась безопасной и не вызывала аллергии. К удивлению научного сообщества, руководитель Национального фонда убедил чиновников здравоохранения разрешить вакцинацию почти непроверенным препаратом более миллиона детей по всей стране. 23 февраля 1954 г. Солк с несколькими врачами сделал прививки пяти тысячам школьников у себя в Питтсбурге. Ничего страшного не произошло. Анализ показал наличие антител. 26 апреля началась «миллионная» кампания. Через год, 12 апреля 1955 г., специалисты фонда объявили результаты: вакцина безвредна, вызывает иммунитет. Новость эта настолько потрясла американцев, что рабочий день окончился. Полиомиелита боялись, как ядерной войны. Фонд сразу получил 67 миллионов долларов пожертвований; хватило на поголовную вакцинацию всех детей в США и массу новых важных исследований.
Со всего мира в Америку слетелись специалисты – изучать производство вакцины. Из Советского Союза прибыли директор Института изучения полиомиелита Михаил Чумаков и его жена Марина Ворошилова, которая в 1945 г. выделила первый советский штамм полиовируса.
Чумаков был директором без году неделя, прежде он руководил лабораторией эндемических лихорадок в Институте неврологии на общественных началах, без штатной должности и оплаты. Его аспирантов никуда не принимали. До «дела врачей» Михаил Петрович возглавлял Институт вирусологии. В 1953 г. он отказался выгнать сотрудников-евреев, заявив, что иначе понимает национальную политику партии. Получил выговор, а потом вылетел и из партии, и из института. Работая бесплатно среди неврологов, боролся с трахомой и энцефалитом, а также обнаружил в Средней Азии экзотическую Ку-лихорадку.
Его жена Марина Константиновна тем временем выделяла полиовирус и заразилась, так что год ходила на работу с палочкой.
После смерти Сталина медицину в ЦК курировал Анастас Микоян. В 1954-м эпидемия полиомиелита докатилась до СССР, и Микоян опасался за своих внуков. Он решил создать профильный институт и поставить во главе его самого боеспособного вирусолога. Знакомые указали на Чумакова. Михаилу Петровичу вернули «чистый» партбилет, но он попросил оставить там выговор «за евреев», которым гордился как наградой. 1 ноября 1955 г. образовался институт, зимой Чумаков побывал в Америке, а через полгода наладил выпуск двух тонн вакцины Солка в год.
Она позволяла прекращать вспышки полиомиелита в самых крупных городах, но жертв меньше не становилось. Как и предсказывали научные противники Солка, создаваемого его вакциной иммунитета хватало ненадолго. Зато на средства от ее продажи велись научные работы, пролившие свет на механизм размножения вирусов. В 1958 г. Алберт Сэбин, работавший в детской больнице Цинциннати, сделал из новой теории вывод: когда вирусы разводят при пониженной температуре, естественный отбор среди них «выигрывают» непатогенные мутанты.
Если проглотить таких мутантов и запить чем-нибудь сладким, вирус попадает в желудочно-кишечный тракт, где размножается. Это живая вакцина: не патогенна, зато антитела к ней действуют и на «дикий» полиовирус. Более того, играющие в песочнице дети перезаразят друг друга вирусом вакцины – в результате иммунизируются и те, кому прививки не делали. Ничего подобного профилактика инфекций прежде не знала.
Но в Америке Национальный фонд не желал переходить на живую вакцину Сэбина: ведь препарат Солка работает. Тогда Сэбин подарил свой штамм Чумакову, чтобы проверить на широких массах неиммунизированных детей возможность вакцинации «в песочнице». Биография Чумакова внушала доверие: человек явно порядочный и не припишет создание вакцины себе.
Научная работа в Институте изучения полиомиелита замерла, люди и средства были брошены на производство миллионов доз живой вакцины Сэбина. В советском Минздраве идею применить иностранный препарат, от которого отказались на родине, сочли безумной. Американцев у нас одновременно ненавидели и боготворили – уж они-то знают, что делают!
Собственный заместитель Михаила Петровича высказывал и здравые опасения: а вдруг в кишечнике ребенка безобидный мутант вспомнит гнусные привычки предков? Действительно, такие обратные мутации бывают 1 раз на 2,5 миллиона случаев, и в XXI в. это проблема живой полиомиелитной вакцины. Но в обстановке эпидемии, когда задыхались насмерть тысячи детей, стоило рисковать. Воспользовавшись оплошностью секретарши, Чумаков проник в кабинет министра и по «вертушке» позвонил в Кремль. Трубку взял Микоян. Спросил: «Верите ли вы в эту вакцину?» – «Да!» – «Прививайте!»
В январе 1959 г. начали с Эстонии. Ни одного нового случая полиомиелита. Эстонские врачи не верили коллегам из Москвы, и Чумаков неоднократно глотал лошадиные дозы своей вакцины, убеждая в ее безвредности. Затем была Литва – за год всего два случая. Всего в 1959-м вакцинировали 15 миллионов детей в разных республиках Союза. Эпидемия пошла на убыль, «иммунитет из песочницы» наблюдался повсеместно. Сэбин примчался в Москву посмотреть результаты и был счастлив.
Чумаков отвез его к себе домой, налил водки и стал агитировать за социализм. Вот как мы умеем: бросить все силы на самое важное, и нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики. Сэбин отвечал, что нет таких крепостей, которые бы не взял «генерал Чумаков», но, может быть, он один такой на весь Советский Союз.
Победа живой вакцины в мире была полная: она прекратила эпидемию повсеместно, в том числе в США, где проблему не решала вакцина Солка. Полиомиелит стал редким диагнозом. Чумаков и Сэбин подружились. Раздражала только постоянная коммунистическая пропаганда в исполнении Михаила Петровича. Сэбин принялся задавать неудобные вопросы: если Страна Советов – государство рабочих и крестьян, то почему она сдирает миллионы с Японии за вакцину, переданную бесплатно ученым с капиталистического Запада? Отчего даже с бедных египтян СССР берет по 10 копеек за дозу? Ведь «антиполиодраже» и копейки не стоит. Чумаков отвечал, что ему это неинтересно. Почему это наш Минвнешторг должен отказаться от «честного заработка»?
Сэбин видел, что СССР ведет себя как обычный монополист на рынке. Чумаков отказывался даже думать об этом. Если ему говорили о советском государстве что-нибудь неприятное, он буквально переставал слышать. Глухота, последствие энцефалита, позволяла ему дозировать информацию и жить в придуманном гармоничном мире.
Зато танцевать с молодыми сотрудницами Михаил Петрович мог, даже не слыша музыки. По женской части своего не упускал, компенсируя тяжелую молодость и инвалидность. Марина Константиновна переживала, болела, полнела и, отдаляясь от мужа, все больше тянулась к детям. В их кругу над родителями шутили, а в коммунизм не верили. Марина Константиновна сама стала кое в чем сомневаться, и эти настроения росли в ней с каждой заграничной поездкой. Наконец, после процесса Синявского и Даниэля она привезла из Парижа книгу Абрама Терца (псевдоним Синявского) и дала ее сыну со словами: «Я не знаю, правильно ли я делаю… хотя я со многим не согласна, не прочитать это нельзя». Дальше Марина Константиновна привозила литературу похлеще, а после вторжения в Чехословакию в 1968 г. «прозрела» окончательно.
Чумаков отношения к партии из-за Пражской весны не изменил, отговариваясь тем, что внешней политикой не занимается. В 1968-м огорчало его другое. Вышла книга министра здравоохранения Бориса Петровского «Советское здравоохранение», где говорилось, будто живая вакцина от полиомиелита создана в СССР. Сэбин потребовал объяснений. Пришлось министру извиняться через заместителя на сессии ВОЗ. С тех пор Петровский занялся методичным изведением института Чумакова.
Спасая свой коллектив, Михаил Петрович подал в отставку с двумя условиями: 1) новым директором станет его ближайший ученик, 2) будет проведена всеобщая вакцинация от кори. Первое условие Петровский выполнил, а второе – нет. 10 миллионов доз разработанной Чумаковым живой вакцины от кори были уничтожены. Инфекция эта в СССР осталась и периодически вспыхивает на постсоветском пространстве.
Однако Чумаков как заместитель директора по научной работе все еще контролировал производство вакцины Сэбина. В 1975 г. Бразилия и ее соседи, желая использовать неконвертируемые рубли, которыми СССР платил за бананы, обратились во Всемирную организацию здравоохранения: «Не купить ли нам на рубли советскую вакцину от полиомиелита? Вы ее рекомендуете?» ВОЗ направила в Москву комиссию во главе с Сэбиным, который прямо сказал Чумакову, что производство у него устаревшее и не выполняются такие-то стандарты. Михаил Петрович ругался так, что Сэбину переводили его реплики через одну: «Мы делаем эту вакцину дольше всех и выпустили ее больше всех. Не вам нас учить! Пошли к черту!»
Переписка возобновилась через 12 лет, когда смертельно больной Сэбин, собрав последние силы, ездил в Южную Америку. Там по его схеме проводилась вакцинация от кори. Успешно: в конце концов корь в Западном полушарии исчезла. Американец сетовал, что вводить вакцину одноразовыми шприцами слишком дорого. Негде взять простенький распылитель для ингаляционного введения. Может ли Чумаков организовать выпуск таких дешевых и надежных аппаратов у себя? «Советская промышленность способна произвести то, чего не делают в наших странах из-за отсутствия выгоды». Сэбин писал это 5 сентября 1989 г. Советская промышленность уже рушилась, а парализованный адресат был не способен отвечать на письма без посторонней помощи.
Так закончился спор о преимуществах социализма. Спустя два с половиной года Сэбин дал сыну Чумакова Константину весьма лестную характеристику для Службы иммиграции и натурализации США: «Я верю, он будет весьма ценным приобретением для нашего научного сообщества». Перед отъездом Константин зашел навестить отца в Кунцевскую больницу, где помирали от духоты отставные советские начальники. На прощание Чумаков-старший перечислил своих учеников, работающих за рубежом. «А что, – заключил он, – кажется, я воспитал хорошие кадры для мировой науки».
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Елена Кирина: Кстати, аппарат «железные легкие» из Института полиомиелита был доставлен для спасения жизни Льва Ландау, попавшего в тяжелейшую автомобильную аварию.
Stanislaw Alexander Zelianin: Интересное побочное действие эпидемии полиомиелита – развитие инфраструктуры и научной базы технической ортопедии.
Ответ: Вообще, это бедствие сильно продвинуло нас вперед. Для науки побочное действие – открытие РНК-вирусов, постижение механизма их внедрения в клетку, выяснение природы капсида – да чего там, вся генетика в вирусологии. Тогда еще Трофим Денисович Лысенко всех спрашивал: «Да где этот ваш ген? Кто его видел?» С 1958 г. на такое сразу отвечали: «Открой глаза, глянь в электронный микроскоп. Капсид видишь? Это упакованный ген».
Еліна Циганенко: Спасибо. Мой дядя, в результате полиомиелита ставший инвалидом 1-й группы, рассказывал, что после войны в рамках братской помощи СССР отправил в Японию всю имеющуюся вакцину и что его поколение не прививалось.
Говорил, что в специнтернатах и детских домах была тьма детей его года рождения плюс-минус год, а оказывается, ее банально продали. Ясное дело, свои бабы еще нарожают, а выгоду упускать нельзя.
Ответ: Это не так. Слух возник оттого, что у нас очень уж громко трубили о той японской истории. Тот сезон прививок в Советском Союзе прошел по плану. Более того, именно тогда вакцину ввели в календарь и стали обязательно давать грудничкам.
Вот вторая страница письма Чумакова Сэбину об иммунизации советской вакциной в Японии (верхний абзац), и здесь же сообщается о поголовной вакцинации всего населения СССР в возрасте от 2 месяцев до 20 лет: 76 миллионов детей и молодых людей (нижний абзац) за первое полугодие 1961-го. Оригинал письма в архиве Алберта Сэбина на портале Университета Цинциннати: .
Несколько слов о вакцинации японских детей. Население Японии в 1961 г. составляло 94 миллиона человек, 30 % – дети до 14 лет. В стране было пять производителей, выпускавших инактивированную вакцину Солка, дети получали ее во всех очагах эпидемии полиомиелита. Тем не менее бедствие даже после трех вакцинаций была ужасное: в 1960 г. зарегистрировали около шести тысяч случаев. Так как живую полиовакцину японцы не делали, они обратились за помощью к трем производителям – одному в Бельгии, другому в Канаде и к самому крупному, то есть в Институт полиомиелита под Москвой на Киевском шоссе, под руководством Чумакова.
Михаил Петрович объявил аврал; в феврале-марте сотрудники убивались без выходных, выполняя за месяц трехмесячный план. Иммунизацию надо проводить до полиомиелитного сезона, то есть не позднее июля. При этом параллельно нужно было обеспечить поголовную вакцинацию детей и молодежи СССР. К лету все было готово ценой невероятного напряжения, в результате которого многим пришлось лечиться.
Объем поставок в Японию 12 июля 1961 г., согласно письму Чумакова Сэбину, составил десять миллионов доз. Стоимость дозы бельгийского и канадского препаратов составляла два американских цента, и Сэбин выразил Чумакову недоумение, отчего СССР продает дозы почти по той же цене при себестоимости втрое ниже, чем у бельгийцев. Чумаков ответил, что это наши rightful profits («законный доход»).
В Японии тогда начались демонстрации матерей, требующих поставить советскую вакцину. Правительство заподозрило советские спецслужбы в подготовке переворота и пропаганде в очередях на вакцинацию. Сэбина пригласили в Японию рассказать по национальному телевидению историю этой вакцины: что в действительности она американская. Сэбин приехал и выступил с такими разъяснениями. Он рассказал, что безвозмездно передал штамм Чумакову, поскольку в СССР была эпидемия пострашнее японской и надо было срочно организовать промышленное производство с вакцинацией самых широких масс населения.
Японский опыт произвел сильное впечатление на американцев. В декабре того же 1961 г. компания Pfizer – одна из корпораций «большой фармы», не производившая вакцину Солка, – начала вакцинацию всех желающих, подчеркнуто бесплатно. Любой мог прийти и съесть сахарный кубик, на который капали препарат, при желании положив монетку в ящик.
Первая такая акция состоялась в городе Финикс. На пункте вакцинации сидел губернатор штата Аризона Пол Фэннин и помечал, сколько людей не положило монетку, а затем внес из своего кармана по 25 центов за каждого халявщика.
Anna Kiriluk: А почему до 20 лет? У взрослых могут быть серьезные осложнения от полиомиелита?
Ответ: Могут быть и у взрослых (так с Рузвельтом случилось), но самый опасный возраст – это время быстрого роста нервной системы, которую атакует полиовирус.
Mila Shats: Справедливо было бы вспомнить и про Анатолия Смородинцева; первым ребенком, получившим вакцину, была его пятилетняя внучка. Откровенно говоря, этой семье должен быть памятник поставлен: позднее другой внучке привили корь, а сын Анатолия Смородинцева, тоже вирусолог, испытывал на себе вакцину от клещевого энцефалита.
Ответ: Отметим, что внучка Смородинцева получила не ту живую вакцину Сэбина, которую потом миллионами доз в 1959–1960 гг. раздавали детям. Ей дедушка вводил экспериментальный препарат из старых штаммов Сэбина, которые были получены до теоретического осмысления аттенюации вируса. Тем смелее был этот опыт.
Исторический документ: письмо Чумакова Сэбину от 26 декабря 1958 г. Михаил Петрович рассказывает, как «интриги трусов и псевдоспециалистов» мешали ему получить разрешение Минздрава на испытания в СССР вакцины Сэбина. Минздрав также пытался выдать американскую вакцину, с которой работал Смородинцев, за собственную советскую разработку. Оригинал в архиве Сэбина: -69_016.pdf?sequence=1.
В постскриптуме Чумаков осведомляется, действительно ли американский производитель живой вакцины Lederle Laboratories заключает вакцину в мармеладку, чтобы вирус не терялся по дороге во рту, где он не размножается, а в большей мере попадал в кишечник. Сэбин ответил на это, что у них мармеладки нет, а есть стабилизатор, состав которого – секрет фирмы. Хотя слух о мармеладке не подтвердился, он навел Чумакова на прекрасную идею: выпускать вакцину в форме драже. Уже в марте 1959 г. кондитерская фабрика имени Марата (позднее вошла в состав предприятия «Рот Фронт») изготовила по заказу института Чумакова задуманные Михаилом Петровичем антиполиодраже – капсулы из сахара и крахмальной патоки с восковым покрытием. Такие конфетки весили 1 грамм. Хранились в холодильнике, дети с удовольствием их глотали, и для вакцинации не нужен был квалифицированный медперсонал.
84 Пересадка почки Джон Меррилл, Джозеф Мюррей и близнецы Херрики 1954 год
23 декабря 1954 г. была сделана первая успешная пересадка почки, после которой пациент прожил несколько лет. Мало того, он еще и женился на медсестре, которая вызвалась дежурить в его отделении под Рождество.
Современная трансплантология началась с операции, которая стала возможна благодаря уникальному стечению обстоятельств. В этой истории полдюжины героев, и, поведи хоть один из них себя иначе, могло бы ничего не получиться.
Из всех внутренних органов почка – наиболее простой объект для трансплантации. Успешные опыты на собаках были выполнены еще в начале XX в. Но операции на людях, начиная с первой, сделанной Юрием Вороным в Харькове в 1933 г., заканчивались неудачно. Пациентка Вороного умерла из-за нежизнеспособности донорской почки, взятой из трупа. Хирурги пробовали более «свежие» органы с идентичной группой крови. В 1951 г. была попытка пересадить почку обезглавленного преступника, которую доставили в больницу прямо из-под гильотины. Иммунная система реципиента отторгла этот орган, хотя он был тщательно подготовлен.
В Париже под Рождество 1952 г. мать героически пожертвовала собственную почку травмированному сыну. Впервые в истории медицины здоровый человек добровольно отдал свой внутренний орган, чтобы спасти умирающего. Но даже такое минимальное различие в геномах запустило иммунный ответ. Встал вопрос: а возможна ли в принципе трансплантация органов брюшной полости человека? Нужен был эксперимент над гомозиготными близнецами, чьи гены идентичны: такие естественные клоны развиваются из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом.
Для опыта нужны были два человека: один больной настолько, что кроме трансплантации пути к спасению нет, а другой должен быть абсолютно здоров и готов жить дальше без одной почки. Такие братья – Ричард и Рональд Херрики – родились в 1931 г. в Калифорнии. К 23 годам Ричард практически умирал от гломерулонефрита и гипертензии и был направлен в Бостон, где в клинике Бригем (клинической больнице Медицинской школы Гарвардского университета) имелась единственная на все США искусственная почка.
Вообще, первую искусственную почку сделал во время войны голландец Виллем Колф из подручных материалов: барабан был взят из двигателя сбитого бомбардировщика, а мембраной служила оболочка для сосисок. Главный врач бостонской больницы Джордж Торн пригласил голландца к себе на работу и поручил хирургу Джону Мерриллу сделать из кустарного устройства настоящую машину. Получилось чудо техники, спасавшее больных с почечной недостаточностью. Меррилл успешно проводил диализ, но его машина только продлевала жизнь. Настоящим решением проблемы могла стать пересадка почки.
Узнав, что у Херрика есть брат, Меррилл сделал пробную пересадку кожи одного близнеца другому – отторжения не наступило. Рональд Херрик был согласен отдать брату почку. Оставалось убедиться, что они в самом деле идентичные близнецы. Генетического анализа не существовало, и Меррилл обратился в полицию: у обоих братьев сняли отпечатки пальцев. У гомозиготных близнецов они различаются только нюансами, которые едва замечают профессиональные криминалисты. Так в данном случае и было.
Но сам Меррилл оперировать не мог. У него был лишь опыт нескольких неудачных попыток пересадки почки, закончившихся отторжением. Главврач Торн решил найти специалиста без такого морального груза за плечами. Самым ловким хирургом больницы слыл Джозеф Мюррей. Во время войны он занимался пластикой лица обожженных и знал о пересадке тканей больше других сотрудников. Чтобы вызвать его интерес к теме, Джон Меррилл раскопал в медицинской периодике случай 1937 г., когда хирург пересадил пострадавшему от сильного ожога кожу его идентичного близнеца и эта кожа прижилась идеально. Обнаружилось всего одно такое наблюдение, но оно вызвало у Мюррея профессиональную ревность и желание попробовать то же самое с почкой.
Наконец, нужен был еще один хирург с железными нервами, который бы вырезал у здорового брата почку и не испугался возможных последствий: за неимением законодательной базы «в случае чего» он бы нес уголовную ответственность как лицо, причинившее тяжкие телесные повреждения. По счастью, и такой человек в больнице нашелся, его звали Хартвелл Харрисон.
Перед ним встали невиданные прежде этические проблемы. Он поговорил с юристом, опросил коллег, проконсультировался с протестантским, католическим и православным священниками, с муллой, раввином и ламой. Но ответа ему не давали ни законы, ни священные книги, ни великие врачи прошлого. Перед самой операцией донор задал команде хирургов вопрос: «Обязаны ли специалисты вашей больницы лечить меня в дальнейшем, после операции?» Харрисон с ходу сказал: «Конечно, нет». А потом спросил донора: «Рональд, как ты думаешь, кто-нибудь из присутствующих в этой комнате откажет тебе потом, если понадобится медицинская помощь?» В самом деле, у трансплантологов не существовало никаких законных обязательств перед этим человеком. Его судьба была делом их совести и профессиональной чести. Рональд поверил им, и операция состоялась.
Ричард Херрик поправлялся необычайно быстро. Уже на следующий день после операции у него проснулся аппетит и появился огонек в глазах, чего прежде при трансплантациях не случалось. Наступало Рождество, и сотрудники больницы разъехались по всей стране навестить родителей. Дежурить в послеоперационном отделении остались добровольцы из Бостона, а опекать Ричарда поручили медсестре по имени Клэр.
Ни один из ее больных еще не удостаивался такого внимания: у больницы даже в праздник паслись репортеры. Ричард был молод и красив, хорошо пел, и у него был замечательный брат. А пациенту на фоне его переживаний медперсонал виделся ангелами, ни больше ни меньше. Через две недели он чувствовал себя совершенно здоровым. Меррилл опасался за его новую почку: тогда думали, что любое неосторожное прикосновение могло повлечь отрыв имплантированного органа. Для Ричарда сконструировали прикрывающий бедра пластиковый ортез, смахивающий на средневековый пояс верности. Да он так и не надел эту штуку: у него начался роман с Клэр.
Они поженились и прожили вместе до самого 1963 г., когда Ричард умер от коронарной недостаточности. То было осложнение гипертензии, от которой он страдал, пока болел. Но Ричард успел стать отцом двух дочерей, одна из которых потом работала медсестрой в отделении диализа.
Проводивший операцию Джон Мюррей в 1990 г. удостоился Нобелевской премии. В своей лекции он сказал, что это награда всей команде, и отдал свою премию больнице.
Донор Рональд Херрик стал школьным учителем, а потом был фермером и умер только в 2010 г., немного не дожив до 80. Его левая почка до самого конца прекрасно справлялась в одиночку и никогда не подводила его.
85 Возбудитель трахомы Тан Фэйфань 1958 год
9 февраля 1958 г. вирусолог Тан Фэйфань закончил эксперимент на своем глазу, доказав, что хламидии вызывают трахому, которой в те времена болел каждый шестой человек на Земле. Тан мог стать первым китайским ученым, удостоенным Нобелевской премии по физиологии и медицине, но вместо награды его ждало суровое наказание.
После этого опыта трахома стала быстро отходить в область преданий. Свойства возбудителя изучили, подобрали схему лечения антибиотиками, и началась глобальная ликвидация. Большинство нынешних врачей видели трахому только на картинках. Публика уже забыла эту глазную болезнь, от которой внутренняя сторона века воспаляется и со временем рубцуется. В двух случаях из ста рубцы закрывают слезные протоки, глаза высыхают, наступает слепота. У остальных воспаленная роговица постепенно мутнеет и все хуже пропускает свет.
Ощущения больного трахомой хорошо передает китайское название этой патологии – «ша янь», буквально – «песок в глазах». Трахома заразна, особенно в начальной стадии. До войны ею страдала половина Китая, в деревне даже до 90 %. Статистика отражена в старинной китайской пословице: «Из десяти глаз девять – с песком». Пословица, заметим, не о трахоме вовсе, что и показала биография Тан Фэйфаня.
Он родился в 1897 г. в обедневшей аристократической семье. Денег хватило только на образование детей. Когда Тан учился в медицинском колледже Чанши, его увлекла микробиология. Как выпускник с отличием, он получал выгодные предложения, но от практики отказался: «Ну сколько человек вылечит за свою жизнь доктор? Вот если найти причину какой-нибудь массовой болезни, предотвратишь сотни миллионов случаев».
Трахома в 1920-е гг. наглядно подтверждала эту мысль. Лечение шло долго и стоило дорого. Пока пузырьки на воспаленных веках не успели зарубцеваться, их выдавливали на мучительных процедурах, которые врачи официально называли экспрессиями, а между собой – «репрессиями». Медики при этом еще и заражались от больных: плодившийся на веках возбудитель трахомы оставался неизвестен. Как и возбудители половины других инфекций.
Тан поехал стажироваться в Гарвард, где его учителем был Ханс Цинссер (1878–1940), который исследовал повторный сыпной тиф, носящий ныне название болезни Брилля – Цинссера. Американец был доволен Таном, и молодой человек хотел остаться в Гарварде, когда ему написал старый учитель, вице-президент его колледжа Янь Фуцинь. Оказывается, Чан Кайши решил создать в Шанхае первый в Китае вуз для преподавания доказательной медицины, но делать это некому. Тан был нужен на родине, где ему предложили первую кафедру микробиологии, тем более что в Шанхае была возможность заниматься наукой.
В ходе этих занятий Тан Фэйфань пытался вызвать у себя трахому введением бактерии, которую микробиолог Хидэё Ногути считал возбудителем. Оказалось, великий японец ошибался. Это исследование сделало Тану имя в микробиологии. В 1937 г. его научную работу прервали другие японцы – императорские армия и флот, без объявления войны напавшие на Шанхай.
Китайская армия была слаба, ее медицинская служба никуда не годилась. Тан Фэйфань забросил микробиологию и со своими студентами организовал для военных скорую помощь. Три месяца, пока шли бои, преподаватели оперировали в 600 метрах от передовой. Жену Тан успокаивал: «Я слишком маленькая мишень [он был 160 см ростом], по мне всегда промажут». Действительно, японцы в него не попали. Когда Шанхай был сдан и установилось перемирие, Тан счел свой долг перед родиной выполненным и собрался в Британию, куда его пригласили исследовать вирусные инфекции.
И тут снова пришло письмо от Янь Фуциня. Старый учитель писал из Ухани, что в глубине страны чудовищная эпидемия сразу нескольких болезней. Импортных вакцин нет, надо создавать свое производство, нужен микробиолог-консультант.
Тан поехал в Чаншу, где находился эвакуированный с захваченного японцами севера Центральный департамент вакцин. Начальства нет, оборудование по дороге растеряли. Одна половина коллектива днем играла в футбол, ночью спала, другая – спала днем, а по ночам пила спирт.
Консультант без полномочий сделать ничего не мог, надо было становиться директором. Прежнего директора Тан подсидел, используя связи жены: его тесть-военный входил в правительство Чан Кайши. Едва начали производить вакцину от бешенства, как японцы разбомбили лабораторию и производственный цех. Пришлось перебираться на юг, в Куньмин.
Там для производства вакцин выделили здание, но средств на оборудование не было. Тогда друзья из финансового ведомства предложили Тану украсть деньги. Они придумали схему «short sale наоборот», до сих пор весьма популярную у китайских мошенников. Тан заложил в государственном банке здание своего ведомства, а потом разобрал одну стену, имитируя обрушение по ветхости. Стоимость здания снизилась в разы. Short sale – это когда банк прощает заемщику долги и продает заложенное имущество по любой цене, лишь бы только избавиться от него. Покупателем за одолженные у частных банков наличные оказался тот же Тан Фэйфань.
На разницу в цене он отремонтировал здание и развернулся. Поставил на поток противостолбнячную сыворотку и вакцины от холеры, оспы, сыпного тифа. Этими вакцинами снабжалась не только китайская армия, но и сражавшиеся с японцами в Бирме англичане и американцы. Мало того, узнав о пенициллине, Тан Фэйфань отыскал под боком нужную плесень и начал выпуск собственного антибиотика, не имея даже электричества. Необходимый для этого лед поставляли эвакуированные из столицы физики в обмен на выращенных в виварии свиней. В ледниках пенициллина получалось мало, всего на несколько десятков раненых. Но этого хватало американским летчикам, которые прикрывали войска Чан Кайши с воздуха.
После войны Тан в последний раз думал уехать из Китая: как деятель правительства Гоминьдана он опасался победивших коммунистов. Отослав жену с сыном в Америку, уже отправил свой багаж в Гонконг. 4 апреля 1949 г. Тан должен был сесть на пароход, но после бессонной ночи решил не уезжать. Слишком уж много вложил он в охрану здоровья китайцев, она стала делом его жизни.
Коммунисты обрадовались его решению. Тан по-прежнему руководил институтом в Пекине. За первый год существования КНР выпуск противооспенной вакцины увеличили в семь раз, и началась грандиозная программа полной ликвидации оспы в Китае, успешно выполненная за 10 лет. Можно было заняться и хламидиями. В августе 1955 г. впервые в мире Тан Фэйфань сумел культивировать возбудителя трахомы вне человеческого организма. Но проверки патогенности на обезьянах не доказательство; хламидии вызывают у макак-резусов конъюнктивит, а трахома – это прерогатива Homo sapiens. Нужно было введением возбудителя в глаз вызвать болезнь у человека.
Нашли добровольца, начало эксперимента назначили на 2 января 1958 г. На всякий случай, чтобы сверить ощущения волонтера со своими, Тан Фэйфань 1 января ввел возбудителя себе. У обоих клиника развивалась синхронно. Разве что волонтера начали лечить биомицином на 26-й день, а себя Тан испытывал до 9 февраля, когда его зрение стало снижаться весьма ощутимо.
Китайцы сообщили об успехе коллегам – британскому профессору Лесли Кольеру (в письме) и советским врачам на конференции в Харбине. Опыт был повторен за рубежом. Сначала в США, по ошибке: лаборант случайно плеснул себе в глаза культурой хламидий. Потом в Англии нашелся доброволец, благородный 71-летний пациент хосписа для слепых. Чтобы проследить клинику экспериментальной инфекции, он не давал себя лечить целых семь месяцев. Наконец, молодой советский микробиолог Анатолий Шаткин ввел хламидии в свой левый глаз без разрешения начальства, понадеявшись, что победителей не судят. В самом деле, великий вирусолог Михаил Чумаков и директор Института вирусологии Виктор Жданов (1914–1987), которым нравились смелые ребята, двинули его карьеру вперед. В популярнейшем журнале «Юность», в одном номере с повестью Василия Аксёнова «Апельсины из Марокко», вышел очерк о Шаткине. Со временем этот мужественный человек возглавил особую лабораторию хламидиоза в Институте им. Гамалеи, затем академический центр по хламидийным инфекциям и профильную рабочую группу ВОЗ.
Сам Тан Фэйфань статью об эксперименте над собой напечатать не успел. Пока он разводил хламидии, коммунистическая партия национализировала промышленность и торговлю. Сделали все аккуратно. Прежним владельцам выплатили компенсацию и пригласили управлять своим бывшим бизнесом за хорошую зарплату. При этом напоминалось, что в Советской России собственность просто конфисковали, а хозяев ставили к стенке. Чтобы скрасить отъем имущества, Мао Цзэдун призвал граждан критиковать партию во избежание перегибов: в Китае, не то что в СССР, «должны цвести сто цветов».
«Цветение» продолжалось лишь месяц. Потом партия заявила, что это была хитрость, «выманивание змей из нор». Правые интеллигенты, оказывается, воспользовались разрешением на критику, чтобы «наброситься на все лучшее, что есть в Китае». На самом же деле от 1 до 10 % работников умственного труда – это правые. От них надо избавляться. Для простоты взяли среднее – 5 % – и спустили везде разнарядку: из 20 человек уволить одного как «правого». Не найдешь у себя правых – сам уходи с работы, да еще как «крайне правый» езжай строить дороги в дальние горы, откуда не возвращаются.
Институт вакцин и сывороток это не затрагивало как стратегически важное учреждение, директор которого Тан Фэйфань входил в «белый список» неприкосновенных специалистов. Но пострадали смежники: из больницы и университета выгнали самых смелых и честных, способных на критику. Тан Фэйфань готовился испытывать в детских садах свою вакцину от кори. Нужны медицинские кадры, а всех, кто был на примете, выслали. И Тан сказал секретарю парткома, что ему мешают избавлять страну от инфекций.
Парторг доложил в ЦК, там велели принять меры. Тан Фэйфаню было приказано выступить с самокритикой, а потом «выслушать критику масс». 28 сентября 1958 г. все пошло по типовой схеме разгрома «правых». Называлось это «сорвать белый флаг буржуазии». Критиковали коммунисты, агрессивной массовкой выступали комсомольцы, в основном из других организаций.
Весь день Тан Фэйфаня кляли на чем свет стоит. Он и полномочиями злоупотребляет, и лаборантку соблазнил, и партию ругал, и «вирус трахомы» за границу «послал», чтобы там его выделили буржуазные ученые, отняв у великого Китая заслуженный приоритет. Каждое обвинение заканчивалось речовкой: «Встаньте и кланяйтесь народу!» Когда ученый делал это, ему кричали: «А теперь садитесь и запоминайте!»
29 сентября шельмование продолжилось. Теперь звучали прямые обвинения в измене, да все на «ты»: «Сознавайся! Ты иностранный агент, американский шпион. Ты был в США и там предавал Китай. Ты продал свой народ!» И это кричали люди, которых Тан когда-то не бросил в беде, имея в кармане приглашение в западный университет. Кричали, глядя в его еще недолеченные от экспериментальной трахомы глаза.
Возражать, рассказывать биографию было бессмысленно – никто не верил. Друг сказал Тану: «Как несправедлива к тебе судьба!» «Это не судьба, – ответил Тан, – это мой собственный выбор». Следующее заседание, 30 сентября, не состоялось. Рано утром Тан Фэйфань покончил с собой. В предсмертной записке он просил жену вернуть шесть книг, которые брал почитать у друга.
В ЦК поняли, что перегнули палку: это же был единственный в Китае по-настоящему передовой ученый, почитаемый за границей. «Срывание белых флагов» по всей стране прекратили без объяснения причин. «Правых» оставили в покое, а гибель Тана скрыли, чтобы о ней не узнали на Западе. Некрологов не было, как и похорон. Вдова ходила в крематорий одна. Урну с пеплом она унесла домой и поставила у себя в спальне.
Последнюю статью покойного подписал офтальмолог Чжан Сяолоу из больницы Тунжэнь, где брали материал пациентов с трахомой и лечили зараженных добровольцев. Чжана славили как великого первооткрывателя до самой смерти Мао. Когда начались реформы Дэн Сяопина и Китай стал сближаться с Западом, возникла мысль вручить Нобелевскую премию какому-нибудь ученому из КНР. Международный комитет экспертов по трахоме тут же вспомнил о Тан Фэйфане. В 1981 г. на его имя прислали приглашение на конференцию в Сан-Франциско для вручения памятной медали. Пришлось китайскому руководству поведать миру несколько запоздалую весть о смерти Тана. За медалью приехал офтальмолог Чжан Сяолоу. Произнес длинную речь о том, как «мы выделяли атипичный вирус, ведя опыты на себе и добровольцах», и дал понять, что от Нобелевской премии тоже не откажется.
Однако вдова Тана и его бывшие соратники разъяснили экспертам по трахоме, как было дело. В результате Нобелевскую премию за хламидии не получил никто. Вдова Хэ Лянь умерла в 1995 г. со спокойной совестью. Рассказ учеников о Тане опубликован и тиражируется китайским интернет-сообществом. Прежде за подобную биографию в Китае обожествляли. Строили храмы, как изобретателю бумаги Цай Луню (известному технологу древности, которого тоже вынудили совершить самоубийство). В нашу эру не бывать Тан Фэйфаню божеством, даже когда сгинет основанная Мао «красная династия». Но он числится в истории как «великий ученый, таланту которого позавидовало Небо» и «благородный муж, не мирившийся с торжествующим злом». Это очень много. Китайцы таких людей не забывают.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Сергей Мхитарян: Это же как надо кануть в Лету, что даже в наше время трудно найти статью о нем… Прогуглил, но нашел только вашу статью.
Ответ: Все очень просто. О жизни Тан Фэйфаня по-русски отдельных статей еще не писали. Но это скорее характеризует русскоязычное сообщество, чем несчастного Тана и упомянутую Вами Лету. У нас больше интересуются военно-политической историей, чем наукой и собственно народом Китая. Своего Джозефа Нидема у России не было, все больше товарищи в погонах.
Кстати, о военно-политической истории. Примечательный эпизод жизни Тан Фэйфаня связан с пекинским храмом Неба. Все знают украшенный синей черепицей Зал жатвенных молитв этого храма как визитную карточку страны. После падения монархии территория храма, где император приносил жертвы духу Неба, стала (с 1918 г.) общедоступным музеем и популярным у горожан парком.
Заняв Пекин, японцы организовали там производство вакцин и сывороток военного назначения. Храм Неба оказался удобен для этого:
1. Его окружали двойные стены, предотвращающие доступ любых посторонних;
2. Огороженная территория весьма обширна;
3. По этой территории разбросаны отдельные сооружения, что облегчает изоляцию и санитарный контроль;
4. Старинный Павильон заклания жертвенных животных – готовый виварий.
Когда японская армия в Китае капитулировала летом 1945 г., правительство предоставило Тан Фэйфаню выбор, куда перевести из Куньмина Департамент предотвращения эпидемий и где устроить Институт вакцин и сывороток. В столичный Нанкин ехать не хотелось: близость к начальству в обстановке нестабильности чревата. Шанхай казался чересчур оживленным местом; кроме того, это ворота страны, откуда легко переманят за границу самых толковых сотрудников. Тан выбрал Пекин, поскольку там в храме Неба, почитай, институт с производственной базой.
Когда прибыли в Пекин, оказалось, что японцы на прощание перебили стеклянную посуду, вывели из строя все машины и аппараты и перестреляли подопытных животных всех до одного. Пришлось все восстанавливать. Причем в отсутствие средств опять же выкручиваться, совершать торговые операции. За перестилание полов в 1947 г. Тан расплачивался с плотниками приобретенной для спекуляции мукой. В процессе ремонта нашли недобитые японцами пробирки, заложенные в щели. Пять закрытых пробирок были надписаны женскими именами.
На всякий случай культуры из них изучили под микроскопом. Оказался возбудитель чумы, бактерия Yersinia pestis. То было первое найденное в Пекине подтверждение японских опытов по созданию бактериологического оружия. Позднее американцы привозили в Пекин осужденных в Японии военных преступников, которые показали, где какие эксперименты производились. Самым масштабным опытом над населением столицы Китая стала организованная в Пекине эпидемия холеры, убившая в 1943 г. две тысячи человек.
После бегства гоминьдановского правительства на Тайвань и возвращения Тана в Пекин храм Неба опять стал музеем, а Институту вакцин и сывороток выделили другие здания.
Елена Александровна Гончаренко: А как сейчас с этими хламидиями?
Ответ: По данным ВОЗ на 2018 г., трахома остается еще в 41 государстве (из них 29 африканских), в зоне риска находятся 190,2 миллиона человек. В СССР инфекция была ликвидирована в 1968 г., Китай официально объявил международному сообществу, что полностью свободен от нее, только в 2016-м.
Anna Kiriluk: А если сегодня из этих стран трахому завезут к нам, ее же легко будет вылечить? Наши врачи ее быстро определят?
Ответ: Если вы приехали из какой-нибудь такой страны и там заразились, трахома должна проявить себя быстро, в течение двух недель. Ощущаете конъюнктивит, который никак не проходит, – бегом к офтальмологу. Определить трахому несложно, вылечить, если своевременно начать, можно без страданий, внесением антибиотика. За 2016 г. такое лечение успешно прошли 85 миллионов человек.
86 Программа глобальной ликвидации натуральной оспы ВОЗ 1958 год
12 июня 1958 г. Всемирная организация здравоохранения по предложению советских врачей приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы. За 21 год медики 73 стран совместными усилиями избавили человечество от вирусной инфекции, на счету которой миллионы жертв.
Идея программы была проста: массовой вакцинацией перекрыть вирусу оспы пути распространения, пока не останется на Земле один-единственный больной. Его найти и посадить в карантин. Когда главный санинспектор Минздрава СССР Виктор Михайлович Жданов на сессии ВОЗ предложил такую идею, этому неизвестному было всего четыре года. К тому времени, когда его наконец нашли, мальчик вырос и стал квалифицированным поваром.
12 июня 1958 г. никто не знал еще, где сыщется этот последний пациент. В мире насчитывалось 63 государства с очагами оспы. Все эти страны были развивающимися. И хотя идею помощи им высказывала не слишком популярная делегация Советского Союза, который был на ножах с половиной мира, резолюцию приняли единогласно. Причин консенсуса было две: финансовая и медицинская. Во-первых, из колоний оспу регулярно завозили в страны первого мира, так что приходилось тратить на профилактику по миллиарду долларов в год. Проще взять и сделать прививки всему человечеству, это обойдется в сто миллионов и понадобится всего раз. Во-вторых, от осложнений в результате вакцинации стало погибать больше людей, чем от завозной оспы.
Советский Союз был одним из государств – основателей Всемирной организации здравоохранения, но до 1958 г. демонстративно не участвовал в ее работе. Теперь, когда отношения с окружающим миром налаживались, нужна была программа, которая вызовет всеобщее одобрение. Политическая конъюнктура и мечты советских врачей на время совпали. СССР щедро пожертвовал ВОЗ миллионы доз вакцины от оспы, а ВОЗ призвала мировые правительства прививать этим препаратом свое население.
Первой страной, где оспу ликвидировали таким образом, стал Ирак. Тамошний премьер-министр Абдель Керим Касем искал дружбы Хрущёва. И в августе 1959 г. в Багдад прилетел отряд советских медиков. За два месяца они исколесили на санитарных «буханках» все районы Ирака, раздавая вакцину и обучая местных врачей ее применению. В отряде было много женщин, потому что мусульмане к вакцинации женщин и девочек врачей-мужчин не допускали. То и дело приходилось надевать хиджабы, но в целом отношение было благожелательное.
Так продолжалось до 7 октября 1959 г., когда молодой Саддам Хусейн, покушаясь на Касема, обстрелял его машину и ранил премьер-министра. Ближайшей к месту происшествия больницей был советский госпиталь, и первую перевязку Касему делала врач-педиатр из командированных на вакцинацию специалистов Елена Боннэр (впоследствии правозащитник и один из учредителей Московской Хельсинкской группы, жена академика Андрея Сахарова). Медики позвонили в посольство СССР. Оттуда поступило указание бороться за жизнь премьера, «если есть уверенность, что он будет жив». Касем тогда выздоровел, однако в Ираке начались волнения, и эпидемиологов отозвали домой. Местные медики самостоятельно довели дело до полной победы: позднее в Ираке была только одна вспышка болезни, и то завозная.
Такой успех программа имела там, где существовала собственная интеллигенция. Врачи с энтузиазмом принимали помощь, разъясняли населению важность вакцинации и следили, чтобы не оставалось очагов инфекции. Это вышло в Ираке и Колумбии, но подобных государств набралось всего два десятка. Через десять лет ВОЗ признала, что в 43 странах никакого прогресса нет: по официальным данным, там оставалось 200 тысяч больных, а на деле, наверное, в десять раз больше. Приняли новую, интенсивную программу – специалисты ВОЗ выехали в развивающиеся страны, чтобы там на месте организовать то, на что не способны местные власти. И начались события в духе романов Стругацких.
Директором программы стал американский эпидемиолог Дональд Хендерсон, который успешно боролся с оспой, завезенной в США. В свои 38 лет он умел за пять минут разговора постичь незнакомого человека и безошибочно определить, стоит ли принимать его в команду и на какое место. Хендерсон из Женевы дирижировал работой по всему миру. Он обратился к новым технологиям, без которых массовая вакцинация проходила слишком медленно.
Американские военные предоставили ВОЗ безыгольные инжекторы – пневматические аппараты с педалью, вдувавшие вакцину под кожу. Идею подал смазочный пистолет. Рабочие французских верфей жаловались, что иногда случайно впрыскивают себе смазку. Если такой пистолет зарядить вакциной, один человек за смену может без труда привить тысячу. Электричества не требуется – только сжатый воздух.
Стоил такой аппарат как «Фольксваген-жук», но творил чудеса. Он очистил от оспы Бразилию, Западную и Южную Африку – места, где население легко собиралось по призыву католических миссионеров, заодно выполнявших роль эпидемнадзора. Достаточно было обещать раздачу еды, как на клич являлись индейцы-кочевники из амазонской сельвы и людоеды-пигмеи из заирского влажного леса.
Доктор Бен Рубин придумал еще более мощное орудие – бифуркационную иглу. В ее раздвоенном жале удерживалась капелька препарата, всего 0,0025 миллилитра. Для надежной вакцинации достаточно 10–12 раз чуть наколоть плечо. Разработчик подарил ВОЗ права на свою иглу. Это сэкономило миллионы и позволило привлечь к делу волонтеров без всякой медицинской подготовки.
Советский ученый Иван Ладный в Замбии уничтожал один очаг за другим, пока не нашел человека, который оделял вирусом оспы всю страну. Это оказался шаман, делавший вариоляцию. В его бамбуковой трубочке был материал из гнойных струпьев больного легкой формой оспы. За плату эта дрянь вводилась в надрез на коже. Она могла вызвать иммунитет на многие годы, а могла спровоцировать смертельное заболевание. Что делать с этим шаманом? Ладный предложил ему поменяться – набор вариолятора на бифуркационную иглу. Сделка состоялась, и шаман из врага превратился в помощника.
В 1970 г. Центральную Африку считали уже свободной от инфекции, как вдруг этот диагноз поставили девятилетнему мальчику в глухой деревне. Откуда там могла взяться оспа, если она передается только от одного человека другому? Образец материала из везикул на теле мальчика отправили в Сотрудничающий центр ВОЗ в Москве, где Светлана Маренникова изучила его под электронным микроскопом и установила, что это вирус оспы, но не натуральной, а обезьяньей, известной с 1959 г. Так узнали, что люди могут заразиться этой инфекцией от животных. Мало того, обезьянья оспа обнаружилась у зверей в Московском зоопарке. Маренниковой пришлось прививать животных, в том числе колоть в ухо огромного амурского тигра в особой прижимной клетке. Но самое важное в этом открытии – что нет у вируса натуральной оспы другого хозяина, кроме человека, а значит, вирус можно изолировать и оставить без добычи.
Главным рассадником оспы в ее самой смертоносной форме оставался Индийский субконтинент – Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал. Генеральный директор ВОЗ Марколину Кандау не верил, что в Индии вообще можно что-нибудь искоренить, и обещал даже съесть покрышку от джипа, если он окажется неправ. Дело в том, что отчетность в тех краях была исключительно липовая. Местные эпидемиологи сориентировались быстро: они записались в программу ВОЗ, получили хорошие зарплаты в валюте. Выделенные джипы они использовали как личный автотранспорт и гнали Хендерсону отчеты о стопроцентной вакцинации своих областей. А тысячи случаев оспы списывали на плохое качество вакцин, в первую очередь советской. Мол, жарко у нас, русский препарат разлагается. Такой подлостью отличалось только начальство. Среди рядовых всегда были врачи-энтузиасты, способные всю ночь идти по вызову в горную деревню с факелом в руке, снимая с ног земляных пиявок. Бок о бок с ними шагали сотрудники глобальной программы.
Советские врачи, понимавшие в фальшивой статистике, стали посещать каждый очаг. Они придумали мобилизовать для этого всех медработников района на неделю – власти позволяли, а Индира Ганди напрямую призвала население помогать сотрудникам ВОЗ. Канадская студентка-волонтер Беверли Спринг сообразила для начала засылать на рынок добровольцев, которые выспрашивали, нет ли в этих местах оспы. Полученные сведения были всегда точны. Далее на место выдвигались вакцинаторы, а после прививания к дому больного приставляли сторожа, обычно из родственников, который записывал всех приходивших. В 1975 г. эндемичной оспы в Индии не стало. Хендерсон послал Кандау старую покрышку от джипа. Но тот есть ее не стал, потому что уже вышел в отставку.
Освободившихся в Азии людей и джипы бросили на последний бастион оспы – в Эфиопию. Там врачи не вели липовой статистики, потому что здравоохранения не существовало вообще. Мусульманская часть страны оказалась более просвещенной и лояльной к вакцинации – и быстро избавилась от разрозненных очагов болезни. Хуже обстояло дело в православных областях, где духовенство занималось вариоляцией, видело в ней источник дохода, а потому противилось ликвидации оспы. Двух вакцинаторов из местных даже убили при исполнении служебных обязанностей. Но когда император Хайле Селассие был свергнут и задушен подушкой, новое правительство, нуждавшееся в международном признании, стало помогать ВОЗ. Не могло оно только закрыть границу с Сомали. В пустыне Огаден сомалийские партизаны захватили бразильского специалиста по оспе и выпустили его только после личного вмешательства генсека ООН. Следы оспы вели в Сомали. Несмотря на войну, которую это квазигосударство повело с Эфиопией, сотрудники глобальной программы вычислили среди кочевников всех заболевших. Их повезли в больницу города Марка. По пути встретился приветливый парень по имени Али Маяу Маалин, который не только знал дорогу, но даже сел в джип и показывал, как проехать, потому что работал поваром в той самой больнице. За несколько минут в машине Али подцепил оспу и вошел в историю, потому что он-то и оказался самым последним заразившимся на Земле. Когда он поправился, ВОЗ выждала некоторое время и объявила премию в тысячу долларов тому, кто найдет больного оспой. С 1979 г. эти деньги так никому и не достались.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Svetlana Svadkovsky: Логично предположить, что в процессе всемирной вакцинации огромного количества людей должно быть и большое количество жертв. В статье об этом не упоминается. Есть какие-то данные?
Ответ: В книге Ивана Ладного приводятся кое-какие данные по реактогенности. Из них можно заключить, что глобальная программа ликвидации оспы стоила жизни нескольким десяткам человек. Точнее сказать трудно, потому что за 15 лет работы по этой программе вакцину сильно улучшили. Только имейте в виду, что выбора – вакцинировать или не вакцинировать – не было: прививка была единственным способом прерывания цепочки заболевших. Больных выявили и изолировали два миллиона. Помножьте это число на 20 (среднее число контактов больного) и поделите на 5 (средняя смертность от эндемичной оспы – до 20 %) – получите число непосредственно спасенных только в ходе программы. Далее, не поддается точному учету количество спасенных от голода. Например, сотрудники программы подкармливали семьи тех, у кого имелось хоть малейшее подозрение даже на ветрянку, среди беженцев из Бангладеш в 1974–1975 гг. Тогда в Бенгалии происходил настоящий геноцид – миллион мирных жителей погибли в гражданской войне. Так вот, люди с оспой были счастливы попасть в карантин: там кормили. Тем, кому делали прививки, давали за счет программы рис. Это была сама жизнь. В статье об этом не упоминается, потому что тема громадная. И ничего нет о тогдашних антипрививочниках. А они были, да не в соцсетях, а прямо на пути у врача, с винтовкой наперевес. Доктор Сулейманов вспоминает, как несколько раз в Пакистане попадал в заложники и приходилось неоднократно ревакцинировать себя на глазах у готовых расправиться с ним дикарей.
Caos Kaznmu: Задолго до вакцины Дженнера в казахской степи прививал натуральную оспу Отейбойдак Тлеукабылулы, путем ослабления патогенности вирусов в огне, взятых с кожи больных, и прокалывания тростниковой палочкой с уже ослабленным вирусом кожи еще здоровых людей.
Ответ: Это не вакцинация, а вариоляция, как в Замбии.
Caos Kaznmu: Принцип почти один и тот же.
Ответ: Разный. Одно дело вводить человеку вирус натуральной оспы, а другое дело – вирус вакцины. У вариоляции результаты, по статистике, 50/50. Половина заболеет оспой в легкой форме, половина умрет. Вакцинация при всех ее минусах не так опасна. Во время глобальной программы вариоляторы вызвали несколько вспышек там, где до их появления оспы не бывало. Так было, например, в Афганистане. Пока с муллами не договорились, дело не двинулось.
Ольга Пономаренко-Гощицкая: А зачем делали вариоляцию тогда?
Caos Kaznmu: Первые попытки привить антигены вирусов и бактерий, чтоб развить иммунный ответ.
Ответ: Лучше, чем ничего. Между прочим, в русской деревне тоже была вариоляция. Материал вдували малым детям в ноздри. Эта мера казалась эффективной, пока не появилась земская статистика.
Ольга Пономаренко-Гощицкая: Земская статистика смерти по вариоляции?
Ответ: Да, земские врачи вели статистику смертности от всяких болезней. Если очаг оспы возникал неведомо откуда, завозной не было, значит, кто-то провел вариоляцию. Они и опросы проводили среди населения. Кроме того, была с николаевских времен служба оспопрививания по Дженнеру, где брали взятки: пугали молодых мам – прямо как нынешние антипрививочники, – что «ребеночка отравленным ножичком изведут», и за деньги соглашались вписать его в отчет, будто он привит. С этим безобразием земская медицина тоже научилась справляться. В конце концов, академик Михаил Акимович Морозов, которому и принадлежит идея искоренения оспы во всем мире (и который подсказал ее обоснование Виктору Жданову), был деятель земской медицины.
Maxim Chervyakov: Неудивительно, что людей уже за семь миллиардов. Осталось победить рак.
Ответ: А вот Александр Турбин, автор первой документальной книги об этой истории, пошел дальше. Он писал, что осталось победить смерть.
87 Коронарография Мейсон Соунс и Рене Фавалоро 1958 год
30 октября 1958 г. была впервые выполнена коронарография – рентгеновская визуализация артерий сердца. Делать ее не собирались, потому что считали опасной для жизни и не знали, зачем она вообще нужна. Сейчас это главный инструмент при шунтировании, баллонировании, стентировании, а в 1958 г. коронарография получилась нечаянно, когда пациенту по ошибке впрыснули контраст не туда. И доктор уже занес скальпель, чтобы вскрыть грудную клетку, но больной вовремя отдышался. И выжил, к счастью для миллионов инфарктников.
Коронарная ангиография – или попросту рентген венечных артерий, снабжающих кислородом сердечную мышцу, – показывает, есть ли сужения в этих артериях. Делать ее запрещали самые авторитетные врачи. Нобелевский лауреат Андре Курнан утверждал, что забитая атеросклеротическими бляшками артерия и так едва доставляет кислород к миокарду. А заполнишь ее контрастной краской, не содержащей кислорода, – тогда и вовсе конец. Опыты на собаках это подтверждали.
Поэтому больных с инфарктом на рентген не водили, а лечили постельным режимом и морфином.
30 октября 1958 г. кардиолог Кливлендской клиники Мейсон Соунс не собирался делать открытий в лечении ишемической болезни сердца. Он хотел оценить степень поражения митрального сердечного клапана у 26-летнего больного ревматизмом. Процедура проводилась под местным наркозом. Больной лежал на столе под рентгеновской трубкой. Катетер, оканчивающийся в аорте, был введен через плечевую артерию по Сельдингеру.
Под столом в яме сидел доктор с пультом управления рентгеном и кинокамерой, которая фиксировала изображение. Рядом с пациентом стоял ординатор Ройстон Льюис. Он изображения не видел, только нажимал по команде на дозатор-инжектор, впрыскивая в аорту контраст. Вот Соунс спустился в яму, включил трубку и камеру, закричал снизу «Инъекция»! И тут дрогнула рука не то у пациента, не то у ординатора, так что катетер сдвинулся на долю миллиметра и случайно ткнулся в правую коронарную артерию. 30 миллилитров гипака попали в этот сосуд. На глазах у Соунса возникло первое в истории изображение коронарной артерии и одновременно остановилось сердце больного.
Кардиолог заорал: «F**k, мы убили его!» – и выскочил из ямы. Он схватил скальпель – вскрывать грудную клетку и делать открытый массаж сердца. Пациент в ужасе посмотрел на доктора с инструментом в руке, и взгляд его стал тускнеть. Но он не успел еще отрубиться, как Соунс вспомнил, что при сильном кашле диафрагма выталкивает контраст из сердца. «А ну покашляй, сукин сын!» – крикнул он. Больной послушался – и сердце снова пошло.
Другой врач утер бы пот со лба, вздохнул с облегчением и потом рассказывал этот случай как анекдот. Но Соунс увидел в нем большое будущее. Начальство разрешило ему экспериментировать по окончании рабочего дня, если никто не пострадает. И грубый доктор стал делать коронарографию одному больному за другим. Он первым увидел и атеросклероз, и действие нитроглицерина, и спазм, о существовании которого прежде только догадывались. Работу напечатал через четыре года. Не только потому, что обобщал данные второй тысячи пациентов (первую тысячу счел учебной), а еще и оттого, что страдал дислексией. Говорил плохо, чтение не жаловал, а писать – ненавидел.
Старшие коллеги считали Соунса упертым чудаком, который даже родной матери сделал коронарографию. Журнал The Lancet писал, что в диагностике она ничего не дает: инфаркт и на кардиограмме видно. Все так, однако больные с грудной болью почему-то валили к Соунсу толпами. Каждый хотел видеть свой стеноз или убедиться в его отсутствии.
Кроме Соунса, лишь один человек посмотрел все отснятые пленки – молодой стажер из Аргентины Рене Фавалоро. Он с трудом выпросил разрешение ассистировать кливлендским кардиохирургам на операциях. Фавалоро не отходил от Соунса. Он стал первым на свете хирургом, который не только пользовался данными коронарографии, но и сам лично ее проводил. С 1966 г. он оперировал при коронарной недостаточности, вшивая ветви грудной артерии прямо в сердце. Лучше, чем ничего, но за год умерло 9,3 % пациентов. Такой результат его не устраивал. В мае 1967 г. после очередной коронарографии Фавалоро сымпровизировал: взял у больной отрезок вены на ноге и соединил им как шунтом аорту с коронарной артерией ниже бляшки. Это и была его первая операция аортокоронарного шунтирования.
Коронарография (точнее, шунтография) показала, что шунт наполнен кровью и прекрасно работает. Соунс как раз улетал на конференцию в Европу и взял пленку с собой. Фотография облетела весь мир. Кливлендская клиника внезапно оказалась на переднем крае кардиологии. За 1970 г. Фавалоро с учениками сделал уже 2000 операций аортокоронарного шунтирования. Штат Огайо наводнили аравийские принцы со своими гаремами, отведывателями пищи и охраной. Соунс при надобности орал на них: «Кашляй, с**а, кашляй!» И они кашляли, превращая Кливлендскую клинику из унылого коридорного строения в сверкающий дворец света и пластика.
Через год друзьям пришло время расставаться: Фавалоро переехал в Аргентину, чтобы там организовать современный кардиологический центр и лечить от инфаркта своих соотечественников. Слишком много хороших людей ишемическая болезнь свела в могилу у него на глазах, когда он еще был сельским врачом. Теперь Фавалоро стал миллионером и мог что-то сделать.
В 1985 г. Соунс умер от рака легких. Он редко вынимал сигарету изо рта, хотя прекрасно сознавал опасность курения. Убедился на данных своей же коронарографии, что курильщиков среди больных на 15 % больше, и все же не думал бросать. Курил даже в рентгеноперационной, держа дымящую сигарету в хирургическом зажиме.
Соунс не увидел расцвета чрескожных коронарных вмешательств, новых «золотых стандартов» в лечении ишемической болезни. Зато Фавалоро застал их во всей красе – и баллонирование, и стентирование. В некотором смысле они его и убили.
Когда в 1971 г. Фавалоро известил руководство клиники о своем переезде в Буэнос-Айрес «из чувства долга перед отчизной», американские врачи были поражены. Они пробормотали что-то вроде «да, Дон Кихот тоже говорил по-испански». Фавалоро потом часто вспоминал эти слова. Сначала с улыбкой, затем с горькой усмешкой, а под конец в ночных кошмарах.
Отец аортокоронарного шунтирования мечтал основать собственный фонд – настоящий кардиологический комбинат с отделениями диагностики, исследований и рентгеноперационными. У Фавалоро были всемирная слава и деньги, он умел все и знал, что кардиохирургия – золотое дно. Неудачи просто не могло быть. Начал с обустройства операционной в санатории, собрал и выучил круг единомышленников, составивших костяк будущего фонда.
Знаменитая латиноамериканская коррупция дала о себе знать еще в санатории: профсоюзные деятели безуспешно вымогали деньги за то, что врачи слишком много времени проводят на работе.
От них удалось отболтаться, но вскоре Фавалоро убедился, что рыба гниет не с головы. Коррупция росла снизу. Как и вся Аргентина, медицинская среда жила по принципу «ана-ана», в переводе – «пятидесятипроцентный откат».
Кардиолог ставит больному диагноз и говорит, что нужна операция. Больной мечтает попасть к Фавалоро. «Знаете, он уже сам не оперирует, – говорит врач, – погряз в административных делах. Но я направлю вас к его лучшему ученику». А потом хирург («лучший ученик») отдавал кардиологу половину денег, полученных с пациента. Иногда больные все же добирались до Фавалоро, и он охотно выполнял операции, но деньги текли мимо его фонда рекой.
Фавалоро осваивал выписанные из-за границы новые приборы и лекарства. А его врачи, едва выучившись, продавали ноу-хау конкурентам. Потом они каялись перед наставником, плакали у него на плече. А деньги всё же брали.
Следуя за прогрессом, Фавалоро прописывал холтер, оборудовал рентгеноперационные для баллонирования и стентирования. Это дорогие технологии. Их стоимость медицинская страховка уже не покрывала. Оказывая помощь такого уровня рядовым аргентинцам, фонд погрязал в долгах. Выручали государственные фонды, пока в середине девяностых их не поразила «ана-ана».
Фонд перекредитовывался в банках – «ана-ана» завелась и там. Когда в 2000 г. страну охватил финансовый кризис, денег на медицину в бюджете не стало. То есть они были, однако федеральные агентства никак не могли сыскать их бесплатно. И министрам, и по телевизору Фавалоро твердил, что банкротство фонда – приговор тем пациентам, которым стентирование не по карману. Ему намекнули: нет, это вы сами губите больных – тем, что откаты не платите.
29 июля 2000 г. Фавалоро покончил с собой. Перед тем как выстрелить себе в сердце, великий кардиохирург отправил письмо президенту Аргентины. В смерти своей он винил коррупционеров, которые контролируют всё:
«Я устал быть попрошайкой в собственной стране… В Соединенных Штатах медицинскую помощь, образование, исследования финансируют благотворители. Пять самых выдающихся медицинских факультетов получают от них более чем по 100 миллионов долларов каждый! Я здесь о таком и не мечтаю… Пишу письма о помощи… В Латинской Америке швыряют на ветер столько денег! Миллиарды. А институту, который подготовил сотни врачей, ответа нет.
Вот какова общественная оценка наших усилий?
За то, чтобы в одиночку оставаться честным в коррумпированном обществе, рано или поздно придется платить… Измениться я не могу, предпочитаю исчезнуть.
Устал от бесконечной борьбы, устал скакать верхом против ветра.
Выход избираю не легкий, а самый продуманный.
Слабость или мужество тут ни при чем.
Хирург живет рядом со смертью, она его неизменная спутница, и с ней в руке я ухожу…»
У президента не нашлось времени прочитать это письмо.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Геворк Топчиян: Проф. Ю. С. Петросян и мой учитель проф. Л. С. Зингерман внедрили коронарографию в СССР, доведя до рутинного исследования. Это было первым в СССР импульсом к развитию хирургии ИБС.
Нина Баюрова: В 1977 г. в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Л. С. Зингерман вместе со своими докторами и Н. В. Ершовой сделал коронарографию пациенту с острым инфарктом миокарда. Столько лет прошло, а я помню те волнения и сомнения, которые испытывали все сотрудники клиники А. П. Голикова.
Алексей Мизин: Спасибо за ваши всегда интересные сообщения. Правильнее сказать, что впервые выполнил селективную коронарографию. Вроде бы первым врачом, выполнившим контрастное исследование коронарных артерий у живого человека (неселективное), считается Stig Radner из Лундского университета. “An attempt at the roentgenologic visualization of coronary blood vessels in man” называется его статья 1945 г. Сделал он это осознанно у пяти пациентов после изучения выполнения подобных манипуляций на животных другими учеными. Прямая пункция корня аорты, введение контраста и выполнение снимков.
Ответ: Да, все верно. Стиг Раднер был первым, кто увидел коронарные артерии с контрастом, но:
1. Доза контраста была такая, что уверенно диагностировать стеноз по этим снимкам было нельзя, что и Раднер признавал;
2. Сама процедура пункции корня аорты была настолько рискованная, что получить согласие больных удавалось с огромным трудом;
3. Самому Раднеру надоело это делать, потому что тяжело, и после того, как Курнан в 1950 г. при разборе гибели пациента у Генри Циммермана приговорил сам принцип введения контраста, Раднер с этим согласился и работы свои свернул.
Есть разница между Раднером и Соунсом: первый бросил то, что специально искал, а второй вцепился мертвой хваткой в то, что нашел случайно, и развил.
88 Вирус Эпштейна – Барр Майкл Эпстайн и Ивонна Барр 1963 год
5 декабря 1963 г. был открыт вирус Эпштейна – Барр, доставляющий человечеству массу проблем. За ним охотились три года, и неизвестно, сколько бы он еще скрывался, если бы зимой 1963-го манчестерский туман не задержал прибытие самолета из Африки.
Охоту на вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ), возбудитель самой распространенной и заразной инфекции на Земле, начал Илья Мечников. Он высказал смелую мысль, что рак «вызывается мелким вирусом, который не виден даже в самый сильный микроскоп». Еще при жизни Мечникова было доказано, что куриная саркома действительно имеет вирусную природу.
Майкл Энтони Эпстайн (на русском языке его по неведомой причине называют Эпштейном) родился через 10 лет после этого открытия. Ему довелось работать в новую эпоху, когда электронные микроскопы уже сделали вирусы видимыми. Именно изучением вируса куриной саркомы с помощью электронного микроскопа Эпштейн и занимался, когда из чистого любопытства пришел на лекцию знаменитого «хирурга саванн» Дениса Бёркитта.
Тот рассказывал о жуткой восточноафриканской болезни, которая обезображивает и убивает детей. Эта злокачественная опухоль получила название лимфома Бёркитта. Среди прочего «хирург саванн» сказал, что в королевство Буганда она приходит в сезон дождей.
При этих словах Эпштейн заподозрил инфекционную природу опухоли, по аналогии с куриной саркомой. Сезон дождей – время бурного размножения переносчиков, кто бы они ни были: москиты, комары или клещи. Раз в обычный микроскоп Бёркитт не видел в гистологическом препарате ничего особенного, значит, возбудитель – не бактерия, а вирус.
Эпштейн запросил у африканских патологоанатомов образец лимфомы Бёркитта. Увы, под электронным микроскопом препарат выглядел банально, никаких вирусов. Пробовали культивировать неведомый возбудитель в куриных эмбрионах и на почечных клетках, как уже открытые вирусы полиомиелита или кори, – безрезультатно. Три года потратили впустую: уже африканские колонии получили независимость, правитель Буганды стал президентом суверенной Уганды, а Эпштейн все бился над своей гипотезой.
В декабре 1963 г. очередной образец везли слишком долго. Туман задержал прибывающий в Манчестер самолет почти на сутки, до вечера 5-го. Опухоль из Энтеббе, похоже, протухла по дороге: она плавала в мутной, дурно пахнущей жидкости. И все-таки аспирантка Ивонна Барр, которая готовила Эпштейну препараты, не вылила эту жижу. Она предположила, что муть вызвана размножением неведомых бактерий. Может быть, это они три года водили всех за нос.
Но муть создавали не бактерии, а вполне жизнеспособные раковые клетки, которые отделялись от края опухоли и пускались в плавание. Посмотрев на эти клетки в электронный микроскоп, Эпштейн сразу же заметил внутри них знакомые очертания герпес-вирусов. Поразительно: вирусы не губили клетки, в которых размножались, а, кажется, наоборот, помогали им расти и плодиться. Эпштейн так разволновался, что бросил микроскоп и выбежал на улицу: надо было прогуляться, чтобы голова снова заработала. Крупными хлопьями шел снег, успокаивая душу, и за полчаса смятение прошло. На смену ему явилась ужасная мысль: а вдруг электронный луч микроскопа сжег уникальный образец? Но вирусы чувствовали себя прекрасно. Их даже стало больше в поле зрения – не пять, а девять. Сомнений не было: это новый, особенный вид в семействе герпес-вирусов.
Как только не пишут его название: «вирус Эпштейн-Барра», «вирус Эпштейн-Барр», «вирус Эбштейна-Бара»! Все это неправильно. Эпштейн и Барр – два разных человека, а Барр еще и женщина, ее фамилия не склоняется. Оба заслужили место в нашей памяти. Они раскрыли тайну возникновения десятков болезней. Во-первых, инфекционный мононуклеоз, или поцелуйная болезнь, – целиком на совести ВЭБа. Во-вторых, самая распространенная опухоль среди китайских женщин, рак носоглотки, – тоже его работа, и это громадные жертвы. Синдром хронической усталости, как выяснилось, – не выдумка лентяев, а часто результат деятельности вируса Эпштейна – Барр. Как и системный гепатит, и рассеянный склероз. Не говоря уже об ангинах и герпесе.
Быть может, вирус Эпштейна – Барр – наш самый хитрый враг. Он умеет не губить клетки-хозяева, а сотрудничать с ними, да еще в разных органах. Досье на него пухнет день ото дня. Вменяют в вину и аутоиммунные заболевания, и рак желудка, и паркинсонизм. Следствие не закончено. Преступник гуляет на свободе, пока вакцина от него в стадии клинических испытаний. Но мы хотя бы знаем его в лицо.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Татьяна Никонова: «По неведомой причине» – да по ведомой: Айнстайн – Эйнштейн, Эммануэль Голдстайн – Голдштейн и т. д. Традиция русской транслитерации.
Ответ: Эйнштейн был в оригинале Айнштайн. Можно было применить к нему традиционную транслитерацию фамилий с языка идиш. Но вот менеджер «Битлз», его однофамилец, живший в 1963 г. с Эпштейном-вирусологом чуть ли не на соседних улицах, по-русски пишется Брайан Эпстайн и никак иначе.
Татьяна Никонова: Повезло чуваку, че.
89 Прионы как возбудители инфекций Карлтон Гайдушек и Ширли Гласс 1967 год
13 января 1967 г. было опубликовано сообщение о том, что возбудитель смертельной болезни, поразившей людоедов форе, усиливается в организме каждого следующего поколения пациентов. Это было окончательное доказательство инфекционной природы заболевания, вызванного не микроорганизмом, не паразитом и не вирусом, а полезным белком, который по неведомой причине стал патогенным. Через 15 лет такие белки назовут прионами.
Открытие совершил американец Карлтон Гайдушек – детский инфекционист, командированный на Новую Гвинею для изучения эндемичных вирусных заболеваний. У народа форе, обитателей нагорья вдали от моря, Гайдушек увидел болезнь с поразительными клиническими проявлениями: человека трясет несколько месяцев, со временем он теряет способность стоять и дрожит сидя. Потом дрожь бьет уже лежачего, пока не наступит паралич и неминуемая смерть. Аборигены называли болезнь «куру» (ударение на первом слоге), что в переводе значит «дрожь».
Эпидемия охватила нагорье, выбивая в первую очередь женщин и детей. К 1956 г. почти четверть женского населения на земле форе вымерла от этой дрожи. Народу форе грозило исчезновение. А это были довольно симпатичные люди, весьма дружелюбные. Правда, людоеды. На глазах у Гайдушека они готовили человеческое мясо и внутренности и поедали тела целиком, кроме костей и желчного пузыря.
Так они поступали со своими умершими прямо на поминках. Считалось, что ум и таланты усопшего перейдут к людям, которые питались его останками, а его дух встанет на защиту деревни. Форе очень гордились своей добротой и тем, что людоедство у них тоже доброе. Они приуныли, когда власти Австралии, которая тогда контролировала эту страну, запретили каннибализм. Но была надежда, что белые пришельцы научатся лечить проклятую трясучку.
Гайдушек поселился среди форе, на средства австралийского Департамента здравоохранения и свои сбережения открыл больницу и принялся изучать смертельную дрожь. Поскольку он лечил туземцев от сифилиса и дизентерии, ему позволялось все – даже вскрывать тела жертв куру и отсылать их органы на анализ в Америку.
Странная инфекция куру: антибиотики ее не берут вовсе. Ни температуры, ни воспаления. Возбудителя или хотя бы антител в крови и тканях не видать. Правда, один человек заметил кое-что необычное.
То был главный невропатолог Национального института нервных болезней США Игорь Клатцо (1916–2007). Родился он в Петербурге, по национальности поляк, при немцах был одним из командиров подпольной польской Армии Крайовой (АК) в Вильнюсе. Когда вместе с Красной армией аковцы выбили вермахт из Вильно, Клатцо снова оказался в подполье, теперь уже антисоветском. Уцелел потому, что готовил Нюрнбергский процесс, освидетельствуя поляков, угнанных в Германию на принудительные работы. И так толково это делал, что его заметил знаменитый немецкий невролог Оскар Фогт. Он взял Клатцо в ученики и показал ему свою уникальную коллекцию препаратов мозга. Там находились, например, срезы мозга Ленина, который Фогт изучал по просьбе советского правительства, разыскивая в мозге вождя революции признаки гениальности.
Так вот, препарируя мозжечок женщины форе, похожий на губку из-за гибели нейронов, Клатцо вспомнил, что уже видел нечто подобное в коллекции Фогта: мозг умершего от редкой болезни Крейтцфельдта – Якоба. Сейчас она знаменита на весь мир как «коровье бешенство», а тогда было описано только 20 случаев. Клатцо послал препарат мозжечка форе на медицинскую выставку в Лондон. Там его заметил английский ветеринар Билл Хэдлоу и тут же написал, что эта губчатая энцефалопатия похожа на известную с 1732 г. скрейпи – болезнь овец, передающуюся козам. Хэдлоу предложил Гайдушеку заразить обезьян, покормив их мозгом умерших от куру людей. Гайдушек так и поступил с пятью шимпанзе. А также с десятками цыплят, мышей, крыс, морских свинок. Всё безрезультатно. Оставалось думать, что куру – наследственное заболевание.
Для проверки этой гипотезы из Австралии приехали антропологи, семья Гласс – Роберт и Ширли. Супруги нарисовали генеалогические древа больных и убедились, что не все они родственники. К тому же до 1910 г. люди не знали никакого куру. Когда супруги Гласс выяснили это, их брак стал распадаться прямо на глазах аборигенов. Молодые люди не выдержали испытания трудными бытовыми условиями в чужой среде. Женщины форе, видя, как страдает Ширли, прониклись к ней жалостью. Если Гайдушека туземцы боялись, считая великим колдуном, то миссис Гласс оказалась обычной, не очень счастливой девушкой. И это вызвало доверие.
Пошли откровенные разговоры. Рассказы о том, как было раньше, при каннибализме. Женщины объяснили, что мясо забирали себе взрослые мужчины, а остальным доставались мозг и внутренности. И самое важное: после запрета умерших порой все-таки ели тайком. Но в последние четыре года (1959–1963) ни одного случая не было. За это женщины ручались.
С тех пор случаев куру поубавилось и среди больных не стало маленьких детей. Выходит, дело все же в людоедстве – дрожь поражает тех, кому доставался мозг. Тут Гайдушека осенило: необязательно заражение происходит в желудке. Руками, которыми раскладывали сырые мозги по бамбуковым трубочкам, женщины потом чесались, терли свои глаза, царапины и укусы, ласкали детей.
Чтобы не гадать, кашицу из мозжечка умерших от куру ввели двум шимпанзе прямо в мозг. Ветеринар Хэдлоу предупредил, что инфекция может иметь длинный инкубационный период. Через 21 месяц у самки по имени Жоржетта обнаружились симптомы куру. Мозжечок Жоржетты вызвал болезнь у следующего поколения всего за год, к январю 1967-го. Настоящий пассаж, как в производстве вакцин. Но что же это за возбудитель?
Как-то раз, еще во времена каннибализма, Гайдушек пробрался на кухню людоедов и незаметно засунул максимальный термометр в бамбуковую трубочку, в которой томился на огне мозг умершего от куру. Прибор показал, что за все время приготовления температура не поднималась выше 95 градусов. Для гибели вируса хватило бы и 85, но возбудителю куру такая температура была нипочем.
Гайдушек смело предположил, что куру вызывает патогенная частица, невидимая в тогдашний электронный микроскоп. Мало того, он догадался, что возбудители скрейпи и «коровьего бешенства» – разновидности той же частицы. Ее выделили только в 1982 г. и дали ей название «прион». Это вариант «штатного» белка, производство которого запрограммировано в нашей хромосоме № 20. Он становится прионом, когда его молекула при том же химическом составе меняет свою форму.
Существует наследственная предрасположенность к куру, а у болезни Крейтцфельдта – Якоба имеется наследственная форма. Не какой-то хромосомный сбой, а настоящее инфекционное заболевание, которое передается от бабушки к внучке. В 1967 г. большинство не могло такого даже представить. Но Гайдушек совмещал храбрость с богатой фантазией. Недаром его любимым писателем был Гоголь и, живя среди каннибалов, он перед сном читал «Вечера на хуторе близ Диканьки».
90 «Врачи без границ» Бернар Кушнер и Макс Рекамье 1971 год
20 декабря 1971 г. была создана организация «Врачи без границ», удостоенная Нобелевской премии за оказание помощи пострадавшим от локальных войн и стихийных бедствий. У истоков стояли хирург и гастроэнтеролог, которые отправились на войну в Африке по линии Красного Креста и разочаровались в возможностях этой организации.
Французский гастроэнтеролог Бернар Кушнер, молодой врач «из хорошей семьи», профессионально интересовался лечением квашиоркора. Этим африканским словом называется забытая в Европе патология, когда с голоду пухнут. В 1968 г. Кушнер увидел в журнале цветную фотографию умирающей от квашиоркора девочки из Нигерии и вызвался ехать в Африку спасать детей.
Голод возник из-за вмешательства Советского Союза, США и Великобритании в войну между правительством Нигерии и сепаратистами Биафры – области на юго-востоке страны, которая провозгласила независимость. Биафру населяли восемь миллионов христиан, остальную Нигерию – сорок семь миллионов мусульман. Христианам надоели погромы и этнические чистки, усилившиеся, когда в их части Нигерии нашли нефть.
Англичане и американцы, считавшие нигерийского президента «своим сукиным сыном», поставили ему стрелковое оружие. У биафрийцев была одна винтовка на пятерых, но они все равно побеждали, пока у Нигерии не было ударной авиации. Не было и быть не могло: вся валюта ушла на патроны. Тогда нигерийская делегация явилась в Москву, обещая подумать о «переходе к социализму», и получила истребители МиГ-18Ф и бомбардировщики Ил-28 в обмен на какао-бобы. Подписав договор, председатель Совета министров распорядился за счет поставок из Нигерии увеличить производство шоколада и выпустить новый сорт – вроде того, каким Косыгина угощали во Франции. Там плитка состояла из отдельных палочек, обернутых в фольгу. Это советскому премьеру весьма понравилось.
Пока утверждали ГОСТ на новый шоколад, из Биафры пошли страшные новости. С помощью советских самолетов Нигерия отрезала сепаратистов от моря. Поставки дешевого продовольствия прекратились. Теперь повстанцы кормили только армию, а восемь миллионов мирных жителей и два миллиона беженцев недоедали. Каждый день от истощения умирало до десяти тысяч человек. Правительство использовало голод как оружие массового поражения. Важно, что биафрийские крестьяне выращивали ямс и маниок, так что без рыбы из рациона исчез белок. Из-за этого возник квашиоркор, поразивший 300 тысяч детей. Каждый третий ребенок в стране оказался на краю гибели.
Христианские благотворительные организации и Красный Крест не сидели сложа руки. Они ввозили по воздуху до 150 тонн продовольствия в день. Важнее всего были вяленая треска и порошковое молоко – лекарства от квашиоркора, предназначенные детям. Красный Крест организовал в Биафре госпиталь Аво-Омамма, где Кушнер лечил истощенных ребят, а начальником и главным хирургом стал его приятель Макс Рекамье. Госпиталь был на 200 коек и три операционных стола. Лекарств и препаратов для наркоза хватало, девять врачей были молоды и полны энтузиазма, и за месяц они возвращали в строй до тысячи раненых. Число вылеченных от квашиоркора, малярии и филяриатоза шло на тысячи.
Нигерийская армия числила госпиталь важным военным объектом и четырежды его бомбила. Обученные в СССР египетские летчики, управлявшие МиГами и Илами, армией сепаратистов не интересовались. Они выбирали своими мишенями госпитали, церкви, лагеря беженцев и рынки. Налеты устраивались по часам, с 11 до 16, но только не в плохую погоду и не по выходным, когда пилотам полагается заслуженный отдых. К бомбежке врачи и больные привыкли. Самое страшное началось, когда нигерийцы пошли в наступление. Белых врачей они считали наемниками, которых непременно нужно убить. Неподалеку от Аво-Омамма правительственные войска истребили персонал югославского госпиталя, а затем точно так же поступили с британской христианской миссией. Раненых расстреливали прямо в койках, а врачей удостаивали револьверной пули в затылок у стенки.
По инструкции пациентов госпиталей Красного Креста вывозили в тыл, а врачи должны были остаться и продолжать оказывать помощь всем нуждающимся, когда фронт пройдет. Можно было и бежать, но Рекамье и Кушнер решили остаться.
«Мы останемся, но позовем журналистов. Пусть они снимают, как нас будут убивать», – сообщил Кушнер в женевскую штаб-квартиру. Это было грубое нарушение инструкции. Каждый врач Красного Креста перед началом миссии давал подписку о неразглашении того, что он увидит. Так, во время войны представители этой гуманитарной организации знали, что происходило в Освенциме, но помалкивали. Даже через несколько лет они ссылались на отсутствие официальной информации. А собственных расследований Красный Крест не проводит, это не его задача. Кушнер тоже давал такую подписку, но теперь он вышел за флажки.
Из девяти докторов не выдержал только психоаналитик Патрик Валас, который специально ради миссии приобрел квалификацию анестезиолога-реаниматолога. «Вы все с ума сошли, они же всегда пьяные, они просто перестреляют нас». На глазах у товарищей Валас собрал чемодан и ушел в тыл. Товарищи молча смотрели ему вслед.
К счастью, присутствие журналистов, которые прибыли раньше нигерийцев, отрезвило обкуренных правительственных солдат. Едва сообщение об этом появилось в газетах, Кушнера вызвали на ковер в Женеву. Там он заявил, что плевать хотел на инструкцию. На его глазах морят голодом по сто тысяч человек в месяц, и это самое большое массовое убийство после холокоста.
На обратном пути он наткнулся на Валаса, который ждал пересадки в аэропорту Цюриха.
– Ну что, трус, сидишь тут?
– Я не трус! Просто я не разделяю твоих амбиций.
– Какие амбиции? Я врач!
– Ты не врач, а политическое животное!
– А ты робкое животное!
В ответ, чтобы доказать свою смелость, психоаналитик выбрал самого крупного пассажира в зале ожидания, подошел к нему и спросил: «Вы немец?» – «Да». – «Значит, бывший нацист! На вас кровь шести миллионов! Вот вам!» И разбил немцу нос. Началась потасовка. После разбирательства с полицией каждый полетел в свою сторону: Валас домой, битый немец в Германию, а Кушнер в Африку.
Он оставался там до капитуляции Биафры в январе 1970 г. Республика могла бы держаться дольше, несмотря на голод, но США и Великобритания вынудили руководство Красного Креста прекратить поставки продовольствия даже в терапевтических целях. На последнем самолете Рекамье пытался вывезти 200 недолеченных детей, но их выкинули из салона, чтобы освободить места для руководства Биафры во главе с полковником Оджукву.
Друзья не могли забыть это приключение как страшный сон и вернуться к нормальной жизни. Настала эпоха локальных конфликтов, где Красный Крест не способен помочь обеим сторонам, потому что одна сторона всегда «нелегитимна». Пускай правительства не интересуются этой проблемой, но читателей медицинских изданий она волновала. Через год Рекамье и Кушнер пришли в редакцию фармацевтического журнала Tonus, который издавала лаборатория Winthrop, производитель дженериков. Главным редактором там был Раймон Борель, профессиональный журналист, специалист по скандалам, интригам и расследованиям. «У нас есть опыт, – сказали врачи-“биафрийцы”, – а у вас есть деньги. Давайте вместе сделаем что-нибудь грандиозное».
После долгих размышлений родился краткий устав новой гуманитарной организации. Хотели назвать ее «Французские врачи», потому что словосочетание French doctor в Африке стало нарицательным и означало медика, не имеющего отношения к великим державам и желающего только помогать. Но журналисты заметили, что придется работать и в бывших французских колониях, так что лучше «Врачи без границ».
Главная идея их устава: врач исполняет в горячих точках свои профессиональные обязанности, не давая никаких подписок, и свидетельствует обо всем, что видит. Да, медики не могут помешать генералам проводить этнические чистки. И не факт, что военные преступники ответят перед международным трибуналом. Но скрыть свои деяния они уже не смогут.
91 Циклоспорин как иммунодепрессант Жан-Франсуа Борель и Хартманн Штеэлин 1972 год
31 января 1972 г. было открыто действие циклоспорина. Это первый препарат, способный подавить отторжение пересаженных органов без тяжелых побочных эффектов. С него началась современная трансплантология. Циклоспорин стал и первым лекарством, которое принесло производителю прибыль более миллиарда долларов в год. При этом программу его изучения едва не закрыла служба маркетинга.
Бельгиец Жан-Франсуа Борель, открывший чудесные свойства циклоспорина, в юности не собирался заниматься наукой. Он считал себя художником и учился в Школе изящных искусств в Париже. Но в 1953 г., когда ему исполнилось двадцать, родители в категорической форме потребовали от молодого человека, чтобы он занялся чем-нибудь серьезным. В их понятии «серьезное» значило «техническое» или «естественно-научное». С горя Борель выбрал специальность агронома. Эта профессия предполагает длительное нахождение на свежем воздухе, и с собой на работу можно брать этюдник. Однако изучение растительной жизни вогнало его в такую тоску, что Жан-Франсуа перевелся на факультет животноводства. Там самым интересным направлением была вакцинация. Борель стал иммунологом. В этом качестве он и работал в Базеле на швейцарскую фармацевтическую фирму Sandoz, когда ему довелось столкнуться с таинственным веществом, выделенным из одного норвежского гриба.
Случилось это в ходе выполнения программы поиска новых антибиотиков. Едва появились пластиковые пакеты, руководство фирмы Sandoz издало приказ: всем сотрудникам брать с собой в командировку и отпуск маленькие пакетики и собирать в них образцы почвы с точным указанием времени и места отбора. Меньше 50 пакетиков из отпуска не привозить. К 1969 г. образцов стало так много, что их анализ переложили на ЭВМ. Эту громадную и очень дорогую машину, занимавшую целую комнату, можно с натяжкой называть компьютером. Содержимое пакетиков измельчалось и прогонялось через хроматографическую колонку. Компьютер сравнивал полоски на колонке с образцами в базе данных и указывал, есть ли в этой почве вещества, пока не изученные специалистами фирмы.
В сентябре 1969-го уехал в отпуск доктор Ханс Петер Фрай, сотрудник отдела производных спорыньи – того самого отдела, в котором открыли ЛСД. Фрай с женой прилетели в Осло, арендовали автомобиль и проехали на нем насквозь всю Норвегию. Если по дороге попадалось красивое место, они останавливались пофотографировать, а заодно и брали образец почвы. 3 сентября супруги Фрай оказались на плоскогорье Хардангервидда. Это самая южная тундра Европы – место на широте Санкт-Петербурга, где растет ягель и пасутся дикие северные олени. И там в их пакетик попал гриб Tolypocladium inflatum. Этот похожий на белую плесень организм был отмечен компьютером как выдающийся. Он вырабатывает циклоспорин – пептид, содержащий аминокислоту, которую ни один другой гриб не производит. Такое у него оружие в борьбе за выживание: под действием циклоспорина прочие грибы, растущие рядом с Tolypocladium inflatum, теряют способность размножаться.
Но циклоспорин не антибиотик. Не подавляет он рост бактерий, и его ждало бы забвение, если бы не руководитель фармакологической службы Sandoz Хартманн Штеэлин. Он отвечал за проверку веществ, на которые обращал внимание компьютер. Штеэлин открыл этопозид, которым лечили саркому Капоши, и пользовался большим авторитетом. Под его ответственность фирма отпустила средства для испытания действия новых препаратов на иммунную систему. Штеэлин собрался сдвинуть с мертвой точки трансплантологию, которая переживала период горького разочарования.
Хирургическая техника доросла до пересадки внутренних органов. Том Старзл в 1963 г. впервые пересадил печень, а Кристиан Барнард в 1967-м – сердце. Это была сенсация. Как Юрий Гагарин, Барнард объехал весь мир. У него была красивая улыбка, он хорошо говорил, публика любила его… но пациенты умирали слишком быстро. Несколько месяцев, год, от силы два: никакое искусство хирурга не могло победить иммунный ответ. Т-лимфоциты реципиента считают пересаженный орган инородным телом и бросаются в атаку. Если их убивать, начинается отравление.
Штеэлин придумал внутривенно вводить мышам овечью кровь, одновременно делая инъекции в живот новых веществ, переданных на испытание. В обычной ситуации иммунитет вызывает агглютинацию – склеивание эритроцитов. Проверять результат было поручено Борелю. Он-то и обнаружил 31 января 1972 г., что циклоспорин уменьшает агглютинацию в 1024 раза. Но самое удивительное, что лимфоциты оставались при этом целы. Препарат не убивал их, а обезоруживал, лишал способности вырабатывать антитела. И Штеэлин, и Борель проверяли действие циклоспорина на себе. Например, они размешивали препарат в водке (циклоспорин нерастворим в воде). Это сейчас люди после пересадки органов принимают раствор иммунодепрессантов в оливковом масле – а тогда наука еще многого не знала. Итак, опыты вызвали опьянение, но не отравление.
Казалось, теперь, когда чудодейственный иммунодепрессант найден, пора объявить об этом и начать производство. Но против выступили финансисты фирмы Sandoz. Маркетологи доказали полную экономическую нецелесообразность этой затеи. Они считали так: на доведение препарата до коммерчески пригодной формы нужно 250 миллионов долларов. Ключевой рынок лекарств – американский. Чтобы на него пробиться, нужны клинические испытания и разрешение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Трансплантология обходится дорого, это еще 250 миллионов. А если дело выгорит, прогноз продаж к 1989 г. – 25 миллионов в год. Маркетологи ошиблись в 40 раз. Кто в 1973 г. мог предвидеть, что пересадка органов превратится в индустрию? Исследователи именно так и говорили, но они, как известно, азартные фантазеры.
Программу решили закрыть. По инструкции Борель должен был спустить оставшийся у него грамм циклоспорина в унитаз. Но он передал последний грамм фармакологу Хансу Гублеру, и тот установил, что волшебный препарат прекращает развитие аутоиммунного артрита у мышей. После такого результата циклоспорин помиловали.
В 1976 г. исследователи Sandoz опубликовали статью о новом иммунодепрессанте, а Борель прочел о нем лекцию в Лондонском обществе иммунологов. На это выступление обратил внимание кембриджский хирург-трансплантолог Рой Калн – врач и одновременно художник, работавший в стиле постимпрессионизма. Они с Борелем быстро сошлись на почве любви к живописи – бельгиец хоть и не писал картин с тех пор, как родители запретили, все же не пропускал ни одной выставки. Калн поверил в новый препарат. Не спасовал даже, когда в 1978 г. испытания на людях привели к трагическим последствиям.
Пациентам с пересаженными почками вводили ту же безобидную дозу 25 мг/кг в день, что и подопытным собакам и обезьянам. Но люди умирали, их почки отказывались работать. По всем тогдашним представлениям это был признак отторжения. Калн пошел против общего мнения и предположил, что «собачья» доза просто слишком велика для человека – если ее снизить, препарат перестанет быть токсичным. И подтвердил это на опыте. Тут к делу подключился гуру трансплантологии Том Старзл. Он выписал циклоспорин и пересадил печень сразу 14 пациентам, из которых 12 прожили больше года. Это был триумф. Весьма кстати президентом США выбрали Рональда Рейгана, чья жена Нэнси была приемной дочерью хирурга. Старзлы и Рейганы дружили домами, так что с прохождением через FDA трудностей возникло меньше, чем при иных обстоятельствах.
В 1992 г. Старзл вышел на пенсию и возглавил исследовательскую группу, которая открыла химеризм. Оказалось, через несколько лет после трансплантации – срок, возможный благодаря циклоспорину, – иммунные клетки хозяина начинают воспринимать пересаженный орган как свой.
Когда Борель выходил на пенсию в 1997 г., от него ждали чего-нибудь в том же роде. Например, пересадку островков Лангерганса в поджелудочную железу, чтобы наконец победить диабет. Но Борель заявил, что ученый может так называться, пока способен выносить постоянную фрустрацию, а с него хватит. Передав дела, снял большую студию и занялся наконец живописью. Он пишет маслом и работает в технике коллажа.
92 Полная операция по смене пола Виктор Калнберз 1972 год
5 апреля 1972 г. закончилась первая в мире полная операция по смене пола: физиологически полноценной женщине, которая с детства ощущала себя мужчиной, создали половой член, удалив матку и влагалище. Операция была проведена в Советском Союзе. Она стала возможной благодаря исключительной решимости пациента и отваге хирурга Виктора Калнберза. За этот «противоречащий социалистическому строю» поступок великий врач был подвергнут наказанию, и подобные операции запретили на 17 лет.
К 1968 г., когда началась эта история, во всем мире операций по смене пола было сделано всего четыре, и закончились они созданием гермафродитов: женщины, ощущавшие себя мужчинами, усилиями пластических хирургов получали половой член, но сохраняли женскую репродуктивную систему и теоретически могли забеременеть. На полное превращение первой пошла 30-летняя москвичка по имени Инна.
Ей были даны одновременно формы Венеры Милосской и мозг настоящего мужчины. После третьей попытки самоубийства из-за несчастной любви к девушке Инна решила обратиться к знаменитому биологу-экспериментатору профессору Демихову. Весь Советский Союз смотрел киножурналы с собаками, которым он успешно пришивал вторые головы. Удача этих опытов внушила девушке надежду, что однажды она сможет наконец перестать играть чужую роль.
Но Демихов не был врачом и не имел права оперировать людей. Он позвонил директору Рижского НИИ травматологии и ортопедии (РИТО) Виктору Калнберзу и сказал: «Пришла приятная женщина с высшим инженерным образованием. Она хочет сменить пол, стать мужчиной. Вы успешно занимаетесь пластической хирургией. Если сумеете, помогите». Калнберз действительно создавал новые фаллосы тем, кто их утратил после несчастного случая или ампутации, но просьба Инны повергла его в замешательство.
Изучив литературу, Калнберз понял, что операция технически возможна. Однако недоделанное хуже несделанного – все же надо удалять матку и влагалище. У здоровой женщины такое возможно только по жизненным показаниям. Назначили психиатрическую экспертизу пациентки. Профессор Григорий Ротштейн пришел к заключению, что гормоны и гипноз бессильны. Если пациентка не станет мужчиной соматически (телесно), она рано или поздно покончит с собой. В 1969 г. Ротштейн умер – его здоровье было подорвано во время «дела врачей» – и не увидел полного преображения Инны. Чувствуя, что ей могут помочь в Риге, пациентка заявила, что живой оттуда не уедет.
И все же, когда Инну первый раз положили на операционный стол, у врачей не поднялась рука на ее прекрасное тело. Ассистент директора Леопольд Озолиньш сказал: «Нельзя такую женщину превращать в мужчину, ведь она может доставить еще столько радости». И операцию отменили, поручив Озолиньшу провести «психотерапию».
Озолиньш был из тех неотразимых врачей-сердцеедов, без которых не бывает по-настоящему хорошей клиники. Для такого профессионала любая атакованная женщина есть уже покоренная. Любая, только не Инна. Эта неудача убедила медперсонал: раз девушка не влюбляется в доктора Озолиньша, значит, операция обоснованна. А заметив, что пациентка стала собирать таблетки снотворного, решили больше не тянуть.
Первый из четырех этапов операции прошел 17 сентября 1970 г. Инна жаждала избавиться от всего женского, но Калнберз сначала создал из тканей передней брюшной стенки половой член с мочеиспускательным каналом и лишь потом удалил молочные железы. Делать экстирпацию матки пригласили опытную женщину-гинеколога, однако та спасовала: за удаление половых органов без жизненных показаний можно лишиться диплома врача. Пришлось Калнберзу заканчивать все самому. Матка оказалась со множественными фибромиомами, развившимися от массированного применения сначала женских, а затем мужских гормонов.
С апреля 1972 г. Инна смогла наконец взять мужское имя и носить мужской костюм, а врачи про себя стали называть ее «он» и «пациент». «Он» повадился ходить в больничный гараж, где подружился с шоферами. С ними «он» курил, выпивал и матерился вволю, наслаждаясь возможностью пребывать в мужской компании без мужских посягательств. У женщин имел большой успех, так как понимал их и знал по себе, что такое, например, месячные или туфли на шпильках. Через полгода он уже был женат. И женат вполне счастливо, разве что супруга часто ревновала его.
8 августа в Ригу приехала комиссия союзного Минздрава: главный гинеколог СССР, главный уролог Москвы и другие известные специалисты. Подозрительно моложе и скромнее всех был психиатр из Института имени Сербского. Калнберз показал гостям все четыре истории болезни, фотографии операций, киносъемки и диапозитивы. Присутствовал и пациент со своей невестой, рассказывал, как он счастлив. Члены комиссии, настоящие профессионалы, увлеклись и написали самое лестное заключение.
Оставшись наедине с Калнберзом, молодой психиатр Владимир Мелик-Мкртычян спросил:
– Ты хоть понимаешь, зачем я здесь?
– Конечно, ведь транссексуализм – это психиатрическая патология, и надо было оценить правильность моего решения…
– Ты очень наивен. Я должен дать оценку тебе.
Скорее всего, министр здравоохранения СССР – выдающийся хирург Борис Васильевич Петровский – страшно обиделся, что операцию сделали без его ведома. Как многие самолюбивые профессионалы, он желал быть не просто лучшим, а единственным. Если бы операцию оформили как проходившую под руководством Б. В. Петровского, все пошло бы иначе. А так – молодому Мелик-Мкртычяну намекнули, что для быстрого карьерного продвижения достаточно написать, будто Калнберз болен, и быть ему тогда не директором РИТО, а пациентом Института судебной психиатрии.
Однако психиатр был солидарен с выводами комиссии. На прощание Калнберз спросил москвичей, как же они теперь покажутся на глаза министру. «Ну что министр? – был ответ. – Он думает одно, говорит другое, делает третье…» По возвращении в столицу СССР комиссия была расформирована, а ее члены изруганы на чем свет стоит. Калнберза вызвали в Москву к министру. Теперь Петровский грозил не психушкой, а реальным судом.
П.: Вы своими действиями нарушили наши законы, понимаете вы это?
К.: Я помогал больной. Она была на грани самоубийства.
П.: Подумаешь! Пусть бы убивала себя. Почему вы не посоветовались ни с кем [например, со мной] и делали все в тайне?
К.: Никакой тайны мы не делали. Привлекались психиатры, эндокринологи, сексопатологи. И потом, какой хирург заранее трезвонит о новой операции, которая может не удаться? Мы создали сначала все мужское, а потом по желанию пациентки удалили женское…
П.: Какое варварство! У здоровой женщины удаляют молочные железы, матку!
К.: Матка оказалась измененной. У больной был фиброматоз и эрозия.
П.: Тоже мне больная! Это разврат! Вам известно, что у нас запрещена педерастия? Эта операция не нашего общества! Вот капиталисты бы вас поддержали.
К.: Я в их поддержке не нуждаюсь. Но ведь может случиться, что кто-то действительно поддержит. И тогда я невольно окажусь в роли Александра Солженицына. [Годом ранее в Париже вышел новый роман преследуемого в СССР Солженицына, а в 1970 г. он был удостоен Нобелевской премии по литературе. Тут министр немного сдал назад, потому что хирург, совершивший первую операцию по смене пола, мог бы отлично устроиться на Западе.]
П.: Что вы такое говорите? Вы коммунист?
К.: Да, коммунист.
П.: И что ж, вы считаете, такие операции надо делать?
К.: Я их делать не буду. Нарушать ваш приказ я не собираюсь. Но раз психиатры пришли к выводу, что операция необходима по жизненным показаниям, мои несовершенные действия все же преследовали гуманную цель.
[И тут министр проговорился…]
П.: Да это не психиатры к вам ее направили, а Демихов! Он только и способен, что собачьи головы к задницам подшивать, и не больше!!! [Петровский сживал Демихова со света, а тут враг обставил министра руками хирурга Калнберза.] Вас под суд надо, это же эксперимент на людях. Вы больны. Солженицына какого-то поминаете. Вам надо перестать бриться и мыться и в самом деле будете похожи на Солженицына. Возьмите отпуск, полечитесь, отдохните.
[Калнберз вынимает козырь.]
К.: Я себя хорошо чувствую. А вместо отпуска – я сейчас еду в Мюнхен.
[Только что началась Олимпиада в Мюнхене, где Калнберз был необходим как специалист по спортивной травматологии. Теоретически угроза суда могла побудить его «выбрать свободу». Кроме того, за Калнберза горой стояло руководство советской Латвии.]
П.: Вы поймите, я вам не враг, я как раз хочу помочь вам выпутаться из данной ситуации. Решение о вашем наказании было бы лучшим выходом.
1 сентября 1972 г. вышел секретный приказ А-130 о строгом выговоре Калнберзу за «калечащую операцию», которая не отвечает устройству и идеологии нашего общества. Подобные операции впредь запрещались, и врачам не разрешалось говорить и писать о них в СМИ.
Но этим Петровский не ограничился. На каждом активе в столицах союзных республик и областных центрах России он заговаривал о некоем хирурге, который из нормальной женщины сделал искусственного мужчину: «Жаждал славы, а получил бесславие!»
Довольно скоро стало ясно, кто имеется в виду. Получилась отличная реклама, теперь Калнберз был нарасхват. Его пациентом стал секретарь ЦК КПСС, и «чудо-хирург» попал в круг знакомых Галины Брежневой. А когда в его записной книжке появился телефон председателя КГБ Юрия Андропова, Калнберз начал подумывать о подпольных операциях по поводу транссексуализма. Но провел всего пять, в то время как за рубежом их отрабатывали и ставили на поток.
Запрет действовал до 1989 г. К тому времени Калнберз за другие достижения в науке стал академиком АМН СССР. Петровский давно уже не был министром. Теперь он искал дружбы Калнберза и время от времени просил его голосовать за определенных кандидатов на выборах в академию.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Сергей Фролов: Почему говорят, что это не первая была такая успешная операция?
Ответ: Голландская пациентка, до того как попала к пластическому хирургу, добровольно пошла на овариоэктомию – удаление яичников. Забеременеть она уже не могла, но матка у нее осталась. Доктор Ваудстра в 1959–1960 гг. не удалял ее, а занимался исключительно фаллопластикой. Делал он тот же филатовский стебель. Посмотрите фотографии в его статье (их можно найти в тексте, рисунок по-голландски будет figuur)[16].
Что любопытно, своей пациентке Инне Калнберз яичники оставил. Министру он объяснил это так: «Яичники мы сохранили, чтобы не нарушить гормональный тонус организма. На этом уровне что-то переключается, и работа яичников усиливает влечение к женщинам».
Евгений Трофимов: А как достигается эрекция и оргазм при таком члене?
Ответ: При таком члене, как у Иннокентия, эрекция постоянна. Это же самая первая и самая простая такая операция. Но пациент отмечал, что женщинам это очень нравилось. Что касается сексуальных эмоций, то они наконец стали достижимы, и по этой части пациент был просто счастлив.
Юрий Щербаков: Весьма вероятно, что история конфликта была подкорректирована post factum. Все же быть жертвой советского тоталитаризма до сих пор модно))))
Ответ: Вот уж кто меньше всех жертва советского тоталитаризма, так это Калнберз. Он в советское время процветал. Это был человек, которому помимо государственных наград были в знак особого поощрения вручены номера телефонов Ю. В. Андропова и В. А. Крючкова. Он свободно ездил за границу, денег не считал, вращался в высшем обществе – поглядите на фотографии. К наказанию за эту операцию он отнесся философски: наказали ни за что, но бывало, что и хвалили ни за что. Свой поединок с министром он, как видите, выиграл: хотел Петровский его снять с поста и в психушке запереть, а не вышло. Жертвы тоталитаризма здесь пациенты, которым из-за личных обид министра на протяжении 17 лет отказывали в помощи.
Mike Homola: По крайней мере, во всех интервью с Калнберзом чувствуется, что это не тот человек, который бы ныл и жаловался на систему, вместо того чтобы действовать. Опять же, в постсоветской Латвии его возможности, как профессиональные, так и организационные, были очень сильно урезаны по сравнению с СССР. Более того, у меня создалось впечатление, что демократическую Латвию он искренне ненавидит, и у него есть на это причины.
Ответ: В истории взаимоотношений Калнберза с демократической Латвией все сложнее. Во-первых, эти взаимоотношения делятся на два периода – до награждения орденом Трех звезд и после этого награждения (2000). Во-вторых, имея свободу передвижения и мировое имя в науке, живет он именно в Латвии. Можно сказать, что и там Калнберз остался советским человеком. Но он старается быть объективным, при всем уважении к Советскому Союзу не скрывает того, что в этом государстве происходило. Когда Демихова сживали со света, он так и говорит: «Сживали со света». Когда говорит, что о смене пола до 1989 г. не писали, – значит, не писали.
Лариса Кладченко: А я вспоминаю кафедру детской хирургии нашего Донецкого медицинского института под руководством Н. Л. Куща; в начале 1980-х там проводили похожие операции у детей и подростков, правда, там были те или иные формы гермафродитизма, но пациенты, также многие на грани самоубийства, приезжали со всего Союза. И документы меняли с Оли на Колю, запомнилось с 1-го курса. Светлая память талантливому хирургу и ученому Н. Л. Кущу!
Ответ: Гермафродитов лечить разрешалось, нельзя было помогать транссексуалам. Но все же какое-то количество их оперировали, проводя по документам как больных гермафродитизмом.
Даже авторское свидетельство Калнберзу оформили не на операцию по смене пола, а на «способ хирургического лечения гермафродитизма». Автор изобретения пошел на это, потому что в литературе транссексуализм иногда называли «психическим гермафродитизмом».
Stanislaw Alexander Zelianin: Очень хорошая публикация! Есть ли у Вас данные об отдаленных результатах?
Ответ: Во всяком случае, первый пациент жив и не умер от эмболии. В 2012 г. Калнберз встречал его на улицах Риги гуляющим с собакой. Эндопротез ему благополучно служил. Умерла жена от рака, женился снова, половая жизнь со второй женой была удовлетворительная.
Stanislaw Alexander Zelianin: В уретре из кожи мошонки или брюшной стенки вырастают волосы, их приходилось регулярно удалять. У меня был недавно пациент, бывшая женщина, у него пенис сформирован из мягких тканей предплечья, с сосудистой ножкой. Сейчас стараются сохранить иннервацию клитора (n. pudendus), чтобы и у неомужчины была полноценная половая жизнь.
93 Позитронно-эмиссионная томография Луис Соколофф, Мартин Ривич и Дэвид Кул 1976 год
16 августа 1976 г. на двух здоровых добровольцах была впервые испытана позитронно-эмиссионная томография. Вырабатывать в голове человека антивещество и проводить там его аннигиляцию, чтобы увидеть работу мозга, придумал Луис Соколофф. Это был психоаналитик, разочаровавшийся в том, чем занимался, из-за своей беспомощности. Подглядывая за активностью разных областей мозга, неожиданно для самого себя он дал онкологам ценнейший инструмент. Только позитронное сканирование позволяет узнать точно, пережила опухоль химиотерапию или на рентгене видны всего лишь ее останки.
Луис Соколофф – американец, рожденный в 1921 г. в семье эмигрантов из России. Свою фамилию он произносил с ударением на первом слоге. Вырос в Южной Филадельфии, где в то время мальчику с Третьей улицы лучше было не появляться на Второй. И если с пришельцем происходили вполне предсказуемые неприятности, ребята с Третьей затевали жестокую перестрелку из рогаток с соседями. Случались увечья вплоть до потери глаза. В школе вражда принимала форму соревнования в успеваемости, где Луис одержал победу, окончив с лучшим баллом. Это давало право на бюджетное место в Университете штата Пенсильвания. Там Соколофф заинтересовался клеточной биологией, работал лаборантом. И быть бы ему сравнительно далеким от медицины генетиком, не начнись Вторая мировая война.
Когда в 1943-м американская армия высадилась в Европе, даже бакалавров призывали рядовыми. Научный руководитель посоветовал Соколоффу подать документы в медицинскую школу при том же университете, чтобы получить право на отсрочку. Готовили там военных врачей, со строевой подготовкой, чтением карт и противотанковыми учениями. Пока шел ускоренный курс, война закончилась, но Соколофф оставался военнослужащим, и ему предстояла интернатура, также ускоренная, год за девять месяцев. По очереди интерны практиковались в хирургии, акушерстве и гинекологии, лабораторных исследованиях, неврологии и психиатрии.
Как самое интеллектуальное направление, Соколоффу импонировала психиатрия. Госпитали были забиты контуженными с боевым неврозом (посттравматическим расстройством), который лечили психоанализом. Его эффективность так увлекла Соколоффа, что он вызвался дослуживать положенный срок как военный психиатр.
Но очень скоро закрались сомнения в универсальности психотерапии. Не происходят ли в иных случаях такие изменения работы мозга, которые не поправишь словом?
Уход нашего героя из психиатрии несколько напоминает легенду о Будде. Родители скрывали от царевича Сиддхартхи существование страданий, окружая только здоровой и веселой молодежью. Его представление о мире перевернулось, когда он в 29 лет выбрался из дворца и встретил сначала старика, потом паралитика и покойника. Потрясенный царевич ушел из дворца, принял имя Гаутама, начал изучать философию, наконец, достиг просветления и стал Буддой.
Путь Соколоффа определили несколько его пациентов: солдат, внезапно научившийся владеть парализованной рукой; раненый с амнезией, который вдруг вспомнил свою жизнь, и нимфоманка, спокойно отказавшаяся от секса на время Великого поста.
Такие внезапные перемены в работе мозга должны были иметь какое-то объяснение. Соколофф задал себе вопрос: «Что происходит с мозгом во время панических атак?» Психоаналитики, начиная с Фрейда, лечили приступы страха, не постигая их физической основы. Между тем панические атаки материальны, выявляются при электроэнцефалографии. Но что означают ее данные? Какие нейроны работают неправильно, меняя электрическую активность всего мозга?
Будда в своих духовных исканиях пришел к тому, что ум человека – это не вещь, а сознание не поддается измерению и вычислению. Соколофф, напротив, решил измерить работу мозга и оценить ее математически. По окончании военной службы в 1949 г. он обратился к преподавателю своей медицинской школы, доктору Сеймуру Кети, который в университетской лаборатории измерял объем и скорость кровотока в сосудах мозга.
Момент оказался удачный: Кети как раз получил грант на новое исследование и у него была вакансия. На такую зарплату можно было нанять двух врачей, но, подумав, Кети отдал Соколоффу всю ставку, потому что энтузиазма юного доктора хватало на двоих.
Измеряя кровоток и сравнивая концентрацию газов в артериях и венах, они устанавливали расход кислорода в мозге. Чем эта величина выше, тем больше производится и потребляется энергии. Оказалось, что падает она лишь при коме или обмороке. Мозг спящего сжигает столько же кислорода, сколько мозг бодрствующего, и шизофреник в этом отношении не отличается от здорового индивида.
Когда это было опубликовано, среди ученых нашлось немало «буддистов», которые высмеивали результаты как очевидные, прибавляя, что мысль нематериальна. А стало быть, потребление энергии при умственной работе нулевое или бесконечно малое. Тогда Соколофф и Кети решили измерить кровоток отдельной области мозга, стимуляция которой наиболее наглядна. Была выбрана зрительная кора, а в качестве подопытного животного – кошка.
Идея состояла в следующем: когда нам есть на что смотреть, отвечающие за зрение и обработку сигнала центры мозга активнее поглощают из крови кислород и другие газы. Кровь обогащали радиоактивным йодом-131, вводя газообразный трифторйодметан: газы преодолевают гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от случайно попавших в кровь примесей. Едва изотоп собирался в зрительном центре, животному отрубали голову. Мозг замораживали и разрезали на тонкие пластинки. Затем каждую пластинку накладывали на рентгеновскую пленку, которая засвечивалась под богатыми изотопом участками. Получалась своего рода томограмма.
Чтобы показать различия в работе мозга нормального и больного животного, некоторым кошкам зашивали один глаз. Причем делать это приходилось без анестезии, потому что стимулировать зрительный центр под наркозом бессмысленно. Полученные снимки стали первой в мире визуализацией мозговой активности.
На этот опыт ушло пять лет упорного труда, и он лишь подтверждал давно известное. Физиологи и психиатры установили зону ответственности каждого участка мозга еще в Первую мировую, когда хватало раненных в голову.
Самому Соколоффу исследование кровоснабжения области мозга представлялось попыткой изучать быт по водопроводу и канализации. Вот установлено, сколько обитатели нашей квартиры израсходовали воды, когда они стирают белье и чем болеют. Но главу семьи так не выявишь: для этого надо знать, сколько каждый из нас тратит денег.
Внутри мозга всего лишь одна ходячая монета – глюкоза. Когда в 1957 г. Соколофф писал главу для справочника по физиологии, он показал, что сахара – единственный источник энергии для клеток мозга. Белки и жиры не проходят гематоэнцефалический барьер. Казалось бы, достаточно скормить животному глюкозу с радиоактивным углеродом и потом узнать, какая из клеток больше его накопила. Но не тут-то было. Глюкозу в мозгу тратят так же быстро, как зарплату в магазине: за полторы минуты от нее остается углекислый газ, который тут же выводится с кровью.
Случайно, работая по совсем другой теме, Соколофф узнал, что дезоксиглюкоза, которая отличается от глюкозы отсутствием одного атома кислорода, вызывает кому. Разделывать ее быстро ферменты нейронов не умеют, и она накапливается. Это как если бы зарплату выдавали не наличными, а кирпичами – их надо еще продать, на что требуется время. Соколофф запомнил это соединение.
От мысли пометить его радиоактивным углеродом-14 пришлось отказаться: этот изотоп живет долго, потому что распадается медленно. Более радиоактивные тяжелые металлы не пройдут гематоэнцефалический барьер. Нужно, чтобы сама клетка мозга стала источником радиации, которую может засечь прибор. Соколоффу попалась работа химиков Брукхейвенской лаборатории об антивеществе.
Что такое антивещество, или антиматерия, мы до конца не понимаем. Возможно, это материя, которая движется нам навстречу во времени: из будущего в прошлое. Электрон в антимире имеет положительный заряд и называется позитроном. Когда он образуется при распаде, например, изотопа фтор-18, то немедленно аннигилирует с первым попавшимся электроном. При этом вся масса обеих частиц превращается в энергию, испускаемую в форме гамма-излучения. Чтобы устроить встречу с антимиром внутри мозга, можно заменить атом водорода в дезоксиглюкозе атомом радиоактивного фтора-18: химические свойства почти те же, а гематоэнцефалический барьер подмены не заметит.
В 1968 г. чехословацкие химики разработали реакцию такой замены, и Соколофф опубликовал несколько впечатляющих снимков функциональной активности мозга обезьяны. В 1975 г. заведующий кафедрой неврологии в университетской больнице штата Пенсильвания Мартин Ривич предложил Соколоффу подготовить такой эксперимент на человеке. «Да как же вы станете рубить головы пациентам? – спросил Соколофф. – Разве что после того, как они оплатили ваши счета и им больше нечего терять!» Оказалось, в 1973-м на кафедре ядерной медицины в той же больнице сделали томограф со счетчиком, способным вращаться вокруг головы пациента, снимая показания слой за слоем.
Эксперимент 16 августа планировали десятки ученых: изотоп фтора получали бомбардировкой атомов неона в циклотроне на острове Лонг-Айленд, а томографию выполняли в Филадельфии, за 270 километров от ускорителя. Это час на самолете. Время полураспада изотопа фтор-18 составляет 110 минут, причем два часа было нужно, чтобы ввести его в молекулу дезоксиглюкозы. Это значило, что ко времени начала исследования от полученного в ускорителе фтора останется в лучшем случае четверть и времени переделать опыт не будет.
Счет шел на минуты. К счастью, 16 августа 1976 г. стояла чудесная ясная погода, перелет прошел по графику и два добровольца превосходно перенесли процедуру. Снимки получились довольно низкого качества, а результаты выглядели весьма скромно: в пересчете на 100 граммов зрительная кора потребляла 10,27 миллиграмма глюкозы, а белое вещество – 3,8 миллиграмма. Но это была первая визуализация работы мозга живого человека!
Поскольку опыт вели неврологи, они первыми использовали позитронную эмиссию в клинической практике. При хирургическом лечении эпилепсии есть проблема поиска специфического очага, который вызывает судороги. В промежутках между приступами он потребляет глюкозы меньше нормы, поэтому обнаруживается при помощи ПЭТ, после чего можно провести его деструкцию.
Сообщением нейрохирургов заинтересовались онкологи, о которых Соколофф и не думал. Вспомнили эффект, открытый Отто Варбургом еще в 1931 г.: раковые клетки активно потребляют глюкозу, это их любимый источник энергии. Поскольку ПЭТ фиксирует как раз поглощение глюкозы, она дает ценнейшую информацию – живы ли еще клетки опухоли или погибли после курса химио- либо радиотерапии. В этом преимущество ПЭТ перед прочими методами, которые только показывают опухоль.
Как только возникла перспектива широкого практического применения, нашлись огромные деньги на совершенствование позитронно-эмиссионной томографии. За 10 лет изобрели способы удешевить производство изотопа и ускорить его введение в дезоксиглюкозу.
Шагнула вперед и наука о клеточных мембранах. Мы узнали, на что нейроны тратят свою глюкозу. Оказалось, всего лишь на перемещение через мембрану ионов: натрий в одну сторону, калий в другую. Наши движения, мысли, чувства и воспоминания возникают от того, что нервные клетки качают ионы. А когда они перестают это делать, возникает паркинсонизм или болезнь Альцгеймера, наступает старение и сама смерть.
Что, если, пока человек еще остается собой, установить при помощи позитронно-эмиссионной томографии, сколько каждая клетка потратила глюкозы в какой-то произвольный момент? Сделать мгновенную фотографию работы мозга, со всеми рефлексами, эмоциями, раздумьями; нанеся ее на трехмерную карту расположения нейронов, получить цифровую копию сознания индивида. И таким образом обессмертить его личность, хотя бы в компьютерной памяти.
Эта идея неизменно вызывала у Соколоффа улыбку. Во всяком случае, при посторонних.
Примечание
Бросив психоанализ, Соколофф освоил математику, чтобы самостоятельно оценивать результаты своих тяжелых экспериментов и не губить даром подопытных кошек. В частности, для оценки скорости переработки глюкозы в пересчете на определенный вес мозговой ткани он вывел формулу с тремя интегралами.
Один из его лучших постдоков, канадец Мишель де Розье, был переученный гуманитарий. Очень хорошо и точно измерял все, что ему поручали, но у него было худо с математикой. И когда назначили новый эксперимент, результаты которого описывала эта формула, де Розье в субботу (свободный академический день) пришел к своему руководителю Соколоффу и сказал: «Я не понимаю, что мы делаем и зачем. Профессор, объясните, ради бога!» Соколофф бился с ним до вечера, но втолковать не смог. На следующий день, в воскресенье, в свой законный выходной, он повторил вывод формулы шаг за шагом, составляя для каждого нового уравнения комментарий, понятный для де Розье. И обнаружил ошибку! Которую тут же исправил. Сейчас на этой формуле основан весь математический аппарат ПЭТ/КТ.
94 Вирус лихорадки Эбола Стефан Паттин, Петер Пиот и Гвидо ван дер Гройн 1976 год
12 октября 1976 г. был открыт вирус лихорадки Эбола. Он был найден в образце крови монахини, скончавшейся от неизвестной прежде болезни. Теперь врачам предстояло отправиться на место гибели больной в Заир, чтобы установить, откуда взялся вирус и как он передается. Расследование шло в очаге эпидемии, убивавшей людей сотнями.
Участники этой истории демонстрировали такую беспечность, что эпидемия 1976 г. имела все шансы охватить Африку и заодно Западную Европу. Не допустила этого горстка врачей из шести стран – 45 человек, бросившихся на место трагедии. И надо сказать, что им сопутствовала сверхъестественная удача.
Источником вируса, вероятно, стала обезьяна, добытая в Экваториальной провинции Заира в районе деревни Ямбуку. Там работала католическая миссия, где служили бельгийские священники и монахини. В колониальные времена, до Патриса Лумумбы, Заир был Бельгийским Конго, и тесные связи с бывшей метрополией сохранились. При миссии функционировали школа и больница, отлично снабженная лекарствами из Европы и весьма популярная среди местного населения. Многие проделывали 50–60 километров пешком, чтобы получить там медицинскую помощь. Амбулатория принимала 6–12 тысяч больных каждый месяц.
22 августа учитель из школы при миссии, объезжая своих бывших учеников, по дороге купил у охотника вяленое мясо антилопы и обезьяны. Антилопой он ужинал вместе с домашними, а обезьяну пробовал один. 26-го он обратился в больницу, жалуясь на высокую температуру, боль в горле и животе. Подозревая малярию, ему сделали укол хлорохина, и до 1 сентября температуры не было. Потом она вернулась и началось желудочное кровотечение. 5 сентября учителя госпитализировали, а 8-го он умер, истекая кровью. От него заразились девять человек, лечившихся в той же палате. У них перед смертью тоже шла кровь из самых разных мест: изо рта, ушей, глаз, заднего прохода. Ужасающее зрелище.
Миссионеры думали, что это дизентерия или желтая лихорадка, но тогда откуда кровь из глаз? Как ни странно, в их больнице не было никого с медицинским образованием. Ближайший профессиональный врач, доктор Нгой Мушола, работал в 100 километрах, в уездном центре – поселке Бумба. 16 сентября его вызвали в миссию. Осмотрев 17 пациентов, он заявил, что это неизвестная прежде болезнь. Ему не поверили. Из столицы страны Киншасы прибыли ведущие эпидемиологи и диагностировали брюшной тиф. Заболевшую медсестру перевезли в Киншасу, под наблюдение опытных врачей. Когда она заразила медперсонал уже в столице, образец ее крови доставили в Институт тропической медицины в Антверпене.
Перевозили в обычном термосе, который по дороге как следует приложили обо что-то твердое, так что одна из двух пробирок разбилась. Талая вода с кровью пропитала заложенную в термос записку от доктора с описанием клинической картины. Начальник лаборатории исследования инфекций Стефан Паттин приказал своим сотрудникам брать эту записку в перчатках – все-таки речь идет об инфекции. Но при этом юные врачи Петер Пиот и Гвидо ван дер Гройн, занимавшиеся культивированием вирусов, работали без масок и в хлопчатобумажных халатах. Более того, когда они вручили своему боссу пробирку с материалом для микроскопии, тот немедленно уронил ее, так что среда забрызгала ботинки ассистента.
Паттин уже знал, что 11 из 17 миссионеров умерли, что неведомый вирус вызывает смерть более чем 70 % зараженных (больше – только вирус бешенства), и поэтому он в ужасе замер. К счастью, присутствующие не растерялись, пол живо дезинфицировали, а прекрасные ботинки отправились в печь.
Тем временем доктор Мушола оповестил жителей своей провинции об эпидемии, и те без всякого приказа сверху закидали бревнами въезды в свои деревни, как делали их деды при известии об эпидемии оспы. Информацию распространяли самые настоящие тамтамы – тогда хватало людей, понимающих их язык. Больница при миссии закрылась, и число заболевших лихорадкой перестало расти. Но теперь в ужас пришли власти Киншасы и Всемирная организация здравоохранения.
ВОЗ приказала Паттину отослать материал в Британию, откуда его переправят в Атланту, в лучшую в мире лабораторию при Центре по контролю заболеваний США. Рассматривали также вариант с советскими лабораториями, оборудованными для исследования геморрагических лихорадок.
Однако Паттину было обидно отдавать открытие в чужие руки, и он придержал материал: мол, клетки Vero, на которых культивировали вирус, еще не готовы и т. п. На самом деле 12 октября все было готово. Ван дер Гройн сделал сверхтонкий срез, который отправили на электронную микроскопию в университетскую клинику Антверпена. Выполнял ее Вим Якоб, личный друг Паттина. Через несколько часов он вернулся с фотографиями.
Паттин уставился на них и спросил: «Что это такое, черт побери?» Все привыкли, что вирусы – это такие шарики с пупырышками, вроде морских мин. А на фотографии были какие-то червяки. Паттин единственный в помещении знал, что бывают такие вирусы. «Похоже на Марбург», – изрек он. Ничего хорошего это не сулило. Вирусом лихорадки, которой болели доставленные из Уганды обезьянки, заразились в Марбурге профессионалы – в лаборатории, оборудованной куда лучше антверпенской. Материал немедленно упаковали и отправили в Британию.
На следующий день американцы сфотографировали этот вирус, причем обнаружили, что антитела к вирусу Марбург на него не действуют.
Паттин на этом не успокоился и обратился в бельгийское министерство иностранных дел, предлагая послать на место его сотрудников. Нехорошо, когда открытый в Бельгии вирус исследуют без участия бельгийцев. «И потом, это же наше Конго!» С 29 сентября бюрократы отмахивались от ученых, но эта новость их гальванизировала. Пиот и ван дер Гройн вошли в международную комиссию, которую ВОЗ создала из врачей Бельгии, США, Канады, Франции, ЮАР и Заира.
В Киншасе глава комиссии Карл Джонсон разделил отряд на две части: одни обеспечивают изоляцию больных в столичной больнице, а другие – только добровольцы – отправятся в Ямбуку и там установят пути заражения и при возможности переносчика. Подозревались клопы, комары, летучие мыши и грызуны. Петер Пиот вызвался первым. От природы он был скептик и не очень верил страшным рассказам. Это помогло ему убедить военных летчиков доставить миссию на аэродром Бумбы. Пилоты поначалу категорически отказывались. Они говорили, что сами видели, как падают на лету больные птицы, а вдоль дорог лежат непогребенные тела. В Киншасе, куда не долетали звуки тамтамов, не знали, что творится в зоне эпидемии.
А там начался голод. Карантин объявили как раз во время уборки риса и кофе, и провинция оказалась отрезана от «большой земли», с которой доставляли топливо. Теперь, кроме охотничьей добычи, аборигенам нечего было предложить к обмену. Самолет, доставивший экспедицию, был первым за три недели. Его встречала тысячная толпа, ожидавшая, что привезли продукты. Они были весьма разочарованы, увидев эпидемиологов на «лендровере».
Но фотография вируса производила на толпы туземцев необыкновенное впечатление. Загадочная смерть, лишившая их нормальной жизни, еще не получила имени, зато стало ясно, как она выглядит. Она материализовалась. В каждой деревне, пока разбирали завал на дороге, Пиот показывал заветную фотографию и спрашивал, есть ли заболевшие. Почти до самой деревни Ямбуку их не было.
С больными лихорадкой встретились, когда наконец прибыли в несчастную миссию. Пока мальчишки ловили для экспедиции крыс, летучих мышей и клопов (в которых вируса так и не нашли), врачи отбирали пробы крови и опрашивали тех, кто оплакивал умерших. Кривая заболеваемости на графике явно клонилась вниз, причем эта тенденция возникла сразу после закрытия миссионерской больницы 30 сентября.
Большинство пострадавших были те, кто посещал тамошнюю амбулаторию. Среди них преобладали женщины детородного возраста. Потом заболевали и умирали со страшным кровотечением все, кто близко общался с ними, но источником была больница. Первым догадался доктор Масcамба, санитарный инспектор из Лисалы, хорошо знавший своих людей. Африканцы не доверяют таблеткам и снадобьям, считая их слабыми, зато укол для них – это «дава», то есть настоящее действенное лекарство. Беременные женщины часто просили медсестер-миссионерок сделать им инъекцию хоть чего-нибудь, и те кололи витамин B и глюконат кальция. Вреда никакого, зато бодрит, что очень нравилось изнывающим от тяжелой работы беременным.
Петер Пиот отправился в опечатанное здание миссии посмотреть на процедурный кабинет. Резиновые крышечки банок с растворами были истыканы иглами шприцев. Некоторые баночки и вовсе были заткнуты ватой. И тут страшное подозрение осенило бельгийцев. Они каждый вечер общались с уцелевшими сестрами миссии, за рюмочкой вермута услаждая их беседой на родном фламандском наречии. И когда языки у монахинь развязались, им был задан вопрос, как именно они делали инъекции.
Сестра Геновева Гизебрехтс охотно поведала, что свои стеклянные шприцы они кипятили с утра, вместе с акушерскими инструментами. Потом весь день одним и тем же шприцем кололи приходивших пациентов, меняя иглы и промывая шприц после каждой инъекции чистой водой. Ведь этого достаточно, не так ли?
Было очень трудно ответить на этот вопрос. Как сказать самоотверженным женщинам, убившим лучшие годы на эти джунгли, что они из-за своей плохой подготовки стали причиной смерти 280 человек? И что сделают местные жители, услыхав, что медработники разнесли инфекцию, которая иначе закончилась бы на поедателе обезьяньего мяса? Станет эта темная толпа вникать в тонкости?
Да и не это было сейчас важно. Деятельность миссии все равно прекращена, теперь слово за карантинами и богатой антителами плазмой крови тех 12 % заболевших, кто сумел выздороветь. Наконец, следовало дать болезни название. Совещались под бурбон из Кентукки: проставлялся руководитель экспедиции. Между собой ее члены называли болезнь «лихорадкой Ямбуку», по месту происшествия. Но Джоэл Бреман, отвечавший за искоренение оспы в Заире, возразил: вот открыли в Нигерии лихорадку Ласса, так нигерийцы стали шарахаться ото всех жителей городка Ласса. Те, кто живет в Ямбуку, такого не заслужили, они же не виноваты в эпидемии.
Джонсон в свое время обнаружил в Боливии неизвестную лихорадку и назвал ее по протекающей в тех местах реке – Мачупо. Здесь напрашивалась река Конго, но уже была открытая Михаилом Чумаковым конго-крымская геморрагическая лихорадка. Из рек вокруг Ямбуку лучше всего подошла Эбола, в переводе с языка лингала – «черная река». Короткое слово и мрачный смысл.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Андрей Чернышев: По-моему, опасность Эболы сильно преувеличена. Болезнь явно распространяется только в жарких странах и не носит пандемический характер.
Ответ: Проблему из Эболы создают не журналисты, а чиновники, которые манипулируют статистикой и делают вид, что все хорошо. Два года назад это привело к вспышке в городах, где контролировать распространение вируса нереально. С громадным трудом и жертвами задавили это, бились несколько месяцев. А поначалу тамошние руководители тоже писали, что по сравнению с ВИЧ это не проблема. Эпидемиологи с нежностью вспоминают прошлый век, когда по сигналу тамтама деревни закрывали и очаг локализовывался. Увы, эти времена миновали навсегда.
Андрей Чернышев: Как с вакциной дело обстоит? Если она есть и работает, то уже все не так плохо?
Ответ: Она есть и работает, подтверждено, только жертвам эпизодических вспышек это не поможет. Зимой 1959–1960 гг., когда была последняя вспышка оспы в Москве, трое заболевших москвичей умерли. Вакцина существовала, ею привили все население Москвы, что позволило отсечь возможность заражения через их контакты, исключить превращение вспышки в эпидемию. Только тех двоих, которых успел заразить прилетевший из Индии художник-плакатист, вакцина спасти не могла.
Инкубационный период лихорадки Эбола – до 21 дня. За это время вирусоноситель-африканец может сесть в самолет и оказаться в Москве, на улице Миклухо-Маклая. Там он зайдет в КFC и потрогает кнопку слива в туалете, куда зайдет Ваш друг, с которым Вы поздороваетесь за руку. Смертность – до 88 %. Вот зачем нужны ВОЗ, карантины и санитарные врачи.
95 Возбудитель болезни Лайма Полли Мюррей, Аллен Стир и Вилли Бургдорфер 1982 год
18 июня 1982 г. вышло сообщение об открытии возбудителя таинственной болезни Лайма – самой быстро распространяющейся клещевой инфекции в мире. Судя по данным археологов, болезнь Лайма преследует человечество уже 5000 лет. Коварную спирохету удалось разоблачить, когда против нее объединились три человека: американская домохозяйка, у которой заболели дети, ревматолог, не желавший воевать во Вьетнаме, и швейцарец-энтомолог, изучавший собачьих клещей.
Лайм (Олд-Лайм) – это не человек, а городок в США, у реки Коннектикут в одноименном штате. Там живет художница Полли Мюррей, которая и начала борьбу с клещевым боррелиозом. Она первой в тех местах заболела, когда вышла замуж и их молодая семья поселилась на ранчо у реки. Во время первой беременности у Полли началась лихорадка с головными болями и ломотой в ногах. К 1975 г. проблемы с суставами испытывало почти все семейство – муж Полли, старший сын Алекс и даже собаки. Мальчику пришлось хуже всех: у него парализовало половину лица и колени распухли так, что он мог передвигаться лишь на костылях.
Полли в юности изучала сестринское дело и по всем правилам вела историю болезни членов своей семьи. Записи прямо указывали на клиническую картину инфекции. Врачи Лайма только отмахивались: трудно лечить медиков, да еще бывших, к тому же сумасшедших. А что Полли с приветом – был уверен весь город: у нее не всегда получалось подбирать слова и с ходу отвечать на вопросы.
Когда заболел другой сын – шестиклассник Тодд, материнское терпение лопнуло. Миссис Мюррей переписала всех окрестных детей с похожими симптомами: воспаление коленных суставов, проблемы с речью, постоянная усталость. Таких было несколько десятков. Родители терялись в догадках. Одни говорили, что все началось, когда рядом построили АЭС, другие ругали отравленную промышленными стоками воду, и все чувствовали, что здесь как-то замешаны лес и река. Скооперировавшись с другой социально активной мамой, Полли собрала множество подписей под коллективной петицией о том, что пора бороться с массовым недугом.
Запахло политикой, городские власти пришли в движение. Из Йельского университета выписали Аллена Стира, ревматолога, а в недавнем прошлом инфекциониста. Такие сочетания специальностей рождала Вьетнамская война. Когда в 1972 г. Стир оканчивал медицинский колледж, ему сказали в военкомате, что в действующую армию пойдут все выпускники, которые не устроятся на альтернативную службу. Лучшим вариантом «альтернативки» для молодого врача стало полувоенное федеральное агентство CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний). Два года службы Стир летал по Америке, ликвидируя вспышки самых разных инфекций. В 1975 г. демобилизовался и занялся в Йеле своей любимой ревматологией. И тут его направили на ревматологическую эпидемию.
Что это эпидемия, Стир не сомневался. Для такого городка, как Лайм, даже два случая юношеского артрита – уже слишком.
Стир поговорил с 39 детьми, и оказалось, что все они заболели летом и осенью. Многие заметили, что начиналось все с кольцевой сыпи вокруг места, где вроде бы кусало какое-то насекомое. Но никто из детей не видел насекомых и не мог их описать.
Поиски в литературе показали, что подобную кольцевую сыпь наблюдал в 1909 г. шведский врач Арвид Афцелиус. Поскольку кольцо покраснения со временем расширялось, швед назвал эту болезнь «мигрирующая кожная эритема». Там тоже была лихорадка и неврологические последствия, но без артрита. Разносчиками болезни Афцелиус считал лесных клещей. Подтвердить это можно было только наблюдениями в теплое время следующего, 1976 г., и Стир принял решение подождать.
Тем временем мальчику Тодду Мюррею становилось все хуже. Он уже не мог передвигаться без костылей и начал заговариваться. Это характерный симптом его болезни – менять местами первые звуки слов, так что вместо «болит голова» выходит «голит болова». Получалось забавно, и Тодд начал умышленно играть в классе роль шута. Он вполне мог идти на костылях ровно, но вихлялся «как ненормальный», чтобы вызвать смех, и нарочно перевирал слова. Мюррей превратился в ходячий анекдот. Еле ходячий. Играть в бейсбол и регби он больше не мог и в освободившееся время стал усердно учить математику и биологию. Тодд решил стать врачом, чтобы исследовать свою болезнь и найти средство борьбы с нею.
Сезон 1976 г. оправдал ожидания: с июня по сентябрь несколько десятков новых случаев. По большей части среди детей, которые играли в лесу. Адреса заболевших нанесли на карту. Река Коннектикут играла какую-то загадочную роль: на западном берегу единичные случаи. Артрит свирепствовал восточнее – там, где находится ранчо Мюррей. Стало быть, разносчик – клещ, который ездит верхом на животных, редко встречающихся на западном берегу. Какие это животные? Полевки и белки отпадают – их везде полно. Должен быть некто крупный. Запросили у биологов-экологов. От этого была несомненная польза. К Стиру явился эколог и принес в баночке живого клеща, который его, эколога, укусил.
Клещ оказался оленьим: он появился в этих краях недавно, когда на восток штата Коннектикут началась миграция белохвостых оленей. Рогатые, кстати, пока еще редко перебирались через реку. На составленной экологами карте ареал распространения оленей точно совпал с очертаниями очага эпидемии. Поскольку от некоторых клещевых инфекций помогают антибиотики, Стир стал назначать их больным детям. У многих артрит прошел, в том числе у Тодда Мюррея. Стир получил известность и право дать патологии название. И нарек ее болезнью Лайма, несмотря на протесты властей этого городка.
Но кого убивает антибиотик? Что за микроб попадает в кровь при укусе клеща? Этого не знали до 1981 г., когда в Нью-Йорке началась вспышка пятнистой лихорадки. На подмогу вызвали швейцарца Вилли Бургдорфера, который с 1950-х гг. жил у подножия Скалистых гор, исследуя экзотические лихорадки. В горах Монтаны есть места, куда индейцы старались не заходить с мая по сентябрь, потому что в это время там бродят злые духи. На самом деле там обитают собачьи клещи, при укусе которых передается возбудитель клещевого паралича. Родственные им клещи живут вокруг Нью-Йорка, и в их кишечнике опытный «клещевой хирург» Бургдорфер искал риккетсий. Безрезультатно. Тогда решили попробовать черноногих клещей, в которых швейцарец увидел то, чего совсем не ожидал. Он даже крикнул: «Что за черт! Откуда эта проба?» В кишечнике черноногого клеща были живые спирохеты.
Зная, что черноногий клещ отличился в Лайме, Бургдорфер немедленно сообщил о своем открытии Стиру. Вскоре культуру спирохеты, названной «боррелия Бургдорфера», ввели кроликам и вызвали у них болезнь Лайма. Об этом 18 июня 1982 г. сообщил журнал Science.
У студента-медика Тодда Мюррея была тогда сессия, и он пропустил историческую новость. Зато заметил научную дискуссию, разгоревшуюся вокруг спирохеты. Эта бактерия – достойный противник. В нашем теле она ведет себя как опытный шпион. В первую очередь боррелия двигается к дендритным клеткам – справочному бюро иммунитета. Она сама сдает этим клеткам свои антигены как «вражеские», а потом на ходу разбрасывает антигены по поверхности здоровых клеток разных тканей. По следу спирохеты идут лимфоциты-киллеры, убивающие клетки с антигенами «чужих». Так иммунитет борется со своими, пока чужие резвятся в синовиальной жидкости. Возникает аутоиммунный ревматоидный артрит. Перед вами больной с «Лаймом»: его трясет, он не помнит половину слов из-за выделяемого боррелией нейротоксина, а его иммунитет репрессирует «своих», усиливая воспаление.
Исследователи разделились на два лагеря: одни говорят, что краткий курс антибиотика не убивает спирохет до конца – микробы прячутся в глубине головного мозга и там годами ждут, пока ослабнет иммунитет. Когда стало известно, что боррелиоз передается от матери к плоду и при половом контакте, эту болезнь провозгласили «сифилисом XXI века». К «тревожному» лагерю примкнули Полли Мюррей и Вилли Бургдорфер.
Стир оказался их научным противником. Он считает, что слишком легко поставить себе самому диагноз «болезнь Лайма». Насмотревшись телевидения и начитавшись интернета, люди бегут к инфекционисту и не верят отрицательному результату анализа. У вас где-то чешется, вы устаете и не можете вспомнить пароль электронной почты? Ну конечно, это «Лайм»!
Тодд Мюррей сначала был в первом лагере. Диплом он защищал с катетером для внутривенного вливания антибиотиков – ему назначили «курс очищения организма от боррелий» на несколько недель. Особого улучшения, правда, не было, но курс помог отделаться от навязчивых мыслей об инфекции.
Поработав терапевтом, Мюррей проникся сочувствием к другой стороне – когда принял тысячу больных с воображаемыми инфекциями, в том числе с вымышленным «Лаймом». А уж он-то знал по себе, что такое настоящий боррелиоз. Тодд ощутил, что по собственной болезни у него больше нет вопросов к медицине. Наука пока не в силах дать ответ, и с этим надо смириться. Сейчас Мюррей работает там, где вопросов меньше всего, – на скорой.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Stanislaw Alexander Zelianin: Эта тема не относится напрямую к моей деятельности, но пациенты такие бывают. Насколько я информирован, вакцина в США работает, в Европе – нет, т. к. здесь нужна тривалентная вакцина из-за многообразия боррелий, но и здесь в ближайшем будущем ожидаются положительные сдвиги. Очень неприятно то, что после укуса и заражения эритемы может и не быть.
Ответ: В Штатах тоже вакцину сняли с производства. Малая надежность, продажи плохие. Как ни смешно, есть вакцина для собак, а для людей – нет.
Нина Караван: Знаю не понаслышке эту гадость. Очень подробно написано об этой болезни в медицинской литературе для военных. В Приморском крае инфекция свирепствует последние 12–15 лет. На данный момент выделено четыре вида возбудителя. У всех наблюдается избирательное поражение органов и систем. Правда, встречается и микс. Поэтому клиническая картина у всех разная. По течению тоже – разные формы. От легкой до очень тяжелой. Некоторые люди после укуса не болеют. Отличная иммунная система справляется сама. На начальном этапе болезни при адекватном лечении 60–65 % человек полностью выздоравливают. У остальных болезнь переходит в хроническую форму. Далеко не все врачи знают об этом заболевании. Этой проблемой давно занимается доктор Marshall. В Австралии этот вопрос подняли несколько лет назад, когда появилась пациентка с «ползущей эритемой» в месте укуса клещом. Если кому интересно, я могу ответить на некоторые вопросы по этой теме. С уважением.
Oleksandra Havryshchak: Нина, подскажите, если был укус клеща, при анализе клеща обнаружены боррелии, сколько времени по длительности нужно принимать антибиотики? (Мнения врачей расходятся: от 5 до 30 дней.)
Нина Караван: Если точно был найден возбудитель, тогда по нормативам лечат инъекциями 30 дней. Страховые компании настаивают на двух неделях. Но профессор Маршалл разработал свой протокол на 1 год лечения! Очень важен правильный выбор антибиотика. Многим лучше группа цефалоспоринов.
Doktor.ru: Как только научились расшифровывать геномы бактерий, тут же расшифровали геном боррелии. Что мы знаем о ее распространении в мире?
Нина Караван: Возбудитель имеет отношение к так называемым безоболочечным бактериям, которых сложно обнаружить. Некоторые исследователи считают, что сахарный диабет тоже проявление подобной инфекции. Распространение ее за последние годы просто пугает. Она есть везде. В Европе в основном преобладает боррелия, вызывающая поражение кожи, похожее на тяжелую склеродермию (это системное заболевание). В Америке – суставная форма больше, но есть и смешанные. В восточном регионе Азии – смешанные формы с преимущественным поражением сердца и нервной системы. В Японии то же самое.
Ответ: Да, ведь в Швеции не было артрита, в отличие от США. А неврологические последствия были, потому что нейротоксин выделяют все боррелии. В России распространена европейская разновидность.
Нина Караван – Doktor.ru: Совершенно верно! Эта инфекция имеет 100 симптомов… Попробуй пойми.
Ответ: Вот самые распространенные симптомы на ранней стадии:
76 % больных – хроническая усталость,
70 % – головная боль,
под 70 % – характерная кольцевая сыпь,
60 % – температура, озноб, повышенная потливость,
54 % – мышечные боли,
48 % – боли в суставах
(-content/uploads/2015/02/Symptom-Chart-Blue-Grey-Brown-2–19–15.jpg).
Oleksandra Havryshchak: Симптомы – это ОК, а верификация диагноза по каким критериям?
Нина Караван: Дело в том, что не всегда анализы показывают положительный тест даже при свежих формах заболевания. Имеет значение титр антител. Зачастую приходится брать на исследование спинномозговую жидкость и там искать доказательство. Преимущественно там и находят возбудителя. Тем не менее порой абсолютно нет никаких лабораторных доказательств, только анамнез и субъективные ощущения!!! И болезнь прогрессирует. Я это утверждаю из личных наблюдений.
Shorena Eden: samzuxarod sakartveloshiz, zaanaa gavrzelebuli, chven mtavrobas zinavs, sadaa jandazva, sul sofel sofel unda dadiodnen da pirutkvs amozmebdnen (для русскоязычной аудитории: это замечание, что в Грузии тоже нет никакой борьбы с клещами, поскольку власти погружены в сон).
96 Имплантация искусственного сердца Виллем Колф, Уильям Девриз и пациент Барни Кларк 1982 год
2 декабря 1982 г. человеку впервые имплантировали искусственное сердце, с которым было можно есть, ходить и говорить – вести почти нормальную жизнь, за одним исключением: оно работало на пневмоприводе, так что пациент был привязан к компрессору весом 170 килограммов и размером со стиральную машину. Тем не менее это было достижение, сравнимое с первым полетом человека в космос.
Над проектом работало больше 300 человек. У истоков стоял голландский терапевт Виллем Колф, который в 1943 г. в оккупированных нацистами Нидерландах умудрился создать первую в мире искусственную почку. После войны он перебрался в США, где сумел наладить промышленный выпуск этой машины. Колф обнаружил, что врачи боятся всего нового, пока оно не поступает в серийное производство. В Америке дистанция между грантом на исследование и производством была меньше, чем в Европе.
В Штатах Колф усовершенствовал искусственную почку и испытал на животных другие идеи – искусственное ухо (было введено в клиническое использование), искусственный глаз и искусственное сердце. К работе над ними нужно было привлечь талантливую молодежь, и Колф стал преподавать в Университете Юты (Солт-Лейк-Сити), чтобы вербовать студентов. Уильям Девриз, будущий кардиохирург, которому суждено было выполнить историческую операцию, забрел на его лекцию случайно. Молодой человек забыл дома свой ланч. Денег на столовую не было. Чтобы не клянчить у товарищей, он решил пересидеть обеденный перерыв в какой-нибудь аудитории.
Колф говорил так увлекательно, что студент забыл про голод. Он подошел к лектору, высказал ему восхищение и попросился в его лабораторию. «Как ваша фамилия?» – «Девриз». – «Хорошая голландская фамилия! Вы приняты». Колф прожил в США почти 60 лет и говорил «мы, американцы», но при этом гордился своими корнями.
Проблема была в том, что платить за оборудование и работу Колфу стало нечем. В 1968 г. министерство здравоохранения прекратило финансирование его лаборатории без объяснения причин. Добил его счет за 22 подопытные овцы. Никаких овец лаборатория не покупала. Оказалось, один сотрудник вступил в сговор с продавцом овец и вместе они освоили 36 000 долларов. Университет страховал такие риски. Полученные от страховщиков деньги позволили продержаться до конца года. Но жулик на этом не успокоился. Заметая следы, он поджег лабораторию. Колф и его сотрудники своими руками отремонтировали помещение и аппаратуру, а страховую премию в 125 000 долларов потратили на исследования. В частности, наняли ветеринара Дона Олсена, и подопытные животные перестали погибать от инфекций. Было сделано первое искусственное сердце, с которым корова прожила несколько дней. Правда, она могла только лежать и жевать.
Зато казенный грант получил хирург Майкл Дебейки, который в Хьюстоне разрабатывал свою конструкцию. С его аппаратом вместо сердца пациент мог уже прожить пару дней, дожидаясь донорского органа. 4 апреля 1969 г. хирург Дентон Кули без спроса взял экспериментальный образец из лаборатории Дебейки и имплантировал его 47-летнему больному по имени Хаскелл Карп. Мужчина пролежал с работающим искусственным сердцем 64 часа (дольше, чем все подопытные животные, на которых отрабатывалась операция) и перенес трансплантацию донорского сердца, но через 36 часов после операции скончался от пневмонии.
С этого началась великая вражда. Кто дружил с Дебейки, тот не подавал руки Кули, и наоборот. Коллегия хирургов порицала вора. Был даже суд, на котором Кули оправдывался патриотическими мотивами: «Я не хочу, чтобы русские и тут опередили нас, как со спутником». Действительно, советские разработки шли тогда вровень с американскими, но до пригодного для жизни устройства было еще очень далеко. Через пять лет усилия обеих стран объединились. 28 июня 1974 г. в Москве Андрей Громыко и Генри Киссинджер подписали соглашение «О сотрудничестве в области научных исследований и разработки искусственного сердца», и начался обмен идеями.
Это помогло группе Колфа создать сердце, реагировавшее на движение. Когда корова поднималась на ноги, скорость перекачивания крови автоматически возрастала. Телята, которым вживляли такой аппарат, внешне выглядели нормально, только из груди у них торчали воздуховоды. Первые искусственные сердца были пневматическими. Электричество порой отключается, а компрессор с запасным баллоном сжатого воздуха – это гарантированный источник энергии.
Скептики утверждали, что при пониженном атмосферном давлении пневматический орган откажет. Тогда Дон Олсен затащил овцу с искусственным сердцем на вершину заснеженной горы Сноубёрд (2469 метров над уровнем моря), и ничего страшного не произошло. Отработав технику на 200 животных, стали готовиться к операции на человеке. И тут на пути оказалось знаменитое агентство FDA.
Бюрократы, шаркая ножкой, спросили: «Кто вы такие, чтобы проводить подобные операции? Вашему кардиохирургу Девризу еще 40 лет нет, и мы о нем никогда не слышали». Зато они слышали о Дентоне Кули, который после 1969 г. стал знаменитостью. И чтобы показать свою власть, чиновники еще раз запретили Кули делать такие операции и назло ему дали разрешение хирургам Солт-Лейк-Сити, которые, в отличие от «вора из Хьюстона», для начала представили многотомное исследование и вообще играли по правилам.
Правила оговаривали поиски больного для имплантации искусственного сердца большим количеством несовместимых условий. Его диагноз не должен оставлять надежд на трансплантацию. Пациент вообще должен быть на последнем издыхании, но при этом с интервалом ровно в сутки дважды подписать 11-страничное согласие на операцию.
Летом 1982 г. такой человек нашелся в клинической больнице университета. Преуспевающий зубной врач Барни Кларк, спортивного телосложения мужчина ростом 1 метр 85 сантиметров и весом 90 килограммов. В 1976 г. перенес неизвестную инфекцию, после которой у него заболело сердце. Кардиомиопатия – растяжение желудочков – вызвала сердечную недостаточность, так что Кларк едва передвигался. Четыре года его лечили новейшими препаратами, он участвовал в клинических испытаниях, но и лучшие лекарства перестали помогать. Услыхав от кардиолога про искусственное сердце, Кларк познакомился с Девризом и посетил коровник.
– Видите, наша коровка ходит, жует, мычит.
– Я вижу проблему: она до операции была здорова, – ответил дантист и отказался.
Но в День благодарения, который в 1982 г. пришелся на 25 ноября, он передумал. Сам Кларк и его семья были мормонами. По их традиции в этот день за праздничный стол нельзя сесть, пока отец семейства не прочтет молитву. Сердце Кларка едва перекачивало кровь – он не смог спуститься в гостиную сам, и сын отнес его на руках. Сначала вниз, потом обратно на второй этаж в постель.
После ужина Барни сказал жене:
– Я решил пойти на операцию.
– Зачем?
– Прежде всего, я думаю, что это не сработает. Я слабее животных, которых мне показали, и вряд ли мне спасут жизнь. Но я четыре года живу на лекарствах, разработанных ценой многих лет жизни других людей. Пора им отплатить.
Кларк приехал в больницу и сразу же попал в реанимацию. Под капельницей он подписал согласие. Сутки провел в затемненной комнате совсем один. Жену к нему не пускали, потому что при ней у пациента начиналось сердцебиение, грозившее смертельным приступом аритмии.
1 декабря на Солт-Лейк-Сити обрушился снегопад. Девриз не отпустил домой хирургическую бригаду, потому что они на своих машинах могли не въехать на гору, где находится больница. Наконец, сутки ожидания истекли, больному принесли документ во второй раз. Он окинул взглядом врачей, криво усмехнулся и спросил: «Сколько вытянутых лиц я увижу, если вот сейчас возьму и откажусь?» И, выдержав паузу, подписал.
Больше ждать было нельзя. Когда в 22:30 пациенту ввели наркоз, он в самом деле находился на последнем издыхании. Операция шла девять часов. Она оказалась намного труднее, чем манипуляции со здоровыми животными. Желудочки сердца были желтого цвета и рвались в руках, как оберточная бумага. Тем не менее Девриз был уверен в себе. Ассистировал ему единственный хирург. За процессом наблюдали студентка и ветеринар Дон Олсен в качестве консультанта. Когда нужно было включить и отрегулировать подачу воздуха, в операционную вошел главный конструктор Роберт Джарвик. Сделав свое дело, он тут же вышел. Больше, кроме анестезиолога и двух сестер, в помещении никого не было. Все молчали, магнитофон тихонько наигрывал «Болеро» Равеля. Бушевавшей за окном метели не было слышно. В половине третьего ночи Девриз спросил у сестры, отлучившейся выпить кофе, как там на улице.
– Вы не поверите, – ответила она, – в кафетерии толпа журналистов. Их там 288 человек.
Репортеров не остановила даже буря. Чтобы въехать на знаменитую гору, они поставили специальные покрышки. Уже пытались подкупить вахтера, нянечку, уборщицу, интерна. Узнав об этом, явился вице-президент университета – декан медицинского факультета Чейз Петерсон – и дал пресс-конференцию, обещав повторять ее дважды в сутки.
В пять утра он объявил, что искусственное сердце успешно подсоединено и бьется, перекачивая кровь. Когда больной очнулся от наркоза, Девриз спросил его, чувствует ли он боль. «Нет боли», – ответил Кларк. Потом положил руку на левую часть груди и с трудом выговорил, обращаясь к жене: «Хотя у меня теперь нет сердца, я все равно люблю тебя».
Узнав, что боли нет, Виллем Колф заперся в своем кабинете и дал волю своим чувствам. Он плакал от счастья. Отсутствие боли означало, что с искусственным сердцем можно жить сравнительно долго. Ликовала пресса, веселился весь город Солт-Лейк-Сити. Президент Рейган позвонил жене пациента и выразил восхищение мужеством Барни Кларка и его семьи. Пора было устроить вечеринку, какие бывают после удачных операций. Но с этим пациентом стало не до вечеринок.
Он, как врач, знал, на что шел, соглашаясь на этот эксперимент. Вместо быстрой и легкой смерти от аритмии его ждала долгая мучительная борьба. У Кларка, в отличие от подопытной коровы, были проблемы со здоровьем. В свое время он курил, пока не заработал хроническую обструктивную болезнь легких. 4 декабря его пришлось оперировать уже по поводу связанной с этим эмфиземы.
7 декабря начались судороги, смутившие пациента и погрузившие его в глубокую депрессию. Еще через неделю потек сварной шов его искусственного сердца, сделанного из полиуретана и алюминия. Уже многие сотни сердец, сделанных для животных, работали безотказно, а первое же предназначенное человеку оказалось бракованным. Только закончили ремонт – новая операция: теперь уже на протезе вышел из строя клапан. В процессе занесли инфекцию, которая вызвала пневмонию.
С помощью антибиотиков ее удалось побороть, и 19 декабря Кларк впервые смог встать и пройтись. Наконец ему разрешили жевать и глотать пищу. Рождество прошло весело, хирурги пировали в доме Кларка, вручали подарки и даже колядовали. Это был единственный день во всей постоперационной биографии пациента, когда Девриз покинул больницу. Все остальное время он дежурил поблизости от своего больного. 18 января сделал еще одну операцию, последнюю – по поводу хронического кровотечения из носа.
Не раз Кларк умолял дать ему умереть и просил жену принести яд. Ставили всё новые диагнозы, и лечение превратилось в гадание, который из них будет роковым. Усиленная антибиотикотерапия вызвала псевдомембранозный колит. Он привел к некрозу тканей кишечника, после чего стал отказывать один орган за другим. 23 марта через час после профессорского обхода больной, читая газету, потерял сознание. Когда врачи показали жене, что работает одно лишь искусственное сердце, она разрешила отключить его.
Билось оно 112 суток, точнее 2688 часов, сделав около 12 912 400 ударов. Следующий больной прожил с искусственным сердцем той же конструкции вчетверо дольше. В XXI в. появились носимые внутри сердцá на батареях без всяких воздуховодов. Счет операциям пошел на сотни. В 2007 г. уже был пациент, проходивший с пневматическим сердцем в груди 7 лет.
Наконец 27 октября 2007 г. помирились 87-летний Кули и 99-летний Дебейки. Они публично пожали друг другу руки в той хьюстонской больнице, где в 1969 г. была сделана несогласованная операция. И сказали, что уносить вражду с собой в могилу не стоит.
97 Полимеразная цепная реакция (ПЦР) Кэри Муллис 1983 год
10 сентября 1983 г. химик Кэри Муллис закончил первый эксперимент над полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Она позволяет обнаружить даже единственную частицу вируса в пробе и воспроизвести любой нужный участок ДНК в произвольном количестве. После первого опыта от Муллиса ушла любимая женщина. Едва он добился воспроизводимости результатов, как был уволен. Научные журналы отказались сообщать о ПЦР, потому что рецензенты не увидели в ней ничего нового.
Муллис представляет собой редкий тип отличника-хулигана. Вырос он в Южной Каролине, сын коммивояжера и домохозяйки. Когда родители развелись, мать пошла в риелторы. Ее контора быстро стала крупнейшей в столице штата, но дети оказались без присмотра. Жалоб на них не поступало, у матери была только одна претензия: из кухни мешками пропадал сахар.
Он должен был стать топливом для космического корабля. В 1959 г., 14 лет от роду, Кэри Муллис спроектировал ракету. Сплав сахара с калийной селитрой заливался в металлическую трубку длиной 120 сантиметров, зажигание производилось детонатором (их тогда продавали детям без лишних вопросов). Ракета взлетела вверх на целую милю. После сгорания твердотопливной части раскрылся парашют обитаемой кабины, и пассажир – обвалянный в асбесте лягушонок – вернулся из тропосферы живым.
В студенческие годы Кэри устроил в курятнике лабораторию, где производил взрывчатку, которую вполне легальный дилер продавал горнякам. У Муллиса завелись деньги, он сменил пару жен. На третьем курсе обнаружил еще более интересный класс веществ. Каждую неделю студенты получали что-нибудь новое психоделическое и пробовали, обмениваясь впечатлениями, – тогда это еще было законно. Потребляя эти вещества в Беркли, аспирант Муллис проникся новыми космологическими теориями. Он подумал, что время для наблюдателя с Земли и для наблюдателя за пределами сферы, испускающей реликтовое излучение, должно течь в разные стороны. И тут же накатал об этом псевдонаучную статью, нахально отослав ее в Nature. Она вышла. Ко всеобщему изумлению, ведь журнал Nature не печатал аспирантов.
Научный руководитель Муллиса биохимик Джо Нейландс позволял своим ребятам защищаться по любой теме, лишь бы они хоть что-нибудь делали. Муллис решил после Беркли бросить химию и стать писателем. Его диссертация по космологии была выполнена в юмористическом жанре, так что половина комиссии была против присуждения ученой степени. Но статья в Nature перевесила.
Защитившись, Муллис ушел от второй жены к третьей. Пока его романы еще не были написаны, он работал менеджером ресторана, принадлежавшего его первой жене. Но беллетристика не пошла. «Я не знал тогда, что такое трагедия, – вспоминал Муллис, – и мои персонажи были плоскими».
Пришлось вернуться в химики. Новые рабочие места предоставляла только биохимия, которая сводилась к убийству крыс и выделению из их мозга какого-нибудь вещества. Когда Кэри надоело рубить грызунам головы, он занялся синтезом ДНК в одной из первых биотехнологических корпораций Cetus.
Во-первых, Муллису понравилось условие, что там 10 % рабочего времени разрешали заниматься собственной темой. Его интересовали компьютеры. Кэри написал программу, собиравшую данные спектрофотометра, чтобы вовремя заканчивать синтез. Рабочий компьютер был связан по телефону с персоналкой Amiga у Муллиса дома, так что он следил за реакцией удаленно, – по меркам 1982 г. фантастика.
Во-вторых, Муллис тут же закадрил свою самую красивую сотрудницу Дженнифер Барнетт, и они стали жить вместе. Часто ссорились, иногда при всех в лаборатории. Однажды девушка позвонила их общему начальнику и сказала, что Муллис едет на работу с пистолетом, чтобы пристрелить коллегу, на которого она слишком ласково посмотрела. Начальник примчался раньше и отправил потенциальную жертву во внеочередной отпуск.
Но выгнать Муллиса было нельзя. Его спасало, как ни странно, падение цен на нефть. В 1980 г., когда баррель стоил рекордные 36 долларов, нефтедобывающие корпорации вкладывали незапланированные сверхдоходы в новорожденную технологию рекомбинантной ДНК: в этой сфере темпы развития опережали тогда общий рост фондового рынка. Standard Oil заказала корпорации Cetus создание генно-модифицированных бактерий, перерабатывающих глюкозу во фруктозу. Под эти деньги Муллиса как раз и наняли. А через пару лет цена углеводородов на бирже пошла вниз, и нефтяники прекратили свои инвестиции.
Чтобы собрать деньги на исследования, Cetus выпустила акции и наняла президента-«варяга». Этот англичанин безжалостно подгонял ученых, которые в среднем проводили на работе по 70 часов в неделю. А Муллиса подгонять было не нужно, он и так работал все 80 часов. Установил у себя первую машину для синтеза ДНК и месячный план выполнял за день. Тогда президент для сокращения издержек велел ему уволить четырех сотрудников из семи.
Дело было в пятницу вечером. Выходные Кэри с Дженнифер проводили на даче в двух с половиной часах езды на автомобиле. По дороге Дженнифер заснула. Муллис выключил музыку и стал размышлять, как бы ему сохранить сотрудников. Нельзя ли помочь соседней лаборатории, пытавшейся заработать на абортах по медицинской страховке?
Если в ДНК плода обнаруживалась опечатка – мутация, вызывающая серповидноклеточную анемию, – женщина имела право на прерывание беременности. Cetus хотела разработать генную экспресс-диагностику и предложить ее клиникам. Диагностика получалась дороговатой. ДНК выделяли, подсаживали в яйцеклетку мыши, а потом смотрели, не болен ли анемией клонированный мышонок. Нужны квалифицированные биохимики и три недели, за которые суррогатная мать-мышь производит на свет клон. Вот бы сделать прибор, куда лаборант помещает материал, нажимает кнопочку – и через пару дней все готово!
Муллис представил, как сделать клонирование без мыши, in vitro. При делении клетки спираль ДНК расплетается на две нити. Этого можно добиться простым нагревом до 95 °C, когда ДНК денатурирует и распадается на эти же две нити. В клетке молекулу ДНК копирует фермент полимераза. Он давно выделен биохимиками, его заказывают по каталогу. После охлаждения смеси с денатурированной ДНК можно добавить в пробирку полимеразу и нуклеотиды, из которых фермент построит копию ДНК. Потом снова нагреть и охладить пробирку и опять добавить полимеразу с нуклеотидами. Из двух копий ДНК получается уже четыре.
Тогда Муллис начал считать, что будет, если написать компьютерную программу, которая повторит процесс 10 раз. 1024 копии. А если 30 раз, то уже два в тридцатой степени, то есть 1 073 741 824 копии. Такую кучу ДНК уже способны засечь приборы. Все, участие мышей не требуется.
И тут пришла мысль, что вот так можно размножать любой фрагмент ДНК. Если в пробе попался кусочек ДНК бактерии, он скопируется 1 073 741 824 раза, и мы легко установим наличие инфекции. Это озарение так взволновало Кэри, что он чуть не въехал в лесовоз. Несмотря на усталость, той ночью Муллис не сомкнул глаз. За уик-энд он разрисовал схемами своей полимеразной цепной реакции всю бумагу на даче. Дженнифер не отвлекала его, потому что поставила себе цель успеть как следует загореть на пруду.
Обычно, составляя блок-схемы своих программ, Кэри потягивал местное пино-нуар, так что на алгоритм уходил стакан вина. В эти два дня было выпито ведро. После чего Муллис благополучно довел машину до города и бросился в библиотеку смотреть, не приходила ли кому-нибудь в голову его простенькая идея. Оказалось, нет. Сделал сообщение на производственном семинаре. Каждый пытался объяснить, почему это не сработает, никто не желал помогать. И так аврал, своих задач у всех полно.
Изобретатель пожаловался Рону Куку, который делал ему машину синтеза ДНК. Муллис говорил, что при первой же возможности осуществит свою компьютерную реакцию в те 10 % рабочего времени, которые отпущены на забавы. А друг советовал: «Не надо. Они же не хотят. Не оставляй записей. Уволься, пережди годик, тогда сделай реакцию и патентуй. Заработаешь миллионов триста!» У Рона дома как раз гостил швейцарец Альберт Хофман – настоящее живое предупреждение. Работая на компанию Sandoz, он в 1943 г. получил ЛСД и засветил его галлюциногенный эффект в лабораторном журнале, фактически подарив открытие фирме. А лет через двадцать Хофман понял, какие деньги прошли мимо него.
Муллис отвечал им, что ему нравится Cetus, и, если полимеразная цепная реакция принесет доход, работодатель его не обидит. (Ах, как он потом смеялся над этой своей глупостью!)
В полночь 9 сентября 1983 г. Кэри заложил смесь ДНК с полимеразой в пробирку, нагрев которой контролировал компьютер. За 36 часов ничего не произошло. Он копировал слишком длинный ген слишком слабой полимеразой.
Довести ПЦР до ума удалось только к 1985 г. Муллис направил статью о своем изобретении в Nature. Не приняли, показалось неинтересным. Статья прошла в Science, и то со скрипом, не с первого захода (что не помешало тому же редактору Science в 1989-м объявить полимеразу «молекулой года»).
Корпорация Cetus продала технологию ПЦР за 330 миллионов долларов, руководство уволило Кэри Муллиса с начислением ему пяти месячных зарплат – и облегченно вздохнуло. Никто больше не скандалил с начальством, не донимал сотрудниц харассментом, не тащил коллег из совещательной комнаты в коридорчик на «мужской разговор» и не угрожал оружием вахтеру, который пускает на работу только с бейджиком.
ПЦР очень скоро оценили врачи. Она обнаруживает любой патоген, если в пробе найдется хоть одна бактерия или частица вируса. Даже задолго до того, как этот враг размножится и вызовет болезнь. Ничего подобного медицина прежде не знала. Технология пришлась кстати в условиях всеобщей паники по поводу недавно открытого СПИДа. Сколько людей обрели покой и сон, увидев ноль в результатах своей ПЦР на ВИЧ!
Муллис и тут занял особую воинственную позицию. Он утверждал, что иммунодефицит вызывается не только вирусом, который назвали ВИЧ, но и рядом других ретровирусов. Эта теория не получила признания, и Кэри прослыл парией. Тем более что он еще сомневается в связи между деятельностью человека и глобальным потеплением.
Однажды Муллису позвонил его бывший научный руководитель Джо Нейландс и сказал, что, если Кэри хотя бы на время придержит язык и перестанет распространяться насчет ВИЧ, ему в ближайшее время присудят Нобелевскую премию по химии. Так и случилось.
8 декабря 1993 г. Муллис прочел Нобелевскую лекцию. Не без замирания сердца ждали члены комитета это выступление. А ну как он примется сводить счеты с бывшими работодателями или что-нибудь антинаучное ляпнет про СПИД?
Но Кэри Муллис вышел на трибуну совсем с иной целью. Сначала насмешил аудиторию. В ход пошли космический лягушонок, «Эврика!» по дороге на дачу, ведерко пино-нуар. Перед объяснением сути своего открытия лауреат просил прощения за то, что «сейчас будет сложновато». Но сложного ничего не было. Рассказ летел как на крыльях; все с юмором, и даже первая неудача была забавна. Когда же дошло до первого успеха, голос Кэри дрогнул. Провал 9–10 сентября не смутил Муллиса, потому что померк на фоне проблем в личной жизни. Дженнифер больше не любила его. В декабре, чтобы не встречать вместе Рождество, она взяла отпуск и улетела к матери на Восточное побережье. Это был окончательный разрыв.
Видя горе Муллиса, его новый сотрудник, молодой математик Фред Фалуна, помог во внеурочное время наладить «железо» и софт для нового эксперимента. И вот им удалось размножить в 1024 экземплярах фрагмент хорошо известной плазмиды pBR322, которая кодирует устойчивость кишечной палочки к антибиотикам. Исторический опыт 16 декабря 1983 г. пришелся на день рождения Синтии, третьей жены Муллиса. Это она когда-то поощряла его литературные опыты и родила от него двух прекрасных сыновей. Как получилось, что он оставил подругу юности ради взбалмошной Дженни, с которой два года прошли в непрерывном выяснении отношений?
В тот день Кэри Муллис понял, что такое трагедия: это тяжелое личное переживание, с которым ты остался один на один. Муллис решил зайти в гости к Фреду и что-нибудь вместе приготовить, устроить вечеринку.
На том Нобелевская лекция и заканчивается. Вот ее последние слова: «У меня подкашивались ноги, когда я вышел и направился к своей серебристой “Хонде-Цивик”, которая всегда безотказно заводилась. Ни Фред, ни опустошенные бутылки пива Beck’s, ни сладостный аромат занимающейся зари эпохи ПЦР не могли заменить Дженни. Мне было одиноко».
Как сказал Муллис, в головном мозге существует особый центр, отвечающий за ностальгию по бывшим: «С годами центр этот постепенно разрастается, его влияние становится все сильней и ты незаметно для себя переходишь с рок-н-ролла на кантри».
98 «Проспективный портрет» серийного убийцы для следствия Александр Бухановский 1990 год
20 ноября 1990 г. был арестован печально известный серийный убийца Андрей Чикатило. Неизвестно, сколько еще он мог оставаться на свободе и как долго отпирался бы после задержания, если бы не врач-психиатр Александр Бухановский.
Когда в 1986 г. капитан милиции Виктор Бураков явился к доценту кафедры психиатрии Ростовского мединститута Бухановскому с просьбой о содействии, тот категорически отказался. «Не мой профиль». Бухановский посвятил годы изучению клиники нехимической зависимости. Совершение «многоэпизодных преступлений» на сексуальной почве – тоже проявление такой зависимости, но чего ждать от милиции? К тому времени в разных концах Союза поймали уже 13 серийных убийц, за которыми числилось от 3 до 13 жертв. Их тихонько расстреливали, не отдавая психиатрам для изучения. Ведь маньяков «у нас» быть не может, это позорное явление существует только в странах «загнивающего капитализма». С чего это органы вдруг обратились к медицинской науке?
Тогда Бураков достал из дела фотографии растерзанных жертв – 23 юных мальчиков и девочек, и Бухановский дрогнул. Его родной дочери было тогда 15 лет, и убийца ходил с ней по одним улицам. Психиатр согласился консультировать следственную группу на условии, что сам будет ставить себе задачи. Днем он продолжал обычную работу, а ночами изучал материалы дела. Там, где следователь видит только членовредительство, психиатр подмечает определенную стадию развития болезни, и для него немалая разница в том, например, вырваны у жертвы глаза или выколоты. Поскольку начались убийства в 1978 г., за восемь лет прослеживалась определенная динамика.
Первое, что удалось установить, – это метеозависимость маньяка. Сопоставив даты преступлений со сводками погоды, Бухановский показал, что «эксцесс» происходит, когда падает атмосферное давление. Больше всего жертв было летом 1984 г. с его грозами и смерчами. Такая закономерность указывала на органическое поражение головного мозга. Накладывая эту зависимость на слабую половую конституцию, можно строить «проспективный портрет». Так Бухановский назвал психологический очерк, с которого теперь начинается расследование таких преступлений по всему миру. В этом портрете было все: рост от 170 сантиметров, возраст от 45 до 50, астеническое телосложение, слабое либидо, дистония, проблемы с ЖКТ, гуманитарное образование, работа в отделе снабжения, манера одеваться; был даже описан портфель, в котором убийца носит нож, шпагат и вазелин. Ездит он на электричках и автобусах, знакомится со своими будущими жертвами в людных местах, привлекают его девушки, которых иногда «замещают» мальчики. В их внешности важен невысокий рост, русые волосы и неправильный прикус либо неровное расположение зубов.
Следствие приняло «проспективный портрет» к сведению и стало проверять буйных душевнобольных из клиник (Бухановский говорил, что «хроники» тут ни при чем, потому что убийца проявляет себя лишь при определенных обстоятельствах, а так он самый заурядный человек) и лиц из среды ЛГБТ (тут под подозрение попал сам Бухановский, который оказывал помощь людям, сделавшим операцию по изменению пола). Наконец, осенью 1990 г. был задержан настоящий убийца Чикатило, подходивший под ориентировку. Оказавшись в кабинете начальника УВД Ростовской области, он уже было собрался все рассказать, как тут руководитель следствия Исса Костоев заявил, что будет допрашивать его один на один завтра. Он не столько хотел забрать себе все лавры, сколько знал, как опаснейшие бандиты ломаются от давления, на которое он был большой мастер.
Только назавтра убийца ничего не сказал. Девять дней Костоев «колол» его и получил массу признаний: что в бытность педагогом ПТУ Чикатило приставал к мальчикам, что воровал по мелочи, что щупал порой девочек и даже – о ужас! – изменял жене. То же самое он повторял подсаженным к нему стукачам, но о кровавых делах – ни звука. Результат обыска в его доме был нулевой, изобличающих улик на месте убийств не было. Ни угрозы, ни обещания не действовали.
Бухановский понимал, почему маньяк молчит: он стесняется. Во время жутких «эксцессов» он получал самые сильные интимные ощущения в своей жизни. О таких вещах могут не сказать даже под пыткой. Тогда Бухановского уже официально прикомандировали к следственной группе. 29 ноября 1990 г. психиатр и маньяк остались один на один в кабинете изолятора КГБ, где Чикатило держали как особо опасного убийцу. На эту беседу его привели без наручников.
Начал Бухановский с заявления, что он врач и не оценивает дела обвиняемого ни с правовой, ни с моральной точки зрения: он здесь, чтобы оказать помощь. И дал Чикатило почитать избранные места из его «проспективного портрета», который с 1986 г. изрядно распух.
Это была глава о деспотичной матери, которая никогда не ласкала сына (Бухановский ввел в психиатрию термин «мать Чикатило» как определенный психологический тип, воспитывающий серийных убийц). Об отце, чахлом и забитом матерью человеке, который участвовал в воспитании только поркой. О голодном детстве в деревне, где их семья была самой бедной. И тут Чикатило заплакал. Да, сказал он, после войны был голод, и, пока отец сидел в лагере как бывший военнопленный, мы голодали больше всех. А соседи обезумели и стали настоящими людоедами. Старшего брата Чикатило односельчане съели, когда тот вышел погулять за ворота. Поэтому распухший от голода маленький Андрей боялся показаться на улице… От невыносимых мук детства, травли в школе, нищеты, неудач с девушками маньяк перешел к своему первому убийству.
Потом он изложил всё Костоеву. На следственных экспериментах показал все 53 эпизода. 20 августа 1991 г., в тот самый день, когда вокруг Белого дома ездили танки и грудью стояли защитники новой России, Чикатило привезли на психиатрическую экспертизу в Институт им. Сербского. Там его признали вменяемым. Ростовский суд приговорил Чикатило к высшей мере, которую поспешили привести в исполнение, пока не был еще объявлен мораторий на смертную казнь.
Японские нейрофизиологи предлагали огромные деньги за мозг Чикатило. Это же эталон органических поражений, свойственных серийным убийцам! Того же просил Бухановский, напоминая начальнику Ростовского УВД о своих заслугах перед следствием. Начальник ответил, что по всей стране смертный приговор приводится в исполнение выстрелом в голову и менять порядок ради одного человека никто не станет.
99 Белок p53 как «страж генома» Дэвид Лейн 1992 год
2 июля 1992 г. вышла статья иммунолога Дэвида Лейна о роли белка p53 как «стража генома». Пари в пивной привело к открытию клеточного правительства. Если ДНК несет в себе гены, то p53 включает и выключает их по своему усмотрению. Смерть от рака, диабета, инсульта – в руках этого вещества, которое правит клеткой и вершит ее судьбу. Врачам будущего предстоит научиться влиять на его решения.
Природа рака открылась благодаря громадному антипрививочному скандалу. В 1960 г. американцы всерьез задумались о переходе с убитой вакцины от полиомиелита на живую, которую создал в Цинциннати Алберт Сэбин, а производил в Подмосковье его друг Михаил Чумаков. Массовые вакцинации в СССР показали гораздо лучший результат, чем прививки убитой вакциной Солка в Соединенных Штатах. Культуру Сэбина на обезьяньих почках стали внимательно изучать и обнаружили, что она загрязнена другим вирусом, которым болеют макаки-резусы. Новый вирус получил название SV40, что означает всего лишь «обезьяний вирус № 40».
На всякий случай производители вакцин заменили резусов приматами других видов, свободных от SV40. Патогенность его для человека неизвестна, зато к 1962 г. выяснили, что он вызывает рак у хомячков. Досаднее всего было то, что вакцина Солка, которую с 1955 г. успели ввести десяткам миллионов детей, также содержала SV40: Солк убивал вирус полиомиелита формалином, который на SV40 не действует.
Трудно сказать, насколько этот просчет фатален. Не исключено, что гибель от рака некоторых сорокалетних американцев, которые в 1950-х были детьми, могла быть связана с SV40. Важно, что урок усвоен полвека назад и опасности для нынешних детей не существует. Тем не менее история с обезьяньим вирусом остается любимым пугалом антипрививочников. На любом их форуме вы обязательно ее найдете с рефреном «мало ли чего еще ждать от этих связанных с “большой фармой” ученых».
На самом деле открытие SV40 обернулось большой удачей: вдоль и поперек изученный онкогенный вирус, вызывающий злокачественные опухоли у подопытных животных, – лучшая модель для отработки «прививки от рака», то есть вакцины против онкогенных вирусов. В 1970-е гг. на эту тематику бросили миллионы долларов и привлекли тысячи ученых, среди которых был юный Дэвид Лейн.
Родился он в 1952 г. в католической британской семье. Католики в Англии – обособленная каста, некогда гонимая. Отец Лейна считал, что Дэвид зря выбрал профессию биолога: ученый-католик мог не найти в Англии работы. Ведущие университеты, Оксфорд и Кембридж, – вотчина протестантов. Лейна ждал Лондонский университет, по традиции прибежище квакеров, католиков, марксистов и евреев. В те времена выпускников этого вуза воспринимали скептически.
Дэвид знал это, но иной карьеры не желал. В школе он учился плохо. Отчаявшись заинтересовать ребенка хоть чем-нибудь, родители на десятый день рождения подарили ему дешевый пластиковый микроскоп. Не то чтобы мальчик взялся за книги и стал мечтать о науке, но сама возможность видеть то, чего не видят одноклассники, его радовала. Он решил стать иммунологом, чтобы смотреть в микроскоп и дальше.
Едва Лейн поступил в университет, его отец скоропостижно скончался от рака прямой кишки. Ощущение полной беспомощности перед страшной болезнью, охватившее тогда всю семью, определило выбор специальности Дэвида: онкоиммунология. Чтобы гарантированно получить место исследователя вопреки религиозным предубеждениям, пришлось освоить работу с изотопами. К началу 1970-х гг. ученые вполне изведали прелести облучения, среди молодых развилась радиофобия, так что конкурентов почти не было.
Как специалист по меченным радиоактивным йодом белкам, Лейн был привлечен к серьезной работе над SV40 в обход многих старших товарищей, еще до защиты диссертации. В Имперском фонде изучения рака (ныне фонд Cancer Research UK) занимались антигеном T – активной частью вируса SV40, ответственной за онкогенный эффект. Антитела, которые вырабатывает организм, должны быть нацелены на этот антиген. Но обнаружились еще антитела на какой-то белок, образующийся в самой клетке при введении антигена. Масса молекулы этого белка была в 53 000 раз больше массы протона, поэтому в конце концов его назвали p53.
В норме никакого p53 в клетке не обнаруживалось, но возникал он явно не из вируса. Лейн решил проверить, не связано ли его появление с раком вообще. И в тканях мышей, больных полиомой, вызванной другим вирусом, тоже нашелся p53. Осенью 1978 г. Лейн и его сотрудник Лайонел Кроуфорд отослали в Nature статью об этом открытии, содержавшую три числа и нахальное предположение, что p53 «регулирует определенные клеточные функции». Рецензенты статью завернули по трем причинам: 1) это никому не интересно; 2) этот результат получили другие; 3) мало чисел.
Авторы быстро произвели биофизические измерения, так что чисел стало четыре, и в 1979-м статья все же вышла. К тому времени p53 выделили сотрудники еще трех лабораторий, среди них в Принстоне – Арнольд Левин, в будущем один из ключевых исследователей этого белка.
Поскольку p53 был первым известным специфическим белком, непременно появляющимся в злокачественных клетках, на него набросились ученые всего мира. В 1982 г. сын Михаила Чумакова Пётр в московском Институте молекулярной биологии клонировал ген, отвечающий за производство этого белка; p53 стал доступен для исследований. Следующие 10 лет предположения насчет его роли напоминали притчу о слепцах, которые ощупывали слона. Одни сообщали, что этот белок и есть причина рака, потому что его всегда находят в метастазах. Другие заметили в метастазах только белок-мутант. Так обстояло дело, в частности, с раком прямой кишки: полип перерождается в злокачественную опухоль в присутствии мутировавшего p53. Третьи сообщали, что нормальный (биологи говорят «дикий») p53, напротив, подавляет развитие опухолей.
Лейн наблюдал дискуссию со стороны, поскольку был занят написанием методического руководства по выделению антител. Книга вышла в 1988 г. и стала мировым научным бестселлером – продали 40 тысяч экземпляров. Она сделала автору имя в науке. Когда онкологический фонд решил устроить лабораторию при университете шотландского города Данди, Лейна командировали руководить этим подразделением.
Решили заняться p53, но никак не могли выработать программу. Требовалась общая рабочая версия, а у каждого из сотрудников она была своя. Спор занял целый день и продолжился в пабе. Лейн отстаивал гипотезу своей юности: p53 – не союзник онковируса, а командир генома, он выдвигается на передовую при опасности возникновения рака.
Проверить это очень просто. Известно, что рак кожи вызывается ультрафиолетовым излучением. Надо поместить подопытное животное в солярий, потом взять образец кожи на анализ и отследить концентрацию p53. Вот только с подопытными животными у новой лаборатории были сложности, особенно без утвержденной программы.
Сотрудник Питер Холл взялся провести эксперимент на себе. Немедленно заключили пари на пиво и приступили к делу. Холл закатал рукав, получил под кварцевой лампой дозу ультрафиолета, соответствующую 20 минутам пребывания на пляже Корфу. Затем в течение двух недель Лейн срезал для анализа кожу с облученной части руки. Всего потребовалось девять разрезов. Холл плохо переносил биопсию, каждый шрам у него воспалялся. Но гипотеза подтвердилась: p53 в больших количествах появляется в ответ на любое воздействие, чреватое повреждением генома.
Лейн направил в Nature сообщение об эксперименте. Белку p53 определялось место регулятора, дирижера и генерального менеджера генома, который в случае опасной поломки останавливает клеточный цикл и включает гены синтеза белков, занимающихся ремонтом ДНК. Статья носила рабочее название «Два белка идут навстречу друг другу». Редактор забраковал заголовок как скучный.
Тогда-то Лейну и пригодилось религиозное воспитание. В клетке p53 борется за традиционные ценности. Молекула ДНК для него святыня, на которую нельзя посягать. По аналогии со «стражем веры» белок p53 можно назвать «стражем генома» («The Guardian of the Genome»). И вот это уже подходило для статьи, опубликованной 2 июля 1992 г.
Удачное название позволило быстро осмыслить происходящее. Достаточно применить эволюционную теорию Дарвина. Геном каждой клетки предписывает ей определенную роль в организме. Пока у всех клеток ткани одинаковые гены, все работают по общей программе, делают общее дело. Но если геном станет различаться, клетки начинают соревноваться в полном соответствии с теорией естественного отбора. Борьбу за существование выигрывает тот, кто быстрее делится и оттягивает на себя ограниченные ресурсы. Разница между богатыми и бедными растет, богатые наживаются за счет общества, пока бедные не протянут ноги. Организм утрачивает единство и гибнет. Вот что такое рак.
Для поддержания порядка в каждой клетке существует правительство, оно же верховный суд. Эту функцию исполняет белок p53. Он постоянно обследует ДНК и не позволяет ее копировать, если находит изменение. Когда же геном нарушен так сильно, что восстановлению не подлежит, клетка либо приговаривается к преждевременному старению, либо получает приказ совершить самоубийство. Белок p53 запускает производство ферментов-убийц и сам участвует в казни. Обломки разрушенной клетки – апоптозные тельца – поедают макрофаги.
Это передний рубеж войны с раком, подстерегающим нас каждую минуту. Как только прояснилась роль p53, стало понятно, почему работают лучевая терапия рака и химиотерапия. От них раковые клетки получают такие повреждения, что «страж генома» отдает приказ покончить с собой.
Когда правительство имеет такую власть, необходима оппозиция. Она была открыта в том же 1992 г. Это весьма скромных размеров белок под названием Mdm2. Правитель p53 сам запускает процесс создания этой оппозиции – аппарат самоуничтожения. Если все в порядке, через 20 минут молекулы белков p53 и Mdm2 соединяются, и этот агрегат отправляется в протеазу – нечто среднее между мясорубкой для белков и компостной кучей. Но если при обследовании ДНК правитель находит повреждение, его молекула соединяется с остатком фосфорной кислоты так, что оппозиция не может к нему подобраться и утащить в мясорубку. Так директор генома получает чрезвычайные полномочия. Белка p53 становится все больше, пока не разберутся с поломкой. Если сигналы о нарушении генома смолкнут, весь p53 списывается, его концентрация падает почти до нуля. Это и наблюдал Дэвид Лейн в коже своего ассистента.
Однако p53 не бесплотный дух, его производит вполне материальный ген, который сам уязвим для излучения и подвержен мутации. Продукт измененного гена часто и не думает отдавать приказ о самоубийстве ненормальной клетки. Мутант пресекает деятельность оппозиции и велит делиться, экспортировать мутацию, а также производить ферменты, которые тянут капилляр от ближайшего кровеносного сосуда. Потомство больной клетки размножается, захватывая всё новые каналы снабжения, и образует опухоль.
Мутанты вызывают до 70 % всех злокачественных образований. Хорошая новость в том, что для каждого вида рака характерна своя мутация p53, которую можно установить и обнаруживать при рутинном анализе. Так, Лейн установил, замена какой конкретно аминокислоты в определенной точке молекулы «стража генома» приводит к развитию рака прямой кишки, от которого погиб его отец. Узнали в Данди и адрес роковой подмены аминокислоты под воздействием бензпирена в организме курильщика, у которого развился рак легких. Пришлось даже объясняться с юристами табачных компаний, очень просившими Лейна «не заявлять об этом столь определенно».
Но от такого предложения можно было отказаться, потому что запугивать ученых уже поздно. Белком p53 оперативно занялись сотни лабораторий по всему миру. В первую очередь искали средства от рака.
Самая простая идея – помочь «стражу генома» в случаях, когда мутации p53 нет: таких раковых больных более 11 миллионов. Например, концентрацию правящего белка можно поднять, задавив оппозицию. В 2004 г. Любомир Ваcсилев сумел ингибировать белок Mdm2 в организме мышей и свести на нет опухоли у подопытных животных. Летом 2010 г. в четырех городах Франции компания Hoffmann-La Roche начала клинические испытания ингибитора на больных с липосаркомой.
Результаты пока не опубликованы, но в частных беседах испытатели не высказывают энтузиазма. Вообще, в геноме человека оппозиция «стражу генома» нужна. Она под ручку провожает белок p53 в митохондрию, откуда правитель генома запускает процесс самоубийства раковой клетки. Без Mdm2 «страж генома» выбирает роль «правительства профессионалов, которое должно работать при любом режиме» и помогает копированию измененной ДНК, позволяя раковым клеткам если не размножиться, то по крайней мере воспроизвести свою численность.
С другой стороны, если отключить p53 вовсе и передать власть оппозиции, клетка обнуляет все настройки и превращается в стволовую. Арнольд Левин уже сказал, что p53 – страж не только генома, но и эпигенома. Он придает клетке индивидуальность, как элита придает индивидуальность обществу: во всем мире простые люди похожи друг на друга, а правящие классы имеют разные идеи и воспитание; убери элиту – и не узнаешь народ.
Хотя опыт с ингибитором нельзя назвать удачным, он продвинул вперед диагностику. Каждый день в теле среднего человека «страж генома» списывает 50 миллиардов неремонтопригодных клеток. При наличии опухоли несколько десятков миллионов из них – раковые. Материал с мутациями поступает в кровь, и по анализу ДНК можно сказать, остались ли еще злокачественные образования. Это очень важно знать после операции – решая, назначать ли химиотерапию, которая стоит до 100 тысяч евро и может причинить немалый вред. Лейн по этому поводу полон оптимизма: можно облегчить и удешевить диагностику рака, на которую расходуется по 40 миллиардов долларов в год.
Чтобы найти способ манипулировать клеточным правительством, обратились к его истории. Откуда вообще взялся этот белок p53? Ему уже миллиард лет, он в тысячу раз старше человечества. За это время сделал большую карьеру. Возник он еще у беспозвоночных. Начинал, так сказать, простым слесарем: опознавал повреждения ДНК и собственноручно их залечивал. Когда наши предки вышли на сушу из океана, обзавелся двумя племянниками – p63 и p73. Они дублируют его функции и по-хорошему конкурируют с дядей.
По ходу эволюции p53 уже не чинил сам каждую поломку, а научился включать гены, отвечающие за синтез приспособленного под конкретную задачу фермента. Хотя «страж генома» – это такой директор завода, который в критической ситуации сам встает к станку, основная его функция – сбор информации. Белок p53 реагирует на тысячи сигналов от всех систем клетки и распоряжается генами, ответственными за всевозможные процессы. Свой завод он «взрывает, чтобы не достался врагу» только при самой серьезной опасности, а в мирное время его задача – руководить производством.
Как это бывает с руководителями, каждый имеет свой характер. Примерно 30 тысяч лет назад человеческий род разделился на две части, и в одной «страж генома» более бдителен и чаще отдает решительные приказы. У таких людей вероятность заболеть раком меньше, но они редко доживают до 75 лет, потому что их клетки чаще обновляются, быстрее стареют.
Бдительность не всегда хороша. Смерть от инсульта представляет собой массовое проявление бдительности со стороны «стражей генома». При нарушении снабжения клеток кислородом p53 принимает решение о несовместимости гипоксии с жизнью. Если найти способ притупить эту бдительность, можно было бы сократить потери.
Эксперименты на мышах тут не во всем помогут. В организме грызунов белок p53 играет несколько иную роль. Да и у людей его функции сильно различаются. По-разному работает p53 у мужчин и женщин (отсюда неодинаковая предрасположенность двух полов к разным видам рака), у русских и китайцев (например, китайские женщины подвержены раку носоглотки в 80 раз сильнее, чем русские).
Наконец, рак – удобная для изучения болезнь: заметные мутации, громадные количества p53, массовые жертвоприношения. А чем занят директор генома при не столь смертельных патологиях? Что предпринимает он при аутизме, диабете, ожирении? Мыши ответ не дадут, эксперименты на людях неэтичны, манипуляции с геномом пациента незаконны. Даже если правительству какой-нибудь страны понравится идея пустить часть населения на опыты, с p53 это не поможет. Он забрал себе слишком большую власть.
Всего лишь за четверть века число работ об этом белке перевалило за 50 тысяч. Мы знаем две тысячи генов, которые p53 включает и выключает; по расчетам биоинформатиков, их вдвое больше. Пётр Чумаков говорит, что уходят последние годы, когда один человек может усвоить все знания о белке p53. Еще немного – и удержать всё в уме сумеет лишь компьютер, а нам останется строить цифровые симуляции. Поначалу, видимо, не слишком удачные: объект изучения сам представляет собой биологический компьютер. Который оперирует на малопонятном языке, постоянно подвергается вирусным атакам, виснет и ошибается, норовя то захватить мировое господство, то закрыться от мира и внутри своих границ передушить все живое.
ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
Василий А.: Если можно, вопрос насчет «человеческий род разделился на две части» – про какое именно разделение речь? (Можно просто ссылку или PMID/doi.) И тот же вопрос насчет разницы p53 у мужчин vs женщин.
Ответ: Вот в этой лекции Арнольд Левин говорит о разделении наших предков порядка 30 тысяч лет назад (32:40): .
85 % скандинавов имеют аргининовый аллель p53 (Arg72) и 97 % африканцев – пролиновый (Pro72, менее «бдительный»). Об этих аллелях еще Чумаков писал в «Генетике» в 1987 г., 23, 1547–1554.
Anna Kiriluk: Это выходит, что скандинавы должны редко доживать до 75, в отличие от негроидов, при этом последние должны чаще болеть раком? Кстати, а у славян какой аллель, проверяли?
Ответ: Именно так, среди скандинавов старше 75 преобладает более редкий аллель. Полиморфизм славян по 72-му кодону на примере жителей Ленинграда проверили едва ли не раньше, чем в Скандинавии. Также преобладает аргининовый аллель. Но это не значит, что его носители не болеют раком или, скажем, псориазом. Они всего лишь подвержены в 1,1–1,5 раза меньше.
Роман Артамонов: Очень интересно. Когда-то очень давно сталкивался с информацией, что как раз северные народы чаще страдают от онкологии, а южные – от инфекционных заболеваний. К чему привязывались в выводах – не помню, точно не к генетике и точно не к инсоляции (потому что инсоляция выше как раз в южных странах).
Ответ: Тут скорее условия жизни: на юге чисто статистически больше инфекций и возможностей ими заразиться. Северяне обычно богаче, живут дольше и до своего рака доживают.
100 Сделать себе кесарево сечение, спасти ребенка и остаться в живых Инес Рамирес 2000 год
5 марта 2000 г. произошел беспримерный в истории медицины случай: женщина сама сделала себе кесарево сечение, причем осталась жива и спасла ребенка. Оба до сих пор здравствуют. Женщину зовут Инес Рамирес, ее сына – Орландо. Это индейцы из народа сапотеков. Их деревня Рио-де-Талеа находится в мексиканских горах на высоте 1869 метров.
На полтысячи жителей деревни приходится один медицинский работник по имени Леон Крус. Он гордо носит звание санитара. Его профессиональная обязанность – выдавать населению лекарства из казенной аптечки, а подготовка позволяет уверенно рекомендовать аспирин при высокой температуре и кесарево сечение при трудных родах. Именно эту меру он предложил Инес Рамирес, когда днем 4 марта у нее начались схватки.
Инес благополучно произвела на свет шестерых детей, и роды всегда принимал ее муж Антонио Крус (двоюродный брат санитара). Но теперь Антонио ушел в запой и сидел в деревенской кантине. На случай, если придется делать кесарево сечение, Инес отправила восьмилетнего сына Бенито – нет, не в кантину, а в лавку. Купить нож подлиннее и поострее, потому что наточить имеющиеся в доме ножи было некому.
К часу ночи 5 марта воды отошли, боли стали нестерпимыми, а процесс изгнания плода никак не начинался. Тремя годами раньше так уже было: после долгих мучений родился мертвый ребенок. Инес решила, что это не должно повториться, и отважилась оперировать себя сама.
Выпив для анестезии стакан спирта, она взяла нож и приняла характерную для индейцев родовую позу. Это спасло ей жизнь. Индейцы рожают сидя, слегка подавшись вперед. В этой позе стенка матки оказывается прямо под кожей. Поэтому, взрезав себе живот, Инес не повредила кишечник.
Она приставила лезвие к низу живота и повела разрез вверх, для верности длиной целых 17 сантиметров (достаточно было бы 10). И стала повторять это движение, с каждым разом углубляя рану. Кровь била фонтаном, Инес вопила от боли, но не сбивалась с линии разреза. За час она проделала дыру в матке, а заодно и в животе, откуда выпали «кишки и еще какие-то органы», с ее слов. Отодвинув эту «бесформенную кучу» в сторону, Инес вытащила ребенка на свет божий за ногу. К ее восторгу, мальчик тут же запищал. Перерезав пуповину ножницами, мать завернула Орландо в тряпочку, положила рядом с собой, потом затолкала «кишки и органы» обратно в брюшную полость – и потеряла сознание.
Она пришла в себя только на рассвете. Ее бил озноб. Обмотав кровоточащую рану свитером, Инес послала сына Бенито за санитаром. Тот принес иголку с ниткой, которой его жена штопала одежду, и, как умел, зашил разрез. Потом с помощью родных дотащил Инес до остановки и затолкал в «пасахеро» (маршрутку). Больше часа прыгал микроавтобус по разбитой грунтовой дороге, пока не выбрался на шоссе, где расположен ближайший медпункт. Там дежурила женщина-врач. «Ну а что вы ко мне-то приехали? – спросила она. – Это вам в Сан-Пабло надо». (В районном центре Сан-Пабло-Уистепек есть настоящая больница с оперблоком.) Но в медпункте имелся хотя бы телефон, и женщина-врач вызвала из больницы скорую. Тут силы совсем оставили Инес, так что в Сан-Пабло за нее говорил санитар Леон Крус.
При виде 17-сантиметрового разреза, прихваченного хлопчатобумажной ниткой, завотделением Онорио Гальван взял камеру и стал снимать все, что делает хирург Хесус Гусман. Заглянув в рану, оба не поверили своим глазам: матка уменьшилась до обычных размеров, кровотечение прекратилось, и при этом никаких признаков инфекции! Брюшную полость промыли, маточные трубы перевязали во избежание новой беременности. Полости закрыли, поставили дренаж, стали колоть антибиотики. Приключения кишечника даром не прошли: на третий день дали о себе знать спайки, которые пришлось удалять абдоминальному хирургу. И все же выздоровление шло в невероятном темпе: Инес рвалась домой, где без присмотра шестеро детей. Орландо был при ней неотлучно, он с усердием сосал материнскую грудь.
На десятые сутки после госпитализации Инес выписали и посадили в маршрутку, которая заезжала в ее деревню. Правда, путь был настолько извилист, что занимал 12 часов. Не в силах перенести столь долгую дорогу, Инес вышла, едва микроавтобус перевалил горный хребет, за которым находилась деревня Рио-де-Талеа. Посадив Орландо за спину и привязав его шалью, наша героиня двинулась по горным тропам вниз. Через полтора часа она была дома, очень довольная, что срезала крюк.
Акушеры-гинекологи Гальван и Гусман описали ее случай в научной статье, но редакторы медицинских журналов не хотели брать материал, принимая за какую-то мистификацию. Наконец через три года Гальван оказался на международной конференции в Чикаго и повстречал там светило испанского происхождения – Рафаэля Валле. Когда тот посмотрел видеозаписи и фотографии, увидел УЗИ с рубцом на матке и убедился, что все это не розыгрыш, то пристроил статью в International Journal of Gynecology and Obstetrics, выступив соавтором.
В Рио-де-Талеа хлынули журналисты. Инес раздавала интервью и даже снялась в документальном фильме, не подозревая, что за это можно просить гонорар.
Муж как антигерой этой истории фотографироваться не пожелал: есть только один снимок, сделанный тайком, на рассвете и издалека. Санитар Леон Крус давал путаные показания. Называл неверное число беременностей Инес и говорил, что она выпила для анестезии три стакана спирта (сама женщина сказала на камеру, что стаканчик был один, объемом примерно 150 мл). Журналисты заподозрили обман. Да ведь так и не бывает: люди на поле боя гибнут от кровотечения из лучевой артерии, а тут повреждено пять равноценных артерий – и пациентка выживает без медицинской помощи?
Не верил этому сперва и доктор Гальван. Он в 2000-м приезжал в Рио-де-Талеа, расспрашивал, где найти знахаря, способного останавливать кровотечения. Что раной Инес занимался не медик, сомнений не было: профессионал не сделал бы варварский разрез в 17 сантиметров и не зашивал бы хлопчатобумажной ниткой. Но никакого знахаря не существовало, тут показания местных жителей совпадали. Может быть, тамошние женщины имеют какие-то анатомические особенности, знание которых обогатит науку и поможет найти новые лекарства? Гальван и следом за ним пресса призвали власти организовать программу изучения сапотеков. Для начала открыть в Рио-де-Талеа медпункт, чтобы собирать достоверную медицинскую информацию.
Премьер-министр субъекта федерации – штата Оахака – пообещал провести в деревню дорогу с твердым покрытием, чтобы могла приехать скорая помощь. А министр здравоохранения заявил: «Мы построим в этой деревне больницу и назовем ее госпиталем имени Орландо Рамиреса».
Ни асфальтированной дороги, ни мобильной связи в деревне Рио-де-Талеа нет и поныне. В 2008 г. соорудили медпункт под названием «Дом здоровья». Он тут же закрылся под предлогом нехватки средств у субъекта федерации. Доктор бывает в «Доме здоровья» наездами, по три дня в год.
Источники и дополнительные материалы
Библиография и ссылки на источники в интернете доступны по адресу /
Сноски
1
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. [Пер. Я. Бермана] // Соч.: В 2 т. Т. 1. – М. Мысль, 1996. – С. 159.
(обратно)2
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. Е. М. Лысенко. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1986. – С. 17–18.
(обратно)3
Здесь и дальше все даты событий указываются по новому стилю (кроме специально оговоренных случаев). – Прим. ред.
(обратно)4
Здесь и далее так обозначены избранные комментарии к историям в паблике Doktor.ru и ответы на них автора-модератора. В разделах «Обсуждение в группе» сохранены стилевые особенности общения в сети; реплики участников группы подвергались минимальной правке, в основном корректорской. – Прим. ред.
(обратно)5
Здесь и дальше поэма «Лузиады» цит. в переводе О. Овчаренко (под ред. В. Столбова). – Прим. ред.
(обратно)6
Цитата из «Фауста» И. В. Гёте (часть 1, сцена 4; пер. Б. Л. Пастернака). – Прим. ред.
(обратно)7
Пер. Михаила Шифрина. Две финальные строки – цитата из Первого послания к коринфянам апостола Павла.
(обратно)8
А почему высокие достижения российских ученых не используют в современной медицине? (укр.) – Прим. ред.
(обратно)9
Подробности см. в кн.: Киселев Л. Л., Левина Е. С. Лев Александрович Зильбер, 1894–1966: жизнь в науке / Отв. ред. Г. И. Абелев. М.: Наука, 2005. С. 279–281.
(обратно)10
Dussik K. Über die Möglichkeit, hochfrequente mechanische Sehwingungen als diagnostisehes Hilfsmittel zu verwerten // Zeitschrift für die Gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1942. Bd 74. S. 153–168 ().
(обратно)11
Детское неврологическое реабилитационное отделение. – Прим. ред.
(обратно)12
Свердловский научно-исследовательский институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии (ВОСХИТО), с 1957 г. – Свердловский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО); ныне – Уральский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина. – Прим. ред.
(обратно)13
Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ); ныне – Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г. А. Илизарова. – Прим. ред.
(обратно)14
Изначально (лат.) – Прим. ред.
(обратно)15
Как по мне, это нормально: имеешь серьезное наследственное заболевание – не размножайся. Может, я чего не понимаю… (укр.). – Прим. ред.
(обратно)16
См.: -eerste-geslachtsveranderende-operatie-van-vrouw-naar-man-nederland-195960/volledig.
(обратно)


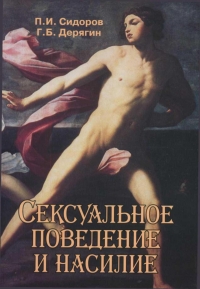

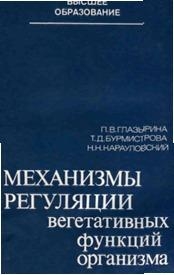

Комментарии к книге «100 рассказов из истории медицины», Михаил Шифрин
Всего 0 комментариев