Владимир Лучосин Человек должен жить
ПОВЕСТЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАЧИНАЕТ ПОВЕСТЬ ИГОРЬ КАША
Итак, мы едем на практику.
Позади четыре курса института: лекции, занятия в лабораториях и клиниках, где нас нафаршировывали знаниями, не забывая, впрочем, напоминать, что мы-де ничегошеньки не усваиваем. Честное слово, нас почти убедили в этом. И оттого еще более хотелось знать, способны ли мы хоть на что-нибудь. И не терпелось отдернуть занавес и своими глазами посмотреть, что же за ним: большой мир с тайнами и загадками нашей профессии или серые провинциальные будни, ехали на практику как в свое будущее.
Пригнувшись, я тащил на плечах чемодан. Накрапывал дождь. Пот струйками катился по спине и лицу, потому что мой чемодан весил не менее двух пудов. У меня сосало под ложечкой, словно я шел в кабинет к грозному Владимиру Никитичу сдавать экзамен по терапии.
— Вы не Каша?
Я осторожно опустил чемодан на асфальт перрона.
Нет, это не ко мне. Незнакомый парень в черном пальто нараспашку, выставив напоказ золотые пуговицы офицерского кителя, стоял метрах в шести от меня. Он всматривался в лица прохожих и у некоторых спрашивал: «Вы не Каша?» От него отмахивались, кто сердито, а кто улыбаясь.
Вот он шагнул к студентику в черном плаще и зеленой шляпе.
— Извините, вы, случайно, не Каша?
— Нет, бифштекс!
Я чувствовал себя оскорбленным. Зачем потешается этот тип над доброй моей фамилией? Я ухватился за ручку чемодана и пошел, куда шли все, — к зеленым вагонам поезда. Вдруг кто-то дотронулся до моего локтя. Взглянул: опять он!
— Постой, постой, ты, кажется, и есть Каша, а? — Он глядел на меня серыми, очень ласковыми глазами, и раздражение мое исчезло.
— Зачем тебе Каша? И кто ты такой? — спросил я.
— Ну, пойдем, пойдем, расскажу. Ну и чемоданище у тебя — давай помогу. — Не ожидая разрешения, он взялся за ручку, и мы пошли к седьмому вагону.
— Я думал, не найду тебя. Вчера я узнал в институте, кто едет на мою базу, и секретарь назвала твою интересную фамилию. Вот и решил познакомиться с тобой как можно раньше. Ясно?
Я ничего ему не ответил. Этот парень, сам еще не знаю почему, начинал мне нравиться. Прежде всего подкупала его простота. Позже, когда мы уже сидели в вагоне, я увидел, что и внешность у него довольно симпатичная. Темно-русые с блеском волосы, зачесанные назад, правильный нос. Я заметил его привычку играть морщинками на лбу: то нахмурится, и тогда две вертикальные морщинки прорезают лоб; то поднимает брови, и тогда морщинки, словно волны, располагаются вдоль бровей. Особое впечатление произвел на меня, конечно, его анатомически правильный нос. Я завидовал всем, кто родился с нормальным носом. Не знаю, как произошло, что у меня, русского человека, нос был горбатый, как у горца. И мои голубые глаза и совершенно светлые волосы совсем не шли к этому носу.
В вагоне мы вспоминали профессоров. Оказывается, они читали лекции и его потоку.
До сих пор я не знал ни фамилии, ни имени моего спутника. Но вот он представился:
— Захаров. Николай. Образца тридцатого года. Национальности — вятской. Происхождения — колхозного. — Все это он произнес одним духом и поиграл морщинками на лбу. — Еще вопросы по биографии есть?
Нет, у меня вопросов не было. Я не любил разговоров на эту тему, потому что у меня не получалось биографии. Когда я в школе вступал в, комсомол, она заняла полторы строчки: родился… учился. С тех пор она не выросла — ведь не будешь писать о сессиях и оценках, особенно когда хватаешь тройки.
Захаров очень удивил меня, сказав, что Владимир Никитич поставил ему по терапии «отлично». Меня Владимир Никитич дважды просил из кабинета, а в третий раз я к нему не пошел. Из нашей группы вслед за мной вылетело из его кабинета еще шесть человек, то есть больше половины. А из тех, кого он не провалил, никто не получил даже четверки. Все дрожали перед ним и забывали то, что еще знали в школе: что сердце в левой половине груди, а селезенка совсем не обязательный для человека орган. Одна девушка сказала, что и печень не обязательна. Владимир Никитич рассердился и показал ей на дверь. Я тогда подумал, что профессором быть не так уж трудно: надо только уметь нагонять страх на студентов и подчиненных. Сотрудники клиники стояли перед ним навытяжку. Студенты перед ним не вытягивались. Наверно, ему это не нравилось. Он любил дисциплину. Когда он приходил на лекцию, вся аудитория вставала, а если кто-либо продолжал сидеть, Владимир Никитич жестом заставлял его подняться. Все двести человек смотрели на провинившегося.
За окном мелькали поля, перелески. Придорожными болотцами брели тонкие березки. Казалось, они хотят выйти на сухую землю и не могут.
— Студентики! Приехали, милые, — сказала пожилая проводница, остановившись возле меня.
— Спасибо, мать, — поблагодарил Захаров. — Дай бог вам хорошего зятя!
— Угадал! Вот кончай — и в наш дом.
— Спасибо, мать. Но не понравлюсь дочери. Профессия больно неспокойная. Как ночь — так меня зовут на работу.
— Что ж это за ночная у тебя профессия, сынок?
— Э-э…
— Скорей! Поезд уж…
Едва мы сошли, поезд тронулся. Проводница помахала нам желтым флажком. Мы помахали ей кепками.
На перроне среди пассажиров мы старались разыскать третьего студента, который должен проходить практику вместе с нами, — Гринина. Но не нашли. Возможно, он еще не выехал из Москвы. Возможно, первым сошел с поезда и был уже далеко от станции. А может быть, заболел. Мало ли что может случиться с человеком.
Всю дорогу мы ехали под дождем, и сейчас небо по-прежнему было обложено темными тучами. Дождь, как видно, зарядил надолго.
Захаров поднял воротник пальто, я поднял воротник плаща, с наших кепок стекали дождевые капли.
Мы пошли к неказистому деревянному домику станции. В правом угловом окне по-домашнему горел оранжевый свет, точно такой, как у нас дома, и я подумал о том, где мы будем сегодня ночевать.
Вокруг домика росли высокие березы. Было слышно, как дождевые капли ударяют по листьям. Слева от станции, в канаве, заросшей густой травой, паслась белая в черных пятнах корова, возле нее стоял босой мальчик лет шести в большой железнодорожной фуражке с красным верхом.
Мне было жаль этого мальчишку, потому что он стоял под дождем, под холодным дождем и мог заболеть. Он почти ничем не был защищен. Темный взмокший мешок, прикрывавший его плечи, конечно, не грел и был, по сути дела, холодным компрессом.
— Сейчас же иди под крышу! — крикнул я строго. — Никуда твоя корова не сбежит.
Он ответил тоненьким слезливым голоском:
— Папка будет бить.
По голосу мне показалось, что мальчик уже простужен.
У дверей станции Захаров вдруг остановился и тревожно посмотрел на освещенное оранжевым светом окно. Я тоже посмотрел туда. Окно как окно, ничего особенного. Но под окном в траве лежал мужчина лицом вверх. Рядом на коленях стояла женщина и тормошила его за плечи.
— Подойдем ближе, — сказал Захаров.
Мы вошли в палисадник. Здесь росли высокая трава и мокрые желтые цветы. Ветер шевелил ветви берез, и на нас полетели крупные капли; мы словно попали под холодный душ. Глядя на мужчину и женщину, я не думал, что с этих минут и начнется наша практика, и совсем не по программе.
— Муж? — спросил Захаров.
— Пьяница он горький.
— Живой?
Я не ожидал такого вопроса.
— Разве не видите? — спокойно ответила женщина.
— Сейчас посмотрим, — сказал Захаров и взял руку мужчины.
На мужчине были кирзовые сапоги с блестящими подковками.
Я осторожно опустил чемодан в траву и взял другую руку мужчины. То ли есть пульс, то ли нет. Не поймешь. Но рука теплая. Попробовал лоб — тоже теплый. Посмотрел на Захарова:
— Ну что?
— Пульс как будто есть, но очень слабый. — Морщинки на лбу Захарова собрались гармошкой. Он подумал с минуту, потом сказал: — Ввести бы ему кофеина, нашатыря дать понюхать, а то и внутрь.
— Нашатырь нюхать? — Женщина засмеялась.
Я не понял, почему она смеется.
— Живете далеко? — спросил Захаров.
Женщина показала рукой на освещенное окно.
Отсюда, из палисадника, хорошо был виден оранжевый абажур с красивыми кисточками, темный старинный гардероб с зеркалом.
— Эх, нашатыря бы ему! — сказал Захаров. — У вас должен быть нашатырь, если он часто пьет.
— Некогда в аптеку сбегать. Да он и не помогает. «Скорая» раз приезжала, давали нюхать и в горло хотели влить. Не помогает!
— Чем же вы его в чувство приводите?
— Проспится и песни начинает петь.
— Эх, нашатыря бы! — проговорил Захаров. — Не верю, что он не помогает.
— Не поможет, — произнес за березами зычный голос.
Мы услышали приближающиеся шаги. Вскоре показался милиционер. На боку висела кобура с пистолетом. Милиционеру было лет сорок. Меня поразили его усталые глаза.
— Это вы сказали «не поможет»? — спросил Захаров.
— Так точно, я.
— Почему не поможет? — спросил Захаров и посмотрел на меня.
— Действительно, — сказал я. — Почему вы так говорите, товарищ милиционер?
Милиционер смотрел на нас, как на малолетних детей.
— Ну, прямо горе, когда люди берутся не за свое дело, — сказал Захаров.
Эти слова, видимо, задели милиционера за живое.
— А вы кто такие, что мне указываете? Документы! — И лихо козырнул.
— Не козыряйте, сами козыряли шесть лет, — спокойно сказал Захаров. — Вызовите лучше «Скорую помощь». У нас нашатыря нет с собою. Помочь человеку надо.
— «Скорую помощь»? — Милиционер усмехнулся, но так, чтобы не видела женщина.
— Ну, чего вы стоите? — крикнул Захаров. — Где телефон?
Мы сами позвоним, если вам трудно. Это не входит в ваши обязанности? Постой здесь.
Каша, я зайду на станцию.
— Не беспокойтесь, гражданин, — сказал милиционер. — «Скорая» сейчас прибудет… Все-таки кто вы такие? Меня, как блюстителя порядка, это касается. Что-то я не встречал вас в нашем городе.
— Скажи ему, Каша, кто мы такие.
— Студенты из Москвы, — сказал я. И хотел добавить: «Медики», — но закусил губу. Поведение милиционера было не совсем обычным, он что-то недоговаривал.
— Студенты? На практику? Химики?
— Да! Химики, — опередив меня, ответил Захаров.
Милиционер подошел ко мне и сказал на ухо:
— Он уже конченый, понятно? «Скорая» приедет лишь для того, чтобы установить факт смерти.
— Да вы что, шутите? — крикнул я и, присев на корточки, схватил руку мужчины. Теперь она показалась мне холодной, пульса я не нащупал.
— Ну, убедились? Между прочим, вы как врачи, те тоже сразу за пульс, а вот я, хоть и не врач, по одному виду определяю. — Милиционер вытащил пачку «Беломора» и закурил. Он стоял напротив окна, и на немолодом лице его застыл оранжевый свет.
— Надо перенести его в квартиру, — предложил Захаров. — Здесь сыро.
— Квартира теперь ни к чему, — сказал милиционер, выпуская изо рта дым. — Все равно придется выносить.
— Это почему? — спросил Захаров.
— Дядя Леша свое дело знает туго, так что вы, студентики, можете не беспокоиться.
— Мелете всякую чепуху, товарищ милиционер, — сказал Захаров. — Вы чересчур ленивый, как я посмотрю. И зачем вас держат такого на службе? — И уже более примирительно: — Сами видите, идет дождь, сыро, человек может простудиться, лежа на земле.
— Уже не простудится. Поверьте дяде Леше, — спокойно ответил милиционер.
— Вот положить бы вас на землю и побрызгать дождичком, — сказал Захаров и, отвернувшись от милиционера, надвинул на лоб кепку.
Только теперь я понял, что Захаров не знает главного. Я сказал ему. Он присел на карточки и начал искать на руках мужчины пульс, и по его лицу я понял, что пульса он не нашел. Тогда он вытащил из чемодана фонендоскоп и, подняв пиджак и рубаху мужчины, приставил фонендоскоп к груди в том месте, где находилось сердце. По тому, как неправильно складывал он фонендоскоп, я понял, что сердце мужчины не бьется.
Кажется, наконец и женщина поняла, что произошло. Она молча заплакала, содрогаясь всем телом.
Жалобно замычала корова.
— Сирота моя горемычная, Гриша, иди… — Женщина плакала, хотела подняться и не могла.
Я сбегал за мальчиком, помог пригнать корову, загнал ее в сарай. Но я не знал, что сказать мальчику, и посоветовал ему идти домой. Он весь продрог, часто икал. Вскоре я увидел его в комнате. Он повесил на спинку стула мешок, а сам быстро разделся и лег в постель, накрывшись с головой. Оранжевый абажур светился все ярче, потому что надвигался темный июньский вечер.
Подкатила машина «Скорой помощи», к нам подошел врач, высокий мужчина в белом халате.
— Десять раз умрешь, пока вас дождешься, — сказал милиционер.
— Дядя Леша, — сказал врач, — хоть бы ты не бросал тень на плетень. Были действительно срочные вызовы. Понимаешь?
— Я-то понимаю, а вот они… претензию к вам имеют. — Милиционер указал на нас.
Мы молчали.
Врач склонился над мужчиной. Халат врача был совершенно оранжевым. Меня не интересовало, что делает врач. Я знал, что сделать он уже ничего не сможет.
Женщина плакала. Мальчик лежал в теплой постели, закутавшись с головой. Я видел его через окно и думал о загубленной жизни. Больше всех мне было жаль мальчика, будто это был я сам.
Врач скомкал фонендоскоп и сунул его в карман халата.
— Вот студенты-химики на практику приехали, может, подвезете? — спросил милиционер у врача. — Подвезите, что вам стоит? Вот у того чемодан пуда три. Кирпичей наложил, что ли?
Меня удивило, что милиционер между делом успел проверить вес моего чемодана.
— Не возражаю, — сказал врач.
Мы сели в машину. На «Скорой помощи» я никогда не ездил. Я смотрел в окно, приподымая брезентовую занавеску. Машина не ехала, а летела по улицам города. Тревожные сигналы будоражили воздух. Прохожие останавливались, смотрели нам вслед, и, наверно, никто из них не подозревал, что на этот раз машина везла совершенно здоровых людей.
Мы были здоровы, но настроение было плохое. Кажется, никогда оно не было таким подавленным.
— Переночуем в гостинице? — предложил я Захарову.
— Лишние деньги пригодятся на выпивку. — Он посмотрел на меня и мрачно улыбнулся.
Машина остановилась у длинного одноэтажного здания. Врач вышел из кабины и взбежал на крыльцо, которое заскрипело под ним. Он скрылся за стеклянной дверью.
— Больница, — услышал я чей-то голос. Кажется, это сказал шофер. Неужели эта лачуга и есть больница?
Все окна темные, лишь одно освещено. Колышется занавеска. Свет падает на толстый ствол дерева, на лепестки белых цветов под окном.
Шофер открыл нам дверку и сказал с изысканной вежливостью:
— Ну, химики, вытряхивайтесь.
Я взялся за свой чемодан и хотел уже вытаскивать его из машины, но Захаров подмигнул мне и сказал, чтобы я посидел. Он и шофер, о чем-то беседуя, пошли к крыльцу, вошли в здание. Минуты через три они возвратились, шофер завел мотор.
Мы опять поехали. Я вопросительно смотрел на Захарова.
— Это у них поликлиника, тут же «Скорая помощь». А знаешь, Гринин нас опередил.
Я не сразу понял, кто такой Гринин, но потом вспомнил, что это третий студент, которого мы искали на станции.
Машина остановилась, и я снова увидел крыльцо, но более высокое и с крышей. «Начальная школа № 2», — прочел я вывеску. Дом одноэтажный, длинный, из толстых бревен.
Шофер начал сигналить. Даже мертвые могли проснуться от пронзительных звуков. В Москве за такой шум шофера оштрафовали бы, а здесь, наверно, шуметь было еще в моде.
Широкие окна школы осветились изнутри. На крыльцо вышел высокий парень в свитере канареечного цвета. «Хороший свитер», — подумал я. Руки парня опущены глубоко в карманы серых брюк, брюки хорошо отглажены. Во рту парня дымилась папироса.
— Добро пожаловать, — сказал он, не вынимая папиросы изо рта.
Поднявшись на крыльцо, я увидел, что он выше меня на целую голову. У него были умные черные глаза, черные вьющиеся волосы, зачесанные назад, и тонкая полоска черных усов на верхней губе. Я узнал его. Он, конечно, с нашего потока. Но только раньше я не знал его фамилии и вообще был с ним не знаком. На потоке двести человек, разве перезнакомишься со всеми даже и за четыре года?
Припоминаю, что я никогда не чувствовал к нему особой симпатии, и если мы встречались где-либо в бесконечных институтских коридорах или на улице, то я не считал себя обязанным здороваться первым.
Он был слишком яркий и шумный, всегда окруженный толпой похожих на него ребят. Постоянно сыпал остротами и анекдотами, которые не казались мне смешными. Он явно метил в вундеркинды. Я же был из другого теста. Я любил только слушать. Мне было бы трудно с ним дружить.
Едва мы сняли свои чемоданы, машина «Скорой помощи» уехала.
Гринин посторонился, когда мы проходили в дверь, и остался на крыльце докуривать папиросу.
Мы вошли в класс. На левой стене черная доска, в желобке сухая тряпка и кусочек мела. На полу поблекшие чернильные пятна, одно небольшое пятно проглядывало даже сквозь побелку на стене. Вдоль окон деревянная вешалка метровой высоты человек на сорок.
Класс казался очень большим и просторным, потому что все парты были вынесены. Остался лишь учительский стол. Три кровати, застланные коричневыми байковыми одеялами, стояли вдоль стен. Крайняя кровать у окна была занята Грининым. Самое лучшее место! Я занял следующую. Захаров бросил свой чемоданчик на кровать, стоявшую у двери. Крышка открылась, вещи вывалились, и я увидел: ни одной книги. Я везу целую библиотеку по трем предметам, а он…
— Ну вот, совсем неплохая дача, — услышал я голос Захарова, — а ты хотел в гостиницу. Сейчас все москвичи на дачах, и мы оказались не хуже.
— Пожалуй, — согласился я.
Вошел Гринин, сел к столу. Раскрыл портсигар и со стуком поставил его на черный лакированный стол.
— Закуривай, ребята.
— Сдуру еще в прошлом году бросил, — сказал Захаров. — Игоря угощай.
А я вообще не курил.
— Образцовые ребята. Кто же из вас Каша? — спросил Гринин.
— А ты угадай. — Захаров открыл форточку. — Давай, парень, сразу договоримся: в общежитии не курить. — Он прошелся по классу. — Ну, так кто же из нас Каша?
— Наверное, ты, — зевая, протянул Гринин.
— Угадал! — засмеялся Захаров.
Гринин щелкнул портсигаром, сунул его в карман и прилег на кровать. В его руках появилась только что вышедшая шестая книга «Нового мира» за 1960 год.
Мы с Захаровым пошли знакомиться со школой, заглянули во все уголки, наконец захотели есть и сели ужинать. Гринин уныло сидел на кровати. У него, должно быть, не было ничего съестного. Первым его пригласил Захаров. Потом и я подал голос.
Гринин долго отнекивался, но затем сел к столу, сказав:
— Если уж вы так хотите, пожалуйста.
Я вытащил из чемодана свиное, сало, черный хлеб, зеленый лук. Захаров выложил два белых батона, сыр и колбасу.
Мы съели все это почти дочиста.
— Жаль, чайку нет, — сказал я, укладывая остатки припасов в чемодан. — Или молочка бы. Люблю горячее молоко.
— А сырой водицы не хочешь? — спросил Гринин.
— Что я, за дизентерией сюда приехал?
— А зачем воду хлорируют? — не отставал Гринин.
— Потому что надо! — Я начал сердиться.
— Ты, я смотрю, чудак, — сказал Гринин и протянул мне стакан воды. — Пей! Клянусь, не заболеешь.
Я спокойно отстранил его руку со стаканом.
— Хочешь — пей, а к другим не приставай! Понял?
Захаров меня поддержал:
— Ну, чего пристал? Не хочет сырой — пусть не пьет. Пусть кипяченой достанет. — Он выпил мой стакан и прибавил, глядя на Гринина: — Хороша вода! Спасибо… Давайте лучше поговорим о завтрашнем дне, ведь завтра идти в больницу.
Но поговорить в этот вечер нам не удалось. Едва мы забрались под одеяла и согрелись, как уснули. Даже свет не успели выключить.
Последние звуки, которые я слышал, были гудки паровоза. Меня удивило, что они слышны очень ясно, словно паровоз катит по школьному двору. Тут я вспомнил, что форточка открыта и за форточкой — дождливая, приближающая звуки тишина.
В половине девятого утра мы вышли из школы и направились в больницу. После Москвы с ее многоэтажными зданиями и шумным нескончаемым потоком машин очень странно идти по улице маленького города. Тихо и пусто, и чего-то не хватает.
Вдоль плитчатого мокрого тротуара длинной цепочкой стоят липы. Их намокшие стволы почти черны, блестит промытая за ночь листва. За желтыми, коричневыми и зелеными оградами раскинулись напоенные дождем огороды, а в глубине, среди плодовых деревьев и кустов, стоят симпатичные замысловатые домики с террасами. Представляю, как хорошо жить в таких домиках: выйдешь утром — и ты в саду.
Первыми, кто повстречался на нашем пути, были пушистые желтые гусята. Они смотрели на нас своими крошечными глазками и оживленно попискивали.
За поворотом улицы мы увидели двухэтажное здание из красного кирпича, крытое розовой черепицей. Это большое здание могло быть и школой, но когда во дворе мы увидели людей в белых халатах, сомнений не осталось.
— Приготовиться к принятию цветов. Оркестр играет туш, — сказал Захаров, глядя на нас.
— Очень мы нужны больнице! — отозвался Гринин.
— Что ты понимаешь, парень! — мягко улыбнулся Захаров. — Сестры будут строить нам глазки. Премудрые доктора свалят писание историй и ночные дежурства. Мы нужны! Ну прямо как воздух, как хлеб.
— Как молоко, — добавил Гринин и посмотрел на меня.
Признаться, я думал, что нас все же будут встречать, ну, не с цветами, не с оркестром, конечно, а просто так, без всяких пышностей. Но, как видно, все были заняты, и никто не догадался даже посмотреть на нас в окно. А мы шли, немного оробев, во всяком случае, я могу это сказать про себя.
На песчаном дворе больницы кое-где стояли высокие голые, словно ощипанные, сосны, ветер раскачивал их из стороны в сторону. Холодные, черные, насквозь промокшие скамейки были пусты.
Четыре громоздкие белые колонны сторожили вход в больницу. Дверь была застекленная, открывалась и закрывалась мягко, не скрипела.
В вестибюле было пусто и тихо, пахло йодом и хлоркой и едва уловимым запахом духов. Недавно здесь прошла женщина..
— Батюшки! Никак практиканты! — вскрикнула старушка гардеробщица. Я не заметил, откуда она появилась.
— Гусей от верблюдов не отличили, мамаша, — деланно-строго сказал Захаров. — Мы же врачи из министерства, больницу приехали проверять. Где тут у вас главный?
Улыбка на лице гардеробщицы погасла.
— Вам кого? Веру Ивановну? Главного врача?
— Ее.
— Нету. Болеет она, бедняжка. Молодая, а хилая. Радикулитом мается.
— Не верю. Врачи не болеют. А тем более — главные.
Старушка смотрела с недоумением.
— Врачи, говоришь, не болеют? — спросила она.
Захаров вдруг рассмеялся и начал снимать пальто. Сказал доверительно:
— Мы, конечно, практиканты, мамаша. Вы правильно определили. А заместитель у главного имеется?
— Михаил Илларионыч? Тут он. Раздевайтесь. Я сейчас доложу.
Она пропустила нас в раздевалку и начала смотреть, как мы раздеваемся, во что одеты. Не очень приятно, когда на тебя смотрят в такие минуты. Она увидела на мне дешевый серый костюм и простые черные ботинки с калошами. Две мои сестры учились, мать работала только дома, одному отцу трудно было нас всех хорошо одеть. Слесарь получает не ахти сколько.
На Захарове был не первой новизны зеленый армейский китель, черные гражданские брюки и черные, хорошо нагуталиненные полуботинки. Выгодно отличался от нас Гринин. На нем было все дорогое, новое: светло-серый костюм, кремовая шелковая рубашка, туфли с узором. Я уже не говорю про серый плащ и серую шляпу с шелковой лентой.
— Вот этот действительно министерский доктор, — сказала мне гардеробщица, глазами показывая на Гринина, — только молод больно. Наши, которые доктора, тоже в шляпах. А Михаил Илларионыч в кепочке, как вы. Не любит форсу.
Я стащил с головы кепку и повесил поверх плаща.
— Ну, а халаты? — спросил Гринин, поглядев сверху на старушку.
— Сейчас узнаю. Вот закрою на замочек раздевалку и узнаю. — Старушка вертела в руках замок, он не хотел закрываться.
Мы вышли в вестибюль. Пол как большая шахматная доска — из синих и красных плиток, стены выкрашены масляной краской в голубой цвет, рамы окон — в белый. Светло.
Широкие стеклянные двери вели в коридор первого этажа.
Через дверь видна была крутая лестница — кажется, чугунная.
Минуты через три на ней показалась гардеробщица. На согнутой левой руке она несла халаты, правой держалась за перила. Видно, лестница была скользкая.
Я гадал: какие она несет халаты — бортовые или с завязками на спине? Мне больше нравились бортовые — их легче надевать, и они красивее.
— Берите, студентики!
Мы начали одеваться. Халаты были с завязками, но зато новые. Мне так редко случалось носить новые вещи.
— А халатики еще ненадеванные, — сказал я, пощупав хрустящую ткань.
— Есть чему радоваться, — сказал Гринин. — Они обязаны были выдать нам врачебные.
— Врачи носят и такие, — сказал Захаров.
Чтобы поскорее одеться, мы завязывали друг другу тесемки на спине и рукавах.
— Шапочки ищите в карманах, — сказала гардеробщица. Она смотрела в окно. На подоконнике стоял зеленый большой чайник. Из стакана с густо заваренным чаем шел пар.
В Пироговских клиниках нам не выдавали ни халатов, ни шапочек, на каждое занятие мы приносили в портфелях собственные. В клиниках мы были лишь студентами. А здесь мы были и студентами и уже не совсем студентами. Я не вытерпел и вытащил из левого кармана брюк круглое зеркальце. Все бы ничего, настоящий доктор, только вот нос…
— Дай, пожалуйста, — попросил Гринин.
Я дал ему поглядеться. Он пригладил брови, поправил черный в белых блестках галстук. Осмотрел левую щеку, правую, погладил подбородок. Хорош!
Во мне вспыхнула зависть, но только на мгновение. «Эх, мать честная, почему я не такой видный!»
— А вот и Михаил Илларионыч, — сказала гардеробщица.
По лестнице со второго этажа медленно спускался грузный человек в белом халате.
Как раз в эту минуту во все окна ярко брызнуло солнце, и я увидел загорелое лицо с маленькими, чуть раскосыми глазами, крепкую толстую шею и кусочек волосатой груди в вырезе халата. На голове волос не было, и она блестела, будто зеркальная.
Я смотрел на Михаила Илларионыча, не отрываясь. Было в его фигуре что-то медлительное, медвежье, косолапое и в то же время добродушное, близкое. Пройдя дверь, он вытянул вперед свою загорелую руку и так шел с нею к нам.
— Добро пожаловать! Чуднов, заведующий терапевтическим отделением. — Подойдя к нам вплотную, он поклонился и долго жал каждому из нас руку большими мягкими ладонями. Сразу словно гора свалилась с плеч, и меня охватило такое чувство, будто после долгой разлуки я попал к близкому родственнику.
Чуднов повел нас в комнату, которую он назвал приемным покоем. Там меня удивили огромные часы в деревянном футляре. Массивный медный маятник качался настолько важно, будто сознавал, что без его движений остановится время.
Чуднов указал нам на кушетку, а сам сел за небольшой стол, накрытый простыней. И халат его и простыня сливались в одно целое, белое, ослепительное; даже больно было смотреть на эту белизну, на эту чистоту, освещенную утренним солнцем.
— Значит, и отдохнуть не пришлось после экзаменов? — спросил Чуднов.
— Здесь отдохнем, — ответил Захаров. — Или не придется?
— Почему же? Вполне сможете и отдохнуть. Перегружать мы вас не собираемся.
— А, говоря откровенно, мы приехали к вам не отдыхать.
— Правильно, — поддержал я Захарова. — Мы будем продолжать учиться. Практика в этой больнице — продолжение институтской программы.
— Золотые слова. Гениальные слова, — заметил Гринин.
Я покраснел.
Чуднов пристально посмотрел на нас. Не знаю, что он подумал.
— Вероятно, каждый из вас мечтает стать хирургом? — спросил он.
— Угадали. Я, например, хочу, — сказал Захаров.
— Я тоже не прочь, — буркнул Гринин. Он был не в духе.
А я спросил:
— Как вы узнали?
Чуднов легонько так, чуть-чуть, улыбнулся.
— Ведь я тоже был студентом. Как вы думаете, был я студентом?
— Конечно! — ответил я. — И академик проходит эту стадию развития.
— Гениально, — шепнул мне Гринин. — У тебя гениальные задатки, юноша.
Я не обижался на Гринина, пусть упражняется в остроумии, если хочет.
С широкого загорелого лица Чуднова не сходила все та же легкая, обращенная в далекие годы улыбка.
— На третьем и на четвертом курсе почти все увлекаются хирургией; это и понятно. Молодость, романтика, жажда подвига. Ну, а на пятом курсе тропинки начинают расходиться. Но вам до этого еще далеко. — Он слегка махнул кистью руки. — Не стоит и голову ломать. Все само собой определится, и однажды вы узнаете, для чего родились. А пока будьте хирургами! Я как терапевт не возражаю. — Он взглянул на часы в деревянном футляре. — Вот минуты через три — так мне сказали — кончится операция, придет заведующий хирургическим отделением, и мы вас поделим. — Он улыбнулся.
— Поделите? — спросил я.
— Да. Между мной и Золотовым.
Дверь шумно распахнулась, и на пороге я увидел красивого седого человека. Ему было лет пятьдесят. Пышная шевелюра. В черных глазах светился ум. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Профессор!» — такая же величавость движений и жестов, накрахмаленный белоснежный халат и улыбка человека, знающего себе цену.
— Здравствуйте, товарищи студенты, — сказал вошедший и сел к столику правее Чуднова.
Это и был Золотов, заведующий хирургическим отделением.
Теперь все были в сборе, и Чуднов кратко рассказал о содержании производственной практики. Затем спросил, кто в каком отделении хотел бы начать работу.
Первым откликнулся Гринин:
— Конечно, в хирургическом!
— Почему «конечно»? — спросил Золотов.
— Я привык брать быка за рога, — ответил Гринин.
— Неплохо, — сказал Золотов. — Если уметь это делать.
Врачи переглянулись.
— А вы где хотите начинать? — Чуднов обращался к нам.
— В хирургическом, — ответил Захаров.
— Я тоже. — Мне хотелось быть вместе с Захаровым.
— Нельзя же так, — сказал Чуднов. — Почему всем начинать с хирургического?
— Заговор против терапии, — сказал нараспев Золотов. — Я могу взять сразу троих. Если уж всем так хочется ко мне, могу взять. — Золотов говорил, красиво растягивая слова.
— Возражаю. — Чуднов растопырил пальцы и провел ладонью по голове, очевидно забыв на мгновение, что волос-то давным-давно нет. — Не могу отдать всех. Нерационально. У вас будет густо, а у меня пусто. А потом наоборот. Что хорошего?
Логично! Вот и пускай берет себе Гринина.
— Вы ко мне пойдете, молодой человек, — решительно сказал Чуднов.
Он смотрел на меня. Все, кажется, смотрели на меня и ждали, что я скажу. «Кто-то должен уступить», — подумал я. Захаров не уступит, Гринин, наверно, тоже. Значит, уступить должен я. Другого выхода нет.
— Пойду к вам, — сказал я.
И начал утешать себя, чтобы не было так обидно. Быть в отделении одному даже лучше: больше успею. То, что они будут делить, мне достанется одному. Когда я перейду в хирургическое отделение, все операции пройдут через мои руки, ведь я буду единственным практикантом. Вот тогда-то я и придумаю новую операцию, которую будут потом изучать в институтах. И когда я рассудил вот таким образом, то был даже доволен, что все так хорошо получилось.
Чуднов тоже, кажется, был доволен и время от времени одобрительно на меня поглядывал и улыбался одному мне заметной улыбкой. Эта улыбка как бы говорила: «Ну, вот и нашелся человек, который хочет начинать практику у меня, так что вы, Золотов, не очень-то задирайте нос».
Чуднов записал на листе бумаги наши фамилии; причем, когда я назвал свою, он усмехнулся.
Потом Чуднов спросил, где мы хотим столоваться, в больнице или в городе. Мы согласились столоваться в больнице, так как в городских столовых, наверное, слишком много времени тратится на ожидание.
— Да! Относительно акушерства… Впрочем, подождем, скоро заведующий отделением вернется из отпуска.
— Все, что ли? — спросил Золотов, посмотрев на Чуднова.
— Как будто все, Борис Наумович, — сказал Чуднов, завинчивая авторучку.
— Кто со мной? — спросил Золотов, вставая.
Захаров и Гринин подошли к нему.
Уходя, Захаров бросил мне взгляд, словно говоря: «Ничего, ничего! Главное — не теряться. Все начинается не так уж плохо».
Мне было немного грустно оставаться одному, без Захарова, к которому я успел привыкнуть. Я сидел на кушетке и смотрел на длинный маятник часов, когда резко зазвонил телефон. Чуднов взял трубку и минуты две слушал. Потом положил трубку на рычажок и сказал мне, что его вызывают в горсовет.
— Проведите сегодня денек с товарищами. А хотите, познакомьтесь с терапевтическим отделением без меня.
Он говорил так, будто провинился передо мной и теперь извиняется. Мне стало неловко. Я сказал, что лучше пойду к товарищам. Он кивнул, и я выскользнул из приемного покоя.
Гринин и Захаров стояли возле окна в коридоре хирургического отделения и, видимо, кого-то ждали. Вскоре пришел Золотов. Он был чем-то расстроен, но, заметив меня, оживился.
— А вы почему здесь? — обратился он ко мне. — Сбежали из терапии? — Он был и удивлен и обрадован. Ему явно хотелось, чтобы я сбежал.
Я объяснил ему. И он, кажется, остался не совсем доволен.
— Ну, пошли, — сказал он, глянув на ручные часы.
Мы пошли по коридору.
— Весь первый этаж мой. Вверху — все прочие.
Подошли к белым дверям. Золотов распахнул их, посмотрел на Гринина и сказал:
— Ваша палата. Девять коек.
Гринин благодарно улыбнулся.
Не знаю, о чем думал он в эти минуты, но если бы эту палату отдали мне, я, кажется, закричал бы от радости. Ведь в клинике нам давали курировать лишь по одному больному, а здесь сразу девять человек. Если судить по его виду, он был рад. Он упорно сгонял со своего лица улыбку, а она прорывалась. Из-за этого у него был довольно глупый вид.
Золотов обвел взглядом больных. Некоторые из них лежали, укрывшись одеялами, другие сидели на кроватях; все в каком-то тревожном ожидании смотрели на заведующего.
— Ваш новый доктор, — сказал им Золотов и рукой показал на Гринина. — Прошу любить и жаловать.
Больные перевели взгляд на Гринина. Еще бы — новый доктор! Как не посмотреть! Но, говоря откровенно, я не уловил в их взглядах энтузиазма.
Мы вышли в коридор.
Золотов прикрыл за нами дверь — мы сами не догадались этого сделать — и, глядя на Гринина, сказал:
— Итак, товарищ студент, вы прикрепляетесь к Коршунову, моему помощнику. Я отдал вам его палату. По всем вопросам обращайтесь к нему. Ну, а если будет особая надобность, можно и ко мне. — Он поднял вверх указательный палец.
Как я заметил позже, этим жестом он подчеркивал значительность того, о чем говорит. И еще я заметил, что когда он говорит, то прислушивается к собственному голосу. Сейчас Золотов смотрел на Гринина взглядом экспериментатора.
А Гринин стоял, оцепенев, прикусив губу.
— Что с вами? — спросил у него Золотов. — Случайно, не аппендицит?
— Совсем другое, — ответил Гринин, не поднимая глаз.
— Значит, вы не больны?
— Я здоров.
— Превосходно. Пошли!
Одну палату мы миновали и остановились у дверей следующей. Золотов повернулся к Захарову.
— Вам отдаю свою палату. — Согнутым указательным пальцем он тихонько постучал по двери. Фамилии Захарова он не назвал, как не назвал до этого и фамилии Гринина. — Запомните: завтра будем оперировать. Готовьтесь. Советую почитать об аппендицитах. — И он ласково улыбнулся Захарову. — Познакомьтесь с людьми, с историями болезней. Скажете сестре, что я велел вам дать. Вопросы есть?
— Вопросов нет, — ответил Захаров.
Золотов торопливо пошел по коридору. Мы следили за ним до тех пор, пока он не вошел в какую-то дверь налево. Позже я узнал, что там была операционная.
Мы стояли у окна.
— Жутко не повезло, — сказал Гринин. — Я хотел только к Золотову, из-за этого и поехал сюда… А ты счастливчик, Колька. Ты уже успел чем-то ему понравиться. — Он коротко глянул на Захарова. — Чему меня научит какой-то Коршунов, если он сам три года назад окончил институт? Не для этого я сюда ехал.
— Можем поменяться, — предложил Захаров. — Возможно, Золотов удовлетворит нашу просьбу.
— Теперь уже неловко. Он и больным объявил. — Гринин вздохнул. — И зачем я поехал в эту больницу?
За окном лил дождь. Земля под окнами была совершенно черная, и на этом фоне трава выглядела особенно свежей.
Двухметровый дощатый забор, отделявший больничный двор от парка, и комли сосен во дворе, и даже телеграфные столбы почернели. Сосны чуть покачивались на ветру, словно раскланивались друг с дружкой. Они беспрерывно раскланивались, будто играли. Глядя на них, мне стало весело. На меня дождь никогда не наводил хандру. Я любил всякую погоду, потому что и в дождливой и в ясной есть свои прелести.
— Умрешь от такой погодки, — проговорил Гринин.
— Еще никто не умирал, — сказал я.
— Вот что, пойдемте знакомиться с больными, — предложил Захаров. — Никто не сделает этого за нас.
Мы уже собрались идти, но увидели в конце коридора бегущую сестру. По ее напряженному взгляду я почувствовал, что она бежит за нами. Видно, что-то стряслось, раз мы оказались нужны.
— Борис Наумович зовет. Скорее в операционную! — сказала она, запыхавшись, и положила руку на сердце.
Сестра была очень курносая; впервые я видел нос, который был хуже моего. Но сестре давно перевалило за тридцать, и красота теперь была ей ни к чему.
Мы побежали в конец коридора.
Открыли одну дверь, вторую, — здесь! На операционном столе лежало что-то окровавленное. Не сразу я догадался, что это человек. Пострадавшему переливали кровь.
Золотов стоял возле больного и считал пульс.
— Шок, — сказал он.
Я сразу же вспомнил классическое описание шока, которое дал Пирогов. Я знал его на память, слово в слово. И начал вспоминать, что нужно делать, чтобы вывести человека из шока. Золотов прервал мои мысли.
— Безнадежен — сказал он, сняв свою руку с пульса больного, и пошел к раковине мыть руки.
— Операции не будет? — несмело спросил я, еще полминуты назад уверенный, что операция будет обязательно.
— Нет смысла, — ответил Золотов.
— Почему? — спросил я снова. Мне было неясно. Разве я не могу спросить?
— Он умрет через полчаса, — сказал Золотов, глядя на меня.
Мне показалось, что ему не нравятся мои вопросы. Но ведь я на практике, и я обязан спрашивать как можно больше обо всем, что мне непонятно, и я спросил:
— Почему он должен умереть?
— Лихачество и сто граммов. Разве не слышите, как от него несет?
Я склонился над пострадавшим и без труда уловил запах водки.
— Безнадежен, — повторил Золотов, вздохнул, покачал головой. — Наверно, страшно умирать в двадцать лет. Ведь даже глубокие старики хотят жить. А у него вся жизнь была впереди, но, как видите, не смог ее сберечь. Шоферу и мотоциклисту нельзя пить спиртного, а он напился и врезался в поезд… Скорая помощь, больничная помощь ему оказана, больше нам делать нечего. Оперировать? Он умрет прежде, чем мы закончим. Нина Федоровна, — сказал он сестре, — уберите систему. Хватит!
Сестра вынула из вены больного иглу, санитарка отставила к стене систему для переливания крови.
Золотов сбросил с себя на пол халат, резиновые перчатки, клеенчатый фартук и пошел из операционной. Он шел медленно, словно раздумывая, идти или не идти. Через минуту он возвратился и спросил, остановившись в дверях:
— Ну? Чего носы повесили? Приступайте к дальнейшим делам. — И он сделал рукою жест, чтобы мы вышли из операционной.
Мы повиновались.
Недалеко от выхода из вестибюля нас нагнала курносая сестра, та самая, которая позвала в операционную. Она озиралась по сторонам.
— Знаете, что Борис Наумович сказал перед вашим приходом? «Не люблю, — говорит, — смотреть, как умирают люди. А студенты пускай посмотрят, им привыкать надо». Потом он задумался и сказал сам себе: «Не стоит рисковать ради одного процента, особенно когда здесь эти воробьи». И велел позвать вас. Я и побежала… Как вы думаете, что означает «не стоит рисковать ради одного процента»?
Тут все было ясно, и мы сказали ей свое мнение. Вернее, говорил Захаров, а мы поддакивали.
— Вы знаете, ребятки, у меня есть план, — сказала сестра чуть погодя. — Борис Наумович уйдет сейчас в поликлинику, а я сбегаю в терапию, расскажу обо всем Василию Петровичу. Может быть, он согласится.
— Василию Петровичу? — переспросил Захаров.
— Разве вы не знаете? Коршунов Василий Петрович, наш второй хирург.
— Он в терапии? — спросил Гринин.
— Да.
— Можно мне с вами?
— У него пневмония, утром было тридцать восемь.
— Это мой доктор, я прикреплен к нему.
— В другой раз сходите. Вы можете мне помешать.
— Правильно, — сказал Захаров. — Не приставай.
— Может быть, он и согласится. — Сестра нам подмигнула. — А вы поможете. Ну, я побежала.
— Покурить охота, — сказал Гринин, доставая портсигар.
Мы вышли во двор. Воздух был свежий, промытый дождем. Где-то чирикали воробьи. Хриплыми, надтреснутыми голосами пищали их детеныши. Воробьи без конца таскали в клювах каких-то жучков. «Гнезда, наверно, в черепичной крыше», — подумал я. Интересно, согласится ли Коршунов? Если утром было тридцать восемь, то к вечеру может быть и сорок.
Мягко открылась дверь. Золотов в светлом пыльнике и соломенной шляпе прошел мимо, обдав нас запахом духов. Оказывается, и мужчины могут так душиться! Гринин бросил папиросу и посмотрел ему вслед.
Золотов дошел до больничной ограды, потом вдруг остановился и поманил нас пальцем. С чего бы это? Мы подбежали к нему.
— Может, со мной в поликлинику пойдете?
Мы переглянулись. Глаза Гринина спрашивали. Потом он стал смотреть в землю.
— Если можно, с завтрашнего дня, — сказал Захаров.
— Это общее желание или только ваше? — Золотов, улыбаясь, скользил взглядом по нашим лицам.
Из вестибюля вылетела курносая сестра. Дверь, распахнутая ею, с громким стуком ударилась о кирпичную стену. Сестра смотрела на нас. Я не мог догадаться, с чем она пришла от Василия Петровича. Золотов смотрел на нас и на сестру.
— Сегодня мы еще не успели познакомиться как следует с больными и историями болезней, — сказал Захаров.
— Ну что ж, пусть сегодня будет по-вашему. — Золотов кое-как просунул в узкую калитку раскрытый зонт и пошел по асфальтированной улице.
Мы подождали немного, пока он удалится, и бросились к сестре.
— Согласился! — крикнула она и подпрыгнула, как девчонка.
— А температура? — спросил Захаров.
— Тридцать восемь и пять. Но это неважно. Важно, что согласился. Операционная сестра уже все готовит. Пошли!
Мы поднялись по чугунной лестнице на второй этаж и повернули вправо. Сестра открыла дверь одной из палат. У двери стояло кресло на колесах.
Палата была маленькая, но светлая. Одна койка, тумбочка, стул. На койке лежал человек лет двадцати шести. Черные большие глаза настороженно направлены на нас. Лицо красное от высокой температуры. Темные волосы зачесаны назад. Он часто дышал.
— Мы пришли, — сказала сестра.
«Он и сам видит, что мы пришли», — подумал я.
— Кресло, Любовь Ивановна, — сказал Коршунов.
Мы надели на него — по команде сестры синий халат, какие носили больные, и усадили в кресло. Он отвалился на спинку. Мне казалось, что мы поступаем преступно.
«А что, если он мотоциклиста не спасет и сам не выдержит напряжения?»
Трудно было спустить Коршунова по крутой лестнице на первый этаж. Но все же мы справились. И вдруг повелительный женский голос сверху:
— Вы куда везете больного?
Сестра не растерялась:
— На рентген, Екатерина Ивановна.
— Ну, везите, — раздалось сверху.
— Кто это? — спросил я.
— Врач-терапевт, — ответила Любовь Ивановна.
Коршунов улыбнулся. Он еще мог улыбаться.
Пока мы пыхтели, спуская его с лестницы, он ни разу не шелохнулся и все смотрел в потолок своими большими черными глазами. Он сидел в кресле без всякого выражения, словно был уверен, что мы его не уроним. «Спокойный характер», — подумал я.
На хирурга надели белый халат, марлевую маску, шапочку, фартук из клеенки. Не сходя с кресла, он дважды вымыл руки теплым раствором нашатырного спирта. Натянул перчатки. На него надели второй халат — стерильный.
Потом тазы унесли и кресло подкатили к операционному столу, где лежал мотоциклист.
Захаров и Гринин заканчивали мытье рук. Они будут помогать. Так распорядился Коршунов.
Операционная была скромна. Не четыре операционных стола, как в хирургической клинике, а всего один. Да и тот не такой большой. Но так же блещут белизной стены и столики, покрытые простынями. И с такою же придирчивой строгостью поглядывает операционная сестра. Немало я повидал на третьем и четвертом курсах операционных сестер, но такой молодой не видел.
Как и мы, сестра вся в белом. Лишь брови, глаза и верхняя часть носа не прикрыты. У нее быстрые движения и зоркий взгляд. Она проверяет, видимо, в последний раз, все ли инструменты приготовлены.
— Руки хорошенько мойте! — говорит она Захарову и Гринину.
— Осторожнее! Не подходите близко к столику! — это уже мне.
— А я и не подхожу!
— Здесь все стерильное, — говорит сестра.
Будто я сам не знаю!
Я подошел к операционному столу с другой стороны. Лучше быть подальше от этой глазастой сестры. Отсюда тоже хорошо видно.
— Йод! — потребовал Коршунов и бросил на пол ватный шарик со спиртом, которым протирал руки.
Сестра подала палочку с йодом.
Операция началась. Коршунов просил то йод, то новокаин, то пинцет, скальпель или ножницы, то кетгут или шелк. Вскоре он перестал просить, а только протягивал сестре руку, и в ней всегда оказывалось то, что нужно. Он ни разу не выразил неудовольствия.
— Ну как? — шепотом спросила Любовь Ивановна, глазами показывая на сестру.
— Здорово! — сказал я, не скрывая своего восхищения.
— В Москве видали таких?
— Слишком молодая на такой ответственной должности!
— Слишком молодая, слишком красивая, да?
Я покраснел.
— Не слишком заглядывайтесь на нее, она этого не любит, — посоветовала Любовь Ивановна и хитро мне подмигнула.
Я на шаг отодвинулся от нее и затаив дыхание продолжал смотреть на эту необычную операцию. Но я не смог долго пробыть наблюдателем и взял руку больного.
Ведь кому-то обязательно нужно стоять на пульсе. Проморгаешь — и вся операция будет ни к чему. Не случайно в хирургической клинике за пульсом больных всегда следил врач. Я старался так, как только мог. Наверно, Коршунов заметил мое старание и поблагодарил глазами, движением головы. Не надо благодарить, Василий Петрович.
Гринин и Захаров неплохо помогали Коршунову; он говорил им, что делать. Они сшивали кожу и мышцы, а Коршунов указывал, что к чему нужно прикрепить. Оказалось, что у мотоциклиста есть и глаза, и уши, и нос, просто раньше они не были видны, так как кожа лица во многих местах была разорвана и перевернута, и перекручена.
В разгар операции вошла сестра со шприцем в руке и сказала:
— Василий Петрович, время вводить пенициллин.
Я понял, что это сестра из терапевтического отделения.
— Да погодите, скоро кончим операцию.
— Не могу, — ответила сестра.
— Ну, я очень прошу. Еще минут пятнадцать, — взмолился Коршунов.
— Нет.
— Я приказываю.
— Больные не приказывают. — Сестра пошевелила в руке шприц, давая понять, что она спешит. — Готовьтесь.
Коршунов встал, и сестра сделала инъекцию. Какая непреклонная!
— Спасибо, Валя, — сказал Коршунов.
— Пожалуйста, Василий Петрович. — Сестра ушла, высоко неся свою красивую голову.
Я невольно посмотрел ей вслед. В душе смятение. Черт знает что! Сначала одна сестра поразила, а потом вторая, и еще сильнее.
— Перелить кровь, — тихо сказал Василий Петрович.
Ему никто не ответил.
Я не знал, кому адресованы его слова.
— Нина Федоровна, перелить кровь! Вы слышите?
— Слышу, Василий Петрович, — ответила операционная сестра.
Значит, она — Нина, а та — Валя. Хорошо.
— Мы поможем, — сказал Захаров.
— Прекрасно, друзья… А я немножко устал. Даже муха имеет нервную систему… Везите меня в палату… Осталось перелить кровь товарищу… больному…
Коршунов очень ослабел, едва двигал руками и дышал чаще, чем прежде. Он смотрел на нас черными страдальческими глазами и, наконец, закрыл их. Я испугался, подумав, что он умер.
— Быстро, мальчики! — сказала Любовь Ивановна.
Вскоре мы были возле лестницы. Подбежали сестры, санитарки, ходячие больные; при их помощи мы, как перышко, внесли кресло с Василием Петровичем на второй этаж. Я помогал Любови Ивановне уложить его в постель. Он весь горел, лицо ярко-красное, в капельках пота. Я попробовал пульс — слабый. Глаза не открывает и не отвечает на вопросы. Сестра позвала врача Екатерину Ивановну. Она тотчас пришла, худенькая старушка со сморщенным личиком. Села прямо на койку и начала выслушивать трубочкой грудь Василия Петровича.
Любовь Ивановна кивком головы показала, чтобы я вышел к ней в коридор.
— Как вы думаете, Михаила Илларионовича нужно поставить в известность? — спросила она у меня.
— Нужно, — сказал я.
Мы пошли в ординаторскую, и Любовь Ивановна позвонила в горсовет. Чуднова не хотели звать к телефону, так как шло заседание. Но потом все же позвали, и через десять минут он приехал в больницу на машине первого секретаря горкома.
— Как дела, Василий Петрович? — спросил Чуднов.
Но Коршунов не ответил и ему. Ни на этот вопрос, ни на все другие.
Всю ночь ему делали инъекции пенициллина, стрептомицина, камфары, вливали глюкозу, давали вдыхать кислород. Я сидел с Чудновым у его постели.
С вечера Чуднов отсылал меня домой, но я всякий раз отнекивался, и потом он перестал настаивать.
Несколько раз за ночь я спускался в хирургическое отделение, дважды мы спускались вместе с Чудновым: мотоциклист Лобов оставался в тяжелом состоянии.
— А что, если они оба не дотянут до утра? — спросил у меня Чуднов, когда мы вышли из палаты в коридор.
Я не знал, что ответить, и только пожал плечами.
— К сожалению, и в медицине бывают неожиданности, — сказал он. — Кажется, делаешь все, а вот не помогает.
Через какой-нибудь час мне снова захотелось проведать Лобова. Я сказал об этом Чуднову и вышел. Я не знал, что как раз в это время Золотов приходит на вечерний обход.
Только я спустился в хирургическое отделение — встречаю в коридоре Любовь Ивановну.
— Вы к Лобову? — спрашивает. — Сейчас вместе пойдем смотреть. А потом не уходите, хорошо? — И крепко сжала мою руку. — Сейчас будет такое!..
Из ординаторской в прекрасно отутюженном, накрахмаленном халате вышел улыбающийся Золотов. Заметив меня, спросил:
— Вы еще здесь?
— Здесь, — ответил я.
— Вы преуспеете на практике, если целыми днями будете находиться в больнице. Похвально. — И, вдруг забыв обо мне, он пошел с сестрой по палатам.
Любовь Ивановна поманила меня пальцем. Я пошел вслед за ними. Когда мы вошли во вторую палату, Золотов внезапно помрачнел и спросил:
— Что за больной?
Любовь Ивановна молчала.
— Поступил без меня?
— Еще при вас.
— Фамилия больного?
— Лобов.
— Лобов Матвей Александрович? — спросил Золотов.
О! Оказывается, у него прекрасная память на фамилии!
— Да, это он. — сказала Любовь Ивановна. — Лобов Матвей Александрович.
Казалось, Золотов смотрел на нее, ничего не понимая. Загорелое лицо его побледнело. Любовь Ивановна рассматривала ногти на своих коротких, припухших в суставах пальцах… Кожа на пальцах шелушилась. Когда часто моешь руки, кожа обычно начинает шелушиться.
Прошло несколько томительных мгновений.
Наконец Золотов спросил тихо, очень тихо и корректно:
— Кто оперировал?
— Василий Петрович.
Золотов отвел взгляд от Любови Ивановны и взял руку больного. Пощупав пульс, поднял одеяло и осмотрел повязку на правой ноге.
Потом Золотов велел сестре идти за ним.
Любовь Ивановна делала мне знаки, чтобы и я шел за нею.
У дверей ординаторской Золотов остановился, обернулся и, обращаясь ко мне, сказал:
— Вы свободны, уважаемый. Благодарю, что сопровождали меня на обходе.
Он вошел в ординаторскую. Я не знал, что мне делать, беспомощно смотрел на сестру.
Любовь Ивановна, на мгновение задержавшись в коридоре, сказала с мольбой:
— Идите со мной! Он убьет меня одну.
Я шагнул в ординаторскую вслед за Любовью Ивановной, осторожно прикрыв за собою дверь.
Золотов стоял ко мне спиной и смотрел на дождливый вечер за окном. Любовь Ивановна прошла в конец длинной комнаты и остановилась у стола. По ту сторону стола был Золотов.
— Что вы наделали? — не оборачиваясь, спросил он. — Я спрашиваю, что вы наделали?!
Любовь Ивановна молчала, рассматривая ноготь на своей руке.
— Кто разрешил? Как вы посмели?! — закричал Золотов и затопал ногами.
Он раздражался все больше оттого, что она молчала.
— Отвечайте! Я вас спрашиваю!
— Я здесь непричастна, Борис Наумович.
— Кто сказал Василию Петровичу?
Любовь Ивановна молчала, опустив голову. Она изучала во всех тонкостях ногти на левой руке.
— Отвечать! — вдруг вскрикнул Золотов. — Я спрашиваю вас, а не стену.
— Постыдились бы студента, — тихо сказала Любовь Ивановна.
— Какого студента? — Он обернулся, увидел меня. — Зачем вы здесь?
Мне нечего было ему сказать, и я стоял, переминаясь с ноги на ногу.
— Уходите сейчас же! Немедленно!
Но я решил не уходить до тех пор, пока не попросит Любовь Ивановна.
— Это вы его затащили! — Золотов нацелил на сестру, словно пистолет, указательный палец. — Ваша работа. Вы есть язва, самая настоящая хирургическая язва на здоровом теле отделения.
Он посмотрел в темнеющий вырез окна и прибавил:
— Можете идти.
Мы вышли вместе. В коридоре на потолке уже горели молочные шары, было тихо и спокойно. Я вздохнул, словно выбрался из темного подземелья. У Любови Ивановны было красное, будто распухшее и воспаленное лицо. Она спросила:
— Ясно?
— Ясно, — ответил я.
Она вздохнула и, еле волоча ноги, ушла в санпропускник.
В коридоре было душно, и я решил выйти во двор.
В вестибюле я встретился с Захаровым и Грининым. Они возвращались из столовой.
— Мы подзаправились, — сказал Захаров. — Теперь твоя очередь.
Я отпросился у Чуднова и тоже пошел в столовую ужинать и просидел там больше часа. Когда я вернулся, Захаров и Гринин находились во второй палате, у постели Лобова.
Я попросил Захарова выйти на минутку в коридор и рассказал ему о вечернем обходе Золотова, потом поднялся на второй этаж и рассказал Чуднову.
— А что думают товарищи студенты по этому поводу? — спросил Чуднов.
— Я могу сказать только за себя, Михаил Илларионович, — ответил я.
— Хорошо, скажите за себя, Игорь.
На этот раз он не назвал меня по отчеству, наверно, потому, что устал и забыл, что весь день величал нас, как докторов. Мне было приятно услышать простое Игорь, и я выпалил:
— Я бы объявил ему выговор по партийной линии.
Так мне сказал Захаров, когда я описал ему сцену между главным хирургом и сестрой. Я был согласен с ним и поэтому мог сказать от себя.
— О, какой вы скорый на руку, — улыбнулся Чуднов.
Но меня не так-то просто было остановить, если мне хотелось выяснить что-либо до конца.
— Можно мне спросить, Михаил Илларионович? Вы тоже считаете, что талант выше критики?
— Что за идея! — воскликнул Чуднов и осторожно прикрыл толстыми пальцами губы: ночью голос всегда звучит очень громко. — И почему «тоже»?
Я не мог сказать, что эту точку зрения отстаивал Гринин. Захаров тогда на него прикрикнул: «Бред!» — вертикальные морщинки собрались у него на лбу, а Гринин отрезал: «Критика — костыли для посредственности».
— Бред! — услышал я голос Чуднова. — Совершеннейший бред. Талант вне критики обязательно превратится в свою противоположность.
Я снова посмотрел в лицо Чуднову и почувствовал, что мои глаза меня выдают. «Превращение в свою противоположность» всегда было выше моего понимания. Чуднов совсем сощурил глаза, спрятал в ресницах искорки.
— Если не секрет, Игорь Александрович, какая у вас оценка по диамату?
— Четверка, — ответил я.
— Твердая?
— Не очень.
…Коршунов открыл глаза лишь на следующее утро.
— Как дела, Василий Петрович? — спросил Чуднов, увидев, что веки Коршунова чуть-чуть разомкнулись.
— Ничего как будто. А он как?
— Ничего как будто, — словами Коршунова ответил Чуднов.
— Пить хочется, — сказал Коршунов.
Я подал чашку с голубым ободком. В чашке был кисель.
— Ох, как вкусно! Хорошо, что кисель жидкий. Еще.
В это утро мы завтракали уже в больнице.
В терапевтическом отделении была небольшая комната, где завтракали и обедали ходячие больные. В ней стояло шесть квадратных столов, покрытых скатертями, в углу темнел красивый буфет. На окне розовыми огоньками цвели примулы.
Мы завтракали минут за тридцать до завтрака больных. Санитарка принесла с кухни кастрюльку и чайник: «Хозяйничайте». Разливал суп Захаров. Ведь он служил в армии, а там всему научат, даже как стирать белье и мыть полы. После завтрака мы немного распустили ремни и уже собрались идти по отделениям, но вошел Чуднов, спросил, понравился ли завтрак, и потом сказал, чтобы мы немедленно отправились к доктору Вадиму Павловичу в морг.
Сердце мое упало. Я хотел спросить, кого же будут вскрывать, но не спросил. Духу не хватило.
— Маша, покажите докторам морг.
Молодая санитарочка вывела нас через вестибюль на больничный двор. Ветер швырял в лицо водяную пыль, с крыши лились тонкие струйки. Мы трусцой пробежали вдоль длинного больничного корпуса, потом завернули за угол, и санитарка показала рукой на небольшой оштукатуренный домик под черепичной крышей.
— Теперь найдете? — спросила она.
— С божьей помощью, — ответил Захаров.
Наконец мы очутились под крышей. Вошли.
Вскрытие уже началось. Я увидел стол, обитый оцинкованной жестью, и на нем труп мужчины средних лет. Его лицо показалось мне знакомым. Я вгляделся и вспомнил станцию и палисадник.
Врачу патологоанатому Вадиму Павловичу было лет двадцать пять. Он был в халате и длинном, до пола, клеенчатом фартуке. Встретил нас приветливо:
— А, доктора! Пожалуйста, прошу поближе.
Вадим Павлович работал уверенно и быстро: он хорошо знал свое дело. Я подумал, что ему легче, чем тем врачам, которые доставляют ему мертвецов. «Может быть, — подумал я, — отсюда исходит и его уверенность».
Врачу помогал санитар, низенький, толстый, почти квадратный мужчина лет пятидесяти, давно не бритый и не стриженный. В палату такого бы ни за что не пустили.
Мы стояли и смотрели, засунув руки в карманы халатов.
В трахее и бронхах умершего Вадим Павлович нашел кусочки колбасы, капусты, огурца и хлеба. Пахло водкой.
— Ну вот, причина смерти ясна. Не так ли? Изрядно выпил товарищ железнодорожник, аппетитно закусил и заснул. Во сне началась рвота. Он, собственно, и погиб от нее, так как рвотные массы закупорили бронхи и он не мог дышать. Вопросы, ученые мужи?
Вопросов не было. Вадим Павлович, улыбаясь, смотрел на нас. Не знаю, о чем думал он, а я думал о том, что его жизнерадостная улыбка не очень подходила для морга. А он смотрел на нас и улыбался, потому что сам был здоров и весел и еще, наверно, потому, что привык вскрывать трупы. Такова была его специальность.
Когда мы шли по двору обратно, нас по-прежнему поливал дождик. Я думал о жене погибшего и его сыне, мальчике, который пас в дождь корову. Мне очень хотелось увидеть того мальчугана; Я не знал, что ему скажу, но мне хотелось его увидеть.
У меня не было еще ни палаты, ни больных, и я не знал, что мне делать. Нужно найти Чуднова. Я спросил сестру, не знает ли она, где заведующий. Она повела меня по коридору и указала на дверь четвертой палаты.
Я открыл дверь. Чуднов сидел на стуле возле койки, на которой лежала полная седая женщина. Увидев меня, он спросил:
— Пришли? Ну как?
Я не знал, что ответить. В палате были больные, пять человек. Никто из них, поступая в больницу, наверно, не получал гарантию, что не попадет к улыбающемуся доктору в длинном, до пят, фартуке.
— Комментарии излишни? — спросил Чуднов, глядя на меня своими маленькими проницательными глазами.
— Да, — сказал я.
— Палаты у вас пока нет? — спросил Чуднов.
— За этим и пришел, — сказал я.
— Ну что ж, вот и отдадим эту. Будете лечить желудки, сердца и все прочее, а?
Я покраснел так густо, как никогда в жизни. Я мог предполагать, что угодно, но никогда не думал, что могу получить женскую палату. Не могло быть ничего хуже этого.
— Так вы согласны? — спросил Чуднов, сощурившись от улыбки.
Я чувствовал, что пять пар женских глаз смотрят на меня. Не помню, куда смотрел я.
— Ваше слово — закон. Вы главный врач, — сказал я.
— Екатерина Ивановна обещала никому нас не отдавать — ни врачам, ни студентам. Это ее палата, а мы ее подопечные, — сказала одна из больных, по виду учительница.
Она бросила мне спасательный круг, и я был ей благодарен за это.
— Придется подумать, — сказал Чуднов. — Зайду к вам минут через пять. — И, обхватив меня за плечи своей полной теплой рукой, повел к двери.
В коридоре он спросил:
— Напугались?
— Не очень, но все же… лучше иметь дело с мужчинами.
— Вы не женаты?
— Нет, конечно. — Я хотел бы сказать ему, что женитьба вообще не для меня, потому что красивая девушка за меня не пойдет, а некрасивая мне самому не нужна.
Чуднов привел меня в первую палату. Я сразу воспрянул духом, увидев мужские лица, Мужские глаза: они не приводили меня в смущение. Показывая на меня рукой, Чуднов сказал больным:
— С сегодняшнего дня вас будет лечить Игорь Александрович.
Я был благодарен ему за то, что он обошелся без упоминания моей фамилии.
— Игорь Александрович будет работать под моим непосредственным руководством. Он сам будет назначать лечение и сам же будет выполнять некоторые процедуры. Надеюсь, все ясно, товарищи?
— Если под вашим чутким руководством, мы не возражаем.
— Пущай лечит, была бы польза.
— Надеюсь, все будет хорошо, — сказал в заключение Чуднов.
Мы вышли в коридор:
— На новенького больного — он у окна лежит — заполните историю болезни, а на других запишите только дневники. Что будет непонятно, спросите. Меня найдете в отделении или в кабинете главного врача, на первом этаже.
— Хорошо, Михаил Илларионович.
— Да! — спохватился Чуднов. — Все инъекции, вливания, клизмы и прочие процедуры старайтесь делать сами, если даже умеете. Повторение — мать учения. Особенно в нашем деле. Ведь не зря говорят, что врач не, имеет права ошибаться. Согласны?
— Как тут не согласиться! — ответил я.
— Итак, приступайте.
В ординаторской сестра Валя подала мне папку с историями болезней. Папка была потертая, с чернильными кляксами, а внизу была свежеприклеенная белая полоска бумаги с очень красивой надписью «Игорь Александрович Каша».
Валя стояла возле этажерки и, перебирая синие листки анализов, украдкой поглядывала в мою сторону.
— Вы? — Я поднял папку.
— Ага.
— Красиво пишете, — сказал я.
— Ничуть. — Она стояла ко мне боком, в профиль, и я видел, какая она тоненькая и красивая. Носик остренький, очень правильный. Тонкая талия… Нет, такая не для меня!
Сестра пошла к двери, высоко неся голову, и я вспомнил операционную и инъекцию пенициллина, которую она сделала Коршунову.
— Валя, скажите, пожалуйста, пенициллин Василию Петровичу во время операции вы вводили?
Она остановилась возле самой двери.
— Я. А что?
— Просто так.
— Просто так? — переспросила она.
— Мне хотелось знать. Я не видел, чтобы оперирующему хирургу делали инъекции, — сказал я.
— Значит, вы еще многого не видели. — Она скрылась за дверью.
В своей палате я сел к одной из тумбочек и развязал тесемки папки. Бегло просматривал истории болезней. Затем спрашивал у каждого больного о самочувствии, о жалобах. И все это записывал в дневник истории болезни. В палате был один сердечник, один язвенник, один больной с воспалением почек, один с пневмонией. Пятая история болезни была пуста: ни направления, ни диагноза, даже предположительного. Не иначе, тут сам Чуднов постарался, чтобы меня запутать. Лишь в паспортной части я прочел: «Белов Иван Иванович, 49 лет, слесарь, образование 4 класса». Я принес стул и сел возле больного. Красное полное лицо с закрытыми глазами, огромный живот, толстые руки. Ожирение — это было первое, что бросалось в глаза. Он лежал на спине неподвижно — это второе, что я заметил.
— Он все время лежит на спине? — спросил я соседа по койке.
— Да, ему запретили поворачиваться.
«Значит, — подумал я, — подозревают что-то грозное. Инфаркт миокарда?» — мелькнула мысль. Я сосчитал пульс, выслушал сердце и легкие. Больной не просыпался. Потом он открыл глаза и шепотом сказал:
— А, доктор! Ну, как мои дела?
— Мне прежде всего надо поговорить с вами, — сказал я. — Когда вы заболели?
Он, казалось, не слышал моего вопроса. Я повторил:
— Когда вы заболели, Иван Иванович?
— Вчера. Шел с работы часов в десять вечера. Живу я за городом, в поселке, километра три будет отсюда. Стаканчик водки опрокинул в магазине и иду себе как ни в чем не бывало. Километра два прошел, как вдруг что-то ударило в грудь, почувствовал, словно расплавленный металл обжигает. Я аж сел на землю. Руку положил на грудь. И думаю: «Конец мне пришел». А кругом лес, ни одной живой души поблизости. Час сидел или два, не знаю, боль прошла. Я встал и потихоньку побрел дальше. Не сидеть же мне всю ночь в лесу. «Может быть, — думаю, — помощь надо какую-нибудь оказать». Кое-как дошел до дому, очень слабым стал как-то сразу. Есть ничего не хочется. Не впервой выпивал я, надо признаться, люблю, но ни разу со мной такого не случалось. Пришел и лег. Чувствую, опять зажгло каленым железом, левая рука онемела. Говорю жене: «Вызывай „Скорую помощь“». Осмотрел меня — врач он или фельдшер, не знаю, не сказал, в каком он звании, — сделал укол в руку и уехал. В час ночи опять схватило. Дышать стало тяжело. Опять послал жену звонить. Минут через десять приезжают. Уже другой приехал, тоже осматривал, выслушивал. «Забираем вас в больницу. Не возражаете?» Я говорю: «Если нужным находите, везите, жить мне еще хочется, детки малые». Вот привезли, положили.
— Так-так, — сказал я. — Кое-что уже можно предполагать, но нужно сделать анализы и некоторые дополнительные исследования.
— Так разве же я против! Делайте, — сказал он.
Я пошел искать Чуднова. Он был в кабинете главного врача. Возле кабинета ждали приема четыре человека, но я, пользуясь тем, что был в халате, прошел беспрепятственно. Вошел и остановился, ожидая, пока Чуднов освободится.
Женщина со слезами на глазах просила пропустить ее к сыну, с которым вчера случилось несчастье. Он поехал на мотоцикле и разбился.
— Вы подумайте, доктор! Мальчик в двадцать лет потерял ногу, — говорила она. — А Золотов, ваш заведующий, этого не понимает, не пускает к сыну. Я не могу ждать воскресенья.
— Ничего пока вам не обещаю, — сказал Чуднов. — Мне нужно увидеть, в каком состоянии ваш сын, и нужно поговорить с заведующим отделением. Прошу вас посидеть возле кабинета… Слушаю вас, Игорь Александрович.
Я сказал, что у Белова, наверно, инфаркт миокарда. Надо бы снять электрокардиограмму. Чуднов одобрительно кивнул и придвинул мне листок бумаги. Я написал направление, он прочел, вычеркнул половину слов. Я переписал. Он снова прочел и сказал:
— Вот теперь понятно и нет лишнего. В кабинете будете — наблюдайте, Игорь Александрович, как там все делается.
Я рассказал Чуднову, чем думаю лечить Белова, если диагноз подтвердится. Чуднов согласился со мною.
— Первое впечатление о вас у меня хорошее, — сказал он. — Но не зазнавайтесь.
Я был на седьмом небе. Первая похвала была приятна и ко многому обязывала.
В сестринской я нашел Валю, она сливала в раковину воду из стерилизатора.
Я спросил, где находится электрокардиографический кабинет. Она сказала. И вдруг спросила:
— А направление подписано врачом?
— Я подписал. Думаете, я расписываться не умею?
Она засмеялась. Щеки у нее были румяные, а кожа нежная, как у маленьких детей.
— Но вы же еще не врач.
— А я сам буду снимать ЭКГ!
— Желаю вам успеха, Игорь Александрович. — Она поджала губки, улыбаясь.
В конце коридора на последней слева двери надпись под стеклом: «Кабинет функциональной диагностики». Я постучал и вошел. За столиком сидел врач лет сорока в распахнутом халате. У него была широкая грудь и массивное лицо. Он прочитал направление, подписанное Чудновым.
— Очень хорошо, садитесь. Сейчас сделаем.
Он спросил, как меня зовут.
Я сказал свое имя-отчество и спросил, как зовут его. Он назвался Леонидом Мартыновичем.
— Вас интересует, как снимается ЭКГ?
— Даже очень, — сказал я.
Мы пошли в палату к Белову, захватив с собой электрокардиограф.
Минут через десять мы возвратились в кабинет. Леонид Мартынович погасил свет и начал проявлять пленку. Потом он повесил ее на веревочку сушиться и стал расшифровывать — пока для себя. Я тоже смотрел на зубцы. Наконец я услышал голос Леонида Мартыновича:
— Все ясно… Вы что-нибудь понимаете в этом, Игорь Александрович?
Кажется, я начинал уже привыкать, что меня все назойливо величают по всей форме. Но я не знал, что он будет проверять мои знания, и, прежде чем ответить на вопрос, снова и снова вглядывался в ленту, в острые и тупые зубцы.
— По-моему, это передний инфаркт, — сказал я.
— Правильно! — Леонид Мартынович смотрел на меня с удивлением.
Я не мог понять, чем это вызвано.
— Вы из какого института? — спросил он.
— Я учился у Владимира Никитича.
— А! Знаю. Он научит.
Я вспомнил, как Владимир Никитич выгонял меня из кабинета на экзамене.
— Я тоже у него учился, — сказал Леонид Мартынович, — а позже окончил ординатуру, но уже, правда, в другом учреждении. — Он посмотрел на меня с уважением. — Вот вы еще студент, а уже разбираетесь в этих зубцах, а из наших шести терапевтов лишь один Михаил Илларионович умеет читать ЭКГ. Я говорю терапевтам: «Каждый из вас обязан знать электрокардиографию, согласен с вами заниматься». Но у них, видите ли, нет времени. Как это вам нравится? Нет времени учиться!
В ординаторской меня подозвал Чуднов.
Развернув историю болезни Белова, он сказал мне:
— Читал, понравилось. Подробно записали и, я бы сказал, толково. Скажу вам по секрету: я был бы счастлив, если бы наши врачи-терапевты могли так писать истории болезни. Сегодня я их соберу и приведу в пример вашу историю болезни. Пусть у студента поучатся, ничего. Может быть, кто-нибудь из них покраснеет.
Мне было неловко. Меня хвалили за весьма посредственную историю болезни. Ассистент, который вел нашу группу в клинике, не поставил бы мне за такую работу и тройки. От нас требовали такой подробности в описании, что менее чем на пятидесяти страницах и не уложишься. История болезни была похожа по объему на монографию. Но за целый семестр мы писали одну историю болезни. Только одну!
Но как там, внизу, идут дела?
Я нашел своих товарищей в операционной. Захаров ассистировал Золотову. Это было первое, что я заметил. Гринин стоял и, перегнувшись в поясе, заглядывал туда, где двигались пальцы хирургов.
Увидев меня, Золотов нахмурился и хотел что-то сказать, но, видно, раздумал. У сестры я спросил, какую делают операцию. Она сказала, что аппендицит. Я спросил, первая это или вторая операция. Она сказала, что вторая.
Золотов работал спокойно, размеренно, без лишних движений. Если бы я мог так работать! Я не мог отвести глаз от его артистических рук. Вскоре больного увезли, и на каталке привезли девушку лет двадцати. Она очень стеснялась нас. Я отвернулся. Мне было ее жалко. Но вот девушку покрыли простыней, и началась третья операция.
— Борис Наумович, разрешите мне. — Это сказал Захаров.
Золотов недобро улыбнулся. Не переставая улыбаться, он подал ему палочку с йодом и указал на живот больной: дескать, смазывай. Потом он поднял указательный палец и покачал головой.
— С первого дня?.. Поспешность к добру не приводит, особенно в нашей специальности. Товарищ студент, вы пинцет не так держите… Вот-вот, теперь правильно. Его нужно держать, как перо… Ну, как, Танечка, не очень больно? — обратился Золотов к больной.
Еще раз я заметил, что у Золотова прекрасная память, но нас, студентов, он умышленно не называл ни по имени, ни по отчеству, ни по фамилии.
— Что вы молчите, Таня? Больно или нет?
— Терпимо, Борис Наумович.
— Вот и хорошо, детка. Скоро кончим.
Захаров промокал марлевыми салфетками кровь, отрезал ножницами шелковые нити, держал крючки. Уши у него были красными.
Операция кончилась через двадцать минут. Больную увезли. Золотов снял с рук резиновые перчатки.
— И все-таки вы не правы, — сказал Захаров. На лбу его вдоль бровей собрались тонкие морщинки.
— Запомните, товарищ: наши больные не институтские собачки, предназначенные для опытов. До вас доходит эта мысль?
— Не совсем, — ответил Захаров. Он смотрел в спину удаляющегося Золотова.
— Не отчаивайтесь, — сказала операционная сестра, сортируя инструменты.
— Почему? — спросил Гринин.
— Это еще только цветики.
— Вы слышите? Она довольна, — сказал Гринин, глядя на нас.
— Еще бы!.. Не завидую больным, которые попадутся к вам в руки. Вы же студенты!
— Интересная дама, — сказал Захаров, — только… нервы никуда.
— Что вы в нервах понимаете? Вы даже не проходили нервных! — И она вдруг рассмеялась громко, на всю больницу. У меня даже в ушах зазвенело. — Желают оперировать!? Вы же студенты!
— Ну и что ж, что студенты? Мы хотим оперировать.
— Многого захотели! Пинцет держать не умеете.
Я присмотрелся к ней. Да, это была вчерашняя операционная сестра Нина Федоровна Веренева, помогавшая оперировать мотоциклиста Лобова. Высокая и стройная, с черными бровями, чем-то она напоминала Валю. Но почему Нина сегодня такая злая?
Захаров сбросил с себя халат, перчатки, маску и вышел в предоперационную. Мы за ним.
— Возмутительно! — Гринин нервно жестикулировал. — Зачем мы сюда приехали? Чтобы опять смотреть? Мне надоело быть зрителем! Я хочу работать! — Гринин долго еще говорил в этом же духе.
Захаров смотрел в угол. В этом углу не было решительно ничего интересного. Это был такой же угол, как и все другие углы операционного блока, — пустой и чистый, без лишних предметов, но Захаров смотрел туда, и морщины на его лбу начали расправляться, и уши не были уже такими красными.
— Я уже не злюсь на Золотова, — вдруг сказал он. — Уже совсем не злюсь. И вот почему. Не следовало мне в первый же операционный день требовать самостоятельной работы. Золотов видит нас в операционной впервые. Откуда он знает, на что мы способны? Может ли он доверить незнакомому студенту жизнь человека?.. Правильно поступил Борис Наумович, как настоящий, вдумчивый врач. — Захаров взглянул на Гринина и потом на меня.
— Пожалуй, ты прав, — быстро сказал Гринин.
— Да, твоя просьба была, конечно, преждевременной, — согласился и я.
Вбежала Валя и сказала мне:
— Вот вы где! Вас срочно зовет Михаил Илларионович.
Она заглянула в операционную и, увидев сестру, обрадовалась:
— Ниночка? Ты? — Она проскользнула в операционную, прикрыла за собой дверь, потом вышла и сказала мне: — Вы еще здесь? Чего же вы не идете? Он ждет вас.
— Зачем?
— Он просил позвать, а зачем — не знаю.
Я быстро пошел вслед за Валей. У нее красивая походка. И тонкая талия.
— Ну, где же он? — спросил я, идя за Валей. Нехорошо долго идти молча.
— Был в ординаторской.
Я приоткрыл дверь. Чуднов сидел у окна и курил.
— Куда это вы запропастились?
— В операционную заглянул. У товарищей первый операционный день.
— Так. Садитесь, Игорь Александрович. Вы знаете, зачем я позвал вас? Нет? А вот зачем: сожалею, что перехвалил вас. Видимо, я потерял чувство меры и слишком рано стал хвалить, а это вредно. Скажите, назначения вашим больным выполнены?
— Наверно, — сказал я, пожимая плечами. Я не знал, выполнены они или нет.
— А знаете, кому что назначено?
— Не совсем, — сказал я. — Не успел запомнить как следует.
— Так. Верю. Сразу запомнить трудновато. А вы взяли бы истории болезни и по ним проверили, что больные получили и что нет. Учтите: я строго-настрого приказал сестрам не делать вашим больным ни одной процедуры. Они будут раздавать лишь порошки и пилюли.
— Понимаю, — сказал я.
— Пока не выполнили назначений, из отделения ни шагу. Выполните — пожалуйста, можете сходить к товарищам и даже в пивную. Но прежде всего дело. А то что же получается? Больные ждут, беспокоятся, нервничают, а мы о них забыли. — И очень громко он крикнул: — Валентина Романовна!
Валя вбежала так быстро, словно стояла за дверями.
— Обеспечьте Игоря Александровича шприцами и немедленно приступайте к инъекциям. Поучите, если он… не очень ловок.
Мог ли я кому-нибудь признаться, что за четыре года учебы не сделал ни одной инъекции? И я такой был не один. Это, видно, дошло до дирекции, и с прошлого года ввели практику и на младшем отделении. Студенты первого и второго курсов дежурили в больнице, помогали кое в чем сестрам. Нам же, третьекурсникам, уже разрешалось производить желудочное зондирование, делать инъекции и вливания и прочие более или менее мудреные вещи.
В прошлом году и я кое-что делал. Но надо признаться, меня всегда влекло к чему-то более значительному… Я почти овладел такими сложными манипуляциями, как гастроскопия и бронхоскопия. Я не зря говорю «почти», потому что самостоятельно проделать такую манипуляцию мне не давали.
Строгости на дежурствах не было никакой, и, если удавалось, я пробирался в операционную. Несколько раз я ассистировал на операциях; причем однажды ассистировал профессору, и за кое-какие инструменты мне пришлось подержаться.
Я был не первым, а четвертым ассистентом. Но ведь и четвертый ассистент — нужное лицо, без которого профессор не мог обойтись.
Меня всегда манили сложные вмешательства, а какими-то инъекциями я не интересовался. Инъекции… Ну что там сложного? Набрал в шприц лекарство и впустил его через иглу больному. Это всегда сможешь, если хоть раз видел, как это делается. Особой подготовки здесь не нужно. С такими мыслями я приходил на вечерние дежурства в хирургическую или терапевтическую клинику, и, когда дежурство заканчивалось, я с чистой душой раскрывал перед медсестрой листок учета, где она расписывалась. Каждое дежурство приносило что-то новое, полезное, особенно тем, кто не только смотрел, а и делал что-то сам. Я всегда старался чем-то заняться в операционной. Если не ассистировал, то помогал давать наркоз, определял группу крови, а потом помогал переливать кровь. В терапевтической клинике порой бывало скучновато, и я однажды вместо нее пошел в хирургическую, а подписывать понес в терапевтическую. Сестра отказалась и повела меня за руку к дежурному врачу. Но сил у нее было меньше, и она махнула на меня рукой. «Подпишите, Сима, ну что вам стоит?» Я уговорил ее лишь на четвертый день, перед самой сдачей листка учета в деканат. Этот случай я не забуду, если даже буду жить сто шестьдесят лет. Спасибо еще Симе, что она смолчала, и никто не узнал о моей проделке. Неприятностей могла быть уйма. Я, кажется, впервые понял, что студент должен идти не туда, куда ему хочется, а как указано в графике, хотя график, может быть, нуждается в улучшении… студентами. Но ведь директору не прикажешь.
И Чуднову не прикажешь.
В сестринской комнате Валя показала мне на стерилизатор, стоявший на электроплитке. Он вздрагивал от бурлившего в нем кипятка. Валя протянула мне полотенце.
— Теперь я буду только смотреть, — сказала она. — Так распорядился Михаил Илларионович.
— Кому что вводить? — спросил я. Наверное, выражение моего лица было не совсем обычное, потому что Валя рассмеялась и звонко сказала:
— Доктор должен знать.
Я слил воду в раковину, обжигая паром руки. Валя смеялась. Я был весь мокрый, будто паром обдало не лицо, а всего меня, с головы до ног. Я даже вздохнул глубоко.
— Вздыхаете? — спросила Валя.
Я не ответил и только почувствовал, что начинаю сердиться.
Поскольку сам я никогда не выполнял эту работу, я стал вспоминать, что делали в таких случаях сестры в клиниках, что делала Валя. Я снял со стерилизатора крышку и положил ее рядом со стерилизатором на столик. Потом я нацелился рукой на шприц, но возглас Вали заставил меня отдернуть руку.
— Ай! А пинцет зачем? Берите пинцетом.
Я заметил в стерилизаторе пинцет, он торчал и словно просился в руки. Я взял его, подцепил им шприц и положил шприц на опрокинутую крышку стерилизатора, затем захватил поршень и тоже положил на крышку. Потом взял пинцетом иглу и опустил рядом со шприцем. Валя молча наблюдала за мной.
Все оставив, я пошел в ординаторскую и просмотрел назначения в историях болезней. Иванову с пневмонией — сто тысяч единиц пенициллина, Руденко, страдающему нефритом, нужно ввести глюкозу.
Я возвратился в сестринскую, взял пинцетом шприц. В какую-то долю мгновения он выскользнул из пинцета и упал на пол, расколовшись на две части. Я посмотрел на Валю, она не улыбалась.
— Берите другой. Я тоже раньше разбивала, — проговорила Валя.
Пока я выкладывал из стерилизатора второй шприц. Валя молчала, но когда я снова хотел подхватить шприц пинцетом, чтобы вставить в него поршень, она вскрикнула:
— Опять разобьете!
— А как же? — Я смотрел на нее. Она была моим учителем и судьей.
— Руками берите. Теперь можно.
Я взял руками две части шприца и сложил их. Хотел и иглу взять руками, но Валя предупредила:
— Нельзя! Соблюдайте стерильность.
Я взял иглу пинцетом и насадил ее на шприц.
Что же дальше? Я спросил, где пенициллин. Валя из стеклянного шкафчика достала флакон пенициллина. Мне хотелось оказать, что пенициллин в такой жаре не хранят, но, учтя обстановку, я воздержался от нравоучений. Я снял колпачок, прикрывавший резиновую пробку, и хотел уже прокалывать иглой пробку, но услышал голос Вали:
— Пробочку протрите спиртом.
Я протер пробку спиртом, проколол ее иглой. И услышал, что Валя смеется.
— Совсем не так. Преждевременно полезли в бутылку. Там же порошок!
Я смотрел на нее. Она достала из кармана халата ампулу с какой-то прозрачной жидкостью и сказала!
— Пенициллин ведь растворить сначала нужно.
Вид у Вали уставший, рассеянный. Она смотрит на меня. Протягивает ампулу.
Я размахнулся и хотел разбить ампулу пинцетом, но Валя сказала, что ампулу надо сначала протереть спиртом, а потом разбивать. Я смочил ватку спиртом из пузырька и начал протирать ампулу. Подойдя к тазу, уже замахнулся, чтобы разбить, и снова услышал:.
— Подождите, Игорь Александрович.
Я смотрел, не понимая: что еще? Но уже не сердился.
— Прежде чем растворять пенициллин, нужно знать, чем растворяете. Прочтите, пожалуйста, что написано на ампуле.
Я прочел: «0,5 % раствор новокаина».
— Вот теперь можете разбивать.
Разбил ампулу, набрал в шприц новокаина и начал снова прокалывать резиновую пробку флакона. Поршень норовил выскочить из шприца. Я боялся вывести из строя второй шприц и взглянул на Валю.
— Пальчиком, вот этим пальчиком придерживайте поршень.
— Неудобно, — сказал я.
— Привыкнете, и будет удобно.
Наконец я проткнул пробку и впустил во флакон новокаин. Желтый порошок пенициллина заметно таял.
Я оставил в шприце сто тысяч единиц и направился к двери, к Иванову. Валя меня остановила.
— Надо сменить иглу, эта уже не совсем стерильная.
— Боже! — вырвалось у меня.
— А я думала, вы неверующий, — сказала Валя.
— Ну, конечно! Вы правильно думали. Все комсомольцы неверующие.
Сменил иглу. Это была довольно толстая игла.
— Что будете вводить? — строго, пожалуй, чуть насмешливо спросила Валя.
Я почувствовал, что делаю что-то не так.
— Что будете вводить?
— Пенициллин Иванову, — осторожно и неуверенно ответил я Вале, словно это была не Валя, а Чуднов.
— Зачем же такая толстущая игла? Пенициллин не глюкоза, он пойдет и в тонкую, и больному не так больно. Вам пенициллин такой иглой делали?
— Нет. Вообще не делали.
— А зря!
Я не знал таких тонкостей, но виду не показал, пусть она думает, что я ошибся просто так, случайно. Насадил на шприц тонкую иглу и направился к двери, не уверенный, что Валя не остановит меня еще раз. Пот градом катился по моему лицу. Рубаха прилипла к — спине.
Шел к двери и ждал возгласа. Валя молчала. Я благополучно достиг двери, толкнул ее ногой.
Валя следовала за мной по пятам.
Иванов спал. Я отвернул одеяло, спустил с ягодицы кальсоны и хотел протирать кожу, но Валя сказала, что сонному человеку делать инъекцию не рекомендуется: он может испугаться, дернуться, игла может сломаться. Она разбудила его.
Я начал протирать кожу на ягодице, вспоминая, в какое место надо вкалывать иглу. «В наружный верхний квадрант», — звучал в моих ушах голос преподавателя. Протирал кожу и думал, что все это было лишь подготовкой к инъекции, а сама инъекция должна совершиться вот сейчас. Сердце мое замерло. Я приставил иглу к коже больного и стал давить. Игла не шла в ткани, и я начал давить сильнее. Больной застонал.
— Чем это вы? Гвоздем?
Меня ударило в пот.
Неужели не смогу? И стал давить еще сильнее. Игла проколола кожу и словно наткнулась на что-то. Я умоляюще смотрел на Валю. Она шепнула:
— Быстрее!
Я ткнул быстрее, до основания иглы. Уже нужно было вводить пенициллин. Я взглянул на шприц и тут заметил, что пенициллина в шприце не было.
Вале хотелось рассмеяться, я видел это по ее озорным глазам, но при больных она не могла разрешить себе такую вольность. Я понял, что разлил пенициллин неосторожными движениями.
— Нужно снова набрать, — сказала Валя.
Мы возвратились в сестринскую комнату, и я под неусыпным наблюдением Вали набрал в шприц пенициллин и сменил иглу. Когда мы шли по коридору, Валя говорила:
— Нужно инъекцию делать молниеносно, чтобы больной не успел даже подумать. — И она показала рукой, как быстро это нужно делать.
Мы вошли в палату. Иванов смотрел на меня как на палача.
— Вы, пожалуйста, сами, Валентина Романовна. Боюсь докторского укола.
Валя сказала Иванову, что она не имеет права, что так распорядился Михаил Илларионович.
Больной нехотя повернулся на живот. Я протер спиртом кожу, долго прицеливался шприцем и, наконец, сделал укол. Игла беспрепятственно проколола кожу и мышцу, я надавил на поршень, пенициллин в шприце заметно убывал. Весь!
Я почувствовал облегчение. Наконец-то!
В сестринской комнате я плюхнулся на стул, расстегнул ворот рубашки, замахал перед собой папкой: мне недоставало холодного ветра.
Вошла Валя, веселая, сияющая.
— Ну как, Игорь Александрович?
— И не говорите. Легче до Москвы добежать!
Она засмеялась.
— Сколько буду жить, вас не забуду, — сказал я.
— Меня или первую инъекцию.
— Вас, потому что вы меня учили.
— Я только начала вас учить — вернее, поправлять… Теперь давайте глюкозу вводить.
— В вену? — спросил я с ужасом.
— Ну конечно!
— Нет, нет, ни за что! Я уже выдохся.
— Как же мы, сестры, делаем до восьмидесяти инъекций за смену?
— Так это вы, а это я. Когда-то я тоже неплохо делал, но забыл.
— Никогда вы не делали! Никогда! И не говорите того, чего не было. Это вам не идет.
— Раз в жизни хотел покривить душой, и не вышло. Как вы узнали, что я не делал?
— Это сразу видно. Навыки трудно забываются, Игорь Александрович.
Я с улыбкой смотрел на Валю. Какая она проницательная!
— Я не буду делать в вену.
— Тогда идите к Михаилу Илларионовичу. Я за вас делать не буду… Какой же из вас получится врач? Врач должен все уметь, все знать. И, кроме того, должен все испытать сам, прежде чем назначить больному. Он должен принять все процедуры. Он обязан узнавать по цвету, запаху или вкусу любое лекарство. А вы?
— Убедили. Но сначала расскажите, как надо делать. Вдруг я сделаю не так? В институте нам говорили, что внутривенные вливания очень ответственные процедуры и будто бы их должны делать только врачи.
Валя рассказала мне, как нужно делать.
Я набрал в шприц из ампулы глюкозу, и мы пошли в палату. Перед дверью палаты я остановился и спросил:
— Может быть, все-таки вы сделаете?
— Нет, нет! Сами делайте.
Мы подошли к бледному, худому Руденко. Под глазами синие круги. Он был слаб и даже не вставал с постели. Смотрел на меня с недоверием. Он видел, как я делал инъекцию пенициллина его соседу.
Руденко было двадцать шесть лет. Из истории болезни я знал, что он заболел после гриппа, который переносил на ногах. Сейчас в истории болезни написано, что «состояние больного тяжелое».
Валя сказала как можно ласковей:
— Дайте вашу ручку, Митрофан Сидорович.
Он без всякого желания вытащил из-под одеяла бледную, с синими венами руку. Рука была очень тонкая. Даже не видя больного, а только одну его руку, можно было сказать, что этот человек очень болен.
Валя наложила на руку Руденко, повыше локтя, резиновый жгут. Я начал протирать кожу в локтевом сгибе спиртом, когда дверь тихо раскрылась и бесшумными, невесомыми шагами вошел Вадим Павлович, морговский врач. Он взглянул на Руденко, на меня и широко улыбнулся.
— Лечим? Ну-ну… — И ушел.
— Кто такой? — спросил Руденко у Вали.
— Доктор наш.
— По каким болезням?
— О! У нас много разных докторов.
Хорошо, что она так сказала. И еще лучше, что больные не знают всех наших докторов, не знают, для чего каждый из них предназначен.
Валя затянула жгут и попросила Руденко поработать кулачком. Бледные, худые, словно костяшки, пальцы его сжимались в кулак и разжимались медленно, с трудом, как залежавшиеся, несмазанные клещи. Даже эта работа была для него обременительной.
Я решил вводить глюкозу в самую толстую вену. Валя меня не поправляла.
Отнес шприц далеко от руки Руденко и с налету пытался попасть иглой в вену. Валя шепнула мне так тихо, чтобы не мог услышать Руденко:
— Да вы проткнете не то что вену, а всю руку! — Валя улыбалась. У постели таких больных надо побольше улыбаться.
Я стал двигаться осторожнее. И вот в шприце показалась тонкая струйка крови. Я надавил на поршень — глюкоза медленно потекла в вену. Я не спускал глаз с пузырька воздуха в шприце. Не верилось, что он может быть опасен для человека. Остатки глюкозы я оставил в шприце вместе с этим пузырьком.
В коридоре я спросил Валю:
— Так я делал?
— В общем так. Но движения должны быть более плавными. Разве в институте вас совсем-совсем не учили?
— Мы больше теоретики, — сказал я. — Нас теориями да всякими механизмами пичкали. Кто открыл пенициллин? Каков механизм его действия? Не знаете. А каков механизм действия глюкозы? Тоже не знаете?
Валя смущенно пожимала плечами.
— А я это знаю. Все студенты это знают как таблицу умножения. Зато для вас сделать инъекцию или вливание, — пустяк… Да, мы пока больше теоретики. Без практики в вашей больнице нам никак нельзя.
— Ничего, научитесь, — утешила меня Валя.
В сестринской комнате я промыл под краном шприц, иглу и положил их на столик, покрытый подкладной клеенкой. Валя положила их в стерилизатор для кипячения. Шприцы не залеживаются, они в ходу круглые сутки.
Я вспомнил про разбитый шприц и напомнил о нем Вале.
— Придется мне платить, — сказала она. — Михаил Илларионович не прощает нам ни разбитых шприцев, ни разбитых градусников. Больной разобьет, а отвечаем мы.
— За шприц уплачу я.
— У вас же денег нет, вы студент.
— Кто вам сказал, что нет?
— Как хотите.
На этом мы и порешили.
Я вошел в ординаторскую. Зазвенел телефон. Я взял трубку. Мужской голос просил позвать медсестру Машу. Я не знал такой медсестры. Я постучал в стену кулаком — вошла Валя. Я спросил, есть ли у нас такая сестра. Она сказала, что есть санитарка Маша, и добавила, что, наверно, Маша скоро будет выдавать себя и за доктора. Валя пошла искать ее.
Вскоре я увидел Машу. Ей было лет семнадцать. Сероглазая, под косынкой чувствуются тугие косы.
Она говорила долго, и лицо ее все время улыбалось. Вошла врач Екатерина Ивановна. Маша торопливо сказала в трубку:
— Меня зовут, позвони позже. — Она положила трубку на рычаг.
Екатерина Ивановна сказала:
— Никак не наговоришься! Пыль стирать — так времени нет, а на разговорчики время находишь? — И обратилась ко мне: — Ну, что за девица! Из-за этих кавалеров ей работать некогда. День и ночь звонят. И хотя бы один звонил, а то запутаешься: Вася, Коля, Юра, Ваня, Петя, Валерий… Ошеломляющий успех! Посмотрим, за кого она выйдет. — Екатерина Ивановна чиркнула спичкой по коробку и закурила. Екатерине Ивановне было около шестидесяти. Лицо ее уже успело усохнуть и походило на вяленую грушу, которые продают на лотках в Москве.
— Ну, а у вас есть невеста? — спросила она у меня совершенно серьезно.
— Нет. Мне еще двадцать.
— Вполне достаточно, чтобы иметь невесту.
Я покраснел. А потом покраснел еще гуще, потому что вошла Валя.
— Валентина Романовна, — сказала Екатерина Ивановна, выпустив изо рта дым. — Как вы думаете, мужчина в двадцать лет вполне годится для женитьбы?
— Не знаю, Екатерина Ивановна.
— Как это вы не знаете? А вам сколько?
Валя не ответила.
— Скромничаете? Я сама знаю: лет восемнадцать-девятнадцать. Вот и выходите за него.
— За кого?
— За Игоря Александровича. Чем не жених?
— Я слишком высокая для него.
— Пустяки. Он еще вытянется. Мужчины растут до двадцати пяти.
Валя не отвечала.
— Значит, он вам не нравится?
— Ну, прямо не знаю, о чем вы говорите! — рассердилась Валя и выбежала из ординаторской.
— Мы вас женим, — сказала мне Екатерина Ивановна. — Только и жить, пока молодой, а в нашем возрасте все неинтересно.
Маша просунула голову в дверь.
— Игорь Александрович, вас зовут обедать.
— Простите, — сказал я Екатерине Ивановне.
— Идите, конечно: простынет.
Захаров и Гринин сидели за столиком у окна.
— Вот и он! — сказал Гринин, увидев меня в дверях.
— Как Лобов? — спросил я Захарова.
— Живет! А Коршунов как?
Меня опередил Гринин:
— Лучше. Гораздо лучше. Я заходил к нему сегодня четыре раза. Обещал скоро выписаться. «Я, — говорит, — из вас хирургического аса сделаю». Эх, скорее бы выписался!
Я сказал Гринину:
— Михаил Илларионович будет решать, когда его выписать, а не он сам. Он слаб, и еще держится высокая температура. Выпишут через недельку, не раньше.
— Не думаю, — возразил Гринин. — Пенициллин в два дня собьет температуру.
— Посмотрим, — сказал я.
— Держу пари!
— Тише, дети, — сказал Захаров. — Дайте спокойно поесть.
С двух до четырех у нас был перерыв, и мы пошли отдохнуть к себе в общежитие, в школу. Все сразу же разделись и легли спать, ведь ночью не пришлось сомкнуть глаз даже на минуту. Я завел будильник и стрелку звонка поставил на полчетвертого. Захаров и Гринин вскоре захрапели.
Я долго не мог уснуть. Мне не хотелось вставать и идти к четырем в поликлинику. Мне хотелось только спать, и я перевел стрелку звонка на одиннадцать вечера. Надо же отоспаться за эту сумасшедшую ночь. Засыпая, я слышал гудки паровозов и металлический перестук колес. Казалось, кто-то играет на неизвестном мне инструменте. Еще мне казалось, что все поезда идут в Москву. И на одном из них я и со мной еще кто-то — не то операционная сестра Нина, не то Валя.
Затарахтел звонок будильника.
Темно. Слышны перекликающиеся гудки паровозов. Где я? Мне почудилось, что я дома: возле противоположной стены спит мать и рядом мои голубоглазые светловолосые сестренки.
Где-то во дворе горел фонарь, его скупые лучи проникали в наш класс. Я увидел на потолке темную люстру с пятью лампочками. Захаров и Гринин спали. Голос моего будильника оказался для них слишком слабым. Встать и разбудить? Зачем? Все равно на поликлинический прием мы опоздали.
Мне захотелось есть. Непреодолимо захотелось яичницы с салом, и я около часа лежал на спине, смотрел на темную люстру и думал о яичнице. Я не только видел волшебницу глазунью, поджаренные кусочки сала, но и ясно чувствовал запахи. Они меня все больше раздражали. Наконец я встал, тихо оделся и вылез в окно, чтобы не греметь дверью.
Дул сырой пронизывающий ветер. Мне было холодно, потому что совсем недавно я встал с теплой постели. Низкие черные тучи ползли над городом. Прохожих почти не было. У старика в соломенной шляпе я спросил, как пройти к ресторану. Он сказал, что ресторана в городе нет, а есть кафе, тут недалеко, на углу.
Я заказал сразу две глазуньи. Они были на масле. Пожалел, что не захватил с собою сала. Повар приготовил бы. Что ему стоило! Кофе был не очень сладкий. Я не догадался положить в карман пару кусочков сахара. Дома такой кофе не пил бы. И все же настроение после ужина у меня поднялось, и я, насвистывая, возвратился в школу.
Влез в то же окно. Никто не заметил, что я пропадал часа полтора. Тогда еще я не знал, что это широкое школьное окно верно будет служить мне на протяжении всей двухмесячной практики.
Утром, к восьми часам, мы пошли в больницу. Мы шли молча, темы для разговоров не находилось. Мы чувствовали себя виноватыми, и больше всех я. Мне сегодня уже попало от Захарова, но это были, конечно, лишь цветики. Мы не явились вчера в поликлинику из-за моей проказы. Не знаю, будет ли выговаривать Золотов, а Чуднов обязательно прочтет нотацию.
Когда я пришел в отделение, Чуднов уже сидел в ординаторской и просматривал истории болезней. Я поздоровался.
— Здравствуйте, здравствуйте. Вы почему здесь?
Я не понял его и спросил, где же я должен быть.
Он сказал, что каждый рабочий день в больнице начинается с пятиминутки. В восемь часов мы должны быть в приемном покое.
— Время идти. — Он встал.
Я пошел за ним. По скользкой чугунной лестнице Чуднов спускался очень медленно. Я боялся, как бы он не упал. Мне хотелось поддержать его, но я не осмелился предложить свои услуги. На всякий случай шел совсем рядом с ним. Он спустился благополучно. Не дай бог быть таким полным!
Приемный покой был битком набит людьми в белых халатах. Наверно, пришли все врачи. Только Захарова и Гринина не было видно, и я сбегал за ними в хирургическое отделение, передал им распоряжение главного врача.
Мы стояли в дверях, потому что свободных мест не было. Стояли только мы, а врачи сидели. Но потом, видно, им стало совестно, и они потеснились. Нам уступили один стул. Я сел на него вместе с Захаровым, спиной к спине. Гринина пригласили сесть на кушетку. На этой кушетке мы сидели, когда в первый день пришли в больницу. Чуднов сидел на том же месте, где и в прошлый раз, — за столиком, покрытым простыней. Простыня была клеймена во многих местах черной четырехугольной печатью, словно это была не простыня, а важный документ, прошедший много инстанций.
Чуднов взглянул на часы и сказал:
— Начнем, товарищи… Слово предоставляется дежурному врачу. Пожалуйста!
Было ровно восемь часов утра. Дежурил, оказывается, Вадим Павлович. Он говорил, поглядывая в какую-то бумажку. Было похоже, что он отвечает урок.
Сегодня Вадим Павлович почему-то не улыбался. Может быть, потому, что перед ним было столько врачей, а не только одни мы, неоперившиеся птенцы. Вадим Павлович сказал, сколько поступило и сколько выписано больных за сутки и сколько состоит на сегодня. Состояло двести семнадцать человек. Чрезвычайных происшествий не было, ночь прошла спокойно. Он перечислил фамилии тяжелых больных и сел на кушетку. Рядом с ним сидел Гринин.
— Есть вопросы к дежурному врачу? — спросил Чуднов.
Он сегодня в вышитой рубашке. Синие васильки, зеленые листья виднеются впереди, между бортами халата.
Чуднов прочел приказ заведующего облздравотделом о прививках. На этом конференция закончилась. Она продолжалась пятнадцать минут. «Хороша пятиминутка», — подумал я. В те дни я еще не знал, что утренние «пятиминутки» часто затягиваются на час и больше.
В коридоре я увидел Валю. Она шла со шприцем в палату.
— Здравствуйте, Валентина Романовна, — сказал я.
— Пожалуйста, зовите меня Валей.
— С одним условием, — сказал я. — Если и вы не будете называть меня по батюшке.
Она моргнула мне в знак согласия и побежала по коридору. Если шприц приготовлен к работе и если в нем лекарство, его надо как можно быстрее пускать в ход. Я уже постиг это на собственном опыте. Лекарство может улетучиться неизвестно куда. И теряется стерильность.
Я взял папку и пошел в свою палату. Побеседовал с каждым больным, каждого выслушал стетоскопом, все полученные сведения записал в истории болезней.
— А как насчет уколов? — спросил Иванов. — Опять будете практиковаться?
— Сегодня уже нет, — сказал я.
— Значит, сестра будет делать?
— Делать-то буду я, но… уже буду по всем правилам. — Я почувствовал, что лицо краснеет. И зачем начал хвастаться? «По всем правилам»… Я поскорее вышел из палаты. В сестринской комнате сказал Вале, что хочу начать инъекции. Она согласилась, что уже время начинать. Я начал растворять пенициллин, затем вводил его больным. Делал все медленно, но зато правильно. Валя следила за моими руками, а когда я удачно влил глюкозу Руденко, она похвалила:
— Сегодня вас не узнать, Игорь Александрович.
В коридоре я сказал:
— А уговор?
— Какой уговор?
— Насчет батюшки.
— А! Так ведь при больных нельзя иначе, Игорь…
Я улыбнулся.
— Знаете что, Валя, давайте я буду сегодня делать пенициллин всем больным подряд.
— Надо у Михаила Илларионовича спросить. Он говорил только о ваших больных.
— Да зачем спрашивать! Вы же будете меня контролировать.
— Подождите. Я сейчас подумаю… Ладно. Делайте.
И работа закипела. В этот день я сделал двадцать инъекций пенициллина. Про внутривенные вливания всем больным я пока и не заикался. Нужно вначале освоить внутримышечные, нужно идти от простого к сложному. Я начал понимать эту истину.
— Вы, Игорь, способный. А я думала, вы только краснеть умеете, — сказала Валя.
Чуднов и в этот день проверял мои истории болезней и не сделал никаких замечаний.
Почему он ничего не говорит о вчерашнем прогуле? Его молчание раздражало. Я уже хотел спросить, что он думает о нас, когда вошел Вадим Павлович. Он особенно интересен, когда видишь его в профиль. Я нарисовал его лицо пером на бумаге, покрывавшей письменный стол. Не мог удержаться, чтобы не нарисовать. Нос попугая, подбородок женщины и лоб мужчины… На зарисовку я положил свою папку и, чтобы не видно было, что я прислушиваюсь к разговору, начал перелистывать истории болезней.
— Скучно мне становится здесь.
— Почему? — спросил Чуднов.
— Я же безработный. — Он подернул плечами. — Самый настоящий. Даже не знаю, за что мне платят зарплату.
— Ну и сказали! — Чуднов засмеялся. — Разве у нас в Союзе есть безработные?
— Посмотрите на меня!
— Ну, что вы безработный — это хорошо.
— Для вас хорошо.
— А для вас плохо? — спросил Чуднов.
— Конечно, плохо. Я квалификацию теряю.
Чуднов опять рассмеялся. У него даже слезы выступили. Я видел это краешком глаз.
— Придется уезжать, — мрачным тоном сказал Вадим Павлович.
— Вы сказали, уезжать?
— Конечно.
— Глупо. Во всяком случае, неумно.
— Совсем не глупо. Я не хочу деквалифицироваться.
— Уезжать не советую. Мы вас ценим. Вы это знаете.
— Здесь становится неинтересно. Никакой практики.
— Мы можем послать вас на курсы.
— На какие?
— Хирургом станете.
— Хирургом?
— Да. Почему бы вам не стать хирургом?
— Вы думаете? — В голосе Вадима Павловича звучали нотки сомнения.
— Да. Нам нужен третий хирург. Подумайте.
— Обещаю. — Вадим Павлович встал, одернул халат.
Чуднов подал ему руку. Вадим Павлович пожал ее и вышел из ординаторской. Он ни разу не улыбнулся.
Я все еще сидел, притаившись, и листал истории болезней.
— Слышали? — спросил Чуднов.
Я посмотрел на него и сделал непонимающее лицо.
— Вы слышали, что говорил Вадим Павлович?
— Я изучал истории болезней. — Я не мог признаться, что подслушивал.
— Жаль, что вы не слышали… Занятная проблема. — Чуднов улыбался своим мыслям.
Я подождал немного, потом сказал:
— Мы вчера не были в поликлинике.
— Знаю.
Он смотрел в окно. Сосны на больничном дворе едва заметно покачивались. Верхушек не было видно, они оставались где-то выше окна. Низкие серые облака ползли по крышам деревянных домиков.
— Врачей не хватает, и почти все мы, за редким исключением, работаем на полторы ставки. Возложенную на нас работу надо ведь выполнять. Врачи работают с восьми утра до семи вечера, с двухчасовым перерывом на обед… Студентов я не могу заставить работать столько же. Собственно, и врачей я не заставляю. Все они у меня добровольцы.
Только теперь я понял, почему Чуднов не ругал нас за то, что мы вчера не пошли в поликлинику.
— А мне — всем нам — можно работать на полторы ставки, как врачи?
— Хотите полторы практики пройти? — Чуднов с хитрецой посмотрел на меня.
Я не знал, что он скажет. Но я надеялся, что он поймет меня и разрешит. Я не мог представить, что почувствую, если он скажет «нет». Мы должны работать не меньше, чем врачи, иначе какая же это будет практика? Врачи на работе, а мы дома. Мы обязаны целый рабочий день дышать тем же воздухом, что и они. Если им трудно, пусть и нам будет трудно. Уже теперь мы должны знать все о нашей профессии.
Не знаю, о чем думал в эти минуты Чуднов. Он по-прежнему смотрел мимо сосен на скользящие по крышам тучи и курил. Не забыл ли он о моем вопросе? Я сидел, молчал и смотрел на его грузную фигуру, едва умещавшуюся в жестком кресле.
— Ну, что же, не возражаю, — услышал я его голос.
— Спасибо, Михаил Илларионович!
Я побежал вниз по лестнице. Захаров и Гринин сидели в ординаторской хирургического отделения и заполняли истории болезней. Я рассказал им о разговоре с Чудновым.
— Скажи Михаилу Илларионовичу, что мы тоже будем работать столько, сколько врачи, — сказал Захаров. — Так я говорю? — повернулся он к Гринину.
— Я как все. Разве может быть иначе?
Я был доволен вполне.
— Вот так, Игорь. — Захаров смотрел на меня снизу вверх, потому что он сидел, а я стоял. В вырезе халата на груди был виден зеленый китель с ярко-красным, как кровь, кантом. Когда была холодная погода, Захаров его не снимал.
— Ясно, товарищ генерал! — Я вытянулся в струну и отдал честь. Мои пальцы прикасались к белой докторской шапочке.
— Руку не так держите, — сделав суровое лицо, сказал Захаров. — С растопыренными пальцами только рыбу в реке ловить.
Я рассмеялся и прижал пальцы друг к другу.
— Вот так, — сказал Захаров, — к вечеру отработать приветствие как следует.
— Слушаюсь! — сказал я, повернулся через левое плечо и быстрым шагом пошел к себе в отделение, чтобы передать Чуднову решение товарищей.
Чуднов выслушал меня и сказал:
— Принимаю к сведению. Не стоит вам лениться. Думаю, что вы от этого только выиграете.
Немного отдохнув после обеда, мы к четырем часам пошли в поликлинику.
— Как Золотов? — спросил я Захарова.
— Вежлив. Изысканно вежлив и осторожен. — И мне на ухо: — Между прочим, Гринина очень не любит. Укол следует за уколом.
— Да? — прошептал я. И спросил громко: — Значит, вежлив, корректен и ни черта не дает делать?
— Перевязки, больше ничего. Говорит, не сразу Москва строилась. Про Спасокукоцкого каждый день вспоминает. Золотов ординатуру у него когда-то кончал… Кроме наших законных, он заставляет нас писать по пятнадцать лишних историй болезней. Сделал своими секретарями.
— А вы что? — спросил я.
— Тянем. Молчим. Кое-какая польза от этого тоже есть. Приглядываемся. Без помощника ему, конечно, трудно.
— Коршунов скоро поправится, — сказал я.
Захаров ничего не ответил.
Пока мы спали, прошел дождик, все вокруг отсырело, и лишь плиты тротуара под липами были сухие. Шелестела мокрая листва. Воробьи, перебивая друг друга, кричали с веток.
Я не знал, радоваться мне или нет, что Гринин впал в немилость. Нет, это не могло вызвать радость в моей душе. Но я начал лучше думать о Золотове, о его способности распознавать людей.
Участь Гринина на практике ясна: Золотов не даст ему разгуляться. Он сделает все, чтобы свести его практику к нулю.
Но что же получится с хирургической практикой у Захарова? Как Золотов будет относиться к нему? Я ничем не мог помочь Захарову, хотя желал ему всех благ. Но я не желал хорошего Гринину, уж если говорить откровенно. Может быть, это плохая черта моего характера — не желать добра всем без исключения людям. Но что я могу поделать с собой? Гринин хочет казаться умнее и опытнее нас, а мне это не по душе, и мне нравится, когда Золотов щелкает его по носу. Золотов делает это безжалостно. Я смотрю на них, и мне кажется, что это отец лечит сынка, унаследовавшего его болезни. Он делает ему уколы, а сынок не понимает, раздражается. И Золотов раздражается — ну и пошло!
Жаль, что меня Чуднов только хвалит. Какая польза от похвал? Вот Захарова никто не хвалит, а он лучше нас, желторотых.
Так я раздумывал, пока мы добирались до поликлиники. Захаров передвигал свои длинные ноги широко и свободно. Ноги сами его несли. Он что-то говорил Гринину. Юрий, немного наклонив голову, слушал, смотрел под ноги; и было видно, что солдатский шаг Захарова сбивает его с привычной танцующей походки. Гринин всегда ходил красиво, слишком красиво для мужчины, по крайней мере это мое мнение. Ничего не скажешь, парень что надо, но на Захарова все-таки приятнее было смотреть.
Почему я его люблю? Наверно, потому, что он скромный и готов ради товарища поступиться всем. Потом, наверно, я люблю Николая за то, что он похож на Чуднова. А может быть, Чуднов мне нравится тем, что он такой же, как Захаров? Интересно, служил Чуднов в армии? Наверно, он был на войне. Надо будет спросить. Он тоже очень скромный, совсем не кичится своей должностью, а ведь он еще и секретарь партбюро. За ними я пойду куда угодно, хоть в огонь, хоть в воду. А Золотов… этот не по мне.
Захаров и Гринин уже поднимались по хилым деревянным ступенькам на крыльцо поликлиники. Легко открылась стеклянная дверь, новая дверь в старом здании. Мы уткнулись в регистратуру. Из окошечка высунулась завитая женская головка на длинной, как у гусыни, шее.
— Вам к кому?
— К вам, — сказал Захаров.
Голова втянулась в окошко, напомнив мне черепашку.
— Пожалуйста, товарищ. Я вас слушаю. К кому записать?
— Где находится заведующий поликлиникой?
— Так вам заведующего? А говорили, ко мне… Идите по коридору, одиннадцатый кабинет.
Гринин постучал в дверь, откуда послышалось: «Да». Мы вошли. За большим письменным столом сидел Чуднов. Я обрадовался, увидев Чуднова здесь.
— Ну, садитесь!
В длинном кабинете вдоль стен стояли стулья, штук по десять у каждой стены. Напротив окна — письменный стол. У противоположной стены, рядом с дверью, книжный шкаф из темного дерева.
— Нам бы увидеть заведующего поликлиникой, — сказал Захаров.
Чуднов неторопливо вытащил из пачки «Беломора» папиросу, улыбнулся.
— Значит, хотите увидеть заведующего? Он перед вами. — Чуднов папироской указал на свою широкую грудь.
— И главврач и завполиклиникой? — спросил Захаров.
— Это еще далеко не все мои должности, — сказал Чуднов, вздохнув.
— Михаил Илларионович еще и заведующий терапией, — сказал я.
— И вы не боитесь инфаркта? — спросил Гринин.
— Типун вам на язык! — сказал Чуднов. — Дело в том, что главврачом я временно. Замещаю Веру Ивановну. Она у нас часто болеет.
Чуднов распахнул окно, рукой разогнал возле своего лица дым и сказал:
— Вы, Игорь Александрович, идите в десятый кабинет, будете работать с доктором Волгиной Екатериной Ивановной. А хирурги пойдут в четвертый кабинет, к товарищу Золотову. Должен вам сказать по секрету, что Борис Наумович до болезни Коршунова вообще в поликлинике не принимал. Не любит он поликлинику. Ну, а теперь пришлось волей-неволей. Не дождется Василия Петровича. Поэтому, возможно, будет нервничать. А вы спокойнее. Люди вы молодые, нервы у вас из стали.
Мы поднялись со своих мест. Захаров и Гринин вышли, а я остался.
— Вы что, Игорь Александрович? — удивился Чуднов.
Я начал так:
— Мои товарищи не любят Золотова…
— Не любят? — спросил Чуднов. — А разве Борис Наумович женщина?
— Не в этом смысле, — сказал я, — не любят как руководителя хирургической практики. Он ничего не дает им делать. Они вроде как секретари у него, почти все истории болезни заполняют.
— И они недовольны? — снова удивился Чуднов.
— Ну конечно! Они не затем приехали, чтобы писать! — Говоря о них, я, конечно, думал и о себе.
— Золотов их проверяет, — сказал Чуднов. Он смотрел на меня из-под насупленных белых бровей. — Птица видна по полету. Неважно, где она летит — над самой землей или в облаках. И по историям болезней, которые они пишут, можно многое узнать о студентах. И то, что Борис Наумович доверил им оформление целой кучи историй, уже о многом говорит. К тому же, Игорь Александрович, прошу учесть, что второй хирург болен и вся тяжесть в стационаре и поликлинике легла на плечи одного человека. Ему трудно. Наше хирургическое отделение обслуживает не только город, но и весь район, а подчас и соседние районы, там у них часто не ладится. И — скажу вам по секрету — не в каждом районе есть свой Золотов. Он для нас счастливая находка. Я всегда спокоен за хирургическую службу. А это для главного врача очень большое дело. Вот будете главврачом — узнаете. Пусть они не паникуют прежде времени.
Я поспешил выйти.
В десятом кабинете уже шел прием. Екатерина Ивановна встретила меня милой сморщенной улыбкой. Она не могла улыбаться иначе, потому что лицо ее было сплошь в морщинках. А когда она улыбалась, их становилось еще больше. Она вытащила из ушей кончики резиновых трубок фонендоскопа и сказала:
— К нам на помощь? Очень приятно! — И обратилась к сестре: — Знакомься, Любочка.
— Мы уже знакомы, — сказала Любочка.
Знакомы? Пристально взглянув на сестру, на ее слишком курносый нос, я сразу вспомнил: Любовь Ивановна! Из хирургического отделения. Это она организовала операцию умирающему мотоциклисту Лобову, а потом затащила меня в кабинет к разъяренному Золотову. И он назвал ее тогда хирургической язвой.
— Вы теперь здесь? — спросил я.
— Как видите. Борис Наумович стал ко мне придираться, не давал спокойно прожить ни одного дня, и я вынуждена была просить Чуднова о переводе.
— Любочка, вызывайте! — сказала Екатерина Ивановна сухим голосом. Вся она была по-старушечьи сухонькая, жилистая, и голос у нее был такой же сухой, трескучий.
Любовь Ивановна открыла дверь и сказала:
— Следующий.
Вошла девушка лет девятнадцати. Она стояла возле стола, мялась и поглядывала на меня.
— На что жалуешься, красавица? — спросила Екатерина Ивановна.
— Боль в боку.
— Раздевайся, послушаю.
Девушка стала как маков цвет.
— Если б знала, блузку надела бы, — сказала девушка.
— Знала, куда идешь, милая, — ответила Екатерина Ивановна.
Девушка умоляющим взглядом смотрела на меня. Я решил выйти. Пусть она знает, что мне совсем неинтересно на нее смотреть. Я направился к двери.
— Игорь Александрович, назад! — услышал я громкий и неожиданный, как треск сухого сучка, голос Екатерины Ивановны.
Я повернулся, не зная, что сказать.
— Мы не можем исполнять каждую прихоть пациентов, Игорь Александрович. Вас государство прислало к нам на выучку, и пусть это знают все! Если он в белом халате, — Екатерина Ивановна теперь смотрела на оторопевшую девушку, — он для вас не мужчина, да! Не женщина и не мужчина, он доктор, и все. И вам должно быть безразлично, в штанах он или в юбке. Не люблю, когда начинают ломаться… Любочка, какая у нее температура?
Любовь Ивановна взяла у девушки термометр, всмотрелась в цифры.
— Тридцать шесть и семь.
— Я так и думала, — сказала Екатерина Ивановна. — Ну, так вы будете раздеваться? Или мне вызовут следующего.
Девушка начала стаскивать платье.
Я отвернулся.
— Как тебя зовут, кстати? — спросила Екатерина Ивановна.
— Венера.
— Имя-то какое чудесное! И лифчик и лифчик снимай. Какая упрямая!.. Вот так… Игорь Александрович, прошу… Исследуйте у нее легкие, сердце, печень, селезенку, желудок… Словом, ищите патологию. Основное внимание, конечно, обратите на жалобы.
Я смотрел на Екатерину Ивановну и боялся взглянуть на девушку, которая стояла со скрещенными на груди руками. Я видел ее, не глядя на нее, — видел уголками глаз.
Мне было неловко. Я хотел отказаться, но я не должен отказываться. Напортил бы не только себе, но и Екатерине Ивановне, и Захарову, и, может быть, всей практике. Я не имел права показывать свою робость и начал выстукивать ее, определяя границы легких и сердца. Кончики моих пальцев горели, а сердце останавливалось. Если б она знала, что мне, может быть, труднее, чем ей! Потом вытащил из кармана халата стетоскоп и начал выслушивать. Я слышал, как стучит в стетоскоп испуганное сердце. Потом ощупал руками живот. И сказал Екатерине Ивановне, что патологии не обнаружил.
— Я так и предполагала. — Она приставила к ее груди фонендоскоп, послушала с минуту и сказала: — Можешь одеваться, милочка. Ничего страшного.
Когда девушка оделась и поправила волосы, Екатерина Ивановна спросила:
— На земле лежала, вспомни, пожалуйста?
— Загорала на берегу озера.
— Все ясно, детка. На сырую землю никогда не ложись. А то может и хуже быть. — Екатерина Ивановна выписала ей рецепт.
Мне хотелось подсмотреть, что она выписывает, но было неудобно. Эта девушка может подумать, что я не знаю рецептов.
— Почему же болит?
— Простудилась немного. Вот попринимаешь порошки, грелку подержишь на боку — и все пройдет.
— Спасибо. — Девушка взяла рецепт. Лицо ее по-прежнему горело, блестели глаза.
— Ну, никто не укусил тебя? — спросила Екатерина Ивановна.
Девушка не ответила и выскользнула в дверь.
— В следующий раз будет смелее, — сказала Любовь Ивановна. Она вышла из кабинета и сказала: — Следующий!
Некоторых больных принимала сама Екатерина Ивановна, некоторых передавала мне. Часа полтора она присматривалась ко мне, потом вдруг сказала:
— Вы мне нравитесь, Игорь Александрович, как первый снег осенью.
Я не понял, при чем тут первый снег. Я не успел подумать, что это значит. Екатерина Ивановна сказала:
— Вы будете принимать в соседнем кабинете, в девятом. Участковый врач Орлова заболела, мы с вами будем принимать и своих и ее больных. Если будет что-либо непонятно, пришлете за мной сестру. Идите.
Я пошел. В девятом кабинете за столиком на месте врача сидела сестра. Я заметил, что у нее очень светлые волосы и голубые глаза.
— Буду принимать в вашем кабинете, — сказал я.
Сестра встала и уступила мне место.
— Знаю… Можно вызывать? — Она смотрела на меня вопросительно. Всем своим видом она выказывала готовность подчиняться.
Впервые я почувствовал себя вправе распоряжаться другим человеком. У Вали я был в большой зависимости, так как умел во много раз меньше ее. И, кроме того, Валя…
— Можно вызывать? — повторила сестра.
— Подождите, как вас зовут?
— Руфа.
— Вы немка? У немцев есть слово «руфен».
— Я совершенно русская. Руфа, Руфина, разве не слышали такого имени?
— Нет.
Руфина стояла передо мной: миловидное лицо, светлые волосы, падающие на плечи.
— Вызывайте, пожалуйста, Руфина. — Я сел за столик и поставил перед собой стетоскоп. В клиниках нам запрещали пользоваться фонендоскопом, он будто бы усиливает и искажает звуки. Мы пользовались только стетоскопами. Но перед практикой я все же купил фонендоскоп. Он лежал в моем чемодане и ждал своего часа. Екатерина Ивановна, пожалуй, не будет иметь ничего против фонендоскопа, поскольку она сама им выслушивает. А Михаил Илларионович? Это можно будет проверить. Завтра же! Все врачи в поликлиниках пользуются фонендоскопами. Чем же я хуже их?
Вошел мужчина лет сорока пяти. Он жаловался на боли в животе, изжогу, тошноту. Он достал из бумажника анализ желудочного сока и протянул мне. Кислотность была резко понижена. Я попросил его прилечь на кушетку и начал пальпировать живот. Иногда он вскрикивал от боли.
— На рентгене не были? — спросил я.
— Орлова обещала послать, да вот и сама слегла. Пошлите, если можно, доктор. Буду вам очень признателен.
— Оденьтесь, — сказал я и стал заполнять, амбулаторную карту. Я не знал, могу ли сам подписывать рецепты, могу ли самостоятельно направить в рентгеновский кабинет. И пошел спросить об этом у Екатерины Ивановны.
Несколько метров разделяли наши кабинеты. Я шел и думал о Венере. Вошел в десятый кабинет и, глядя на Екатерину Ивановну, сказал:
— Я хочу спросить… — И запнулся. Я забыл, о чем хотел спросить. Венера стояла передо мной, а не старушка Екатерина Ивановна со сморщенным, высохшим личиком. Я нахмурил лоб, щелкнул себя по голове.
— Выскочило… Сейчас вспомню… Ах, да!.. Можно мне самому подписывать рецепты и разные направления?
— Конечно, конечно! Безусловно! Но как вы могли забыть такой простой вопрос?
Я ужасно покраснел. А она спросила:
— У вас там опять девица? — Она сделала паузу. Я молчал. — И опять не хочет себя показывать? — Екатерина Ивановна улыбнулась, уверенная, что попала в точку.
— Что вы! У меня мужчина сорока пяти лет.
Мне хотелось подойти к столу, найти карточку Венеры и посмотреть ее адрес и место учебы или работы. Но как? Любовь Ивановна так подозрительно на меня смотрела, будто наверняка догадывалась, что творится со мною. Я подошел к столу и спросил:
— До которого часа будем принимать?
— Официально до семи… а вообще, пока не примем всех. А вы что, спешите куда-нибудь?
— Нет, просто так. Чтобы знать.
Я поспешил в свой кабинет, написал больному рецепт, потом написал направление в рентгеновский кабинет и рассказал, что можно и чего нельзя есть. Он поблагодарил и вышел. Его фамилия была Краснов. Я запомнил эту фамилию. По истории мы учили — был такой царский генерал Краснов.
В этот вечер я принял еще семь больных. Хуже всего я знал рецептуру и частенько выходил из своего кабинета к Захарову, чтобы спросить у него. Не пойму, откуда он помнил рецепты. К Екатерине Ивановне я обращаться не хотел: и так, наверно, надоел ей. К Чуднову тоже идти было как-то неудобно, пусть он думает, что я и рецептуру знаю хорошо, — не хотелось подводить и себя и свой институт.
Около семи вечера принесли амбулаторную карту из кожного кабинета. Я прочел: «Петров Алексей Сидорович, двадцать три года, рабочий». Врач-дерматолог записал: «На голенях геморрагическая сыпь, боли в суставах. Очевидно, ревматизм. К терапевту на консультацию».
«Нашли терапевта, — подумал я. — Почему не повели больного к Екатерине Ивановне?»
— Кто у вас участковый врач? — спросил я.
— Орлова была, а теперь вы.
Я попросил показать ногу. Петров поднял штанину. В нижней трети голени виднелась ярко-красная сыпь. Пятнышки, словно веснушки, обсыпали голень спереди.
— Сыпь беспокоит? Чешется? Болит?
— Некрасиво! На пляж совестно идти. Поэтому и пришел.
— А боли в суставах тоже не беспокоят?
— Побаливают маленько, — ответил Петров, — но это чепуха, поболят да перестанут.
Я попросил Петрова раздеться до пояса и выслушал его сердце, шумов пока не было.
— Оденьтесь, пожалуйста, — сказал я, — хочу показать вас другому врачу. — Сказав это, я задумался над собственными словами: «Другому врачу». Выходит, я хвастаюсь. Он и в самом деле может подумать, что я врач. Но я не хотел его обманывать, это получилось само собой.
Я повел Петрова в десятый кабинет. Екатерина Ивановна осмотрела ногу, потом начала пальцем надавливать на нее. Сыпь не исчезала.
— Видите? — спросила она и посмотрела на меня не совсем обычно. — Мелкие кровоизлияния. Возьмите его в свою палату. Места у вас, кажется, есть.
— Хорошо, — сказал я. — Писать направление?
Она кивнула. Я написал, чтоб положили в мою палату. Екатерина Ивановна подписала и сказала, чтобы Петров сейчас же шел в больницу.
— Если не возражаете, мы подвезем вас на машине.
— На «Скорой помощи»? Что вы, доктор? Куры смеяться будут. Я вообще должен подумать, ложиться ли мне. Я чувствую себя прекрасно.
— Не советую вам задумываться над этим, товарищ. Вы немедленно должны лечь в больницу. Совет врача для больного человека — закон. Игорь Александрович, проводите товарища к машине. Любовь Ивановна, вы будете его сопровождать вплоть до палаты.
— Да вы что! Повезете как арестованного? Уж если так надо, я и сам дойду. Что же я, несознательный какой?
— Дайте мне честное слово, что через час будете в больнице, — сказала Екатерина Ивановна.
— Могу даже побожиться, если желаете.
— Через час позвоню в больницу. Смотрите, если вас там не окажется!
Петров ушел. Любовь. Ивановна направилась к двери, чтобы вызвать следующего больного. Екатерина Ивановна попросила пока не вызывать. Она смотрела на меня.
— Злокачественная форма ревматизма. Очень нехороший ревматизм у этого товарища. Игорь Александрович, не проморгайте. Я могу забыть — склероз. А вы забыть не имеете права. Договорились? Все.
Я возвратился в свой кабинет, взялся за работу. Сколько прошло времени, не знаю.
Принят последний человек. Я вышел на крыльцо. Гринин сидел на скамейке. Рядом стоял Захаров.
— Игорек вышел! — сказал Гринин и встал. — Игорек Александрович Пшенкин.
— Зачем коверкаешь мою фамилию? — спросил я.
— Ничуть, Игорек! Другой бы поблагодарил, что я нашел ему такую звонкую, видную фамилию. Да еще с окончанием на «ин». Гринин… Пшенкин… Импозантно! А то прозаическая Каша… Поменяй фамилию!
— И не подумаю! На твое «ин» мне наплевать.
— А зря… Не плюй в колодец… Моя фамилия еще прославит отечественную науку. Не веришь? Я придумаю операцию по пересадке носа от трупа. Многие желают иметь более правильный нос.
— Я твоей операцией не воспользуюсь. Не надейся.
— Да?
— Да! Мой нос не хуже твоего!
— Лично я против твоего носа ничего не имею. Ты с ним неотразим!
Чем бы его поддеть? В голову ничего не приходило.
Мы опоздали, в столовой ужинали больные. Нам пришлось ждать, пока освободится какой-нибудь столик.
Я зашел в свою палату: Петров лежал на светлом пикейном одеяле. Я сделал ему замечание. Он не шевельнулся.
— Целых пятнадцать минут лекцию ему читаем, не понимает человек, — сказал Руденко. — Говорит, что здоров. Насильно, мол, его послали в больницу. А мы говорим, что здоровых сюда не направляют.
Петров продолжал лежать, мало того, он еще и ногу на ногу положил и стал качать ею.
Я весь дрожал. Мне не приходилось еще встречаться с такими типами.
— Вы дежурного врача позовите, — посоветовал Белов.
Я вышел из палаты. По коридору мне навстречу шел Захаров.
— Ужин стынет, — сказал он.
— Не до ужина.
Он спросил, в чем дело, и я рассказал.
— Эх ты, парень, — улыбнулся Захаров и легонько поднял мой подбородок. Не знаю, почему Николаю стало так весело. Мы вошли в палату.
— Вот этот, — сказал я. — Фамилия Петров.
— Товарищ Петров, вы почему не подчиняетесь правилам внутреннего распорядка?
Петров смотрел в потолок. Захаров ждал с минуту. Потом:
— Встаньте, когда с вами разговаривают!
Не знаю, за кого принял Петров Захарова, наверно за дежурного врача, во всяком случае, он хотя и неохотно, но встал с кровати и начал поправлять покрывало.
— Нехорошо. — Захаров смотрел на Петрова. — Врачи к вам с открытой душой, а вы хулиганить вздумали. Да, Игорь Александрович, вот таких бы в какую-нибудь Америку на излечение. Там не только за койку — и за воздух палатный пришлось бы платить.
Ужин казался невкусным, я не съел и половины винегрета и лишь чай выпил с удовольствием.
Утром, едва вошел я в палату, Петров встретил меня словами:
— Зачем вы положили меня? Зачем? Положили, а лечение где? Ни одной таблетки не дали! Не доктора вы, а помощники смерти!
— Успокойтесь, — сказал я. — И не говорите глупостей. — Я хотел прикрикнуть на него, как прикрикнул вчера Захаров, но побоялся, что у меня так не получится и меня подымут на смех. Я сказал Петрову, что сейчас выясню, почему не давали ему порошков.
Чуднов сидел в ординаторской и что-то писал в истории болезни. Увидев меня, спросил, не отрываясь от писания:
— Как прошел вчерашний день в поликлинике? Меня вызывали в горком, и я не смог вчера вечером побеседовать с вами и с вашими товарищами.
Я рассказал лишь о поведении Петрова в поликлинике и здесь, в больнице.
— К сожалению, такие экземпляры еще попадаются, — сказал Чуднов. — Есть тут и частица вашей вины.
— Моей?
— Вашей. — Чуднов отвалился на жесткую спинку кресла.
Я ничего не понимал. Петров буянит, а я виноват?
— Сейчас вам будет ясно, Игорь Александрович. Дежурный врач обязан был назначить Петрову лечение, однако не назначил, я выясню почему. Но учтите: и вы не назначили.
— Я?
— Да, вы… Ведь у нас, Игорь Александрович, дежурят по больнице врачи всех специальностей: и окулист, и дерматолог, и невропатолог, и далее стоматолог — словом, все… за редким исключением. Вы направили больного в свое отделение, так извольте на обороте направления написать назначения. Наши дежурные сестры знают об этом и будут выполнять. — Чуднов нашел в стопке историю болезни Петрова, развернул ее и показал направление, написанное моею рукой. На обороте было пусто, ни слова. — Удивляюсь, — продолжал Чуднов, — почему Екатерина Ивановна и вам не подсказала и сама ничего не написала. Я скажу ей. У нас уже не первый год пишут назначения на направлениях. Конечно, не обязательно писать на обороте, можно внизу… Не секрет, Игорь Александрович, что терапевт знает внутренние болезни лучше, чем любой другой врач. А если в своей специальности вы знаете больше, так извольте написать. Вопросы?
— Один вопрос, — сказал я. — Что мне сказать Петрову?
— Скажите, что лекарства не давали по недоразумению. А дежурного доктора я проберу как следует. Возможно, и наказать придется…
Едва я вошел в палату, Петров спросил:
— Ну, выяснили, доктор, почему больному человеку не давали порошков?
— По недоразумению, — сказал я спокойно.
— А если б я умер? Кто бы отвечал за недоразумение?
Больные взяли меня под защиту.
— Прекрати, парень!
— Ты и правда вроде здоровый. Больные люди так не дебоширят.
— Переведите вы его, бога ради, от нас. Покой потеряли.
Петров не покорялся.
— Покой потеряли? Вас лечат, а я — так лежи? Знать не хочу такой больницы.
Хотелось сбегать к Захарову. Но я не пошел. Не будет же он всю жизнь наводить порядок в моих палатах.
Я развернул на тумбочке пустой еще бланк истории болезни и начал задавать ему вопросы.
— Допрос?
— Не допрос, а опрос, — сказал я спокойно.
— Опорос? — И он громко засмеялся. Его никто не поддержал, и он умолк.
— Опрос, сбор анамнеза, — сказал я. — У каждого поступающего спрашивают. Вот спросите у людей, если не верите.
Больные подтвердили.
С большим трудом удалось заполнить на него историю болезни. Вздохнув, я вышел из палаты. В коридоре я столкнулся с Валей и почему-то не обрадовался, увидев ее. Она была сегодня не такая красивая, как в прежние дни. Увидев, что я слишком серьезный, Валя перестала улыбаться.
— Игорь Александрович, какой стол назначаете больному Петрову? — спросила она официальным тоном.
Надо было тут же дать ответ, но я не знал, что сказать. В институте нам рассказывали про диету, но про столы ничего не говорили. А может быть, я забыл? Нет, не говорили ничего.
Валя смотрела на меня, а я вспоминал, но вспомнить никак не мог.
«Нарочно подстроила, вечно у нее шутки на уме…» Тут я вспомнил Венеру. Не Валю видел перед собою, а ту, другую. И даже улыбнулся.
— Чего вы улыбаетесь, Игорь Александрович? Я жду, мне некогда.
Она снова называла меня по имени и отчеству.
— Спросите у Михаила Илларионовича, — сказал я. — Не знаю, какой Петрову стол.
— И чему вас только учили четыре года!
После обеда я лег поспать. Гринин дочитывал журнал «Новый мир». Захаров тоже читал что-то, лежа в постели.
Около четырех часов меня разбудил Захаров, и мы пошли в поликлинику. И я снова, как и вчера, принимал в девятом кабинете. У меня был свой кабинет, пусть на несколько дней, но свой кабинет. Подумать только!
Так счастливо получилось, что я сразу попал в лучшие условия, чем они, хирурги. Никто не контролировал каждый мой шаг. Екатерина Ивановна ко мне не заходила, так как знала, что я зайду к ней сам, если будет что-то неясно. Чуднов иногда появлялся. Посидит минут пятнадцать, посмотрит, как я веду прием, покурит и выйдет. Свободного времени у него не было совсем: то он в больнице, то в поликлинике, то в горздрав вызывают, то в горсовет или горком. И все же он находил время бывать в моем кабинете. Не раз я обращался к нему с просьбой:
— Послушайте, пожалуйста, сердце. Как будто шумок слышен.
Он вытаскивал из кармана стетоскоп, приставлял к груди больного и слушал, закрывая при этом глаза. Он всегда закрывал глаза, когда выслушивал трубкой. Наверно, так слышалось лучше. Закроешь глаза и невольно весь превращаешься в слух. Он выслушивал, а я ждал, ждал и думал, что он скажет.
— Согласен, Игорь Александрович, нежный шумок на верхушке есть.
Я расцветал. Он давал мне вдоволь наулыбаться, а потом спрашивал, что я хочу назначить больному из медикаментов. Я рассказывал.
В столе у меня лежал справочник практического врача, рецептурный справочник, и я время от времени в них заглядывал. Но это не всегда было удобно, и я по-прежнему частенько заходил к Захарову, чтобы посоветоваться, что лучше назначить больному. Заодно посмотришь, чем они там занимаются.
Но однажды Золотов спросил:
— Уважаемый товарищ студент, почему вы курсируете по кабинету через каждые пять минут? Пыль поднимаете, отвлекаете, работать из-за вас нельзя. Пора, я думаю, прекратить…
Я перестал ходить в хирургический кабинет и почаще заглядывал в справочники.
Сегодня выслушивал уже фонендоскопом. Екатерина Ивановна и Чуднов видели это, но ничего не сказали — значит, они не возражают. В фонендоскоп и слышно громче и не нужно слишком близко приближать свое лицо к больному. Некоторые приходили потные, грязные, и было мало приятного втягивать в себя их запахи. Но зато к концу дня у меня болели уши, потому что пружина на фонендоскопе была новая и сильно жала. Казалось, бранши фонендоскопа хотят проткнуть уши насквозь. Но я был настойчив и не обращал внимания на боль. И, слушая, закрывал глаза. Честное слово, лучше слышалось, гораздо лучше.
В этот день у меня на приеме был ремесленник, черноглазый ученик лет шестнадцати. Он жаловался на одышку.
Я очень внимательно выслушал то место, где обычно бывает сердце, но — странно! — сердце молчало, не издавая ни единого звука. Или, может быть, это человек без сердца и я стою на грани великого открытия?
Пойти к Екатерине Ивановне? У нее многолетняя практика, каких только казусов не было за ее жизнь, и она, конечно, подскажет. Нет, нет, никуда не пойду. Сначала надо самому постараться найти причину молчания сердца. Уж если не смогу, тогда пойду.
Я начал снова выслушивать загорелую грудь парнишки и вдруг в правой половине груди обнаружил сердце. Я не верил своим ушам.
На лекциях в институте я слышал об этом, а тут передо мной такой человек. В институте это казалось редкостью, почти утопией, и вдруг мне попадается этот удивительный парень.
Теперь надо не только услышать — надо и увидеть сердце. Я пошел в рентгеновский кабинет и договорился с рентгенологом. Он сказал, чтобы приводил больного.
Позвать Захарова и Гринина? Но как к ним зайдешь? Я вышел во двор и заглянул в окно.
Захаров и Гринин стояли ко мне спиной, Золотов что-то разъяснял, показывая на ногу женщины. Не очень-то приятно стоять в белом халате и заглядывать в окно поликлиники. А тут еще Золотов повернулся, и мы встретились взглядами.
Через какие-нибудь три минуты юноша стоял за зеленоватым экраном, и я видел, как сокращается его сердце в правой половине груди. Я поблагодарил рентгенолога. Он был очень любезен и советовал чаще пользоваться услугами рентгеновского кабинета.
— И вы не знали, что у вас сердце не там, где полагается? — спросил я у паренька, когда мы возвратились в кабинет.
— Не там, где полагается? — испугался парень. На лбу у него выступили капельки пота.
Я пожалел, что сказал эту фразу необдуманно, совсем не по Павлову. И поспешил поправиться:
— Точнее, сердце у вас на своем месте, но, видите ли, у всех людей оно слева, а у вас справа.
— Это что, серьезно, доктор?
— Нет, нет! Это нормально, это совершенно нормально… для вас.
— Неужели? И Кузьма Иванович это говорил.
— Кто такой? — спросил я.
— Наш физкультурный врач… Но, может быть, потому и одышка, что сердце справа? — Парень все еще смотрел на меня встревоженно.
— А кто впервые сказал вам про сердце?
— Кузьма Иванович… но я решил сходить еще к вам на проверку.
— Сколько Кузьме Ивановичу лет? — спросил я.
— Да так примерно за шестьдесят… Так отчего одышка, доктор? Сердцу нехорошо справа, да?
— Одышка не от этого. Вы немного переутомились. От футбола одышка, слишком много бегали, теперь надо отдохнуть. — Мне хотелось обращаться к нему на «ты», к этому парнишке, но кто знает, а вдруг он обидится, вдруг нам не полагается так обращаться.
— А лекарство будет?
— Сейчас выпишу, — сказал я, обдумывая, что же ему выписать. Я выписал ему микстуру Павлова и еще раз повторил, что ему нужно отдохнуть.
Через дней десять я видел его на стадионе. Он играл за «Спартака», неплохо играл, быстро бегал. В перерыве я спросил у него:
— Как ваше правое сердце?
Он посмотрел на меня с недоумением, потом, видимо, вспомнил, узнал, рассмеялся и сказал:
— Ах, вы о сердце, доктор! Через три дня все прошло. Большое спасибо. — И совсем тихо: — Никому не говорите, пожалуйста, что оно у меня правое, а то друзья смеяться будут. Из команды выставят. До свидания, доктор! — Он поднял руку и побежал отдыхать в помещение.
Доктор… Меня уже называют доктором!
Ровно без пяти минут семь началась вечерняя конференция, позже я узнал, что они проводятся ежедневно, если Чуднов в поликлинике. Утром заседают и в конце рабочего дня заседают. Так и хотелось сказать: бюрократы горькие! Но я не мог так подумать о Чуднове.
Когда я пришел, терапевты со своими сестрами уже собрались в кабинете Чуднова. Едва я сел, как раздался голос Михаила Илларионовича:
— Ну, теперь все. Начнем. Первый участок. — Он смотрел на карманные часы, лежавшие на столе.
Седая женщина сказала с места, что на участке все спокойно.
— Второй участок, — сказал Чуднов.
— На втором участке спокойно. — Это говорила краснощекая врач в очках. Она тоже не встала. Видимо, так было заведено.
— Третий участок.
— На третьем участке спокойно, — сказал мужчина-врач, низенький и полный, с густой вьющейся шевелюрой. — Температурящих нет.
— На четвертом участке один случай гриппа. Меры по локализации очага приняты, — сказала Екатерина Ивановна и передала Любови Ивановне листок бумаги.
Та положила его на стол перед Чудновым.
— Вопросы к выступавшим есть? — спросил Михаил Илларионович.
Все молчали.
— Вечерняя конференция закончена, — сказал Чуднов.
Врачи и сестры начали расходиться. Конференция продолжалась ровно три минуты. Эта быстрота и четкость пришлись мне по вкусу. Не было сказано ни одного лишнего слова. Но я не совсем понимал, зачем нужна эта вечерняя пятиминутка. Ведь можно обо всем рассказать завтра на утренней конференции. И, когда в кабинете остался лишь один Чуднов, я спросил у него об этом. Он улыбнулся.
— Хорошо, что у вас возникают подобные вопросы, Игорь Александрович. Какая служба в поликлинике основная?
— Терапевтическая, — сказал я.
— А что нужно, чтобы она работала безотказно?
Я пожал плечами. В самом деле, что нужно?
— Нужно держать ее в тонусе, — сказал Чуднов. — Когда автомат солдату не откажет? Когда он в чистом, безупречном состоянии. Вот и наша служба должна быть в таком же виде. Согласны?
— Конечно, Михаил Илларионович! Наверно, не только терапевтов нужно держать в тонусе, — сказал я.
— Правильно, но тон всему и всем должны задавать мы, — сказал Чуднов.
Дверь приоткрылась, и я увидел Захарова, а за ним долговязого Гринина. Я попрощался с Чудновым и вышел.
— Что ты тут делаешь? — спросил Захаров.
— Да просто так.
— Лекции главврачу читает! — сказал Гринин.
— Вовсе нет. Мы беседовали о вечерних конференциях, — сказал я.
— Николай, ты знаешь, как зовут Игоря сестры? — спросил Гринин. — Тень Чуднова. Тот на консультацию — и он с ним, тот в прачечную — и наш Игорь туда. Не отпускает Чуднова ни на шаг.
— Не перегибай, парень, — ответил Захаров.
Войдя в вестибюль больницы, мы начали раздеваться. Я видел, как кто-то в белом халате торопливо сбегал по лестнице со второго этажа. Я не успел повесить свой плащ, как услышал возбужденные слова санитарки Маши:
— Игорь Александрович, он сбежал!
— Кто сбежал?
— Ну, этот, как его…
— Да кто же?
— Ну, этот, который все кричал в вашей палате.
— Петров?
— Ну да! Петров…
— Как же он мог уйти? В нижнем белье?
— Он культурно ушел, Игорь Александрович. Жена принесла ему одежду. Одежда у него дома хранилась.
— Разве он женат? — спросил я.
— Двое детей и жена красивая. Да, да! А сам вот такой человек.
— Ничего не понимаю, — сказал я. — Неужели никто не видел, когда жена к нему приходила с одеждой? Кто впустил жену в палату?
— Она в палату не заходила, Игорь Александрович. Она к окну подошла, а он спустил веревку.
— Откуда вы знаете? Значит, вы видели, как он спускал веревку?
— Если б видела! Если б видела, он бы не убег. Сказать вам, кто видел? Больные из хирургии, да поздно сказали. Не смикитили сразу… Он по веревке поднял костюм, переоделся, когда все ваши больные спали, и ушел. Был мертвый час, и никто ничего не видел, я говорила с вашими больными. В тихий час все спят. Вы сами уговаривали их всех спать после обеда.
— Где же он веревку взял?
— Не знаю, Игорь Александрович.
— Как же он вышел никем не замеченный? Может, по этой же веревке спустился?
— Вот так и вышел. Не знаю, как вышмыгнул. Больные проснулись, меня позвали. «Поищи, — говорят, — Петрова. Кудай-то он подевался». Я все отделение обошла — нет! Подхожу к его койке, под одеялом больничная рубашка и кальсоны, а его и след простыл. Потом приходит нянечка из хирургии и мне рассказывает, все как было. Ей хирургические больные сказали.
— Михаил Илларионович знает? — спросил я, разглядывая синие и красные плитки, которыми, как шахматная доска, был выложен пол вестибюля. Вот задача!
— Никто не знает, — сказала Маша. — Дежурному врачу надо сказать, да?
— Наверно, надо, — сказал я, глядя на Захарова. Он и Гринин сидели на стульях возле стены под картиной Айвазовского.
— Дежурный врач должен знать, — сказал Захаров, — зря не доложили ему раньше.
— Вот. Идите и доложите, — сказал я Маше.
— Мне идти? Ни за что! Если бы к кому другому, а к Рындину ни за что.
— Ну, пусть дежурная сестра идет, — сказал я. — Она знает о происшествии?
— Знает, да идти боится. Я советовала. Скажите ей сами. Может, вас послушает.
— А кто дежурит? — спросил я.
— Эля, Не знаете? Она новенькая, работает второй день, всего боится.
Я смотрел на Захарова. Сейчас я нуждался в его совете.
— Придется идти тебе, — сказал он. — Твой больной, тебе и идти.
— И пойду! — сказал я. — Маша, кто дежурит из врачей?
— Я же говорила: Рындин. Самый страшный доктор! Каждое ваше слово запишет.
— И пусть записывает! — сказал я. — Мне это не страшно.
— Хочешь, вдвоем пойдем? — предложил Гринин. — Думаю адвокат тебе нужен.
— Да? Не беспокойся понапрасну. Сумею рассказать и один.
Я надел халат и пошел в приемный покой к дежурному врачу.
Он сидел за столиком на том месте, где обычно сидит Чуднов, и читал какой-то медицинский журнал. Наверно, про туберкулез читает. Это был фтизиатр, седой, старый доктор в очках. Я не видел, чтобы он когда-либо улыбался. На утренних конференциях он всегда критиковал Чуднова, и я невзлюбил его за это. Вечно он находит в больнице какие-нибудь недостатки. Наверно, он целыми днями только тем и занимается, что ищет их.
Я боялся этого фтизиатра: он был худой и бледный, и мне казалось, что от него можно заразиться туберкулезом.
— Вы ко мне? — спросил Рындин, заметив меня в дверях.
Я кивнул.
— Слушаю вас. — Он протер очки полою халата.
— Мой больной самовольно ушел из отделения, — сказал я.
— Что вы сказали? Подойдите ближе, я вас плохо слышу.
Я подошел к столу, за которым он сидел, и повторил свои слова.
— Садитесь, пожалуйста. — Он указал на стул.
Я сел и только теперь почувствовал себя не в своей тарелке.
— При каких обстоятельствах произошел побег? — Он вытащил из кармана халата записную книжку и начал записывать, что я ему говорил.
«Книжка у него не в далеком ящике, — подумал я, — в любую минуту может вытащить».
— Не спешите, я не успеваю, — не раз останавливал он меня. И задавал множество вопросов.
Я живо представил, как он завтра раскроет этот блокнотик и начнет читать на конференции свои записи. Я не пойду завтра на конференцию, вот и все. Пусть тогда читает, только бы я не слышал.
— Вы предполагали, что он может уйти? — спросил Рындин.
— Я не знал, что больные могут так уходить из больницы.
— Хорошо. А скажите, пожалуйста, не было ли недовольства у больного сестрами, питанием, больницей? — спросил Рындин.
— Было, — ответил я.
— Осветите подробнее, это очень важно, — сказал Рындин и даже переменил позу, чтобы было удобнее писать.
Я не знал, с чего начать.
— Рассказывайте, пожалуйста. Я, как дежурный врач, обязан знать все подробности.
Я не стал слишком распространяться. Мне не нравился этот врач, и, кроме того, остывал мой ужин. А Рындин обстоятельно записывал, и я знал, что он будет записывать еще час, ведь ему спешить некуда.
— Разрешите мне поужинать? — попросил я. — Приду минут через десять.
— Да, да, пожалуйста. Кстати… — Он посмотрел под настольное стекло. — Вы не знаете студента Кашу? Да, студента Кашу?
— Знаю.
— Он дежурит сегодня на «Скорой помощи». Прошу передать ему. — Он положил на стол раскрытый блокнот.
— Передам, — сказал я и вышел. Мне нужно было хорошенько «заправиться», как любил выражаться Захаров. Всю ночь не придется спать.
— Ну что? — спросил Захаров. Он уже допивал чай. Густой и ароматный чай, какой могли приготавливать только здесь. Ни дома, ни в студенческой столовой такого не подавали.
— Кое-что рассказал, но еще не все. После ужина опять пойду… Ты знаешь, я сегодня дежурю на «Скорой помощи». Рындин сказал. Как там дежурят?
— Ничего, Игорь. Ничего! Главное — не теряться.
— А все-таки почему Чуднов его первым поставил? — спросил Гринин. — Как ты думаешь, Николай?
— Не все ли равно, кто первый, — сказал Захаров.
— Тебе все равно? — спросил меня Гринин.
— Конечно!
— Тогда меняемся! — предложил Гринин. — Чуднову ведь тоже все равно.
— Хочешь дежурить первым? — спросил я. — Чтоб потом хвалиться? Не уступлю!
— Как дети, — сказал Захаров. — Как в детском саду. Его поставили — пусть и дежурит. Завтра ты будешь. — Захаров подхватил Гринина под руку и вывел из комнаты.
Я допил чай и медленно спустился в приемный покой.
— Поужинали? Как ужин? Меня, как дежурного врача, этот вопрос не может не интересовать.
Я сказал, что омлет вкусный. Чай хорошо заварен и довольно сладкий.
— Согласен. Повара у нас не хуже столичных… Продолжайте, я вас слушаю. — Рындин приготовился писать. В его руке был остро отточенный карандаш.
— Не могу, мне на дежурство в поликлинику, — сказал я.
— Так вы и есть Каша? Очень приятно. Рассказывайте. Прошу.
— А я не опоздаю на дежурство?
— Не беспокойтесь, — сказал Рындин, — я сейчас позвоню. — Он снял с рычага телефонную трубку и сказал кому-то, что студент Каша задержится минут на сорок в больнице по делам службы. Видимо, ему не возражали. Он взглянул на меня с торжеством. — Ну вот. Этот вопрос улажен. Теперь мы можем с вами не торопиться. Слушаю вас.
Я рассказал ему, что знал, и он отпустил меня в поликлинику, где размещалась «Скорая помощь».
Дежурил низенький полный врач с пышной шевелюрой. Его имя и отчество я не мог запомнить. Фамилия тоже была трудная.
Когда я представился, он сказал:
— Знаю, знаю. Михаил Илларионович говорил, что вы будете мне помогать. Как только поступит вызов, поедем с вами вместе, а пока можете почитать, отдохнуть.
— Хорошо, — сказал я и спросил, как его зовут.
Он сказал, но я не понял и сказал ему об этом.
— Я часто сам путаюсь. — Он смотрел на меня, широко улыбаясь. — Зовите Иваном Ивановичем — просто и всем русским и нерусским понятно.
— А вы не обидитесь?
— Многие меня так и зовут. Зачем обижаться?
— Хорошо. — Я улыбнулся и вышел из комнаты.
Зал, где днем больные ожидают приема, и коридор были пусты. Странно было смотреть на эту необычную пустоту. Горели лишь две лампочки — одна в коридоре и одна в зале.
В регистратуре тоже было пусто и тихо. Регистратура… Меня осенило. Я потянул на себя дверь — открывается.
Я знал, что мне делать. Надо только предупредить, где меня искать. Я пошел в дежурную комнату и сказал врачу, что буду в регистратуре. И хотя он ничего не спросил, я пояснил, что в городе у меня живет друг, но я не знаю его адреса и, может быть, мне удастся его найти по амбулаторным картам.
— Если не найду здесь, то тогда, конечно, придется зайти в паспортный стол, — сказал я и пошел в регистратуру. Там я зажег две лампы. Они светили ярко и не только светили, но и грели. Каждая из них была свечей по триста.
Среди полной тишины громко и неожиданно зазвонил телефон. Я вздрогнул. «Принимают вызов, наверное. Сейчас зайдут за мной». Но врач прошел мимо. Вскоре во дворе загудел мотор.
Про меня забыли!
Я погасил свет и бросился вон из поликлиники. Подбежал к машине. Фары еще не были включены. В кабине сидел шофер, справа от него — фельдшерица.
— А где врач? — спросил я.
— В помещении, — ответила фельдшерица.
— В дежурке остался, — пояснил шофер.
— Он ведь выходил, я слышал его шаги из регистратуры.
— Только что? Это я выходила.
Я не понимал, почему врач не едет на вызов. Почему одна фельдшерица? Почему не приглашают меня?
— Вы ждете врача? — спросил я.
— Ждем, когда у вас кончатся вопросы. — Я не сразу понял намек шофера.
— Может, вы хотите поехать со мной? — спросила фельдшерица и посмотрела на шофера. Шофер заулыбался.
— Конечно, хочу! — с готовностью сказал я.
— Да ну! Зачем мужчине ехать, Шура? — сказал шофер. Он был в гимнастерке.
— Но если он хочет.
— А что произошло, куда едете? — спросил я.
— Роды, — сказала фельдшерица.
В темноте я не видел выражения ее лица. Она сидела справа от шофера. Она была в пальто, под ним виднелся на груди белый халат. На коленях у нее стоял чемоданчик.
— Ну, поедете? — спросила фельдшерица.
Я не знал, что ответить. Практика по акушерству в это лето у нас будет, так что…
— Ну, зачем он поедет? — Шофер смотрел на Шуру, на то место, где чуть светлело ее лицо. — Мы только привезем женщину в родилку, и все. — Что интересного? — Он включил свет. Осветились раскрытые ворота, улица и забор по ту сторону улицы. Парочка шарахнулась в темень.
— Что интересного? Но, может быть, ему хочется поехать. Я же не могу отказать, если он хочет ехать. Товарищ на практике. Понимать надо.
— Вот женщина родит, пока мы болтаем, — будет практика, — сказал шофер.
— Не поеду, — сказал я и отошел от кабины.
— Давно бы так!
Мотор взревел, и машина, обдав меня бензиновым дымком, выкатила через ворота на улицу.
Дул сырой, холодный ветер. Начинался мелкий дождик, совсем как осенью. Я поежился и побежал в регистратуру, к теплым большим лампам.
Они еще не остыли.
Я был рад, что больше не было телефонных звонков и никто не ходил по коридору. И куда могла подеваться ее карточка? Я лихорадочно работал всю ночь, и вдруг то, что искал, появилось. Она стояла передо мною в голубом прекрасно отутюженном платье и стыдливо смотрела в окно. Екатерина Ивановна сидела за столом и, улыбаясь, говорила: «Лесная улица, дом пять. Почему вы сразу не спросили? Так не дерутся за свое счастье».
Я проснулся от разговора. «Лесная улица, дом пять?» — переспрашивала регистраторша. Раскрыв глаза, я увидел, что лежу на широкой лавке, под головой стопка амбулаторных карт. Мимо снуют регистраторы. В окошечки заглядывают больные, просят записать к врачам. А я лежу, и все видят, что я лежу в регистратуре.
Я встал и спросил пожилую регистраторшу:
— Почему не разбудили меня?
— Вы так сладко спали.
— И все-таки нужно было разбудить, — сказал я, краснея. — Все население города видит, что я лежу у вас. Могут подумать, что я пьяный.
— Ничего не видно из окошка, уверяю вас, Игорь Александрович, — сказала молодая, — мы загораживали вашу голову стулом.
— Мы думали, вы сами проснетесь от шума регистратуры, а сон у вас, как у здорового ребенка. Хоть из пушек пали. — Это говорила пожилая регистраторша Александра Ивановна. Молодая чем-то была на нее похожа. Неделю спустя я узнал, что это мать и дочь.
Я сидел на лавке и с минуту смотрел, как быстро они находят на полках нужные амбулаторные карты. Была половина девятого. Я проспал утреннюю конференцию.
— Не пойму, что случилось. Нет многих карточек на своих местах, — ворчала Александра Ивановна. — Ах вот, нашлась, совсем в другом ящике. Как она сюда попала?
Амбулаторные карты, которые служили мне подушкой, я незаметно положил в ящичек и вышел. В коридоре на диванах и стульях уже сидели люди.
В своем кабинете я повесил халат, умылся, лицо и руки вытер носовым платком и заспешил в больницу.
День был солнечный, воробьи трещали по всей улице, с каждого дерева, с каждой крыши. Весело шелестела листва, звонкие ребячьи голоса доносились до моих ушей. А мне было грустно. Сердце мое плакало, честное слово!
В гардеробной тетя Дуся спросила:
— Вы что же опаздываете?
— Значит, так надо, — сказал я и пояснил: — На «Скорой помощи» дежурил… Конференция не кончилась?
— Нет еще. Рындин блокнот читает. Больной какой-то удавился.
— Удавился? — спросил я. — Прямо в больнице? А фамилию не слышали?
— Петров будто.
— Так он ушел, сбежал из больницы, а не удавился, — сказал я.
— Может, и так. А мне сказали, удавился. Только слушай — всего бабы наговорят!
— А на конференцию можно сейчас идти? — спросил я.
Тетя Дуся подумала.
— Можно, хотя Михаил Илларионович и не любит опаздывальщиков, страшно не любит, когда опаздывают.
«Не пойду», — решил я.
Надел халат и поднялся в ординаторскую. Валя сидела у окна, подперев подбородок рукой. Она сидела так минуты три, пока я не кашлянул.
Увидев меня, Валя вскочила и выбежала из комнаты.
Я раскрыл свою папку и увидел в ней фотографию, она лежала поверх историй болезней. На фото были изображены я и Валя в белых халатах. Непонятно только, почему Валина фигурка перечеркнута карандашом.
Совершенно не помню. Кто и когда успел заснять нас?
Мне стало жалко Валю. Но я ничего не мог поделать со своим сердцем. Оно еще надеялось на встречу. Я уже не надеялся, а оно надеялось. Валя меня избегала, старалась при встречах поскорее уйти. Значит, все-таки я для нее не безразличен. Что-то теплое, благодарное шевельнулось у меня в груди.
Странная штука человеческое сердце, никак в нем не разберешься, даже в своем собственном, и никакая электрокардиограмма тут не поможет. А хорошо бы: посмотришь на ленту, и сразу понятно, какое чувство настоящее, а какое — просто как эхо в лесу. Когда-нибудь и такая машинка будет, ведь нет ничего, что человек не мог бы в конце концов изобрести. Но пока что ее не придумали, и сердце болело. И я прислушивался к нему, опрашивая больных своей палаты, сидя в лаборатории за приготовлением анализов, отпуская физиотерапевтические процедуры под наблюдением Леонида Мартыновича. И даже позже, когда Чуднов собрал в ординаторской всех работников терапевтического отделения, я не смог внимательно слушать, что он говорил, хотя я всегда был рад его слушать. Он ругал сестер и санитарок. Особенно досталось Эле и Маше, ведь это в их дежурство ушел Петров.
Вскоре Чуднов всех распустил и начал звонить на фабрику, где работал Петров. Долго не мог дозвониться, телефон был занят, но минут через двадцать все же дозвонился и говорил с председателем фабкома и с директором фабрики. Они договорились действовать сообща, чтобы доказать Петрову, как важно для его здоровья возвратиться в больницу.
Потом и Чуднов ушел. Я остался в ординаторской один и начал заполнять дневники. Захотелось нарисовать Рындина. Но стол был застелен новым листом бумаги, и я не посмел. Минуту спустя вошла Валя, сказала:
— Культурные люди на столах не рисуют. — И скрылась за дверью.
Как она догадалась, что Вадима Павловича рисовал я?
Терапевт Орлова все еще болела, и я по-прежнему принимал в ее кабинете. Я успевал принимать всех больных участка, и Екатерина Ивановна говорила:
— Я бы уже выдала вам диплом, ей-богу, Игорь Александрович!
В этот день ко мне снова записался Краснов.
— Руфа, — сказал я сестре, — найдите, пожалуйста, рентгеноскопию желудка. — И я подал ей амбулаторную карту Краснова.
Она сходила в регистратуру и принесла заполненный рентгеновский бланк. Я прочел: «Ниша на малой кривизне желудка».
— Ну что, доктор? — спросил Краснов.
— Язва. Язвенная болезнь желудка. Как себя чувствуете?
— А все так же. Что ни съем, рвотой вычищает. Может, в больницу положите? Или, может, у меня не язва, а что-нибудь похуже.
— Что вы, папаша! У вас язвочка ноль пять на один сантиметр, на малой кривизне желудка. Значит, хотите в больницу?
— Как же, хочу.
— Руфа, пишите направление, — сказал я.
Вот каким я стал важным. Направления и рецепты уже почти не писал сам, Руфина писала, а я лишь подписывал.
До сих пор направления в терапевтическое отделение подписывала только Екатерина Ивановна. А что, если самому подписать? Примут или откажут? Самое плохое, что может быть, — это звонок дежурного врача. Позовут к телефону Екатерину Ивановну, она пожмет плечами и пошлет за мной. А я скажу, что просто забыл дать ей на подпись.
Руфа подала мне направление. Хорошо пишет: и кратко и понятно. С минуту я медлил, потом взял ручку, подписал свою фамилию, а на обороте — назначение и номер стола. Чуднов рассказал мне про все столы, которые готовит больничная кухня.
— Можете идти, или вас лучше отвезти на машине? — спросил я Краснова. Это было в моей власти.
— Если можете, велите отвезти, — сказал Краснов.
— Руфа. — Я сказал только одно слово. Руфа все поняла. Я очень уважал ее за это. Об одном и том же дважды ей говорить не приходилось.
Минуты через три Руфа возвратилась.
— Краснов, — сказала она, — машина ждет вас во дворе.
— Большое вам благодарение, люди. — Он вышел.
Люди!.. Он благодарил нас обоих.
Я подумал в эту минуту о всех, кто лечит больных, о всех людях в белых халатах. Одни лечат лучше, другие хуже, но все они облегчают страдания или вылечивают совсем. И даже мы, студенты четвертого курса, приносим какую-то пользу, пусть очень маленькую, а все же пользу.
— Вызывайте, пожалуйста, — сказал я Руфе.
Она вышла из кабинета и тотчас возвратилась.
— К вам просится Петрова, жена того больного.
— Пусть зайдет. — Я не мог догадаться, зачем она пожаловала.
Вошла миловидная хрупкая девочка. Совсем не было похоже, что она жена, мать двоих детей. Я пригласил ее сесть.
— Вы, конечно, знаете моего мужа. Ему нужен больничный лист.
— Это ваш муж сбежал из больницы? Зачем он убежал?
— Надо у него спросить. Я советовала ему возвратиться, потому что какое дома лечение? Но он и слушать не хочет. Не было такого случая, чтобы он меня послушал.
— Зачем же вы шли за такого? — спросил я.
— Дура была. Вот и пошла.
— Это правда, что у вас двое детей?
— Конечно. Так дадите больничный лист?
— Почему же он сам не придет?
— Чувствует себя плохо. Суставы болят, температура. Он прийти не сможет. Лежит.
— Посоветуюсь с заведующим поликлиникой и тогда скажу вам, подождите в коридоре, пожалуйста.
Я сходил в кабинет к Чуднову. Его там не было. Я позвонил в больницу. И там его не оказалось. Пошел к Екатерине Ивановне. Она сказала, что надо согласовать с Михаилом Илларионовичем, поскольку случай скандальный. Надо посетить больного на дому. Сделайте вызов через регистратуру.
Я сказал Руфе, и она записала вызов.
Пригласил жену Петрова в кабинет и сказал, что к ним придет сегодня врач и тогда будет принято решение о лечении и больничном листе.
— Ему нужен только больничный лист. Ему обязаны выдать, ведь муж не может работать.
— А в лечении он не нуждается?
— Дома он не будет ничего принимать. Он никогда не принимает таблеток и микстур. А меня он не слушает. Что с ним может быть, доктор?
— Я не пророк, — сказал я. — Ему надо в больницу лечь, а что может случиться с ним дома, не знаю. Уговорите, чтобы он лег в больницу.
— Я уже пробовала, не слушает… Значит, придет врач? Спасибо. А выдаст он больничный лист?
— Это вы у него спросите… Руфа, вызывайте следующего.
Вечерняя конференция началась, как обычно, ровно без пяти минут семь. Докладывали участковые терапевты.
На первом участке было все спокойно. Сделано десять активных посещений к гипертоникам и раковым больным. На втором участке один температурящий, взят под контроль и наблюдение.
— Предположительный диагноз? — спросил Чуднов.
— Малярия. Кровь на исследование взята. Скоро будет ответ.
«Здесь есть малярия, — подумал я. — Укусит комарик — и вся практика полетит вверх тормашками». И, словно угадав мои мысли, Чуднов сказал:
— Игорь Александрович, вам для сведения… Малярии у нас осталось очень мало, единичные случаи, а было время, когда болело чуть ли не поголовно все население. Через какой-нибудь год, думаю, мы и вовсе ликвидируем это заболевание… Так-с, прошу третий участок.
Это был участок Орловой, которая все еще болела. Это теперь был мой участок. Я принимал больных именно с этого участка, а вызовы на дому обслуживал врач с непонятным именем, который просил называть его Иваном Ивановичем.
— На третьем участке обнаружен больной Петров, — сказал он. — Состояние его пока удовлетворительное, но он все же нетрудоспособен. О больнице и слушать не хочет. Петрову мною выдан больничный лист. Больной взят под особое наблюдение, как не желающий лечиться. По участку сделано семь активных посещений.
Четвертой выступала, как всегда, Екатерина Ивановна.
— Сделано пять активных посещений к хроникам. И хочу сообщить вам приятную новость; завтра выходит на работу доктор Орлова… Нужно поблагодарить, и я благодарю нашего уважаемого практиканта Игоря Александровича, который весьма успешно заменял Орлову на поликлиническом приеме. Я очень им довольна. — Екатерина Ивановна платочком обтерла лоб.
Все смотрели на меня. Я опустил глаза и рассматривал носки своих ботинок. Я думал о том, что кончилась моя свободная, самостоятельная жизнь. Руфа перестанет мне подчиняться, больные будут смотреть на меня как на практиканта.
С кем буду работать завтра? Орлову я совсем не знаю, а вот к Екатерине Ивановне я успел привыкнуть, она добрая старушка.
Когда все вышли и остался лишь Чуднов, я спросил, к кому мне идти завтра.
— А к кому бы вы хотели?
Я сказал.
— К ней и пойдете… А с Петровым целая история. Были у него на дому представители фабкома, он и им сказал, что категорически отказывается от больничного лечения. И как причину называет наше нечуткое к нему отношение. Мы же оказались виновными. Сделайте, Игорь Александрович, для себя соответствующие выводы.
Мне было очень неловко, потому что во всей этой истории был частично замешан и я.
— Как вам нравятся наши вечерние конференции? — спросил Чуднов.
— Нравятся, — сказал я. — Они очень краткие и никого не обременяют. Да и польза есть.
— Хорошо сказали. Мне доставляет удовольствие, Игорь Александрович, слышать это от вас. Свежий человек замечает многое из того, к чему мы, старожилы больницы, привыкли и чего уже не замечаем — плохое оно или хорошее.
— А вот утренние конференции… — заикнулся я.
— Ну, говорите же! — попросил Чуднов.
— Может, я и не прав, но… длинные они, по целому часу… и утомительные, иногда скучные. — И для убедительности добавил: — Захаров тоже так думает.
— А Гринин? — опросил Чуднов.
— С ним не беседовал, — сказал я, — но, наверное, и он такого же мнения.
— Интересно. Ну, а предложение не созрело у вас? Вы смелее, Игорь Александрович. За смелость никто не осудит.
— Два раза в неделю, а не каждый день, — сказал я.
— Два раза? А может быть, хватит и один? Ну, например, в субботу? Будем собираться и подводить итоги работы за неделю. Как?
— Это еще лучше, — сказал я. — Все врачи будут довольны. У каждого освободится целый час.
— Решено! Еще кое с кем посоветуюсь и…
— До свидания, Михаил Илларионович, — сказал я, заметив, что дверь кабинета приоткрылась и в щели появился глаз Захарова.
Я на цыпочках вышел.
— Опять главврачу лекцию читаешь? — Гринин деловито жевал папиросу.
— Опять.
— На какую тему, если не секрет?
— О влиянии погоды на нашу практику.
— О! Тема актуальная!
Придя в больницу, я первым долгом забежал в свою палату.
Краснов лежал на третьей койке от окна и смотрел на меня. Значит, приняли. С моей подписью приняли.
— Лекарство давали? — спросил я.
— Давали, Игорь Александрович. Спасибо за заботу.
Ночь пролетела незаметно, как один час, и снова мы в больнице.
Зная чудновскую точность, мы старались никогда не опаздывать. К восьми утра мы пришли в приемный покой и сели на свои обычные места: Гринин на кушетку, а я и Захаров на стулья возле часов. Разговорились о футболе и не заметили, что уже десять минут девятого.
— Что же это такое? — спросил Захаров. — Почему никого нет?
Сверили часы. Часы в порядке. На лицах Гринина и Захарова недоумение. И тут я вспомнил о вчерашнем разговоре с Чудновым и рассказал товарищам.
Мы пошли по своим отделениям.
Я зашел в ординаторскую за историями болезней. Чуднов, заметив меня, вытащил за цепочку из кармашка брюк часы и сказал:
— Опаздываете.
Я сказал, что все мы сидели внизу, в приемном покое и не сразу догадались, что утренней конференции не будет. Я не думал, что уже сегодня ее может не быть.
— Так, так, на первый раз прощаю, — сказал Чуднов и коротким взглядом посмотрел на меня. Затем одной рукой он приоткрыл брючный кармашек, второй начал опускать туда за цепочку часы, словно ведро в деревенский колодец. Потом снова посмотрел на меня и спросил: — Вы куда это с папкой собрались?
— В палату, — сказал я.
— Завтракать идите. Теперь завтракать в восемь будете, а не в девять. Предупредите товарищей.
После завтрака я приоткрыл дверь палаты, где лежал Коршунов. Он сидел на кровати. Возле него на стуле сидел Гринин. Я закрыл дверь и пошел к своим больным.
Белов неподвижно лежал на спине. Лишь глаза его двигались, наблюдая за мной.
— Как ваши дела? — спросил я, подходя к нему.
— Лучше, Игорь Александрович. Надоело лежать на спине, но ничего не попишешь. Надо ведь?
— Обязательно, — сказал я, считая пульс. Затем я выслушал его сердце и легкие.
— Как? — Он смотрел, повернув ко мне глаза.
— Есть некоторый сдвиг к лучшему, — сказал я.
Подошел к Руденко. Как всегда, бледный и злой.
— Болит поясница? — спросил я.
— Хоть и меньше, но я не надеюсь. Мне не выкарабкаться. Не зря в нашу палату каждый день заходит морговский доктор… Как его…
— Вадим Павлович, — подсказал Иванов.
«Разведали, все-таки разведали, — подумал я. — Кто мог им сказать?»
— Вот-вот, Вадим Павлович зайдет и смотрит на меня, а я нарочно глаза прикрою, чтоб его порадовать. А сам все вижу. Постоит он и уйдет. Не дождется, бедный… Вот аппетита нет, и голова болит.
— Аппетит появится, и голова пройдет, и вообще вы поправитесь и выпишетесь из больницы в полном здравии. — Я говорил это, опираясь на мнение Чуднова. — Нельзя так мрачно смотреть на жизнь. — Я измерил у него кровяное давление, выслушал сердце и легкие, слегка постучал по пояснице и сказал: — Вот сегодня уже лучше.
Я побеседовал со всеми старыми больными и заполнил дневники, потом подошел к Краснову и развернул пустую еще историю болезни. Я заполнял ее час и десять минут. Когда я уже закончил, вошел Чуднов и взял у меня историю болезни, сел на стул, прочел внимательно и, глядя на меня, сказал:
— Все папироски подсчитали! И сколько граммов алкоголя употребляет в месяц и в неделю. И описали всю жизнь от рождения. И когда женился, и на ком, и здоровье жены, и сколько имеет детей. И сам Краснов каким ребенком по счету родился. Биография. Вся жизнь как на ладони. Хорошо, Игорь Александрович.
Он похвалил меня и все же, словно не совсем доверяя, выслушал Краснова, задал несколько вопросов. Потом он осмотрел всех других больных моей палаты. В коридоре сказал, чуть улыбаясь:
— Вы молодцом у меня. Из вас выйдет прекрасный терапевт. Конечно, учиться еще и учиться, но фундамент у вас заложен прочный. Не скрою, я мог бы дать вам таких больных, в которых вы запутались бы… даже мы, врачи, зачастую не можем как следует разобраться, вызываем консультантов из Москвы, но зачем я буду давать вам сейчас таких больных? Учиться надо прежде всего на типичных, студенческих случаях. Не так ли?
— Конечно, Михаил Илларионович.
— Вот доучивайтесь, кончайте институт и приезжайте к нам на постоянную работу, — сказал Чуднов. — С удовольствием возьму вас к себе. Квартиру дам. Не комнату, а квартиру. Как?
Я не знал, что сказать. Впереди еще два года учебы. Кем я захочу быть: терапевтом, хирургом или… Мало ли кем?
— Может быть, я буду не терапевтом…
— Конечно, конечно! Это уж вам решать. У вас будет еще время подумать. Взгляды и наклонности формируются не за один день и не за один год. Кем бы ни были — приезжайте!
— Спасибо, Михаил Илларионович. — Я был тронут до глубины души. Еще немного, и у меня навернулись бы слезы. С двенадцатилетнего возраста со мною не случалось такого. Я сказал: — Если буду терапевтом, приеду к вам. Ну, а если хирургом — не обещаю: Золотов… Золотов не даст жить…
Мы сидели в ординаторской. Чуднов молча смотрел в окно на сосны и дымил, дымил…
— Михаил Илларионович, зачем вы курите? — спросил я. — Другим запрещаете, а сами курите. Больные люди поневоле с сомнением относятся к словам врачей.
— Давнишняя привычка, надо сказать, вредная привычка. Несколько раз бросал, но более трех месяцев не выдерживал. Силы воли не хватало. Вы не курите, кажется?
— Нет.
— Вы просто паинька. Ваше счастье, что не приучились, а то, может, тоже не бросили бы.
— А вот Захаров в прошлом году бросил, — сказал я. — Он курил с четырнадцати лет.
— Очень похвально. Было бы, конечно, неплохо, если бы законом запрещалось курить и пить водку медикам. Вы, Игорь Александрович, правильно сказали: мы лекции читаем, ведем пропаганду за здоровый быт, а сами порой… Уж в крайнем случае кури, только дома. Вот тогда ты можешь с чистой душой идти в аудиторию, на народ. Читай лекцию — и тебе поверят. Кстати, по программе практики студенты должны и лекции читать. Вы знаете? Так что прошу… прочтете лекцию о вреде курения и алкоголя, а вторую… а вторую по собственному выбору. Подумайте над темой и мне потом скажете. Набросайте конспект.
— О раке, — сказал я.
— Можно. Интересная тема. Вот и готовьтесь. Скажете вашей участковой сестре, она найдет вам объект и подготовит аудиторию. А теперь идите и исследуйте у Краснова желудочный сок, кровь, мочу… все, что полагается. И не забудьте взять кровь на реакцию Вассермана. Мы берем у всех независимо от диагноза. Полезно. И посмотрите, как ставится реакция. Впитывайте, впитывайте все возможное…
Я дослушал до конца, встал и вышел. В коридоре встретилась Валя.
— Игорь Александрович, Иванов просит ветчины! Можно купить? — Валя смотрела куда-то в сторону. Она все еще дулась на меня.
— Почему ему захотелось ветчины? Потому что в больнице не дают?
— Доктор должен знать. — Валя все еще не смотрела на меня, мяла поясок халата.
— Ну, купите, если просит! Этакое дело, ветчина.
— А можно ему? — спросила Валя, ее бровки поднялись вверх, и она кротко взглянула мне в лицо, но не в глаза, а куда-то в подбородок.
— Можно! — выпалил я.
— А Чуднов ругать не будет? — Валя чуть заметно улыбалась.
— А вы как думаете? Будет ругать? Ну, скажите! Я очень прошу вас, Валя.
— Нет! Вас не будет! — И она взглянула мне прямо в глаза, дерзко и проникновенно. Я даже испугался этого откровенного взгляда.
После обеда Захаров и Гринин пошли в школу, а я решил прогуляться по городу. Я все еще надеялся встретить ту девушку — Венеру. Я вглядывался в лица женщин, иногда нагонял тех, которые шли впереди, если они хоть чем-нибудь напоминали ее.
Я прошел через весь город, видел три средние школы, библиотеку, электростанцию, сберегательную кассу, банк, пошивочное ателье, сапожную мастерскую.
Я зашел на рынок и обошел все ряды и ларьки и осмотрел всех покупателей и продавщиц. Вполне возможно, что она могла быть и здесь. Я купил три пучка зеленого луку и литровую банку сметаны. В больнице нам этого не давали.
Шел и читал все афиши на заборах. Может быть, она артистка? Почему бы и нет? Школа бальных танцев объявляла набор учащихся. Нет, для нас это не подходит, времени нет. Да и вообще. Что такое танцы? Без них вполне можно обойтись.
Возле газетных витрин толпились люди. Из-за их спин я ничего не видел, но постепенно начал вклиниваться между ними и вскоре уже мог читать. Снова пишут про военную опасность. Неужели — Западная Германия, наследница Гитлера, получит ракеты с ядерными зарядами? Нет, вряд ли война будет. Ведь теперь и у нас многое есть… Они побоятся начать.
Несколько минут спустя я стоял возле большой витрины универмага и рассматривал велосипед. Ко мне подошла женщина с ребенком. Женщина и сама была почти ребенок, ей было на вид лет восемнадцать.
— Будьте любезны, — обратилась она ко мне нежным голоском, — подержите мою малютку. Я сбегаю в универмаг за соской. Только одну минутку. Ну, две!
В жизни своей мне не приходилось держать на руках младенцев — это совсем не мужское дело. Мне бы надо было сказать, что я спешу на работу в поликлинику, пусть бы она какую-нибудь женщину попросила. Но я медик и обязан быть самым гуманным из всех людей. Я как болван смотрел на эту милую молодую мать, потерявшую соску. Она тоже смотрела на меня нежно и умоляюще, и я не смог ей отказать и сказал:
— Давайте. Только не больше двух минут.
— Какой вы замечательный человек! — Она положила на мою правую руку теплый белый сверток, а сама неторопливо пошла в универмаг.
В левой моей руке литровая банка со сметаной и лук, на правой — спящий младенец.
Проходит минута, две, пять — нет матери! Меня это мало тревожит: в универмаге много народу. Может быть, очередь за сосками, откуда я знаю? А может быть, ей и еще что-нибудь нужно купить.
Прохожие почему-то начинают обращать на меня внимание. Я не пойму, что привлекает их взгляды. Наконец одна старушка в синем платочке подходит ко мне и говорит:
— Молодой папаша, у вас сметана по брюкам льется. Я могу подержать ребенка.
— Спасибо. Не беспокойтесь, — отвечаю я и становлюсь боком к витрине, чтобы не было видно, что я вымазан. Жду еще несколько минут. Потом смотрю на электрические часы, висящие на противоположной стороне улицы, — прошло четырнадцать минут, как ушла мать.
Ребенок начинает шевелиться, вскоре слышу его плач, а я не знаю, как его успокоить. Снова прохожие смотрят на меня странными глазами.
Почему же так долго не идет мать? Поискать? Я не решаюсь войти в универмаг, чтобы не разминуться с нею. Чего доброго, она не увидит меня возле витрины и подумает, что я хочу похитить ее ребенка.
Четыре часа дня, уже начался прием в поликлинике. Не могу устоять на одном месте, прохаживаюсь вдоль витрин.
Глаза мои невольно устремляются на широкую дверь универмага: входят и выходят люди, а моей мамаши нет. Закрадывается мысль: а не подкинула ли она этого младенца? Она пожалела бросить его где-нибудь во дворе и решила отдать в руки человека. Но почему она выбрала своей жертвой меня? Неужели во всем городе не нашлось лица более глупого? Этого я понять не мог.
Прошло более часа. Что же делать? Куда идти? В больницу? В поликлинику? Засмеют. Пойду-ка я в милицию.
Мне очень мешала банка со сметаной. В незнакомом дворе возле водопроводной колонки я смыл с брюк сметану, потом зашел в булочную, купил двести граммов хлеба и в сквере съел его с луком и с остатками сметаны. Банку оставил на скамейке.
У меня освободилась левая рука, и я теперь уверенно взял уснувший живой сверток и направился в отделение милиции. Я вспомнил милиционера дядю Лешу, с которым мы встретились в день прибытия на станцию. Помнит ли он меня?
Дежурил не он, а тощий лейтенант. Он меня подробно расспросил и, кажется, не поверил тому, что я рассказал. Как назло, паспорт мой был в школе.
— Где работаете? Где учитесь? — спрашивал он.
— Нигде, — отвечал я. Мне не хотелось называть больницу. — Я приезжий. Я приехал сюда, чтобы разыскать товарища, но потерял адрес и шел на вокзал, когда подошла эта женщина.
— Неправдоподобно. — Дежурный смотрел на меня с подозрением.
Младенец снова начал плакать. Я сказал лейтенанту:
— Достать молока вы можете? Ребенок есть хочет.
— А можно молоко? Сколько ему?
— Понятия не имею, — сказал я.
— Мальчик или девочка? — спросил он.
— Если интересуетесь — проверьте, — сказал я. — Я не эксперт.
Лейтенант сидел на стуле и смотрел на меня. Не знаю, о чем он думал.
— Вы так и не сказали: можете вы принести молока с соской?
— У нас нет молока, — ответил лейтенант. — Откуда в милиции молоко? А сосок и тем более нет.
— Ну, тогда сдайте ребенка в ясли или в больницу. — В конце концов вы дежурный и предпринимайте какие-нибудь меры, ищите мать или там еще кого-нибудь, вы же дежурный, — сказал я. — Не могу же я держать младенца на своих руках до бесконечности. — Я почувствовал, как что-то теплое поплыло по моим ногам. Я понял, в чем дело, и поднял сверток с ребенком вверх. Возле моих ног образовалась лужица.
Лейтенант засмеялся. Он смеялся долго, минуты две, потом спросил:
— Это он или вы?
— Неуместные шутки, — сказал я. — Я буду жаловаться на вас. Вы несерьезно ведете себя на дежурстве. Я пришел к вам за помощью, а вы сидите как чурбан и смеетесь.
Лейтенант кашлянул, подтянул портупею и сказал:
— Осторожнее выражайтесь, гражданин. Я никуда не отпущу вас до утра. Будете ждать, пока не придет начальник.
— А вы позвоните ему, — попросил я.
— У него нет дома телефона.
— Не верю. У начальников телефон всегда есть.
— Наш не любит, чтобы его беспокоили.
— Я положу сейчас ребенка на ваш стол и уйду.
— Вы никуда не уйдете, гражданин. Если будете плохо вести себя, я велю посадить вас под замок.
— Не имеете права, — сказал я.
— Тогда увидите.
— Значит, мне ждать до утра?
— Да.
— Если ребенок умрет, я подам на вас в суд, — сказал я. — Я обвиню вас в тяжелом преступлении.
— Меня? — спросил лейтенант. Лицо его стало очень серьезным.
Что же делать? Надеяться на помощь этого служаки не приходилось. Надо самому как-то выпутываться. Ребенок охрип от плача.
— Разрешите позвонить, — сказал я.
— Куда?
— В больницу.
— Зачем? Я должен знать зачем.
— Я хочу вызвать врача. Ребенок, кажется, болен. У него начинается аппендицит.
— В таком возрасте не бывает аппендицита, — возразил лейтенант. Однако в светлых глазах его промелькнул страх.
— У моей сестры был именно в таком возрасте. Не даете звонить, не надо. Против вас еще один факт.
— Звоните. Я не запрещаю, когда знаю зачем.
Я схватил трубку, соображая, куда лучше адресоваться. Захаров с Грининым как раз в эти минуты ужинают в больнице. Я позвонил в терапевтическое отделение и попросил позвать Захарова. Ребенок кричал прямо в трубку, высунувшись из пеленок.
— Ну вот, — сказал лейтенант, — а говорили, у вас нет знакомых в городе.
Я ничего ему на это не ответил. Я услышал голос Захарова:
— Ну что там у тебя стряслось, Игорь? Почему в поликлинике не был? Откуда звонишь?
Я рассказал ему суть дела и попросил:
— Выручай, а то милиционер хочет держать меня здесь до утра.
— Чем же тебе помочь? Приехать? Ладно, сейчас прикачу на машине.
Минут через пятнадцать к зданию милиции подкатила карета «Скорой помощи». Вошли Захаров и дежурный врач. Поздоровались.
— Мы заберем подкидыша в больницу, — сказал дежурный врач и приоткрыл пеленки. Красное личико с черными пуговками-глазами смотрело на нас.
— Не возражаю.
— У нас есть и молоко и разные молочные смеси.
— Отдаю с пребольшим удовольствием, — сказал лейтенант. — Забирайте. Только расписочку оставьте. Вот бумага.
Дежурный врач написал расписку. Лейтенант прочел ее и сказал:
— Забирайте. А мать этого подкидыша мы обязательно найдем.
— Только не вы, — сказал я. — Другие, может, и найдут.
— Минуточку! — Лейтенант встал из-за стола. — Вы знаете этого гражданина? — Он показывал на меня авторучкой.
— Господи! Да это же наш сотрудник, — сказал Захаров. — Вижу, вы тут с ним немного тово…
Дежурный врач сказал мне:
— Ну, папаша, прошу. — И жестом указал на дверь. Дежурил врач по кожным болезням.
Все улыбались, даже лейтенант милиции. Только мне было обидно и горько. Я вынес ребенка на улицу. Не знаю, что бы я сделал с той, которая дала этому существу жизнь.
Придя в школу, я принялся в раковине стирать свои брюки. Сушил я их над электроплиткой в соседнем классе.
Вошел Гринин, сказал:
— Поздравляю, Игорек. Ты, оказывается, проворный парень. Уже папашей стал.
— Таким папашей сделаться нетрудно. — Я сидел перед плиткой на корточках.
Мне надоело сушить брюки, я повесил их на спинку стула, выпрямился и подошел к окну. В открытую форточку доносилась танцевальная музыка из парка.
Валя… Чем дальше уходила от меня Венера, тем все ближе становилась Валя. Я вспомнил первое впечатление о Вале. Тогда я был уверен, что она и не посмотрит в мою сторону. Но появилась другая, и я бросился за нею. Зачем? Валя… тихая и такая красивая. Ну, не такая, как Венера… и все равно в двадцать раз лучше меня. Каюсь, Валя, что я такой непостоянный. Но ничего, я исправлюсь, и ты узнаешь, каким хорошим другом я могу быть для тебя.
Я прошел по классу, потом пошел гулять по залу. Хорошо, что среди нас одни ребята и по школе можно разгуливать в трусах.
Запахло гарью, и я, вспомнив о своих брюках, стремглав побежал обратно в класс. Что я надену, если они сгорят?
От плитки поднимался дым. Это догорал мой носовой платок, каким-то образом выпавший из кармана.
В час ночи я принялся отглаживать утюгом, взятым в больнице, свои брюки. Может быть, никогда еще учительский стол не испытывал такого давления.
Когда я вошел в общежитие, Гринин и Захаров уже спали.
Я повесил брюки на вешалку и лег на койку, накрывшись одеялом с головой. Теперь будильник тикал приглушенно.
Я вспомнил первую ночь, проведенную в этом классе. Тогда я мечтал совершить подвиг, теперь я знал, что совершить его не так-то просто.
Как я завидовал Коршунову, его умению! Если бы хоть когда-нибудь я был похож на него!
Хорошо мечтать о подвиге, о славе, об открытиях, а вот попробуй соверши хотя бы самую малость сам.
И все же… я надеюсь. Правда, уже не так, как в первую ночь, проведенную здесь.
Я уже начинал засыпать, когда услышал стук в окно. Или мне показалось? Лениво высунул голову из-под одеяла. Я пока еще не знал, что стук в окно ночью — это значит, чья-то жизнь в опасности. Стук повторился.
Кому понадобилось нас будить? Может быть, в больницу привезли интересного больного и дежурный врач послал за нами? Захаров, кажется, просил на утренней конференции всех врачей об этом.
Я побежал к окну и вгляделся в темноту: женщина держала на руках ребенка.
«Опять женщина с ребенком! — мелькнуло в голове. — Опять какая-нибудь каверза».
Женщина подняла руку. Я просунул, голову в форточку и спросил:
— Что случилось?
— Умирает мой Гришенька. Помогите! Мне сказали, тут доктора живут.
Я услышал глухие рыдания. Голос женщины был немного знаком. Я не мог вспомнить, где его слышал.
Ах, это Гриша… Не тот ли, который пас корову под дождем в день нашего приезда?
Раздумывать было некогда. Когда просят о помощи, некогда долго раздумывать. Я закричал изо всех сил:
— Подъем! Тревога! — и включил свет.
Первым вскочил Захаров. Спросил:
— Что случилось?
Гринин сел, сбросив с себя одеяло.
— Пожар? Пожар на первом этаже не страшен, чего орешь?
— Быстро одевайтесь! — крикнул я. — Человек умирает! — И, натянув брюки, выбежал из класса. Открыл ключом входную дверь, сбежал с крыльца, закричал: — Несите сюда!
Я взял мальчика на руки, внес в класс и положил на стол, на котором недавно гладил брюки. И подумал, что, может быть, никогда еще на этом столе не лежал больной человек.
— Что с сыном? — спросил я женщину.
— Не знаю. Ничего не знаю.
Губы ребенка не двигались.
— Он же не дышит! — сказал Гринин.
— Может, он подавился костью? — спросил я.
— Зачем вы сюда его принесли? — крикнул Гринин. Лицо его выражало испуг и растерянность.
— Рассказывайте быстрее. Что с ним? — потребовал я.
— Он второй день ничего не ест, только чай пьет. Больше ничего не знаю.
— Надо осмотреть горло, — сказал Захаров.
Мы начали осматривать рот ребенка — ничего плохого. Тогда я засунул ему палец в рот: может быть, удастся нащупать кость? Кости не было.
Попробовал руки Гриши — холодные, посмотрел на ногти — синеватые. Приоткрыл веки — глаза мутные. Меня обдало холодом.
Я схватил тонкую ручку мальчика. Пульса не было. Но вот опять пульс. Слабый, такой слабенький, что его едва ощущали кончики пальцев. Я чувствовал, с какими огромными усилиями вконец ослабшее сердце проталкивает кровь. Жив Гришка! Но тут снова пульс пропал, он исчез совсем, и сколько я ни искал, найти не мог. Я подумал, что пульса и не было вовсе, что мне это лишь показалось. Наверно, это был не его пульс, а мой, пульсация мелких сосудов в моих пальцах.
Я стоял возле стола и смотрел на синеющее лицо мальчика. Я с радостью отдал бы ему свое сердце, вот сейчас, в эти секунды.
Пульса не стало, и Гриши не стало. Он должен был жить. Я должен был его спасти и не смог!..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОВЕСТЬ ЮРА ГРИНИН
…На кой черт она его сюда притащила! Каша ревет, как последняя баба. Я всегда считал, что этот парень — тряпка. Пещерное ископаемое, неорганизованная материя. Если врач будет проливать слезы над каждым больным, его ненадолго хватит.
А впрочем, есть над чем зареветь. Труп в студенческом общежитии! Вся практика замарана. Вот о чем стоит реветь.
Захаров все еще возится у мальчишки. Захаров-то не способен пустить слезу: как-никак доблестный артиллерист. Ищет пульс, а точнее — вчерашний день. Зачем ищет? Место мальчишки в морге. Вадим Павлович завтра будет потирать руки.
Черт знает что! Надо кончать возню.
Я подошел к столу.
— Захаров!
Он не ответил, не поднял головы. Его пальцы, еще мгновение назад искавшие, вдруг застыли. Пальцы прислушивались. Он взглянул на меня:
— Жив!
Невероятно! Моя рука сама собой оказалась на запястье мальчишки.
— Поймал? — спрашивает Захаров.
— Пульс есть, — отвечаю.
Захаров распрямил спину, у него был торжествующий взгляд.
— А сердце ведь раздумывает, работать или нет.
Подбежал Каша и прямо впился пальцами в правую руку мальчишки.
— Мать, вы слышите? Гриша жив! — закричал он.
Вот задача: вынести труп было просто. А теперь…
— Несем на «Скорую помощь»! — предложил я.
— Не успеем. — Захаров полез в карман брюк и вытащил нож.
— Ты что? — спросил Каша.
— Будем оперировать. Трахеотомию, — ответил Захаров. Он раскрыл ребенку рот. Я увидел в зеве красноту и ничего больше. Видимо, процесс разыгрывался глубже, в гортани.
— Мать, вы согласны на операцию? — спросил Захаров. — Постараемся спасти мальчика, но обещать не можем. А если не оперировать, он обязательно умрет…
— Мне… я… Мужа похоронила, а теперь… Что ж… Делайте.
— Мать, подождите, пожалуйста, в коридоре, — сказал Захаров. — Юра, поднеси стул и усади, — сказал он мне.
Я взял стул и повел женщину из класса, поддерживая ее, чтобы она не упала. Я готов был делать что угодно, только бы не резать этого мальчишку.
Я усадил, женщину на стул. Сам стал рядом. Может быть, за пару минут они все кончат?
— У вашего сына воспаление в горле, поэтому и воздух не проходит, — говорил я женщине. — Но теперь, наверно, обойдется.
Как же, обойдется! Дорого обойдется.
Оперировать здесь, в этом грязном классе? Никакой стерильности. Ни инструментов, ни перевязочного материала — ничего! Изуверство! Чушь! Авантюра. После операции неизбежно начнется сепсис. Золотов был прав: не стоит рисковать из-за одного процента… Никогда не стоит рисковать из-за одного процента!
— Юра, ко мне! — раздался голос Захарова.
Я вбежал в класс.
— Твое мнение, Юра? — Лицо у Захарова красное, как у мясника.
— Свое мнение я уже высказал: на «Скорую помощь». И как можно скорее!
Захаров, торопясь и пыхтя, точил перочинный нож на обломке кирпича. Этим ножом он нарезал колбасу, сыр, вскрывал консервные банки, откупоривал бутылки. Теперь этим ножом он разрежет мальчишке шею.
Каша рылся в своем трехпудовом сундуке. Нашел время, идиот! И где он достал этот допотопный сундук из простой фанеры? Вскоре он вытащил сверток, завернутый в полотенце. Когда он развернул его, у Захарова глаза расширились, и он улыбнулся какой-то нечеловеческой улыбкой.
— Игорь!.. Ты… — Захаров грубо ругнулся. Бывает, и ругань звучит как высшая похвала.
На полотенце лежали, сверкая никелем, два скальпеля, четыре кровоостанавливающих пинцета, марлевые салфетки, бинты, ножницы, настойка йода в коричневом пузырьке с притертой пробкой. Прозрачная четвертушка спирта. Несомненно, это спирт, а не вода. Зачем бы он из Москвы тащил в чемодане воду? Я увидел на полотенце даже дренажную трубку.
Этот Каша ехал на практику, словно в Антарктиду. Тут же он вытащил из чемодана беленькую, вероятно прокипяченную, простыню.
Ну вот, теперь есть почти все, что требуется для операции. Нет лишь канюли, которая после разреза вставляется в трахею. Но после этого случая Каша, конечно, будет возить с собой и канюлю. И, наверно, не одну.
Захаров отшвырнул нож в сторону.
— Вот это да! Из окружения вывел.
— Игорь бесподобен! — сказал я.
— Начнем?
— Да! Конечно! — отозвался Каша.
— Николай, я все-таки считаю, что оперировать в таких условиях некультурно. Медицински неграмотно! Наверняка присоединится сепсис!
Захаров, прищурясь, посмотрел на меня.
— Пошел ты к черту! Нашел время рассуждать. Игорь! Сверни-ка из чего-нибудь валик, подложи под плечи Грише.
Мальчишка уже лежал на простыне. Теперь Каша выдернул из-под своего одеяла другую простыню и сделал так, как приказал Захаров.
Дверь приоткрылась, вошла женщина.
— Нельзя, мать, — сказал Захаров. — Прошу пока не входить.
Женщина вышла. Через дверь было слышно, как она плачет.
Захаров уже протер спиртом руки, скальпель и склонился над мальчишкой. Руки его — я это хорошо заметил — не дрожали, они были спокойны. Только на лице напряжение, неуверенность и страх. Нелегко было ему сделать небольшой разрез на шее мальчишки. Может быть, он никогда не делал такую операцию. Может быть, он вообще не делал операций. Я очень мало знал о Захарове. Как и он обо мне. Мне это нравилось.
По пальцам Захарова стекала кровь. Скальпелем он разрезал что-то в глубине раны — наверно, трахею. Вот он просунул туда дренажную трубку.
Вдруг мальчик кашлянул. Я вздрогнул, словно среди тишины прозвучал выстрел.
Каша держал голову мальчишки. Захаров вытирал марлей кровь.
Мальчишка начал дышать. Смерть отступила. Но дело не доведено до конца. Смерть еще здесь, в классе, она снова может сдавить горло мальчишки. В этих условиях нельзя довести операцию до желаемого конца. Другое дело — в больнице. В больнице и я взялся бы за эту операцию, которую вообще-то не должен делать студент четвертого курса. Даже не всякий дипломированный врач возьмется за нее.
— Чего стоишь, христосик? — крикнул Захаров. — Бубнил про «Скорую помощь» — так беги!
— Я сейчас… Сейчас!
На «Скорую помощь». Быстрей! Я пронесся по залу мимо плачущей женщины.
На улице круглые электрические фонари тускло светили сквозь листву лип и американских кленов. Белая с черными пятнами кошка прошмыгнула передо мной. Дрянь, а не кошка! Лишь бы карета «Скорой помощи» успела.
Проклятая дыра, а не город. Телефона-автомата поставить не могут. Пока добежишь, «Скорая помощь» будет не нужна.
Я был весь в поту. Майка прилипла. В жизни никогда так не бегал.
Завернул за угол. В поликлинике освещено лишь одно окно. Кто сегодня дежурит на «Скорой»? Машина возле забора. Я подбежал, кулаком забарабанил по стеклу кабины. Шофер поднял заспанное лицо, зевая, спросил:
— Чего стучишь? Белены объелся?
Я объяснил, в чем дело. Но он и не думал заводить мотор.
— Валяй к дежурному врачу, парень. Скажет — поеду.
Дежурил фтизиатр Рындин. Он внимательно выслушал меня, вытащил из бокового кармана пиджака блокнот, приготовился записывать. Посыпались вопросы. Я перебил его:
— Не буду отвечать! Прикажите дать машину! Если не дадите, я буду жаловаться Чуднову и выше. Человек погибает, а вы со своими блокнотами. Потом запишете!
— Какой вы кипяток, однако. Берите машину! — Рындин спрятал блокнот.
Через минуту я уже сидел в кабине.
— Скорей, скорей! — подгонял я шофера. Впрочем, его можно было и не подгонять. Когда он делал повороты, я крепко держался за сиденье. К Вадиму Павловичу попадать не хотелось.
Мы приехали через полторы минуты.
— Машина прибыла! — сказал я, войдя в класс.
Захаров взял мальчишку на руки. Каша поддерживал ноги. А мне за что подержаться?
— Игорь, потеснись! — сказал я и взял больного за левую ногу.
Женщина шла рядом с Захаровым.
— Доктор… доктор… Что же теперь?
Она куталась в большой серый платок.
Захаров молчал. Очевидно, не знал, что сказать. Собственно, еще и неизвестно, чем все это кончится.
— Все будет хорошо, мать. Верьте, что все будет хорошо. — Он старался придать своему голосу побольше уверенности.
Шумел мотор. Фары были включены.
— Садись в машину, мать, — сказал Захаров.
Каша помог женщине подняться в машину.
Я поддержал ее за локоть с другой стороны.
Взвыл мотор, раздался гудок, одноэтажное бревенчатое здание школы повернулось и пропало из виду.
В машине было чисто. Светила с потолка лампочка. Женщина глядела на сына. Она молча сидела и пристально глядела на него. Потом поворачивала к нам голову, говорила:
— Спасибо вам, спасибо. — И снова ее глаза тревожно останавливались на сыне.
Все-таки приятно, когда тебя благодарит мать больного. Я видел, что это приятно не только мне, но и Захарову и, конечно, Каше. В конце концов каждый из нас сделал то, что мог. Если бы машина «Скорой помощи» не подоспела вовремя, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Каша до самой больницы утешал женщину. Он совершенно не сомневался, что мальчишка будет жить. И женщина, кажется, ему поверила.
Захаров слушал Кашу и напряженно смотрел в лицо мальчишки. Нет, он не был уверен, что тот выживет. Скорее наоборот. В конце концов я был прав! Но почему Захаров не растерян? Почему не боится, что зарезал человека?
Мальчишку положили на кушетку в приемном покое. Дежурная сестра не знала, кого послать за Золотовым. Две санитарки были заняты. Щеки сестры зарделись. Я сказал:
— Могу сходить. Борис Наумович живет в тридцатом доме? Квартира шесть?
— Неужели сходите? Заранее благодарю вас, Юрий Семенович. Скажите, чтобы срочно шел в больницу. — Сестра облегченно вздохнула.
Я застегнул плащ и вышел из вестибюля.
Золотов спит и ни о чем не думает. Золотов! Признанный мастер, авторитет, хирургический бог на сто километров вокруг. Золотов! Звонкая, красивая фамилия. Наверно, очень приятно чувствовать, знать, что ты первый в городе и районе.
Через пять минут я был на Парковой улице. Прохожих нет. Даже дворники еще спят.
Я постучал в дверь. Очень скоро в передней послышались шаги, человек ступал в чем-то мягком. Золотов спросил:
— Кто пришел и зачем?
Я сказал.
Он открыл дверь, но не пригласил войти. Зато и не заставил долго ждать. Я успел выкурить лишь полпапиросы.
— Слушаю вас, — сказал он, застегивая на ходу пуговицы пиджака. — Люблю подробности.
Я начал рассказывать.
Золотов слушал и все чаще поглядывал на звездное небо. Мы шли по сонным улицам.
— Вы знаете Большую Медведицу? — вдруг спросил он.
Я показал.
— А Малую? — спросил он.
Я начал шарить глазами по небосводу.
— Не вижу, Борис Наумович, на ходу трудно ориентироваться.
— Как же летчики на лету ориентируются?
— Давайте остановимся на минуту, — попросил я.
— За минуту человек может умереть, — сказал он и спросил: — А созвездие Кассиопея видите? Или созвездие Ориона?
— И эти найду. Давайте только остановимся! — ответил я, зная, что Золотов не остановится.
— А Близнецов?
Где-то совсем близко залаяла собака. Я смотрел вверх. Я так старательно искал этих проклятых Близнецов, как будто от них зависела моя судьба.
— Не ищите, — сказал Золотов. — Близнецы появятся в августе.
— А сейчас только июнь, — зачем-то сказал я. В присутствии Золотова я чувствовал себя почти идиотом.
Собака погналась за нами. Золотов поднял камушек и бросил в нее. Он вел себя как уличный мальчишка. Собака отбежала. Она остановилась в пяти метрах от нас, повизгивая и хрипловато лая.
В вестибюле нам навстречу поднялась женщина, повязанная серым платком.
— Мать больного, — сказал я Золотову. И повернулся к ней: — Сейчас вашего сына посмотрит главный хирург.
Золотов кивнул и быстро прошел в ординаторскую.
Каша и Захаров почтительно встали с дивана.
Сестра подала Золотову халат. Влезая в него, он спросил:
— Кто делал трахеотомию?
У меня на лбу выступил пот. Вдруг стало жарко и неприятно. Какое счастье сказать: «Я делал. Я!»
— Почему молчите? Кто оперировал?
— Он. — Каша указал на Захарова.
— Кто помогал?
— Мы, — ответил Каша.
Золотов застегнул пуговицы халата и вышел.
Мальчишка лежал в операционной. Золотов осмотрел его, сосчитал пульс.
— Теперь, пожалуй, будет жить, — сказал он.
На какую-то долю секунды наши взгляды встретились. На лице Золотова мелькнула улыбка. Улыбка коварнейшего из людей… Предчувствие меня не обмануло.
Глядя на Кашу, Золотов сказал:
— Вы будете мне помогать. Идемте мыть руки.
— Не пойду, — сказал Каша. — Я прохожу практику в терапевтическом отделении и не имею права отнимать работу у них.
— Вот как? — Золотов улыбнулся, но не так, как мне, а снисходительно, мягко. — Тогда вы мойтесь, — сказал он Захарову.
— Есть мыться! — ответил Захаров, как солдат, и пошел к крану.
Я вошел в операционную. Нина уже стояла возле столика с инструментами, ждала Золотова.
Делать здесь нечего. Я повернулся и вышел. Золотов и Захаров мыли в предоперационной руки. Золотов напевал: «Марина, Марина, Марина…» Молодится, чертов старик! Я вбежал в ординаторскую, бросился на диван, как в омут. В окне блестели три яркие звезды. Близнецы? К черту Близнецов! К черту звезды! Донесся приглушенный стенами голос Золотова. Звезда районного масштаба. К черту!
Я уже засыпал, когда меня окликнул Захаров. Голос словно плавал в тумане.
— Юра! Помоги больного перенести!
Какого еще там больного? Хотелось спать, веки не разжимались.
Захаров взлохматил мои волосы. Я поднялся, пошел за ним. Я причесывался на ходу, сломал два зубца в расческе. До чего густой волос!
У входа в больницу, во дворе, стояла подвода. Женщина, держа ведро толстыми, как ноги, руками, кормила лошадь овсом. На соломе под домотканой холстиной лежал худой давно не бритый мужчина лет сорока. Мы взяли его на носилки.
В приемном покое мы опустили носилки на пол, а больного переложили на кушетку. У него были ввалившиеся глаза со страдальческим выражением.
— Золотов велел осмотреть больного и самим поставить диагноз, — сказал Захаров. — Давай обсудим.
— Нелегкий диагноз, — высказался Каша.
Мы начали расспрашивать мужчину, исследовали руками его живот, выслушали сердце, сосчитали пульс. Поспорили о диагнозе. Каша ни за что не хотел со мной соглашаться. И даже когда Захаров принял мою сторону, Каша стоял на своем. Баран!
Минут через пять пришел Золотов.
— Ну, диагносты? Слушаю.
— Заворот кишок, — сказал я.
Золотов еще не видел поступившего. Он поднял его рубаху и присел на стул. Пристально всмотрелся в живот. Затем постучал по животу пальцем, нахмурился. От сестер я слышал, что Золотов заканчивает кандидатскую диссертацию именно на эту тему.
— К сожалению, ваш диагноз правильный, — подтвердил он, взглянув на меня.
Как же иначе! Я в упор смотрел на Кашу.
— Ну, кто прав?
Он отвернулся.
— У вас серьезное заболевание, — сказал Золотов мужчине. — Нужно сейчас же оперировать. Вы, конечно, не возражаете?
Больной в ответ простонал и скорбно посмотрел на нас. В его взгляде я увидел мир, откуда не возвращаются. Больной попросил позвать жену. Ему еще надо советоваться!
— Позовите, — равнодушно сказал Каше Золотов.
Курносая с веснушчатым лицом женщина лет тридцати двух мешком ввалилась в приемный покой.
Мы вышли вслед за Золотовым в вестибюль и остановились у окна. Лошадь повернула в нашу сторону свою голову и тоже ждала.
Минуты через три дверь приемного покоя отворилась, и женщина сказала:
— Раз нужно — режьте. — По ее щекам текли слезы.
— Мы не режем, а оперируем, — сухо сказал Золотов.
Я с удовольствием наблюдал за Золотовым. Как он умеет осадить человека, поставить его на свое место! Рядом с ним чувствуешь себя и ниже и глупее. Остается одно: молиться на него и повиноваться.
Женщина притихла. Золотов энергично повернулся к нам.
— Быстрее мойте руки. Оба будете мне ассистировать. — Он пальцем указал на меня и на Захарова.
— Есть! — снова сказал Захаров и, конечно, автоматически вытянулся.
Ага! И я понадобился. Не плюй в колодец, районная звезда.
Я мыл руки. Горячая вода приятно обжигала. У соседнего крана мыл руки Захаров. Возле него стоял его телохранитель Каша и что-то говорил вполголоса.
Чуднов, дежуривший эту ночь в больнице, заглянул в операционную. Кашу он обласкал взглядом, на меня посмотрел с надеждой, а Захарову подмигнул: «Нажимайте, нажимайте — и оперировать даст».
— Помогают? — спросил он у Золотова.
Тот неопределенно выгнул брови. Понимай как знаешь.
Чуднов снова повернулся к Каше, обнял его за плечи правой рукой.
— А вы что здесь делаете, Игорь Александрович? Ведь ваше место в терапевтическом отделении!
— Там я днем, — ответил Каша.
— А разве ночью там нечего делать?
— Значит, вы запрещаете ходить сюда?
— Я, конечно, в шутку. В ваше личное время можете находиться в любом отделении больницы. Скажу больше: меня радует, что вы, прирожденный терапевт, интересуетесь и хирургией. — И он ушел.
Чего он ходит по ночам? Проверочки устраивает? Главный врач, а разменивается на такие мелочи. Недалекий человек, посредственность, потому и Кашу полюбил без памяти. Похожи они, как две слезы. Если бы, однако, Золотов в меня так втрескался. Интересно, полюбит ли Золотов Кашу? Вряд ли. Он любит только себя. Это логика сильной натуры. Но если бы Золотов все-таки хоть немного полюбил меня… Или Коршунов… На днях его выпишут из больницы. Как-то он будет относиться ко мне? Время покажет. Но многого от него не жду. Человек он не без странностей. Забывает, что врач один, а больных много. Можно ли ради всех рисковать собой? Четверых спасешь, а на пятом погоришь сам.
Я навещал его каждый день. Только бы Чуднов побыстрее его выписывал. Чего тянет?
В субботу за десять минут до утренней конференции я уже был в больнице и решил взглянуть на мальчишку. К моему удивлению, в палате сидели Захаров и Каша.
— Как? — спросил я у Захарова.
— Гриша вне опасности! — с восторгом воскликнул Каша. — Посмотри!
Мальчишка лежал спокойно. Щеки розовые, рот полуоткрыт. Он ровно дышал. Воздух с легким присвистом проходил через трубочку, укрепленную Золотовым на его шее.
Сосед мальчишки по койке, блондин лет тридцати, потянул меня за полу халата и спросил:
— Как же это вы? Без всяких принадлежностей и спасли ребятенка?
Я улыбнулся и спросил, указав глазами на Гришу:
— Спал ночью?
— Мальчонка-то? Еще как подхрапывал!
Захаров энергично кивнул на дверь.
— Пошли, ребята, а то без нас начнут конференцию.
В приемном покое уже полно врачей. Каждый сидел на своем месте. И вдруг… какая приятная неожиданность! Вдруг я увидел Коршунова. Он сидел на моем месте, в самом уютном конце кушетки. Бледное, незагоревшее лицо, большие черные чуть выпуклые глаза. Густые черные волосы, одна прядь выбилась из-под белой шапочки… Василий Петрович, мой избавитель, выздоровел! Мне хотелось всеми легкими, как на первомайской демонстрации, крикнуть: «Ура!» А впрочем, торжествовать рано. Еще неизвестно, чем это все обернется.
Захаров поманил меня пальцем. Мы уселись на его стуле вдвоем.
Вошел тяжеловес Чуднов, занял свое место за столиком. Стенные часы пробили восемь.
— Начнем, товарищи, — сказал Чуднов. — Кто у нас сегодня дежурил? — Его взгляд скользил по лицам врачей.
— Вы сами, — сказал кто-то.
С досады Чуднов махнул рукой, по-детски беспомощно улыбнулся.
— Ищешь градусник, а он под мышкой, — сказал он и начал зачитывать скучную сводку о том, сколько поступило и сколько выписано за неделю человек, перечислил известные всей больнице фамилии тяжелых больных. Потом перешел к чтению приказа Министра здравоохранения об улучшении медицинского обслуживания населения.
В первом ряду, наклонив голову, сидел Золотов. Ему тоже, видно, было скучно, он рассматривал свои желтые от йода пальцы.
Неожиданно Чуднов встал. Тяжелый, длиннорукий, с темным загаром, он походил на гориллу в халате.
— С особенным удовольствием мне хочется доложить конференции, что в эту ночь наши младшие товарищи, студенты… — И он вкратце, не называя фамилий, рассказал об операции в школе. О, это был чуть ли не подвиг, совершенный двумя комсомольцами и одним коммунистом! Идейная сторона вопроса, как видно, интересовала его не меньше, чем чисто медицинская. Словом, Чуднов знал, как преподнести материал! А, здраво говоря, при чем тут комсомол? При чем тут партийность? Если я талант — я делаю. А если он бездарь — погорит, никакой билет не поможет.
Но вот Чуднов сел. Я встретился взглядом с Коршуновым. Он радостно улыбнулся мне: «Молодец, Юра!» Я тоже ему улыбнулся: «Знай наших!»
Наконец утренняя конференция закончилась. Задвигались стулья. Врачи начали расходиться. Я остановился у окна. Дышал с наслаждением. Какая-то струна во мне пела. Наверно, оттого, что трудная и опасная ночь так триумфально закончилась.
Во дворе прогуливались больные. Доносился их оживленный разговор, смех… Мне тоже хотелось громко говорить и смеяться вместе с ними. Но я был в халате, на службе, я не мог себе этого позволить.
— Юрий Семенович, заскучали по любимой? — бросила мне на ходу Валя — та грубо отесанная, лишенная утонченности Валя, которая могла понравиться только Каше.
— Вы бы лучше спросили, где пропадает вечерами ваш… — Я не стал продолжать. Вряд ли Валя услышала бы: она была уже далеко.
Под окном кто-то ругнулся. Я вытянул шею и увидел моих больных, Редькина и Кукина. Они резались в карты. Несколько раз я накрывал их в палате, теперь они примостились на траве у стены.
— Опять за старое? — крикнул я.
Взрослые, а не понимают. Ведь, если заметит Золотов, мне будет выговаривать. Им удовольствие, а мне — выговор.
Редькин быстро сгреб карты, сунул их в карман пижамы и выставил напоказ пустые руки.
— А мы ничего. Вам показалось, Юрий Семенович. Мы не играли.
— Прошу вывернуть карманы, — строго сказал я. И уже когда сказал, заметил, что говорю тоном Золотова.
— Ну, это не положено по уставу больницы, Юрий Семенович.
— Вот именно, — еще строже сказал я. — В карты играть действительно не положено. И обманывать тоже.
После завтрака вместе с Коршуновым я сделал обход больных своей палаты. Когда мы вышли в коридор, Василий Петрович пожал мне руку и сказал:
— Честно говоря, не ожидал. Больных ведете очень правильно. В этом же духе и продолжайте.
Я сел за стол и начал заполнять дневники в историях болезней, за соседним столом сидел Коршунов. Позже к нему присоединился Захаров. Работалось хорошо… И вдруг перо в моей руке задрожало: на мгновение я представил, что было бы со мной, если бы мальчишка умер в нашем общежитии. Как бы тогда Чуднов рассказал о нас на утренней конференции?
Нудная и неблагодарная работа — писание историй болезней. Никто не оценит, никто не похвалит. А если и похвалит, то удовлетворения все равно, наверное, не испытаешь. И все-таки заполнять истории надо. Уж так повелось исстари. Кроме того, история болезни — документ юридический. Иногда он попадает в руки к дотошному следователю, фигурирует на суде. И чтобы совесть твоя была чиста, заполнять истории надо полно и добросовестно. Пусть все видят, что ты сделал для больного все, что можно было сделать. Разумеется, на современном уровне медицинских знаний.
К счастью, и писанию историй приходит конец. Василий Петрович откинулся на спинку стула, вздохнул, закрыл папку.
Я тоже захлопнул свою папку, подошел к его столу.
— Вы представляете, Василий Петрович, — начал я, — в институте нам почти ничего не давали делать самим. К ассистированию, правда, допускали. Лично я очень много ассистировал. Но разве можно этим удовлетвориться? Далеко не одно и то же — держать в руках марлю или скальпель. А нам, студентам четвертого курса, в институте — да и здесь! — доверяют только марлю. В лучшем случае пинцет или иглу.
— Совершенно верно, — пробурчал Захаров. Он еще не успел заполнить истории болезней, хотя больных у него меньше, чем у меня. Староват. Учиться нужно до двадцати пяти.
Я продолжал:
— Честное слово, обидно. Пора уже брать быка за рога. Нас через два года выпустят врачами, а мы не сделали ни одной операции. Значит, мы должны будем доучиваться где-то на Камчатке или Сахалине, притом, возможно, слишком дорогой ценой.
— Конечно! — согласился Василий Петрович. — Думаете, меня Золотов встретил лучше? Показал две-три амбулаторные операции и сказал: «Диплом получили? Так извольте работать!» Три года я варился в собственном соку. О больших операциях мог только мечтать. Как старался Золотов не допустить меня в стационар! Не вышло. Чуднов и горздрав крепко меня поддержали… А вам просто повезло, вы еще студенты и уже работаете в стационаре. Завидное положение.
— Очень незавидное, — возразил Захаров, завязывая шнурки папки. — Большие надежды возлагали на вашу больницу, а, выходит, зря. С нами обходятся как с детьми. А нам уже надоели няньки!
— Ну, друзья, делать выводы рановато. — Василий Петрович развел руками. — После трахеотомии, которую вы сделали, думаю, и Золотов пересмотрит свое отношение к вам. В следующую пятницу мой операционный день. Посмотрю, как вы работаете. А теперь пойдемте в перевязочную. У нас еще не все перевязки сделаны. Двум больным надо наложить гипс. Посмотрю, на что вы годны.
— Ты будешь в пятницу оперировать, — шепнул Захаров, положив руку мне на плечо.
— Ты что, пророк? — спросил я.
— Вот посмотришь!
Захаров ошибся: мне посчастливилось оперировать уже сегодня, в субботу.
Как всегда, с четырех часов мы принимали в поликлинике. Но теперь вместо Золотова нами руководил Василий Петрович. Сестра вызвала пятерых мужчин. На одного из них я обратил внимание. Он был примерно моего возраста, но очень бледен и возбужден. Глаза его не знали, на ком из нас остановиться. Я подошел к нему и предложил сесть.
— Ваша фамилия? — спросил я.
— Дубовский.
Я стал подробно опрашивать и все добытые сведения записывал в амбулаторную карту. Потом я попросил его прилечь на кушетку. Я ощупывал его живот, поворачивая больного с боку на бок.
— Острый аппендицит, — сказал я. — Необходима операция. — И пошел к раковине мыть руки.
— Операция? — спросил Дубовский. — А нельзя ли обойтись без нее?
— Нельзя, — сказал я решительно.
— А я думаю, что можно, — возразил он.
Наш разговор услышал Коршунов и попросил у меня амбулаторную карту больного, просмотрел первую страницу.
— Вы учитель? — спросил он.
— Да.
— И боитесь операции?
— Да. Точнее, я хотел бы обойтись без нее.
— Я вас просто не понимаю, — сказал Василий Петрович мягким голосом. — Уж кто-кто, а вы, наверное, знаете, что аппендициты лечат только оперативно. И чем раньше сделана операция, тем лучше результат.
— Значит, и вы советуете? — спросил Дубовский.
Василий Петрович попросил его «еще разок» прилечь на кушетку. Дубовский лег. Василий Петрович ощупал его живот и сказал:
— Да, советую.
— Если советуют сразу двое, очевидно, надо соглашаться, — сказал Дубовский.
«Сразу двое»? Неплохо сказано! Я взглянул на больного попристальней и увидел в нем себя. Высокий, стройный. Густые волнистые волосы, чуть выгоревшие на солнце. Только глаза не мои — голубые. И за ним, наверно, гоняются девчонки.
— Юрий Семенович, пишите направление, — сказал Василий Петрович, — и распорядитесь, чтобы товарища Дубовского отвезла санитарная машина.
Я написал направление, и мы вышли из кабинета.
Фельдшерица Шура, дежурившая на «Скорой помощи», прочитала направление и начала собираться в путь.
Вбежал Захаров, глянул на нее.
— Вы здесь?
— Уезжаю в больницу.
— Подвезите заодно и мой аппендицит, — попросил он.
— Ваш? — Шура лукаво смотрела на Захарова.
— Ну, конечно! Я ж не святой. И даже у вас может случиться эта штука, если еще не вырезали.
— За мой аппендицит можете не беспокоиться. — Шура, надув губки, пошла к машине. — Ведите же скорее свои аппендициты. — Она сдержанно улыбалась.
Санитарка впустила в кабинет трех пожилых женщин и двух девушек.
Одна из девушек меня поразила. Я просто не верил глазам. Ее словно отлили по особому заказу природы.
Я усадил ее на стул против себя и рассматривал, не стараясь и не умея скрыть восхищение. У нее было красное от загара лицо. Сочные, по-детски сложенные бантиком губы. Но какой это был бантик! Голову даю на отсечение, что таких вторых губ нет на всем свете. Девушка была моложе меня года на три.
— Ваша фамилия?
— Кирьякова Вера.
— На что жалуетесь? — спросил я.
— Никто замуж не берет. — Она смотрела на меня озорными глазами.
— Я возьму, — тихо сказал я и пальцем показал на свою грудь. — Подхожу? — Я смотрел ей прямо в глаза. Дьявольски хороша девчонка! Вспомнилась Алла, которая меня обхаживала в институте. Я не возражал, что она меня обхаживала. Все-таки профессорская дочь.
Какой фурор произвела бы Вера, если б она появилась со мной в институте! От нас не смогли бы оторвать глаз. Только и разговоров было бы о том, какую девушку отыскал себе Гринин. Алла, наверно, умерла бы от зависти. Но кто же виноват, что бог не наделил ее красотой?
— Ну? Так гожусь в мужья? — спросил я тихо, чтобы никто из посторонних не слышал.
— Кто тебя знает. Сначала палец вылечи. — Она протянула распухший и пожелтевший указательный палец. Я взял ее руку. Удивительная красота пальцев и предплечья. Черная родинка возле локтя. По-детски крошечные выгоревшие на солнце волоски. В одном месте прилип кусочек моха.
— У тебя нет температуры?
— Не измеряла, — ответила Вера.
— Так-так. Значит, торф добываешь? — Я заглянул в амбулаторную карту.
— Да, сушила торф, доктор.
— Этими руками?
— Ну, конечно! Не твоими же!
Я смотрел на нее и все больше поражался. Одета бедно: выцветшая ситцевая кофточка, простая клешная юбка, парусиновые туфли в песке.
— Совсем не спала, доктор. Хоть отрубай палец. Не могу больше терпеть.
— Зачем же отрубать? Отрубать такой пальчик! Царевна позавидовала бы.
— Отпусти мою руку, — вдруг сказала Вера. Она хотела еще что-то сказать. Я поспешно перебил ее:
— Надо удалить гной. Ну как, полечимся, Вера? — Я готов был тысячу раз повторять ее имя.
— Я же сказала — лечи.
— Зина, — позвал я сестру и взял скальпель.
— Лучше отвернуться, — посоветовал я Вере.
Она отвернулась к окну, и я увидел ее профиль.
Это лицо достойно было того, чтобы его отчеканивать на монетах. Удивительно талантлива природа. Она совершает чудеса с поразительной легкостью. А как нелегко изобразить на холсте движение морских волн или предрассветный сумрак леса! Или лицо девушки. Изобразить так, чтобы в него можно было влюбиться. Я старался скальпелем повторять все движения Золотова. Хотя нам самим он ничего не давал делать, но смотреть, что делают его руки, он все же не запрещал. Этого права он отнять не мог.
— Больно? — спросил я, как всегда спрашивал Золотов.
— Что-то делаешь, а что — не пойму, — ответила Вера.
Я вскрыл нарыв. Гной, перемешанный с кровью, вытек в лоток. Я наложил повязку и сказал:
— Все. Сегодня будешь спать.
— Спасибо, доктор. Когда прийти на перевязку?
— Сейчас скажу. Пойдем, — сказал я.
Мы вышли из кабинета. Хорошее правило — брать быка за рога. Но не всем дано уметь пользоваться им. Я сказал Вере:
— Встретимся завтра, а? Завтра воскресенье.
Губы ее улыбались.
— Завтра прийти на перевязку?
— Конечно!
— По воскресеньям поликлиника закрыта.
— Для перевязок открыта… Придешь?
— Не знаю, доктор.
— Приходи к почте, — попросил я. — Но только обязательно. Буду ждать. В десять утра.
Она посмотрела на меня грустными глазами.
— Ладно. Приду, если так просишь.
Я протянул ей руку. Она пожала. Это была удивительная рука: горячая, живая, пронизанная током. У Аллы рука всегда была холодная, потная, вялая. Ее руку я старался как можно скорее выпустить из своей.
Вера получила больничный лист в окошке регистратуры. Сложив его вдвое, она пошла к выходу. Я сидел на стуле среди больных и смотрел на нее.
Солнце светило прямо в дверь. Я нарочно здесь сел. Когда Вера выходила, солнце пронизало ее платье насквозь, и я увидел, какие красивые и стройные у нее ноги.
Потом я вышел на крыльцо и смотрел, как она идет по улице: Вера шла легко и спокойно.
И было в ее походке что-то такое, что принадлежало только ей. По этой походке я узнал бы ее среди тысяч других девушек.
На перекрестке Вера остановилась и обернулась. Я помахал ей рукой. Она не ответила и скрылась за углом здания.
Я возвратился в кабинет в самом лучезарном настроении. Завтра мы встретимся. Я жил завтрашним днем, и когда следующая больная, пожилая женщина в очках, не согласилась на операцию, которая ей была необходима, я даже не рассердился, а сказал только:
— Не могу вас заставить — дело ваше, здоровье тоже ваше.
— Правильно. Посоветуйте гражданке идти домой, — вмешался Василий Петрович. — Зачем напрасно отнимать время у себя и у других? Будем заниматься теми, кто хочет лечиться.
— А вы сами меня разве не можете полечить? — Женщина смотрела на Василия Петровича. — Они же… практиканты.
— Сегодня ведут прием московские доктора, — сказал Василий Петрович. — И незачем капризничать.
Больная взглянула на меня еще раз. И, резко повернувшись, ушла.
— Посидит, подумает и вернется, — сказал мне Василий Петрович. — Нельзя же допустить, чтобы больные у нас в кабинете командовали.
Вот это мне нравится. Правильные слова.
Потом мы приняли пятерых мужчин. Коршунов подходил то ко мне, то к Захарову, давал указания. После мужчин снова пригласили женщин. Среди вошедших была и та упрямая больная в очках. Она смущенно улыбалась.
Василий Петрович одобрительно сказал:
— Давно бы так, гражданка. Юрий Семенович, мойте руки.
К половине шестого мы приняли всех записавшихся больных.
— Собирайтесь, поедем оперировать, — сказал Василий Петрович.
Машина «Скорой помощи» подбросила нас до стационара за какие-нибудь три минуты. Еще через десять минут я уже стоял возле операционного стола в полной форме врача-хирурга. Предстояло сделать операции троим больным. В последние дни я много читал об операциях по поводу аппендицитов. И знал эти страницы учебников на память.
Вошел Захаров, на ходу завязывая марлевую маску. Затем появился Василий Петрович. Он был одет, как и я: халат, шапочка, марлевая маска, фартук из клеенки. И руки выставлены вперед.
На каталке привезли тучную женщину. Сердце у нее, должно быть, неважное. Василий Петрович оперировал ее сам, а я помогал. Не приведи бог оперировать таких полных! И зачем только они болеют!
Двадцатилетнюю девицу оперировал тоже он. Операция прошла без каких-либо особенностей, и она мне не запомнилась.
Дверь приоткрылась, в щель пролез Каша. Он посмотрел на меня с завистью. Ему тоже не терпелось оперировать. Конечно! Он стал возле Захарова и что-то тихо говорил ему в левое ухо, как в микрофон.
Василий Петрович сидел на железном, выкрашенном белилами стуле. Как и я, он выставил вперед руки, полусогнутые в локтях.
— Вы хорошо ассистировали, — вдруг сказал Василий Петрович. Он оттолкнулся ногой от пола, описал на вертящемся стуле почти полный круг и остановился, глядя на меня. — Всегда помните, что вы ответственны за жизнь человека. Когда оперируете, всегда думайте, что на операционном столе лежит близкий вам человек: мать, брат, жена. Нужно любить человека, который пришел к вам за помощью. Руки и сердце хирурга неразрывны.
Голова и руки — да. Что касается сердца — сомнительно. Во всяком случае, мне будет трудно представить в чужом человеке брата, мать или жену.
Ввезли Дубовского. Василий Петрович сказал:
— Юрий Семенович, оперировать будете вы.
Глаза Каши вспыхнули, а Захаров глянул на меня без всякого удивления. «Я же говорил тебе!» — прочел я в его взгляде. Мне показалось, что он завидует мне. Что ж, это естественно… Как и я, он смотрел на Коршунова.
Не заведующий отделением Золотов, не институтские светила, а Василий Петрович казался мне сейчас самым умным, самым справедливым учителем на земле. Я благодарил судьбу за то, что при распределении попал именно к нему. Хорошо, что он выздоровел. И еще лучше, что он оправдывает мои надежды.
Дубовского переложили с каталки на операционный стол.
— Тревожно на душе, — признался Дубовский, глядя то на Василия Петровича, то на меня. — Мой дядя умер до войны оттого, что срезал безопасной бритвочкой мозоль. И представьте, жена у него была врач.
— И он, по-видимому, считал, что этого вполне достаточно, чтобы и самому испробовать свои силы в медицине, — сказал Василий Петрович. — Много ли надо знаний, чтобы удалить крошечную мозоль?
— Он умер от заражения крови, — сказал Дубовский, шаря глазами по операционной. Ему, наверное, казалось, что он увидит где-либо кровь. Но вокруг была чистота, какая может быть только в операционной.
— Вероятно, ваш дядя не прокипятил бритвочку, — сказал Захаров. — А пенициллина в те годы еще не было.
— Вероятно, — уже из-под простыни сказал Дубовский. — Василий Петрович, кто будет меня оперировать?
— Юрий Семенович, — ответил Коршунов.
— Юрий Семенович врач или студент? — спросил Дубовский.
Гениально! Гениально спросил парень!
— Почти врач, — сказал Василий Петрович. — Он окончил с отличием четыре курса института. Кроме того, и я буду рядом, так что вы можете быть спокойны.
Я буду оперировать! И мне будет ассистировать Василий Петрович! Я почувствовал необычайный прилив сил и уверенность неограниченную.
Может быть, эта уверенность передалась больному. Он спокойно опустил голову на простыню — он беспрекословно отдавал себя в мои руки.
Василий Петрович смазал йодом живот Дубовского. В двух предыдущих операциях это делал я. Сестра подала шприц, и я сам начал впрыскивать новокаин в кожу больного. Все шло хорошо, и лишь когда в моих руках оказался скальпель, уверенность начала покидать меня. Ассистировать просто, а теперь немеют пальцы, сжимающие скальпель, кружится голова. Может быть, от счастья кружится? А что, если не смогу? Но ведь я давно стремился к оперированию! Я увидел Василия Петровича, Захарова, Кашу, Дубовского и сказал себе: «Я должен быть сильным и смелым, лишь тогда из меня выйдет толк». И вонзил скальпель в кожу.
Дубовский спокойно дышал под простыней. Воздух свободно поступал к нему. Дубовский, конечно, не знал, что делается сейчас в его животе. Но, как и каждый больной, он хотел знать.
По выражению лица Каши я догадывался, что Дубовский смотрит на него, смотрит, наверное, внимательнее, чем в зеркало. Каша иногда ему подмаргивал. Выражение лица Каши часто менялось, но не омрачалось ни разу.
Мне надо было найти червеобразный отросток. Еще ничего не искал я в жизни с таким старанием.
Минуты три прошли в поисках, в тягостном для меня молчании. Нет!
Я посмотрел на сестру Нину. Ее глаза, большие и черные, что-то подсказывали мне. Но что? Взглянул на Василия Петровича. Он даже не удостоил меня взглядом. «Если я не доведу операцию до конца, я погиб», — мелькнула мысль.
И вдруг я нашел отросток сзади — совершенно позади слепой кишки. Нашел!
Минутой позже я перевязал отросток, отрезал, бросил в таз и начал зашивать брюшину.
— Молодец, Юрий Семенович. Хорошо, — похвалил Василий Петрович, когда больного увезли в палату.
Выйдя из-за своего столика, операционная сестра протянула мне руку:
— О! Вы титан, Юрочка! Первый раз вижу оперирующего студента.
— А что говорили в начале месяца, помните? «Не завидую больным, которые…»
— Поздравляю, — перебил Каша, — ты прекрасно делал.
Подумаешь, открыл Америку! Я и сам знал, что прекрасно. Теперь вся больница будет знать. Я первым сделал полостную операцию.
Захаров оказался самым сдержанным. Пожав руку, он лишь сказал:
— Начало хорошее, Юра.
Я понимал его сдержанность и даже одобрял ее. Я сам относился к Захарову сдержанно: не мог себе простить, что все-таки, если разобраться, не я, а он спас мальчишку. Этот переросток обставил меня на целое очко. Что ж ему радоваться, если я теперь догоняю?
Василий Петрович медленно снимал халат, лицо его улыбалось.
— Вот смотрю на вас и думаю, — сказал он, — правильно я поступил или нет? Убежден, что правильно.
Каша, кивая головой, закричал:
— Конечно, правильно! Разве может быть на этот счет второе мнение?
Я не мог ни думать, ни говорить. Я был на седьмом небе. Душно и тесно в операционной. Я вышел в коридор. Он был пуст. А мне хотелось к людям, хотелось новых похвал. Хорошо ли, когда человек ждет похвал? Да, хорошо! Да, я хочу похвал! Человек должен хотеть похвал, если это настоящий человек, а не тряпка.
Не помню, как очутился я на дворе. Шел, кажется, дождь, но, разгоряченный, я не замечал его. Я даже расстегнул воротник рубашки и ослабил галстук. Курил папиросу за папиросой. Счастливейший день моей жизни!
Не заметил, как подошел Каша. Он ласково потрепал меня по плечу. Не скрою, я не чувствовал особой радости от этого прикосновения.
— Я очень доволен, Юра, — сказал Каша. — Вот узнает Золотов, что ты хорошо оперировал, и к Захарову будет лучше относиться, да и ко мне, когда перейду в хирургическое отделение. Возможно, и Золотов будет скоро разрешать оперировать… Я очень доволен, Юра, — ведь каждый успех, каждая неудача любого из нас отражается на всех троих.
— У тебя иногда рождаются гениальные мысли, Игорь! — сказал я. Минуту погодя я спросил: — А тебе не надоело еще в терапевтическом?
Дождь брызнул вдруг как из лейки, и Каша спрятался под балкон, поддерживаемый толстыми четырехугольными колоннами. Оттуда он крикнул:
— Что ты, Юра! Терапия — увлекательнейшая наука… Ой! Шприцы полопаются! — Через мгновение он исчез в вестибюле.
В такой день его мысли заняты какими-то шприцами.
Едва он исчез, на крыльцо вышел Чуднов. Сейчас и он начнет поздравлять. Конечно! Я поблагодарю его… Странно! Куда это он? Не заметил меня.
Из окна второго этажа высунулась Валя:
— Юрий Семенович, вас дежурный врач зовет.
Что еще там такое? Я бросил папиросу, поправил галстук, застегнул на все пуговицы халат. Перед больными и старшими всегда надо быть в полной форме. Уж где-где, а здесь я не давал себе поблажки никогда.
В дверях вестибюля я встретился с Кашей. Он посторонился, чтобы пропустить меня:
— Иди, иди, Юра! Как-никак герой дня!
То-то же!
Дежурил Вадим Павлович, очень странный человек — единственный врач в больнице, который, кажется, страдает оттого, что больные все реже стали умирать.
Как он был удивлен, когда узнал, что мотоциклист Лобов, вероятно, не умрет! «Да?» — сказал он. И вдруг так засмеялся, что я испугался за его здоровье.
Я постучал в дверь ординаторской, услышал «да!» и вошел.
Вадим Павлович сидел за большим письменным столом. Перед ним лежала толстая потрепанная книга, наверно роман.
— Вы знаете, что сегодня дежурите?
— Впервые слышу.
— По графику — ваш день. Возражений нет? — спросил он.
Откровенно говоря, в субботу дежурить не хотелось.
— Придется, — сказал я.
— Вот-вот. Никуда не денешься. — Он беспомощно развел руками и засмеялся.
— Где прикажете находиться? — спросил я.
— Держать вас около себя не собираюсь. — Он все еще улыбался. — Будьте где-нибудь в больнице. Думаю, мы разыщем вас, если понадобитесь. Иголку и в стогу находят. Салют! — Он хлопнул ладонью по роману. Я понял, что свободен, и вышел.
Несколько минут я ходил по ковровой дорожке, разостланной в коридоре, потом вышел на больничный двор.
Вечер был прохладный, но не дождливый. Я сидел на скамейке среди клумб. На других скамейках сидели больные: кто играл в шахматы, а кто просто дышал свежим воздухом.
В городском саду, зазывая, гнусавила радиола. Сквозь редкий переплет больничной ограды были хорошо видны гуляющие по улице пары. Типичный провинциальный пейзаж. Как здесь может существовать талант? Уверен, что Золотов живет на чемоданах. Его место в столице, в клинике. В однообразной веренице людей, тянущейся в парк, я вдруг заметил клетчатый светло-серый костюм. Только один человек в мире мог его носить, в нем было так много бумаги, что складка на брюках не держалась больше двух часов. Рядом с уникальным костюмом шагало голубое платье с белым воротничком. Итак, Игорь и Валя тоже плетутся в парк. Что ж, пусть погуляют. Им только здесь и гулять. Им здесь как раз. Хороша была бы эта парочка на улице Горького.
И все-таки я завидовал Игорю: он гуляет, а я дежурю. Идиотский график. Почему Чуднов именно меня поставил дежурить в субботу? Ничего. Завтра и на моей улице будет праздник. Если Вера не подведет.
Когда б не дежурство, субботу можно было бы назвать великолепной. События дня пронеслись передо мной. Утренняя конференция, где нас, студентов, подняли на щит. Первая самостоятельная работа в поликлинике. Встреча с Верочкой. Наконец, операция Дубовскому — вершина всей нашей практики. С сегодняшнего дня турнирную таблицу веду я. Люблю шахматы. А прелесть данной партии в том, что за меня играют две королевы: Вера и хирургия.
Вера… Что она сейчас делает? Вспомнила ли хоть раз обо мне? Впрочем, это не столь важно. Вовсе не обязательно, чтобы любили двое. Была бы только моей.
Вера и хирургия. Вот все, что надо мне от жизни. Хирургия, хирургия! Самая результативная, самая эффектная из всех специальностей. Разве Золотов не первый человек в больнице? Но сколько надо знать, чтобы стать Золотовым, сколько надо учиться! На это уйдут годы, десятилетия. Впрочем, всегда есть исключения из правил. Путь Золотова, вероятно, можно пройти в сжатый срок.
Что Золотов! До него как до солнца. Захаров, кажется, умеет больше меня, этот лапоть из глухой деревни. Лапоть, но палец в рот не клади: откусит! Сделать аппендицит для него, наверное, вовсе пустяк. Где он научился делать трахеотомию? Не было случая поговорить об этом. Почти каждую ночь он в больнице. Если там что-нибудь случается, за нами в общежитие прибегает няня. Так приказал Чуднов. Но в больницу с нею уходит лишь он один. Иногда с Кашей. И никогда — со мной.
Неужели я ленив? Нет, отставать я просто не имею права. Когда ночью опять за нами прибежит санитарка — я пойду. С этого дня буду ходить всегда.
Тут я вспомнил, что дисциплина в моей палате хуже, чем в палате Захарова. Он отучил своих больных играть в карты, а я своих не отучил. Что карты! Мои больные иногда курят в палате, иногда убегают в магазин в больничных пижамах. Золотов уже сделал мне замечание на этот счет: «Воспитывать больных нужно. Почему его больные дисциплинированны?» — И Золотов глазами указал на Захарова.
Я встал со скамейки и направился в свою палату. Лишь один Зернов находился на койке. У него был перелом бедра, и при всем желании он никуда не мог уйти.
— Где же остальные? — спросил я.
Зернов ответил:
— Откуда же мне знать, Юрий Семенович?
Во дворе на скамейках сидели больные, но не из моей палаты. Кое-кто разлегся под кустами, но моих не было и здесь. Так я дошел до забора, отделявшего территорию больницы от городского сада. В заборе качнулась доска. Она открыла на мгновение темную зелень горсада и встала на свое место. Очевидно, оттуда кто-то периодически вел наблюдение.
Нагибаясь, чтобы не зацепиться за ветки вишен, я побежал к секретному лазу, отодвинул доску — и ахнул. Пятеро моих больных сидели вокруг расстеленной газеты и выпивали. Две бутылки водки, одна из них пустая, сыр, колбаса, больничный хлеб, колода карт… Они ничего не успели убрать. Я смотрел на них, они — на меня.
Редькин спрятал в карман колоду карт, подмигнул Кукину. Тот начал разливать по стаканам водку из второй бутылки.
— Доктор! Пожалуйста, с нами, — сказал Редькин. — Одну рюмочку.
— Как вы смеете!
— Не волнуйтесь, доктор, это же лучшее средство медицины, особенно в субботний вечер, — сказал Редькин.
— Вот я покажу вам субботу!
Редькин подал знак своим товарищам, и они в одно мгновение осушили стаканы. Бутылки полетели в кусты.
— Вы будете меня помнить. Я вам покажу!
— А что вы нам сделаете? Ударите? Не имеете права!
Не говоря ни слова, они начали перелезать на территорию больницы. Последним полез, покряхтывая, Косых, болезненный, худой мужчина, ежедневно предъявлявший на обходе десятки жалоб. Я сказал ему:
— Водкой язву лечите? Послушаю, что завтра вы будете говорить на обходе.
— Виноват, Юрий Семенович… Горько виноват.
— Маху дал, Косых! — сказал Кукин. — Мы же говорили: «Не пей без разрешения Юрия Семеновича».
— О вашем поведении узнает дежурный врач, — сказал я. — Сегодня же вас выпишем…
Решительность покинула меня на втором этаже, вернее, еще на лестнице, которая вела на второй этаж. Я шел к Вадиму Павловичу. Сказать или нет?
Если скажу, будет шуму на всю больницу. Чьи больные убежали? Гринина! Чьи больные играли в карты и пили водку? Больные Гринина! Пожалуй, лучше помолчать. Лучше будет для них и для меня. А их я возьму измором… Не дойдя до ординаторской, где читал роман Вадим Павлович, я вернулся вниз.
Больные сидели на своих койках. Я вошел в палату. Они настороженно смотрели на меня. Я стоял и молчал, стараясь сделать взгляд пронизывающим. Читайте, голубчики, свою судьбу. И вдруг произошло нечто несообразное. Редькин захохотал.
— Не выдал! — крикнул он, как бы отхаркивая хриплый смех. — Ей-богу, не выдал! Юрий Семенович, друг любезный, спасибо. Ну, мы, конечно, ошибку сделали, каемся. Мы…
Я выскочил из палаты, хлопнув дверью.
Пьяный наглец! Так разговаривать с врачом! Но как он догадался? У Золотова он бы не догадался, Золотов бы одним взглядом превратил его в порошок. А я… боже мой! Когда же я-то научусь превращать их в порошок?
Минут десять я просидел в коридоре за столом, подперев ладонями отяжелевшую голову. Думать об унижении, которое испытал, не мог. И не думать не мог. Вадим Павлович вывел меня из оцепенения.
— Работенка, работенка будет! Через пять минут… Что вы смотрите на меня, как на марсианина? За Борисом Наумовичем послал! Ясно?
— Будет операция? — с надеждой спросил я. Во мне вдруг вспыхнуло предчувствие успеха.
— Больной в приемном покое. Хорошо, что вы оказались под рукой. А то я хотел уже посылать за вами…
— А за практикантами послали? — спросил я, надеясь, что он забыл сделать это. Может быть, мне удастся работать с Золотовым один на один.
— Няня найдет! Няни приказы Чуднова выполняют точно.
Пусть приходят. Что-то во мне зажглось, и горечь неудачи перестала жечь грудь.
— Пойдемте, Юрий! — сказал Вадим Павлович. — Не хочу называть вас по шаблону. Не обижаетесь?
— Что вы!
— Люди ближе друг другу, когда отбрасывают всякие отчества. Зовите меня просто Вадимом. Ничего не значит, что на какие-нибудь три пары лет я старше вас. Все это… как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустота и глупая шутка.
Вадим Павлович махнул рукой, я посмеялся про себя: Лермонтов в масштабе районного морга. Забавных людей выкраивает жизнь.
В приемном покое на кушетке лежал парень лет двадцати трех. Лицо загорелое, глаза злые, черные, аккуратная челочка.
Я осмотрел его живот и сказал:
— Вадим, у него паховая грыжа. Ущемленная.
Он кивнул и сказал больному:
— Операция абсолютно неотложная. Сейчас придет Борис Наумович.
Вскоре в вестибюле послышались мягкие шаги. В дверях показался Василий Петрович.
— А говорили, послали за главным. — Больной, нахмурясь, смотрел на Вадима Павловича.
— Борис Наумович прихворнул, — сказал Коршунов.
— А что, вам не все равно, товарищ Луговой? — спросил Вадим Павлович. — Важно, чтоб операция была сделана леге артис.
— По-русски не умеете? — разозлился больной.
— Ну, то есть хорошо, отлично, превосходно.
Василий Петрович осмотрел живот, пощупал пальцем язык, сосчитал пульс, выслушал сердце и легкие.
— Вы смотрели, доктор? — спросил он меня.
— Ущемленная грыжа, — сказал я нараспев, как любил говорить Золотов. Он жил во мне — он, который причинял мне одно зло.
— Правильно. И, следовательно, нужно экстренно оперировать. Луговой, вы согласны на операцию?
— Согласен, — ответил Луговой.
— Вадим Павлович, оформляйте историю болезни. Юрий Семенович, пойдемте мыть руки.
Мы ждем, когда на каталке привезут больного.
— Василий Петрович, разрешите… Я много ассистировал на таких операциях в клинике! Хотите, я расскажу все этапы операции?
Несколько мгновений Василий Петрович колебался, потом сказал:
— Говорите. Я слушаю.
Я рассказал.
— Правильно, даже очень правильно. А уверены, что сделаете?
— Совершенно уверен! Абсолютно! А если… в крайнем случае… что не так, так ведь рядом вы, Василий Петрович.
— Была не была! Уговорили. А вот и ваши.
В операционную вошли, тяжело дыша. Захаров и Каша. Они бежали, чтобы не опоздать. Ввезли Лугового. Операция началась. Вторая самостоятельная операция в моей жизни.
Вдруг дверь отворилась, в нее бочком, протиснулся Чуднов. Нет, предчувствия не обманывают, никогда не обманывают. Я забыл про свои несчастья.
Я забыл про несчастье больного. Я чувствовал вдохновение и знал, что оно не угаснет.
Чуднов смотрел на мои руки, а я работал, и мне приятно было, что он смотрит, как я работаю. Наверно, пианисту также приятно знать, что его слушают люди. Я знал, что нужно делать в данную минуту и что в следующую. Мне не нужно было подсказывать. Впервые я почувствовал себя хирургом. На меня смотрели. С улыбкой? С восхищением? Не все ли равно, когда руки знают сами, что делать, и все твое существо наслаждается явлением искусства? Вот, оказывается, что такое настоящая операция!
Луговой зашевелился. О чем он говорит? Не понимаю, какое удовольствие он находит в болтовне на операционном столе?
— Товарищ Луговой, спокойнее!
Операция продолжалась час и пять минут. Час и пять минут я был счастливейшим человеком. Потом больного переложили со стола на каталку и повезли в палату. Вдруг я услышал возглас, выражающий испуг. Я круто повернулся. По предоперационной шел Золотов. Сестры уступили ему дорогу. Он жестом приказал им везти каталку дальше. Я шагнул ему навстречу. Пусть! Пусть войдет!
Но Золотов в операционную не вошел. Он окинул нас настороженным взглядом, повернулся и, чуть согнувшись, будто от какой-то боли, направился к коридору. Дверь закрылась.
— Ну как? — спросил Чуднов. Он, ласково пыхтя, смотрел на Василия Петровича.
— Опять будут неприятности.
— Операция же протекала прекрасно?
— Главный хирург недоволен ею.
— Что вы, дорогой мой. Я убежден, что теперь он изменится. Такие молодцы, как наши студенты, хоть кого расшевелят. Он-то хорош был сегодня? — Чуднов глазами показал на меня.
— Вы же сами видели.
— Я как хирурга вас спрашиваю.
— Прекрасно, Михаил Илларионович! И без всяких скидок на молодость. Операция проведена без малейших подсказок с моей стороны. Считаю, что Юрий Семенович весьма преуспеет в хирургии.
Старик совсем расцвел.
— Ну, не будем слишком хвалить его, а то еще вообразит себя гением. Но прирожденным хирургом назову. И думаю, что не ошибусь. До свидания, дорогие мои товарищи!
Каша и Захаров молча пожали мне руку: видимо, им было нечего добавить к тому, что сказали врачи. Они пошли в общежитие досыпать ночь. Василий Петрович тоже скоро ушел. Мне же спать не хотелось. Два — ноль в мою пользу, Захаров. Так-то идут дела.
Часа два я просидел на подоконнике в коридоре, глядя на перемигивающиеся огоньки сонного города. Потом пошел к Вадиму Павловичу и спросил, что мне делать.
— Книга есть? — спросил он.
— Нет.
— Ну, попросите у больных, развлекитесь. А поступит новый больной, будем вместе принимать. Можете посидеть в приемном покое. Там Милочка сегодня дежурит. С ней побеседуйте. Она и книгу вам достанет.
Мне не хотелось беседовать с какой-то Милочкой. О чем, в самом деле, я мог бы беседовать с ней? А поиграть с девчонкой не было расположения. Я пошел вниз, в свою ординаторскую, снял туфли, пиджак, брюки, взял с этажерки номер «Хирургии» и лег на диван. Я читал все статьи подряд и все-таки не мог нагнать на себя сон.
В коридоре кто-то быстро прошел. Шаги угасли. Снова кто-то прошел, очень быстро. Хоть бы не было операций! На сегодня с меня хватит.
…Два высоких окна были светлы. Семь часов, батюшки! Скоро придет Золотов, а я валяюсь в одних трусах. Протянул руку к стулу — пиджак висел на спинке, а брюк не было. Кровь ударила в голову. Чей-то голос, не то Веры, не то Аллы, пропел дурацкие слова: «Вот так трюк, хирург без брюк». На мгновение я почувствовал себя бесконечно несчастным, Хуже, чем после той мерзкой сцены с Редькиным в палате. Опять этот пьяный шут! Он? Нет, тут имеется другой вопросик: если так шутят над врачом, значит он потерял уважение… трюк — без брюк. Что-то холодное заворочалось в животе. К счастью, чувство юмора редко покидает меня надолго. Я взглянул на свои голые ноги с хорошо развитыми мускулами икр и расхохотался. Гладиатор, штаны проспал! В следующий раз запирайся на ключ, люди — паршивая штучка.
В чемодане у меня, конечно, были вторые брюки. Однако кого послать в школу? Санитарку нельзя: через полчаса вся больница подымет меня на смех. А Золотов… О, этот не потерпит, чтобы об его отделении ходили анекдоты.
Закрыв ординаторскую на ключ, я надел халат и выглянул в окно. Ни души. Слава богу, что я ночевал на первом этаже! Пиджак под мышку и вниз, на землю.
Вот когда пригодился секретный лаз Редькина.
Очутившись в парке, за забором, в том месте, где вчера выпивали мои больные, я почувствовал себя в безопасности.
Горсад был пуст.
Я стоял в мокрых кустах желтой акации и смотрел по сторонам. Никого.
Вдруг я увидел парнишку лет тринадцати. Он быстро шел от стадиона к озеру. На солнце поблескивала бамбуковая удочка.
— О-гей! — крикнул я ему из кустов.
Парнишка остановился.
— Давай сюда!
Он подумал и пошел ко мне.
— Хочешь заработать десятку? — спросил я. — Отнеси записку.
— Куда нести-то?
— Во вторую начальную школу. Моему другу. — У парнишки были белесые, как у Каши, волосы и захаровские кошачьи глаза.
— Ладно, — снисходительно сказал он. — Пиши…
Я вытащил авторучку, начал писать Захарову, примостившись на пне.
Парнишка склонил надо мной голову.
— Валяй. Быстро. Одна нога здесь, другая там. Удочку-то оставь.
Парнишка прислонил удочку к стволу березы.
— На старт! — подмигнул ему я. — Начинаем забег на тысячу пятьсот метров по пересеченной местности. Выступает чемпион…
Он засмеялся и побежал, петляя между деревьями.
Аллея была посыпана желтым песком. На песке четко отпечатались две пары следов: одни крупные — от широких туфель, другие — миниатюрные, узкие, с ямкой от невысокого каблучка. Следы некоторое время тянулись рядом, маленькие — справа от широких, но вот те и другие как-то завихлялись и вдруг повернулись — носки к носкам.
— Эй, артист! — услышал я за своей спиной голос Захарова. — Чего там ищешь?
— Так, ничего. Забавная история. Глупая, как жизнь.
Я затоптал тапочкой спутавшиеся следы и дал парнишке двадцать пять рублей. Подхватив удочку, он помчался к озеру.
— Ни черта не понимаю! Что у тебя за ночные приключения? — спросил Захаров. Он протянул мне сверток.
— Николай, — спросил я его, натягивая брюки. Они были немного не в тон пиджаку, но ничего, здесь это сойдет. — Николай, почему у людей все в конце концов выходит наружу? Они не хотели бы кое-когда оставлять следов. А следы-то остаются.
— Иди-ка спать, парень, — ответил Захаров.
Спать не пришлось. Пришлось выдержать пренеприятное объяснение с Золотовым.
— Объясните свое поведение, — сказал он сухо, когда после завтрака я пришел в ординаторскую.
— Мое поведение? — спросил я.
— Вам надо разжевать и положить в рот? — спросил он. — Извольте! Что за мальчишество лазать через окно? Напустили тучу мух. Окно — настежь.
— Извините меня, Борис Наумович… Я вылез позагорать.
— Всех мух выловить! О выполнении доложите. Приступайте! — Он, подымая халатом ветер, вышел из ординаторской.
Я крикнул санитарку и сказал, что Золотов велел немедленно уничтожить мух. Мы раскрыли все окна и начали махать полотенцами. В десять у меня назначена встреча с Верой, и нужно было спешить. Наконец в ординаторской осталось четыре мухи. Они сидели на потолке и никак не хотели покидать теплый золотовский кабинет. Им было наплевать на то, что мы старались вовсю. Пришлось забраться на шкаф, чтобы дотянуться до этих тварей.
Времени оставалось в обрез, а Золотова я не мог найти нигде. Нина сказала, что, кажется, он в родилке. Я снял телефонную трубку.
— Родильное отделение слушает. Кто говорит?
— Гринин! — ответил я и услышал, как сестра сказала: «Девочки, узнайте, родила Гринина или нет?»
Фу! Я бросил трубку на рычаг и побежал в родилку. Придирчивая акушерка не пропускала меня до тех пор, пока я не надел на мой очень чистый халат еще один, роддомовский.
— Все сделано, — доложил я Золотову.
— Как прикажете понимать? — спросил он, нахмурившись.
— В прямом смысле, — ответил я.
— Вам что-нибудь понятно? — спросил он у врача акушера-гинеколога.
Та пожала плечами. У нее были красиво завитые каштановые волосы.
— Вот видите, и доктор не понимает, — сказал Золотов.
Я ни за что не сказал бы ему тех слов, которых он от меня добивался, если бы не спешил.
— Все мухи выловлены!
— Ну вот! Теперь и доктору понятно.
Врачиха рассмеялась.
— Так вот, — более дружелюбно сказал Золотов, — мух наловились, теперь готовьтесь к ассистированию.
— Не могу, — перебил я. — У меня заказан телефонный разговор с Москвой.
— В это время Москву не дают, — сказал Золотов.
— А вот у меня заказ приняли.
— Как вам угодно, — сказал Золотов и повернулся ко мне спиной.
Я опоздал на десять минут и проклинал все на свете, расхаживая возле почты по тротуару. Веры не было. Стрелка на почтовых часах перепрыгивала с минуты на минуту. Постоит и прыгнет. Потом снова постоит и прыгнет на следующее деление.
Может быть, даже хорошо, что встреча с Верой не состоится? Принесет ли она счастье? Красивая статуэтка в квартире… С другой стороны, когда парень встречается с девушкой, разве всегда нужно думать о браке? В аспирантуру без Аллы не попадешь. Профессор сделает все возможное — и даже невозможное! — чтобы провалить меня. Он выполнит любую прихоть своей единственной дочери.
— Здравствуй, доктор!
Я обернулся и уже не мог больше думать ни о чем. Передо мною стояла Вера.
— Я решил, что ты не придешь, — сказал я, смущенный и взволнованный.
— И ошибся в диагнозе, доктор?
— Зови меня Юрой.
— Мне нравится это имя, — ответила она.
— Пойдем куда-нибудь, — сказал я, — подальше от людей.
Она посмотрела мне в глаза. У нее были умные глаза. Немножко кокетства и ни грамма наивности.
— Зачем уходить от людей?
— Хочу видеть только тебя!
— И в толпе, если захочешь, можно видеть лишь одну.
Я не нашелся что возразить. В ларьке я купил две большие плитки шоколада, сунул их в карман пиджака.
Скоро мы были за городом. Справа возвышалась насыпь железнодорожного полотна, слева раскинулся залитый солнцем нескошенный луг. Белые, желтые, фиолетовые и красные цветы. Благоухающая зелень, а за ней ярко-синее озеро.
Вера шла так красиво, как никто до нее не ходил.
Я смотрел на нее сзади, смотрел на чуть распушившиеся волосы, на ее талию, перетянутую белым шелковым пояском, на ее загорелые ноги в легких коричневых тапках. Тысячелетняя история. Идет женщина, как будто летит над землей, а ты жадно смотришь ей вслед, и хочется идти рядом. Два следа рядом — от широких туфель и маленький, с ямочкой от каблучка. Они тянутся рядом. До поры до времени.
Я взял Веру за руку. Она посмотрела мне в глаза, вырвала руку, побежала по тропинке, которая все еще вилась вдоль железнодорожной насыпи. Я побежал, догнал и по-прежнему шел сзади и глядел, как она идет, как слегка морщинится на ней белый шелк. И как выступают на спине пуговицы лифа.
Тропка вильнула влево на луг. Я не знал, куда она выведет, но готов был идти по ней куда угодно. Мы прыгали через кочки, перескакивали через неширокие канавы с черной и ржавой водой. Когда я обернулся, железнодорожной насыпи уже не было. Она исчезла, словно вдруг опустилась, продавив своей тяжестью землю. Лишь кончики телеграфных столбов чуть виднелись на фоне безоблачного неба.
— Посидим, Юра, — сказала Вера и опустилась на траву, натянув на колени платье.
Я расстелил пиджак и сел. Вера была совсем рядом, волосы ее пахли солнцем, медом, весной и еще чем-то удивительным. Я хотел обнять ее, но Вера перехватила мою руку и, улыбаясь, сказала:
— Доктор Юра! — И покачала указательным пальчиком.
Она сидела, вытянув ноги и покусывала травинку. Откусит, подержит в губах и сдунет. Чертовски захотелось ее поцеловать. Но что-то удерживало от этого.
И вдруг я начал говорить, что женюсь на ней, что увезу в Москву, где у меня милая старушка мать и просторная, с окнами на юг, квартира.
— Мама будет очень довольна тобой, я знаю. Она очень скучает сейчас одна.
— В Москву? К матери? Я матери нужна или тебе?
— Конечно, мне!
— А отец у тебя есть?
— Погиб на фронте. У меня только мама. Она на все готова ради меня. Поедем, Верочка. Зимой мы будем жить в Москве, а летом на Кавказе, на берегу моря. Там живет мамин брат, генерал в отставке.
— Ты интересный человек, Юра, — сказала Вера, премило растянув второе слово, — я таких еще не встречала.
Что ж, многие девушки считают меня интересным, и было бы глупо доказывать им обратное.
— Я рад, что я тебе интересен, Вера. Но мне этого мало.
— Ого, Юрочка, ты решительный.
— Через два года я буду врачом. Может быть, знаменитым врачом.
— А я через два года окончу десять классов.
— Поедем в Москву!
Она срывала с ромашки лепесток за лепестком.
— Не любит!
— Не веришь? — спросил я.
— У тебя есть другая. По глазам вижу. Я по глазам любое могу узнать.
— Я не люблю ее, она мне противна.
— Кто она?
— Студентка.
— Тоже будет врачом?
— Да, — ответил я. И спросил: — А ты кем будешь?
— Инженером.
По озеру плыла лодка, в ней сидели парень и девушка. Когда я пригляделся, то увидел голубое платье с белым воротничком. Валя. И, конечно, Каша!
Вера посмотрела мне в глаза.
— Ты на студентке женишься. Она будет врачихой. В одной семье два врача. Много общего.
— Я женюсь только на тебе. Так?
— Не знаю. — Лицо Веры было очень грустное. Она смотрела на солнце, которое неярко светило из-за белой тучки. Тучка напоминала кружевной девичий воротничок.
Я протянул Вере шоколад. Она не взяла. Шоколад был мягкий, как масло. Разогрелся на солнце.
Мы возвращались в город грустные, почти мрачные. Я всю дорогу клялся Вере, что люблю ее, люблю больше всей своей жизни. Я взял ее под руку и вел по тропинке.
Прощаясь, мы условились, что встретимся завтра в девять вечера в городском саду возле танцплощадки.
— Букет возьмешь? — Она протянула мне букет.
— Давай. Может быть, зайдем в кафе пообедаем, а?
— Что ты, Юра!
Я взглядом проводил ее до угла улицы и сунул букет в первую попавшуюся урну.
В школе меня ожидал сюрприз. В нашем классе за столом сидела Алла.
Губы накрашены, ресницы подведены, брови выщипаны, оставлена лишь жалкая, тонкая нить.
Мы пошли гулять по городу. Побывали в кино и кафе.
В десять вечера я провожал ее на станцию. На улицах было темно, но я ни разу ее не поцеловал.
— Ты очень изменился, Юрик, — сказала Алла. — Не узнаю тебя.
— Ты хочешь сказать, что я хорошо загорел на практике?
— Как раз я не это имела в виду.
— А что же? — Я смотрел на Аллу. Она была такая неестественная.
— Ты встретил другую, я поняла это еще по письмам. А теперь и увидела.
— Что увидела?
— Все, что нужно было увидеть.
Я не стал расспрашивать о подробностях. В таких случаях не надо спрашивать, а надо говорить, говорить. И я говорил Алле, что люблю ее по-прежнему, что люблю только ее, что ей показалось, будто я изменился по отношению к ней. Я обещал приехать в Москву в следующее воскресенье. Алла сказала, что будет ждать и кое-что припасет к этому дню.
Алла не блещет красотой, но зато умница. Она всегда на лету подхватывала мои идеи. Алла пригодится надолго. А Вера… Надо быть лопухом, чтобы упустить такой кусочек.
Я медленно шел к общежитию. Фортуна наконец-то повернулась ко мне лицом. Выздоровление Василия Петровича, операция Дубовскому, вторая операция — Луговому. Встреча с Верой… Несмотря ни на что, Вера приятна, очень.
Что же из всего этого главное? Столько событий за один день, что и не разберешься сразу. Я знал лишь, что должен окончить практику на «отлично» и пятый и шестой курсы — на «отлично». И государственные экзамены тоже.
Диплом с отличием, поступление в аспирантуру — вот чем я должен жить. И еще Вера.
В общежитии Захаров читал учебник хирургии. Каши еще не было.
— А где наш гуляка? — спросил я, показывая на кровать Каши.
Захаров неожиданно рассердился.
— Ты, Юрка, лучше не задевай Игоря.
Я тоже рассердился.
— Что ты взъелся? В товарищество играете? Силенок не хватает, так вы друг за друга цепляетесь?
Я лет на кровать и открыл журнал.
Захаров тоже взялся за книгу. Он читал насупившись. Я смотрел ему в лицо. Странно, что он не чувствовал моего взгляда.
Мы легли в двенадцать. Захаров закрыл входную дверь, я прикрыл окно. Интересно посмотреть на Кашу, когда он будет возвращаться.
В половине первого ночи кто-то забарабанил в раму. Я еще не спал и подошел к окну: конечно, он! Фонарь во дворе освещал его светло-серый костюм.
— Открой, — попросил Каша.
Я открыл форточку.
— Открой окно!
— И за форточку скажи спасибо.
Я лег на койку и смотрел, как он лез. Форточка была довольно широкая. Он влез без труда. Даже костюм не помял.
Каша ужинал, не зажигая света. Он не хотел тревожить Захарова. Я видел его улыбку. Он смотрел на кровать Захарова — и улыбался.
Пахло луком, копченой селедкой и малосольными огурцами. В его чемодане был целый «Гастроном». Эх, тоже мне врач! Малосольная интеллигенция!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ НИКОЛАЯ ЗАХАРОВА
Здорово получилось! Коршунов доказал делом, что умеет верить в людей. И Гринин был молодцом, несмотря на склонность к позерству. Первую свою операцию он провел отлично. Нужно было видеть парня, чтобы понять, чем стал для него сегодняшний день.
Торжественный, стоял он у белой кафельной стены, вытянув вперед руки в резиновых перчатках. Когда на каталке привезли Дубовского, Гринин приосанился, его взгляд стал строгим.
Началась операция. Он долго не мог найти аппендикс, а найдя, как мальчишка, закричал во все горло: «Нашел!»
Потом Гринина поздравляли так, будто он первый в мире сделал операцию на сердце. Опьяненный успехом, он вышел во двор и стоял под дождем, минут десять, пока не остыл. Я заполнял истории болезней в ординаторской, сидя у окна. Мне хорошо было видно его лицо: красивое, мужественное и в то же время немного глуповатое от удачи.
Юрий умел контролировать себя, но сейчас он был один и, зная, что его никто не видит, просто млел от счастья. Я смотрел на него, радуясь и чуточку завидуя. В двадцать девять лет уже не будешь с такой телячьей нежностью любоваться собой.
Положив локти на истории болезней, я смотрел в окно. Мне хотелось — чертовски хотелось! — чтобы Юрий немедленно пошел в палату к Дубовскому и сосчитал пульс. «Иди, Юрка, ну иди! Это же твой первый человек, которого ты сам оттащил от смерти». Гринин, должно быть, почувствовал мой взгляд. Его нервная организация подходила для таких опытов. Он повернулся к окну, наши глаза встретились, глуповатая улыбка уступила место торжественно-победной.
— Салам, будущий хирургический бог! — крикнул мне Юрий, с удовольствием выделяя слово «будущий». Он легко нагнулся, сорвал с клумбы две маргаритки и, стряхнув с них капельки дождя, воткнул в петлицу халата.
Дурень! Не понимает главного.
Вижу Игорька на его месте. Тот сидел бы сейчас у койки больного, забыв про все остальное. У него просто не осталось бы времени заняться собой. Послеоперационный период только начался, и тому, кто лежит под больничным одеялом, так еще много нужно! Нужен не только опыт врача. Нужна нежность. Нужна готовность сделать вот в это мгновение то, что вдруг предстоит сделать. Нужен поток сочувствия и веры, понуждающий больного бороться за свою жизнь.
Я знавал врачей, которые обходили палату и выполняли все, что профессионально надо было выполнить. Потом они уходили, и в палате не прибавлялось жизненных сил. Игорек застрахован от этой разрушающей врачебный талант черствости души. А вот Юрка?
Что-то он не с того бока смотрит на вещи. Хвалили его, что ли, слишком много? Вот и увидел он в операционной только успех, а человека не заметил.
Не было человека на столе, была операция. Случай из практики Ю. С. Гринина. Маргаритка в петлице!
Я думаю, имеется ошибка в самой системе подготовки. В ней у нас слишком мало черной, требующей предельной самоотверженности работы. Кажется, Ефремов придумал для юношей будущего три подвига Геркулеса? Ну, да, об этом он написал в «Туманности Андромеды». Правильно придумал! Помню, когда мы прочитали в артполку, то все спорили, в какой же форме можно провести уже сегодня, у нас, для наших ребят, подобное утверждение нравственных сил и прав. Прямо-таки хоть в ЦК ВЛКСМ пиши!..
Нам тогда, в Тюрингии, посчастливилось видеть подвиг. Тогда-то я и влюбился на всю жизнь в хирургию. Ночью полк подняли по тревоге, и мы, разобрав лопаты, бросились в район обвала. Лес был срезан снежной лавиной. Немецкий поселок смят. Дома, сорванные с фундаментов, разваленные стены, домашние вещи жалко торчат из-под снега. Фары бульдозеров вырывали из темноты одну картину страшнее другой, и солдаты в их лучах искали людей, откапывали и относили к палаткам только что развернутого госпиталя. Одного немца мы с ефрейтором Ивановым нашли в глубокой, засыпанной снегом яме. Я ухватил немца под мышки, попытался поднять — он пронзительно закричал. Раздробленная стопа придавлена огромным валуном, она держалась на нескольких жилах. «Берегись, лейтенант!» — вдруг крикнул сверху Иванов.
Валун подался! Не знаю, какое, но очень точное чувство отметило еще незаметное глазу движение. Взмахом ножа отсечена стопа, и через мгновение мы с раненым были наверху. Скрежетнув по льду откоса, валун сполз в яму. Я посмотрел на Иванова. К белым щекам его стали приливать живые краски. «А на вас совсем лица нет, товарищ лейтенант! — сказал он. — Треба перекурить».
Мы, артиллеристы, все сбились с ног в ту ночь. Еще труднее было медицинским работникам. Их было мало, а нуждающихся в неотложной помощи было много, каждый врач и сестра должны были работать за десятерых. Всю ночь, весь день и, как оказалось, еще целую ночь. Вот это, в сущности, и был подвиг.
Когда под утро спасательные работы закончились, солдаты кучками толпились близ госпиталя, спрашивая сестер: «Как мой-то немец? Жив?», «А моего уже оперировали?» — и получали ответ: «Какой твой? Тут все наши». Потом на пороге появился майор Шарин, главный хирург.
— Эй! — крикнул он. — Товарищи! Кто тут есть со средним образованием — прошу сюда!
Я стоял близко и успел с другими подбежать к нему.
— Пошли, будете помогать!
Каждому дали работу. Мне показали, как мыть и беречь руки, надели белый халат. Пока оттирал щеткой с мылом ладони, майор стоял рядом и смотрел.
— Учились отлично, лейтенант?
— Не очень, товарищ майор.
— Сейчас, дорогой, проверим. Зрелость узнается по способности быстро освоиться в новом деле. Вы замените на несколько часов операционную сестру. Пока что требуют от вас одного — внимательности.
На одноногом столике, накрытом простыней, разложены инструменты. Он их называл, а я повторял вслед за ним названия, неожиданно красивые, более подходящие к цветам, нежели к этим металлическим штучкам: «пеан», «кохер»… Повторял и с ужасом думал, что вот сейчас майор будет резать человеческое тело, а я все перепутаю и наделаю ему беды.
— Рекомендую не смотреть на операционное поле, лейтенант. Вы медицински неграмотны, все равно ничего не поймете. Забудете и то, что узнали. Подавайте, что попрошу, и чур — не обижаться.
Все следующие часы я старался следовать этому совету. Но не смотреть совсем я не мог. Его руки подобно магниту притягивали взор. Они совершали чудеса. До той поры я преклонялся перед людьми, умеющими делать красивые и удобные для людей вещи, я мечтал стать одним из них. Может быть, столяром, как отец, может, думалось, хватит пороху и на другое — скажем, инженер по деревообработке. Неплохо, совсем неплохо! И вот в ту ночь я увидел, как работает человек, отстаивающий у смерти другого человека. Другого, третьего, четвертого, пятого…
Услышав голос майора, я подавал инструмент. Иногда совал мимо руки хирурга, иногда хватался не за то, что требовалось, и он, ругаясь, поправлял меня.
Потом прибыли заблудившиеся в метели медицинские сестры, и моя работа окончилась. Полк уходил в свой городок. Местные власти благодарили солдат за помощь. Майор Шарин, пожимая руку, сказал:
— Ну, спасибо за помощь, товарищ… медбрат. Не обижаетесь?
— Что вы, товарищ майор!
— Язык мой — враг мой. Невоздержан. Вам много лишних слов досталось?
— Семь «болванов», товарищ майор…
— Всего семь, лейтенант? Тогда считайте, что вы с честью выдержали первое испытание.
— Готов хоть семь лет ходить в болванах, лишь бы стать таким хирургом, как вы, — вырвалось у меня.
— О, романтическое увлечение хирургией! Любовь с первого взгляда?
— Мне кажется, тут другое…
— Проверьте себя, лейтенант. Случайный человек в медицине не менее опасен, чем на офицерском посту. Я вас как кутенка сунул в операционную, и вы несколько ошалели. Конечно, ситуация необычная… бедствие, тяжелые травмы… двенадцать операций… благополучный исход. Красиво, ничего не скажешь. Однако проверьте.
— Да как же? Как проверить себя? Легко с высоты вашего опыта прикидывать, а мне?
— Пожалуй, я обескуражу вас своим советом. Право, я бы ради интереса взял вас в госпиталь, но, сами знаете, в армии свои нормы, и офицеру не положено клозеты чистить. А как станете штатским, идите прямой дорогой в любую больницу и нанимайтесь санитаром. И проситесь в самую трудную палату. Поработаете и, если уверуете, что это ваша стезя, валяйте с чистым сердцем в медицинский институт.
Я и теперь не могу забыть этого памятного разговора. Спасибо, майор! Я старался проверить себя как умел. Срок хождения в «болванах» близится к концу. Скоро буду хирургом — теперь-то я уж твердо знаю! — и могу спокойнее думать и говорить об этом.
— Все трудишься? — прервал мои мысли голос Нины.
— Нет, дурака валяю, — ответил я, скосив глаза на окно, за которым домлевал наш Юрий.
Нина выглянула наружу, помахала ему рукой, потом села на диван и спросила:
— Почему ты на него сердитый? Он же сегодня именинник. Неужели завидуешь, Коля?
Ох, уж мне этот «детский сад»! Нина славная девушка, мы с ней немного дружили, и бывало, что я не чувствовал разницу в летах. Женщины взрослеют скорее мужчин, и десять лет не были помехой нашему товариществу. Но сейчас я не мог говорить с ней ни про Гринина, ни про майора, ни про то, что Юру, кажется, надо бы послать на годик в санитары.
— Не передумала? — спросил я. — Пойдем на лодочную?
Нина оживилась, дважды качнулась на пружинах дивана. Если бы ей было чуточку больше, ну хотя бы двадцать пять лет, она так, наверно, не сделала бы. Но пока это ей шло. И она знала, что это ей идет, и с удовольствием любовалась собой, своей игрой в ребячество. Она ответила:
— Покататься я всегда готова. В девять?
В коридоре послышался раздраженный голос Золотова: «Где Нина Федоровна? Сейчас же найдите мне Нину Федоровну! Безобразие!»
— Опять скажет: «амурничаете»! — продолжая свою игру, прошептала Нина, потом встала и нарочито медленно, красиво покачивая плечами, пошла на зов заведующего.
Едва Нина исчезла, в ординаторскую влетел Золотов. Взглянул на меня и сел на зачехленный белой тканью диван, на то самое место, где только что сидела Нина. Мною овладело озорное чувство. «Ну-ка, старик, качнись… раз-два». Золотов сидел с каменным лицом, положив ладонь левой руки на колено и далеко отставив локоть. Тут шла другая игра.
Заполняя очередную историю болезни, я время от времени украдкой поглядывал на него. Белый как лунь и черные широкие брови. Под ними в крутом изгибе карие выразительные глаза. Бронзовый волевой профиль кавказского склада. Строен и нетучен, несмотря на свои годы. Красив!
Многим красив этот человек. И обликом, и повадкой, и профессиональным мастерством. Даже своей диковатой волей, уже принесшей нам столько разочарований. Что же ему мешает понять молодежь? В сущности, мы требуем немногого: чтоб нам дали дело. Вот и все.
Золотов по-прежнему сидел в напряженной позе, как бы собирая себя в пружину. Потом вытащил из кармана конфету, развернул бумажку, откусил. Шоколадные конфеты его слабость. Он прибегает к ним в минуты душевных волнений. Они успокаивают его, как других успокаивают валерьяновые капли.
Вошел Коршунов. Глаза его возбужденно горели.
— Вы меня звали? Слушаю вас. — Коршунов бросил взгляд на пустой стул, но не сел.
Золотов устало опустил веки, несколько минут сидел неподвижно, словно засыпая, и вдруг неожиданно и резко стал бросать фразу за фразой:
— Василий Петрович, какое вы имели право допустить к операции студента? Почему не поставили в известность меня? Вы ставите в весьма щекотливое положение главврача. Кто будет отвечать перед законом, если что-нибудь случится?
— Я буду, — ответил Коршунов. — Я ответственности не боюсь, наоборот — прошу о ней. За что вы мне выговариваете? За то, что Гринин успешно оперировал? Невероятно! Эти ребята хорошо разбираются в теории и посланы сюда, чтобы мы дали им практические навыки. Мы обязаны это делать.
— Не учите меня, Василий Петрович! — почти закричал Золотов. — Я не позволю действовать через мою голову!
Коршунов смотрел на Золотова, на его высокий лоб.
— Не понимаю вас, Борис Наумович, — сказал он, — вы сами кончили ординатуру у Спасокукоцкого. Другие тоже должны расти и совершенствоваться.
— Не читайте мне нравоучений! Молоды для этого. Хотите совершенствоваться — поезжайте в ЦПУ[1], там всему научат. И как мозоли удалять научат, вам не мешало бы поучиться!
— Я уже подал заявление. Надеюсь, что пошлют.
— И уезжайте. Скорее уезжайте. Можете уехать вообще. Здесь вы только мешаете! — И Золотов пулей вылетел из ординаторской.
На Коршунова было жалко смотреть. Он весь дрожал от стыда и негодования, в нем все кипело, искало выхода. Любого выхода, лишь бы выплеснуться.
— Нет! Это невыносимо. — Он выхватил из кармана авторучку. — Сейчас же пишу. Пусть увольняет…
— Да что вы, Василий Петрович! Одумайтесь.
— Чтобы я хоть день еще работал у него!
— А у кого вы работаете — у Золотова или у советской власти?
Коршунов сидел, крепко сжав губы. В глазах мелькнула искорка.
— Ты славный парень, Николай, — сказал он, перейдя на «ты». — Извини, я оказался мелочным… Хотел бы я знать, кому он служит.
— Не перехлестывай, Василий Петрович. Он тоже ей служит, только с завихрениями.
— Меня что бесит в Золотове? — сказал Коршунов. — Что он имеет опыт, огромный опыт, но не желает быть наставником, он хочет быть только хозяином. Он поэтому и сына родного не стал бы учить. Золотов! Золотишко, а не золото, как приглядишься! — Коршунов опустился на стул у раскрытого окна.
Под окном ординаторской неторопливо шел по тропинке Чуднов, посматривая на вишневый сад, на разрушенную кое-где черепичную крышу больницы. Его догнал Золотов.
— Михаил Илларионович… Глубоко принципиальный вопрос! Без моего ведома Василий Петрович разрешил студенту оперировать.
— Операция, кажется, окончилась благополучно? — Чуднов улыбнулся.
— Еще рано говорить о благополучии, — Золотов нахмурился. — Посмотрим, как будет проходить послеоперационный период.
— Что ж, посмотрим… Юрий Семенович очень способный студент. Не так ли? Прирожденный хирург. Я бы на вашем месте одобрил инициативу Василия Петровича.
— Не узнаю вас, Михаил Илларионович. Вы всегда меня поддерживали и вдруг… — Золотов развел руками.
— Практика студентов у нас впервые, вот наши мнения впервые и не совпали. Так вы считаете, что Юрию Семеновичу нельзя было разрешить самостоятельное оперирование? Подготовлен плохо? А как успевает Николай Иванович?
— Кто?! — брови Золотова прыгнули вверх. — Ах, этот… в кителе?
— Не чудите, дорогой мой. Ну, что это — один «щеголь», другой «китель».
— Ну, может быть, этот немного серьезнее.
— Вы не объективны, Борис Наумович. Они трахеотомию сделали! Я тридцать лет проработал, а не смог бы.
— Не знаю, как это у них получилось, — сказал Золотов и сплюнул. — Чистая случайность.
— Элемент случайности, вероятно, был, — сказал Чуднов, — но не в том, что они спасли мальчонку.
— В чем же, интересно? — спросил Золотов.
— А в том как раз, что к нам попали такие замечательные ребята.
— Вы, безусловно, имеете право на собственное мнение, — сказал Золотов, носком тапочки перекатывая камушек. — Хочу оттенить лишь одно: если что-либо случится, отвечать в первую очередь придется главному врачу.
— Почему же должно что-то случиться? — Чуднов добродушно улыбнулся. — Хотите попугать меня? Так я, слава богу, всякое видел на своем веку.
— Пугают маленьких детей, — сказал Золотов. Спокойная, размеренная речь Чуднова выводила его из себя. Он нервничал и не находил нужных слов. — Аппендектомия и грыжесечение — не такое простое вмешательство… смертность может быть очень высокой, если… Покойный Спасокукоцкий не раз говорил, что…
Концы фраз я не улавливал.
— Дорогой Борис Наумович, — ласково сказал Чуднов, — я ни в малейшей степени не собираюсь отбирать у вас, как говорится, ваш хлеб. Ведь я терапевт. А вы хирургический бог. Мы очень ценим вас. Но надо же… Государство тратит колоссальные средства… И мы должны, обязаны и как врачи и как члены партии предоставить молодежи…
— Ах, довольно, Михаил Илларионович. К чему все это? Хорошо. Я подумаю. — Золотов холодно поклонился и пошел по тропинке в ту сторону, откуда пришел. Чуднов смотрел на крышу больницы, морщась то ли от солнца, то ли от назойливых мыслей.
— Антракт! — усмехнулся Коршунов, отходя от окна. — Тебе понравился этот неожиданный спектакль? — Большие черные глаза его в упор смотрели на меня. В них не было усмешки.
— Мы бы не нашли аргументов сильнее, чем у Чуднова. Обычно главврачи идут на поводу у заведующих хирургическими отделениями. А наш, как видишь, не согласен, пытается убедить.
— А я думаю, тут ломать надо, а не уговаривать! — почти выкрикнул Коршунов и передразнил Чуднова: «Мы как врачи и как члены партии обязаны…» Не той пробы золотишко-то. Неужели вы, коммунисты, этого не видите? — Он умолк и, сердито сопя, направился к двери.
Пришлось перехватить его за руку:
— Василий Петрович, куда? Плюнул в лицо и дёру? Теперь нас только дуэль рассудит.
— Право, мне не до смеха. Тебе обидно слушать правду?
— Обидно слышать чепуху от разумного человека. Ты чего прячешься за коммунистов? Хорошо, я коммунист, на мне ответственность до гроба. И за успех практики — за все. Но я здесь неделю, а ты три года… валандаешься.
Коршунов протестующе поднял руку и одарил меня презрительнейшей из улыбок.
— Не играй, Василий Петрович! Тут дело на честную идет. Я это слово обратно не беру. Ты же и полсилы своих способностей не отдаешь делу. Любимому делу! Почему? С Чудновым говорил? В горздраве был? Ну хоть раз-то был?
— Ты, Николай Иванович, плохо знаешь положение молодого врача. Нами затыкают все дыры. Нами никто не интересуется.
— Я смотрю, ты жаловаться здорово умеешь.
— Жаловаться? Что за противные слова выбираешь! Никогда никому не жалуюсь, просто хочу откровенно сказать.
— Вот и говори откровенно: что ты сделал за три года, чтобы добиться полной отдачи своих способностей? С кем воевал?
— Не мог же я… я был связан.
— Чем?
— Не привык хлопотать за себя, это вне моих нравственных правил.
Тьфу!.. Я даже сплюнул от злости. Подумать, сколько в каждом из нас напихано эгоизма, он так и лезет, чуть поворошишь. Лезет и еще прихорашивается.
— Ты, я смотрю, как барышня! Милая барышня, как вы благородно воспитаны…
— Прости, Николай, но это уже хамство.
— Черт с ним, таким рожден, принимай, каков есть, я же считаюсь с твоим благородным происхождением.
— Не дури, — Коршунов рассмеялся и хотел уйти, но я стал у двери.
— Серьезно говоря, Василий Петрович, я обвиняю тебя в пассивности. В удручающей пассивности. И вот итог. Итог трехлетия. У тебя один операционный день, все остальные операции делает он. У тебя была одна палата, а теперь и она отдана Юрке. У Золотова же весь этаж. Со всех концов итог плохой. Надо бы хуже, да некуда. Для отдачи сил — никакого оперативного простора. Наконец, для твоей личной славы….
— Вот уж за чем не гонюсь!
— Мелко плаваешь, поэтому и не гонишься. Кому-кому, а врачу без славы нельзя. Ему нужна громкая слава. Иначе больной-то к знахарке пойдет. Врача все должны знать на полсотни верст окрест. Что ты на меня так смотришь? Ведь это же дважды два — четыре.
— Где ты научился так забавно выворачивать сложившиеся понятия?
— Жизнь учит… начинаешь с прописи, а потом постигаешь удивительную подвижность понятий. Но это уже философия, а нам нужно решить практический вопрос, как покончить с пассивностью и неустроенностью молодых врачей в больнице.
Хотелось раззадорить его, толкнуть к Чуднову. Ведь успех, во многом зависел от Чуднова. А мне — как бы сказать? — мне трудно было критиковать его. С первых дней практики я полюбил Михаила Илларионовича, хотя, наверно, и не совсем так, как Игорь, и не совсем за то, за что полюбил он. Этот огромный старичина был мне глубоко симпатичен. Он целиком отдавал себя делу, бескорыстно выполнял работу за троих, получая обычную для главврачей зарплату. А кто считал, сколько часов уходило у него на партийную и депутатскую работу? Единственный в своем роде, второго похожего врача не было. На таких держатся учреждения. Они как фундамент, как свет. Без них немыслимо.
Словом, целое объяснение в любви. Как же в таких условиях критиковать? Ведь любовь и критика несовместимы. И вдруг, да, вдруг, вот только сейчас, наскакивая на Коршунова, я обнаружил, что Чуднов страшно не прав! Нет, хуже — виновен. Прижившись к Золотову, он проглядел судьбу молодых врачей в больнице. Проглядел, что штатный хирург Коршунов перебивается на положении практиканта и что он совершенно закис в своих переживаниях. И ведь он такой не один в больнице. Главврач не имел права проглядеть такие вещи, он должен был…
В сущности, что должен был бы сделать главврач? Что я бы сделал на его месте? Тут у меня блеснула озорная мысль и сразу сорвался вопрос:
— Послушай, Василий Петрович, а ты смог бы все повернуть? Готов ты стать заведующим отделением вместо… Золотова?
— Ты с ума сошел! — воскликнул он и, вскочив со стула, угрожающе двинулся на меня. — Как ты смеешь обо мне так думать? Не для этого веду разговор!
Опешив, я услышал, как хлопнула дверь, и кинулся вслед за Коршуновым. Как мальчишки, мы выскочили во двор.
— Василий Петрович, разговор не окончен!
— К черту! — Он бежал в сторону морга.
— Да остановись же ты, человек!
— К черту!
Из-за угла больничного корпуса вышел Чуднов, остановился посреди дорожки, широко раскинув руки:
— Стоп!.. Что случилось, Николай Иванович?
— Эх, дурака свалял, Михаил Илларионович! — ответил я, ухватившись, чтобы остановиться, за его ручищу. Я почувствовал, как спокойно напряглись в ней и стали железными мускулы.
— Ну и студент нынче пошел… среди бела дня врачей гоняет. Вы что, и с Коршуновым уже поссорились? Тоже оперировать не дает?
— Что вы! Коршунов наш первый друг, но…
Словом, я выложил все, что узнал, что понял, что увидел с того момента, как мы с Коршуновым стали невольными свидетелями разговора главного врача с Золотовым. Чуднов стоял рядом и курил, жуя мундштук папиросы. «Сердится!» — подумалось мне. Его рука легла на мою спину, и мы стали ходить по дорожке взад-вперед.
— Да-с… значит, так-таки и проглядел… прижился… вырастил — как это вы изволили сказать? — «удельного князька первого этажа»? Ишь, как у вас хлестко получается! Вам бы в журналисты пойти, Николай Иванович!
Чуднов вытащил новую папиросу и, скомкав пустую пачку «Беломора», поискал взглядом, куда бы ее забросить.
— Пройдемтесь, Николай Иванович, еще до того угла. Конечно, надо бы урны чаще поставить денег не хватает. Впрочем, это мелочь. Вы мне, Николай Иванович, много рассказали про нашу больницу. Тот же Коршунов… вот тихоня! Ну, почему он сам не рассказал? Обидно, право, обидно… Много нового, много серьезных вопросов. Их тут, на дорожке, не решишь. Я вас вскоре позову, поговорим в подходящей обстановке.
Чуднов ушел. Я постоял на дорожке и отправился в общежитие, чувствуя себя выпотрошенным. Может быть, старик намерен спустить все это дело на тормозах? Критика выслушана, благосклонно принята, и пусть все идет, как оно шло? Ну, нет! Черта с два! «Я вас вскоре позову». Иногда «вскоре» — день, иногда месяц.
Я в горздраве.
— Вам заведующего? Елкин будет через полчасика. По вопросу студенческой практики? — Секретарь улыбнулась, приоткрыв сталь зубов. — Тогда пройдите в кабинет. Один человек уже ждет.
Я открыл дверь: за канцелярским столом в кресле заведующего, напружинившись, как на старте, замер Золотов. В глазах — холод. Секунда — и он встал, молодцевато подошел ко мне. В нос ударил запах шипра. На уровне своих глаз я увидел широкие зрачки в узком кольце коричневой радужки. Право, они напомнили дула орудий.
— Слушаю вас. — Голос его вибрировал.
— Пришел не к вам, к заведующему. — И вдруг ляпнул: — Вот бы нам втроем побеседовать!
На лице Золотова раздумье. Он медленно повернулся и зашагал к окну.
— Все же почему вы так жестоки, Борис Наумович? Мы приехали к вам с открытым сердцем, а вы все время стараетесь стать к нам… спиной.
Золотов вздохнул.
— Куда молодежь спешит? Опыт даже талантливым людям дается с годами, упорным трудом, недосыпанием. А вы хотите сразу.
— Поймите! Молодежь хочет узнать все, оставаясь молодой.
— От вашей практики одни огорчения. В будущем больница откажется вообще. Ну, а в этом году ничего не изменится… Я вас больше не задерживаю, коллега.
— Благодарю.
У секретаря зазвенел телефон. Было слышно, как она с кем-то говорила. Потом вошла к нам.
— Совещание затягивается. Елкина сегодня не будет.
Гринин остался дежурить в больнице без особого желания. Редко кто любит загружать субботний вечер делами. Как бы там ни было, он остался, а мы с Кашей пошли к лодочной станции. Милый Игорек! Ему хотелось больше моего пойти на озеро, но идти он долго не соглашался, я не расспрашивал почему.
На непроезжей части улицы, возле тротуара, пожилой мужчина в полосатой тельняшке сгребал высушенное сено. Тут же стояла большая двухколесная тачка. Душистый аромат перенес меня на берега родной реки, к родительскому дому. Бывало, зимой залезешь на сеновал, и сразу вспоминается лето, луг, сенокос и совершенно особый вкус хлеба и молока.
Мы шли по чистым, подметенным аллеям парка. Танцы еще не начинались. Деревья редели. Стало видно поле. Оно переходило в луг. Луг спускался к озеру. Большое озеро, не — озеро даже — море! Вдалеке сновали байдарки, поблескивали в лучах солнца мокрые весла. У дощатого причала толпились люди. Каждый старался выбрать самую лучшую лодку. С причала я смотрел на дорогу, ведущую в парк. Нину я узнал издалека по широкой свободной походке. Рядом с нею шагала девушка.
— Ты не видишь, кто с Ниной? — спросил я у Игоря.
Игорь мой смущенно заулыбался. Я сделал вид, что не замечаю этого.
— Пора раскошеливаться, — сказал я.
Игорь вытащил коричневый обтертый по краям кожаный кошелек. Мы направились к белой фанерной будке, стали в очередь.
Нина уже сидела в лодке, нетерпеливо покачивая ее на воде.
— Ты плаваешь? — спросила она, когда я притащил весла и черпак.
— Люблю девичьи вопросы! Чтобы солдат и не плавал? Где это видано?
— Ты неуверенно ступил в лодку, Коля.
— Пятерка за наблюдательность! Действительно, это было. Зачем, думаю, нам черпак? Не отнести ли обратно?
— Без черпака лодку не получишь. Такое правило.
— Мудрое правило: спасение утопающих — дело самих утопающих.
В пяти метрах от нас усаживались в лодку Игорь и Валя.
Впервые я видел их вместе вне стен больницы.
Поговаривали, что там-то и там-то встречали Кашу с Валей. Что ж, слухи подтвердились. Пусть дружат. Валя как будто неплохая девушка.
Нина изучающе поглядывала на подружку, как будто видела в ней что-то, невидное остальным.
— Эй, ребята! — крикнул я. — Наперегонки!
Игорь рванул весла, поставив их в воде почти вертикально.
— Сухопутный морячок!
— Не смейся над ним, Коля… Он хороший, твой Игорь.
— Я бы гордился, Нина, если бы у меня был такой брат…
— Вот ты какой, — ответила она, сияя глазами.
— И был бы счастлив за тебя, если бы у тебя был такой жених.
— Ах, вот как! — воскликнула она совсем другим тоном.
Белая будка лодочной станции долго маячила на пологом зеленом берегу. Но вот она стала белым пятном. Уменьшились деревья парка, люди превратились в точки. Противоположный же песчаный берег, казалось, ничуть не приближался. Так и лежал он вдали узкой желтоватой полосой, отчетливо разделяя голубизну озера и голубизну неба.
Говорить не хотелось. О борта лодки плескалась вода, и, наслаждаясь, я слушал этот шум, может быть, самый древний шум земли. И смотрел на Нину. Удивительными становятся эти девчонки, когда на них находит такое вот ожидание чего-то. Чего? Теплого встречного ветра, который поднимет, закружит, расправит крылья и унесет.
Я часто слышал, будто парни и девушки не могут дружить без любви. Обязательно любовь, и никаких гвоздей! Право же, ерунда. Вот мне не пришлось еще встретить девушку по душе. Мать, случалось, ругала меня за это, называла бирюком. Да ведь надо уметь ждать. Я знаю, что встречу ее. И тогда жизнь станет еще полнее. А пока жду, и с девчатами у меня большей частью складываются отличные отношения. Как с Ниной. Она сидит на корме, и мне приятно, что она там сидит, посматривая на меня своими глазищами, иногда усмехаясь. Право, так радостно и хорошо, что даже хочется, чтобы явился вдруг кто-то плохой и сильный, чтобы я мог защитить ее от него.
Поддавшись настроению, я так двинул лодку, что она наполовину выскочила из воды.
— Ой, что ты, Коля! — вскрикнула Нина. — Мы далеко отъехали. Сюда только чайки залетают!
Я оглянулся. Действительно, ни души. А кругом Тихий океан. Уж если что-нибудь и спасет нас во время бедствия, так только черпак. Я улыбнулся своим мыслям и спросил:
— Ты плаваешь?
— Люблю мужские вопросы! Где же это видано, чтобы медсестра не плавала? Да еще родившаяся на берегу такого озера! В наше медучилище не принимали неплавающих.
— Мудрый человек ваш директор.
— Не глупее вашего комполка!.. Чтобы спасать других, сестры сами должны уметь держаться на воде? Как по-твоему?
— О! Я вижу, ты убежденная патриотка своей специальности.
— Еще бы! Работать сестрой мне нравится. Особенно если оперирует Борис Наумович.
Нет, ты не разозлишь меня, девочка. У меня прекрасное настроение. И спорить мне совсем не хочется. Сегодня я уже наспорился.
Грести становилось все труднее. Весла увязали в водорослях. Водоросли виднелись справа и слева, спереди и сзади, везде. Порою мне казалось, что лодка, несмотря на мои усилия, стоит на месте.
Вот я увидел блестящую полоску чистой воды и начал пробираться к ней. Добрался, но через несколько минут водоросли снова окружили нас.
— Ты устал, — сказала Нина, — дай я погребу.
Я хотел возразить, но Нина уже встала и смело шла в полный рост ко мне. Я тоже встал. Лодка закачалась, накренилась. Я начал ее выравнивать. Однако Нина, кажется, хотела искупаться, потому что она не обращала внимания на мои старания. Один раз лодка резко накренилась и зачерпнула воды. Мы схватились друг за друга. Это было короткое, вынужденное объятие. Потом она села на мое место, а я на корму. Я взял черпак и начал выливать воду через борт.
Нина хорошо гребла, ничуть не хуже меня, но сил у нее было меньше, и она минут через тридцать устала.
— Коля, давай покупаемся. Мне очень хочется поплавать.
— Давай. Только выедем из этой травы.
Первой нырнула Нина. Красиво нырнула.
— Поплывем на ту сторону, — предложила Нина.
— Доплывешь?
— Вот ты и не доплывешь! А я как утка. Ты еще не знаешь!
— Сегодня уже поздно. Поворачивай, Нинок, а то без тебя поплыву одеваться.
— Ты сможешь оставить меня одну? — Она искоса смотрела на меня. Черные глаза ее были влажны.
— Поворачивай, поворачивай. Старших надо слушаться, сестренка, — сказал я, отфыркиваясь.
Мы плыли почти рядом.
— Ну что, братишка, на лодку поглядываешь? Боишься?
— С чего ты взяла, что боюсь?
— Не боишься? Нет, правда, Коля, ты храбрый?
— Не знаю, Нинок.
— Конечно, храбрый. Игорь рассказывал, как ты спасал немцев от лавины.
— Вот пацанок-болтунок!
— Я знаю, ты был героем.
— Я был лишь солдатом.
— А я хочу героя! Хочу, чтобы он был тут, рядом. Понимаешь? Хочу, чтобы это был мой герой… — шальная девчонка нырнула, только мелькнули розовые пятки. Потом она высунула голову из воды, и поддразнивая, пропищала:
— Ну, если целого героя нельзя, то хоть капельку можно?
— Сейчас получишь капельку, — крикнул я, пуская ладонью в ее смеющееся лицо веер брызг. — Марш в лодку!
Мы оделись. Неяркий диск солнца наполовину ушел за пологий берег. Лучи его пронзили разноцветные тучи над нами и устремились кто знает в какие миры. Мы ехали под этими последними лучами солнца, как под высоким шатром. Снова началась полоса водорослей.
— Так много водорослей и какой-то бурой травы, — сказал я, — и ни одной белой лилии. Почему они здесь не растут? Ты не знаешь?
— Не знаю, — грустно сказала она. — Не знаю, куда девались белые лилии.
Солнце ушло за черту горизонта. Небо потемнело, и озеро потемнело, вобрав в себя его краски. Желтая полоса берега растаяла, заволоклась туманом. Воздух и вода слились. Кто-то играл на гармошке, спокойная мелодия медленно плыла над водой. Высокий женский голос затянул тягучую песню. Поднялся еще один голос, тихий, прерывистый. Пели где-то далеко, может быть, на том берегу, до которого мы так и не добрались. Я был доволен прогулкой и лишь немного досадовал, что Нина поскучнела. Она молча сидела, опустив руку за борт, и пальцами перебирала воду.
— Где ж моя Валька? — сказала Нина и привстала на лодке. Тон у нее был деловитый, будничный, каким она обычно говорила в больнице.
«Чего ты сердишься, девочка? — мысленно говорил я ей. — Тебе вдруг захотелось, чтобы и я говорил о любви? Так ведь ее нет ни у тебя, ни у меня, а есть только теплый вечер после долгих дождей и твои двадцать лет».
Мы сдали лодку. Я получил паспорт и остатки денег. Паспорт Игоря еще лежал в кассе.
— Ждать будем? — спросил я у Нины.
— Они не маленькие. Сами найдут дорогу. Да и мало ли о чем надо им поговорить наедине.
Мы пошли по дороге в парк. «Ну хватит дуться, малыш, — продолжал я про себя свой разговор, — мы же неплохие друзья».
Я шагал рядом с Ниной по дорожке. Она старалась шагать пошире, а я старался частить, так что в целом получалось неплохо. Потом я взял ее под руку, и она с удовольствием опиралась на меня.
Со стороны озера неслись удалые частушки. Мне показалось, что пел тот же женский голос, который не так давно тянул грустную песню. Душа человека повернулась другой гранью, и эта, другая, тоже была хороша.
— Никак Валька поет! — воскликнула Нина.
И вдруг начал подпевать мужской голос. Хорошо знакомый голос. Конечно, он!
— Игорь поет, твой Игорек, — Нина счастливыми глазами смотрела на меня. — Ты… ничего не знаешь?
Я пожал плечами.
— Валя, кажется, согласилась стать его женой, — сказала Нина. — По голосам чувствую, что согласилась.
— Каша женится? — я так и ахнул.
— Только, чур, никому ни слова! — воскликнула Нина. — Игорь очень стеснительный, он хочет, чтобы никто ничего не знал.
Мы пересекли поле и были уже в парке. На танцплощадке буйствовала радиола, а когда она утихла, я снова услышал дуэт Вали и Каши. Голоса доносились издалека, слабые, но слаженные:
…Пел недаром за рекою, За рекою соловей…Из-за расстояния голоса были неясные, как легкий туман над водой в погожий вечер. «Пел недаром…» А может, даром? Может, напрасно все это, Игорек? Не сделал ли ты опрометчивый шаг? Скорее всего желание любить принял за любовь.
— Какая Валька счастливая! — сказала Нина. — А ты счастливый, Коля? У тебя есть кто-нибудь в Москве? Да?
— Я же не москвич. Я из Кировской области. И никого у меня нет, кроме стариков колхозников.
Я проводил Нину до ее дома. Она жила в рабочем поселке за железнодорожной станцией. Мы шли темными пустырями. Освещенная дорога осталась далеко слева. Лягушки прыгали из-под ног. Нина визжала и прижималась к моей руке. Тропинка привела нас к изгороди из сухих еловых веток.
Закрыв за собой плетеную калитку, уже из сада, Нина сказала:
— Знаешь, какой ты? Знаешь?.. Ты старый!
Я от души рассмеялся.
Большие окна больницы ярко освещены. Прямоугольники света лежат на угомонившемся дворе. Кто-то высокий и узкий, опустив руки в карманы халата, скучающе ходит под окнами. Привлеченный звуком моих шагов, он останавливается, рука вылетает из кармана.
— А! Один кавалер явился. Правильно, Николай! С этой сестрицей стоит повозиться. Будет что вспомнить на пятом курсе… Да и вообще… человек живет один раз. — Гринин одним движением — указательным и большим пальцами — приглаживает усы.
— Ты что, всерьез? Или разучиваешь роль? — спросил я.
— Не прикидывайся простачком. Знаем мы вас, идейных. На собраниях правильные речуги откалываете, а после собраний…
— Договаривай, если есть что за душой. Ну? Что с тобой сегодня, парень?
— Подежурь за меня, будь другом! Не могу сегодня дежурить.
— Почему не можешь?
Гринин неопределенно покачал головой.
— Ну нет! Ничего, что не хочется, умей себя переломить. А пока спокойно, иди-ка, парень, лучше спать.
— Сначала Кашу дождусь. Давно не видел.
Среди ночи меня разбудил стук в окно. Высунулся в форточку: санитарка хирургического отделения.
— Привезли ущемленную грыжу, слышите? — Край белого халата виднелся из-под короткого пальто.
— Спасибо! Сейчас идем.
Игорь спал чутко, как заяц. Едва моя рука коснулась его плеча, он открыл глаза и спросил:
— В больницу?
— Да, санитарка прибегала. Но, я думаю, тебе лучше…
— Никаких «лучше», Николай, — перебил он и выскочил из-под одеяла.
Луговой лежал спокойно. Лишь иногда по его лицу видно было, что ему больно. Гринин оперировал хорошо, очень хорошо. Даже при самом строгом наблюдении не к чему было придраться. Сейчас и я в душе согласился с Василием Петровичем, что Гринин способный малый. И хотя я не любил предсказывать будущее ни себе, ни другим, все же подумал: парень далеко пойдет!
— Ты только подумай, Николай, — сказал Каша, когда мы вернулись в общежитие и снова растянулись на койках, — Юра сделал за сутки две операции. А мы…
— И мы, Игорек, скоро будем делать. Вот увидишь!
Не завидую Юрке: трудно ему додежуривать ночь, когда кругом пусто, покрасоваться не перед кем. Одинокий триумфатор — роль явно не для него.
Проснулся я в десять утра. Было воскресенье. Не спеша мы оделись и пошли с Кашей в столовую. Завтрак давно остыл. Я послал Игоря с кастрюлей на кухню, чтобы он разогрел картофель. Он дошел до двери и возвратился, сказал, что повар вряд ли согласится разогревать. Тогда мы пошли вместе.
Повариха встретила нас вопросом:
— Из-за девочек проспали? — И поставила кастрюлю на плиту.
Игорь так густо покраснел, что его волосы, казалось, стали белыми. Я сказал:
— Почему бы и нет? Да, Игорь?
Он уже оправился от смущения, проговорил:
— Конечно.
— На свадьбу не забудьте пригласить, — сказала повариха и сняла с раскаленной плиты нашу зеленую кастрюлю.
После завтрака Игорь моментально исчез, я даже не успел предложить ему пойти со мной позагорать. Как и вчера, день выдался яркий, солнечный. Одному пойти придется. Только в отделение зайду на минутку.
Сестры куда-то подевались. Открыл ординаторскую: Золотов стоит возле стола и сосет конфету. На столе на брошенных обертках играют шишкинские мишки в лесу. Бедный художник. Куда ни глянь — везде «мишки», даже на оригинал смотреть неохота.
— Операций не будет? — спросил я у Золотова.
— Вот и пойми вас. — Он сердито взглянул на меня. — То просите самостоятельных операций, а то бежите из больницы, как из ада.
— Не понимаю. В чем дело, Борис Наумович?
— Этот ваш напарник… Как его?.. Я предложил ему ассистировать. В роддоме у женщины аппендицит. Так он бегом. Если б вы видели, как он бежал! На свидание спешил. Только перед свиданием так блестят глаза. Даже у стариков. Но у них сложнее. Они подлечиваются, а потом идут к молодухе. Вы не…
— Если не возражаете, буду вам ассистировать, — прервал я Золотова, чувствуя, как закипает во мне неприязнь.
Он вскинул на меня глаза, но сказал спокойно:
— Пожалуйста. Пойдемте мыть руки.
Операция быстро закончилась. Вот оно, воскресенье врача! Одну отоперировал, привезут вторую, третью больную. И так всегда, и так всю жизнь. И к этому нужно быть готовым.
Уплотненный вышел денек!
Зашел Чуднов, встревоженный, запыхавшийся, и попросил Золотова посмотреть больного, поступившего только что в больницу с неясным диагнозом. Я пошел вслед за ними в приемный покой.
На кушетке лежал человек лет сорока, лицо красное, глаза воспалены. Он жаловался на страшную головную боль.
Тут же стоял молодой врач Бочков, специалист по болезням уха, горла и носа. Рослый, чуть сутулый, близорукий. Золотая оправа очков подчеркивала важную серьезность его бледного лица.
— Из ушей течет гной, — сказал Чуднов. — Но вопрос, — Борис Наумович, в том, грипп это, менингит или абсцесс мозга. Куда будем госпитализировать?
Золотов осмотрел больного и сказал:
— По всей вероятности, грипп. Берите к себе… Впрочем, неплохо было бы вызвать консультанта из Москвы. Отиатра… Ну, а ваше мнение? — спросил он у Бочкова.
— Сомневаюсь.
— Имеете на это право. Но свое мнение у вас, как у врача, есть или нет?
— Сомневаюсь, Борис Наумович… в диагнозе…
— Консультант абсолютно необходим, — отчеканил Золотое и вышел.
— Вызовем. — Чуднов начал искать в записной книжке адрес.
— Я был бы очень, очень рад, — сказал Бочков. Что-то жалкое чувствовалось в словах, во всем облике молодого врача. Его лицо было красное. Краснее, чем у больного. Но мне нравилось, что он не скрывает своего незнания. И, наверно, не он виноват, что не знает, а те, кто его учил. И еще, вероятно виноват сам больной, заболевший сложно и непонятно.
— Поживей вызывайте, — простонал больной. — А то богу душу отдашь, пока приедет ваш консультант.
— Немедленно позвоню в Москву, — успокоил больного Чуднов, а у меня спросил: — Кому, думаете, буду звонить?.. Вашему Николаеву. Он оставил мне домашний телефон.
Ассистент клиники болезней уха, горла и носа Николаев был руководителем производственной практики, в его ведении находилось шесть или семь базовых больниц, в том числе и наша. Еще в институте я слышал, что Николаев превосходный хирург. Мне давно хотелось посмотреть, как он работает.
Больного переложили на носилки и унесли. Чуднов сел в кресло, взял телефонную трубку.
— Прошу соединить меня с Москвой, срочное дело.
Видимо, со станции ответили, что соединить нельзя.
— Машенька, дорогая, понимаете, речь идет о жизни человека. Мне нужно вызвать специалиста из клиники мединститута… Вот, вот, пожалуйста. — Чуднов взглянул на меня. — Сейчас соединят. Их только попросить надо. Эти девочки, если захотят, и с Луной вас соединят за пять минут.
Вскоре Чуднов уже беседовал с Николаевым.
— Нет, нет, такси берите, мы оплатим… поездом не скоро, — Чуднов положил трубку, но тут же снова взял ее. — Дайте «Скорую помощь»… Иван Иванович? Попрошу вас срочно подбросить в больницу Надежду Романовну… Да хоть под землей найдите! — Он положил трубку на рычаг и сказал: — Невропатолог нужен, а воскресенье — может дома не оказаться. Вот беда! Экстренные вещи всегда случаются в самое неподходящее время. Вы не замечали?
— Приходилось, Михаил Илларионович.
Через несколько минут ему доложили, что «Скорая» разыскала невропатолога на рынке.
— Так с покупками и усадили! — Чуднов засмеялся. — Ну ничего. Надежда Романовна мало потеряет: живет от рынка далеко, у самого леса, а теперь из больницы доставят прямо на квартиру.
Под окнами загудел мотор автомашины.
— Наверно, она, — сказал Чуднов. — Пойдем.
Мы поднялись на второй этаж. Викторов уже лежал в палате. Дежурная медсестра делала ему инъекцию пенициллина.
Надежда Романовна оказалась очень молодым врачом, щуплая, низенькая, ни степенности в движениях, ни важности в осанке, а лицо серьезное. Мне очень понравилось ее лицо.
Она долго и внимательно осматривала Викторова, подробно записала свое мнение в историю болезни. В ординаторской она сказала, что у больного начинается менингит. Кроме того, абсцесс правой височной доли головного мозга. И добавила, что нужно срочно оперировать правое ухо, поскольку инфекция идет оттуда.
— Я свободна?.. Если буду нужна, присылайте. Весь день специально буду сидеть дома.
Когда она ушла, Чуднов сказал:
— Голова!.. А ведь стаж такой же, как у Бочкова.
— Мне она тоже очень понравилась, — сказал я.
— И, заметьте, Николай Иванович, молодая, а не жалуется… как… некоторые.
— Вы намерены продолжать вчерашний разговор? — спросил я, поглядев ему в глаза. — Тогда оставьте это оскорбительное словечко. Наши молодые врачи не жалуются, а требуют. Иногда не умеют требовать. Только что вы видели Бочкова. Скажите, вам не было стыдно, Михаил Илларионович? — Чуднов побагровел, я продолжал. — А мне было стыдно за вас, главного врача, и за весь коллектив старших товарищей. Разве вам не нужна смена?
Прошла неделя. Снова операционный день Золотова. Теперь он уже не скажет, что не успел с нами познакомиться.
Неожиданно вошел Чуднов. Я ассистировал. В двух операциях на мою долю выпала одна и та же работа: я сделал разрез кожи в начале операции и наложил швы на кожу в конце. И все.
Когда больную увезли, Чуднов сказал:
— Очень мало даете. Очень мало.
Золотов вспыхнул:
— Ну когда же вы, наконец, поймете, что я пекусь не о собственных интересах, а о благополучии больных, о чести больницы. Если Коршунов с вашего благоволения желает рисковать — пусть. А я буду поступать так, как мне диктует врачебная совесть.
— Хорошо, что вы жалеете больных, — сказал Чуднов, — но если вы не обучаете помощника и студентов — это плохая жалость. В конечном счете вы оказываете плохую услугу людям.
— Как и каждый другой, вы имеете право на собственное мнение. — Золотов повернулся к сестре: — Долго я буду ждать?
На каталке уже везли больного.
Грачи кричат в открытое окно, порой заглушают наши голоса.
— Михаил Илларионович, вы слишком боготворите этого человека: «хирургический бог» и тому подобное. Приносят ли титулы пользу? Завотделением прежде всего должен уметь и должен хотеть учить. Один человек не может заменить коллектив. Одна пчела не много меду натаскает… Если хотите спасти Золотова как врача и как человека, сделайте его рядовым. Одних руководящее положение возвышает, других портит. Пусть поработает рядовым врачом. Возможно, тогда призадумается и поймет. Чего вы боитесь? Елкин вас поддержит.
— И до Елкина добрались?
— Мы говорили откровенно, как с вами.
Задребезжал телефон. Чуднов взял трубку. Мне слышно, как чей-то неспокойный голос на том конце провода просил срочно выслать хирурга.
Чуднов набрал номер и передал Золотову, чтобы выезжал в соседнюю больницу. И объяснил, почему.
— Помочь бездарности я не в силах, — ответил Золотов. — Прокатитесь сами. — Вместе с Коршуновым. Вы-то, конечно, сумеете вдохнуть в Ларионова уверенность.
— Значит, не поедете? Так я вас понял?
— Съездит Коршунов. Мне что-то нездоровится.
Чуднов положил трубку.
— Вот и разберись: не хочет ехать или… болен?
— Вот-вот, разберитесь. — Я оставил Чуднова одного.
В перевязочной увидел Нину.
— Очень переживаешь, что не оперировал? Да, Коля? А знаешь, твои руки сегодня работали особенно, как у заправского хирурга. Не верила своим глазам.
Как же он решит? Низвергнуть бога на землю, где одни смертные, наверно, нелегко… Нина ждала ответа.
— А ты хорошо подавала инструменты. Ты, Нинка, шустрая. Тебе идет быть операционной сестрой.
— Борис Наумович всех сестер по очереди заставляет работать в операционной. Чтоб все могли.
— В этом он умница. Зато такое выкомаривает с нами. — И подумал: многоэтажные дома передвигают, реки поворачивают, а человека повернуть на новый путь, оказывается, не так просто… А надо. Если не ради нас, то ради тех, которые приедут в будущем году. И еще ради Коршунова, Бочкова и Ларионова, ради всех молодых — смелых, дерзающих, трусливых, неискушенных или полных ложного величия.
— Ой, душно, Коля. Выйдем.
По вестибюлю шли Золотов и Чуднов. Судя по лицам, разговор был не из приятных. Доносились клочки фраз: «Одумайтесь наконец… Не заставляйте идти на крутые меры… Каждому человеку должно быть приятно, что у него есть ученики… у вас же…»
«Хорошо, я подумаю. — Золотов нашел в кармане конфету, откусил. — А вообще-то от ваших речей оскомина! Как не надоест?.. Пошли бы в озере выкупались. Право, полезнее, чем толочь воду в ступе… — И вдруг он закричал: — Чтоб я не слышал разговоров о студентах и врачах-недоучках! Хватит! Довольно наставлять меня на путь истинный. Я не нуждаюсь в поводыре!»
Чуднов неподвижно глядел на захлопнувшуюся дверь, и по всей фигуре его чувствовалось, как напряглись мускулы.
Таким я видел Чуднова впервые. Как будто под ним пропасть. Назад нельзя — на узкой тропе не повернуться. Путь открыт лишь вперед — по узкому осыпающемуся карнизу. Секунда — и человек шагнет.
— Вы? — Чуднов непонимающе смотрел на нас, он был весь под впечатлением разговора с Золотовым. — Вы были правы, Николай. Посоветуюсь с месткомом, с партбюро, снова пойду к Елкину.
В этот же день мы узнали, что Золотов смещен. Золотов — рядовой врач. Вот здорово! Ай да товарищ Елкин! Ну и Михаил Илларионович!
Мы, практиканты, сидели на скамейке во дворе и строили планы на будущее. Как-то теперь пойдет наша жизнь?
Однако утром пришла телеграмма от заведующего облздравотделом, и Золотов был восстановлен на прежней должности. Рядовым он побыл менее суток. Маловат срок, чтобы родиться заново.
Обсуждать действия старших не положено, но тут трудно было удержаться.
— Несправедливо. Очень. Факты не проверили. Вас не спросили. Елкина не спросили. Как же это?
Чуднов молчал и курил папиросу за папиросой. Плечи его вздрагивали, будто от холода.
— Где же выход, Михаил Илларионович? Вот и добейся правды.
Михаил Илларионович глянул на меня жестко, непримиримо.
Требовательно зазвенел телефон.
— Так… так… выезжаем. — Чуднов взглянул на часы. — Успеем! Вы едете со мной, — бросил он, уже направляясь к двери.
Мы быстро спустились по лестнице. «Коробочка» нацелила свой нос на ворота.
— Садитесь! — Чуднов показал рукой на машину.
Через заднее оконце кабины я видел, как тяжело он втискивался на сиденье рядом с шофером. Что же это за срочный вызов? Машина не шла — летела по улицам города. Чуднов стал причесываться. Редкие волосы за ушами и на затылке лежали хорошо, но он старательно приглаживал их.
Шофер резко тормознул. Я выпрыгнул, открыл заевшую дверцу кабины.
Передо мной за вековыми соснами стояло бело-желтое здание с большими, как в операционной, окнами. Не горздрав. Не горсовет. Не школа. Когда приблизились, прочел: горком… Вероятно, заболел сам секретарь, раз вызвали главврача.
Особое чувство охватывает, когда дверь горкома закрывается за тобой. Внутренне подтягиваешься. Сегодня к этому чувству примешивалось новое — тревога. Удивляло одно: зачем главный взял с собой студента? Э-э, философ, зачем да отчего. Был под рукой — вот и прихватил «для практики»…
Чуднов окинул меня беглым взглядом, не отстал ли, и прошел вперед, повернув с лестничной клетки направо. Тишина ковровых дорожек. В конце длинного коридора блестел высокий прямоугольник окна. Вдоль коридора все время тянуло ветерком, несильно, но настойчиво, как будто сюда непрерывно нагнетали свежий воздух. Идя за Чудновым, я увидел через полуоткрытую дверь конференц-зал. Сейчас там не было никого, но воображение мгновенно вызвало в памяти собрание партийного актива нашего района в Москве, и мною овладело ощущение силы и товарищества.
Молодежь часто спорит о счастье… Да вот же оно, счастье: быть в коллективе единомышленников. Генерал, рабочий, академик, студент — здесь все равны. Звания, почетные титулы — все оставлено дома. С собою лишь совесть и партбилет. Но сегодня…
Михаил Илларионович похлопал по карману брюк, привычно проверяя, на месте ли фонендоскоп, постучал в дверь с табличкой «Секретарь ГК Е. А. Погребнюк» и, открыв ее, подтолкнул меня вперед.
Женщина за столом кивнула нам и, сказав, певучим голосом украинки: «Садитесь, Михаил Илларионович», продолжала разговор с товарищем, сидевшим напротив нее в кресле. Чуднов тяжело опустился на стул, я взглянул на него, стараясь хоть по его лицу угадать, в чем же все-таки дело. Он не поднял глаз.
За столом секретаря шел как будто неприятный разговор. Товарищ все порывался вскочить с кресла, вполголоса что-то доказывал, плечи его иногда беспомощно поднимались. Секретарь горкома отрицательно поводила над столом ладонью. Ей было лет под сорок, наверно. На лице напряжение, но, может быть, это выражение придавал ему шрам, идущий от брови вниз к уху.
Потом товарищ был отпущен, и нас пригласили к столу. Чуднов пошел первым, говоря на ходу:
— Вот, Алена Александровна, привез к вам баламута. Жить не дает!
— Здравствуйте, товарищ Захаров, — она пожала мне руку. — Давно из армии?
— Четвертый год, Алена Александровна, — ответил я, думая: «Ах, чертов старичина! Какой номер выкинул…»
— Где проходили службу?
— В Германии, командовал взводом.
— Хорошая школа… Моему поколению именно армия дала путевку в жизнь. Ну, выкладывайте ваши заботы и трудности.
— Вы его с перцем допросите, Алена Александровна, — бубнил рядом Чуднов, — речь идет о чести нашей больницы. А вы в нашем деле дока.
— Слушаю вас, товарищ Захаров. Думаю, что нам полезно получить, так сказать, взгляд на нашу больницу со стороны.
— У меня нет взгляда со стороны, — бухнул я.
Она расхохоталась:
— Как ни хвать, все ерш да еж!.. Хотите быть нашим, городским? Ладно, беру свои слова обратно. Что же у нас с вами в больнице неладно?
Беседа продолжалась с полчаса. Я рассказывал обо всем, что у нас накипело, и резче, чем говорил Чуднову. Алена Александровна особенно подробно расспрашивала про успехи Гринина и про Коршунова. Вопросы ее были профессионально точны, и часто она прерывала меня, говоря: «Понимаю… давайте дальше».
Коршунов ее определенно заинтересовал.
— Хотела бы познакомиться с этим врачом поближе, Михаил Илларионович, и понять, что за противоречивый характер. С одной стороны — готовность к подвигу… операция Лобову — это, несомненно, подвиг! А с другой — невозможная вялость и бездеятельность. Штатный врач на положении практиканта! Да, Михаил Илларионович, мы недоглядели…
Потом, бросив взгляд на часы, она спросила Чуднова:
— Николаев приезжает минут через двадцать? Я думаю, мы отпустим товарища Захарова, пусть присутствует, операция обещает быть поучительной… — А мне, прощаясь, сказала: — Полагаю, что наши студенты идут верным курсом. Суйте нос везде, пусть до всего вам будет дело! Люди легко заболевают терпимостью к недостаткам…
В голове путаница мыслей. В кабинете у Алены Александровны все было легко, а сейчас… Разбираться не хотелось. На сердце… в сущности, что было в эти минуты у меня на сердце? Чувство исполненного долга? Чувство локтя? Ощущение какой-то вымытости, чистоты? Где-то на донышке шевелился вопрос. Это был вопрос самолюбия: «Кто все-таки кого уложил на лопатки? Я нашего старикана или он меня?»
Ассистент ушной клиники прибыл через полтора часа после того, как Чуднов ему позвонил. Викторова на носилках опустили на первый этаж.
Началась операция. Ассистировал доктор Бочков.
У хирургов много общего: очки с позолоченной оправой, черные волосы, почти одинаковый высокий рост, того и гляди обознаешься, когда они оба в марлевых масках стоят за операционным столом. Но если хорошо приглядеться, то можно заметить, что морщин у Николаева на лбу больше, кожа на лице не такая гладкая, на висках порядочно седых волос. Движения рук спокойные. А в глазах — мудрость. И краткий содержательный комментарий по ходу операции давал он, а Бочков только слушал. Слушал и благодарно покачивал головой. Ему было приятно, что на него не кричат, что его не оскорбляют. Чувствовалось, что и Николаев испытывает полное удовлетворение: и оттого, что подшефной больнице понадобилось его столичное уменье, и, наверно, оттого, что здесь, как и в институте, он учит неоперившегося птенца.
Сложная операция! Они долбили височную кость. Можно было подумать, что они не врачи, а металлисты или плотники. Из очага заболевания выделилось ложки три желто-зеленого гноя. Без лечения он разлился бы по мозгу и…
— Думаю, что он будет жить, — сказал Николаев после операции.
Я тоже верил, что не умрет теперь Викторов, как не умерли Гриша и мотоциклист Лобов.
Мы беседовали в ординаторской терапевтического отделения, куда Чуднов пригласил Николаева. Ассистент спешил. Чувствовалось, что важное дело, ради которого он прибыл, кончилось и остальное его не интересует.
— Ну так что у вас тут с практикой студентов, Михаил Илларионович? — спросил Николаев, поглядывая на часы.
— Не найдут общий язык с заведующим хирургией, — ответил Чуднов.
— Не понимаю, разве это настолько трудно?
— Товарищ Николаев, — сказал я, — вам ассистировал доктор Бочков. Вам хотелось бы, чтобы мы вышли из института такими же беспомощными?
Николаев вдруг насупился.
— Да, Михаил Илларионович, Бочков слабоват в самом деле. Он не делает никаких операций?.. Почему не воздействуете на заведующего отделением?
— Пробовал — не получается. Я его в ЦИУ пошлю.
— Бочкова? Вот-вот, непременно.
Чуднов улыбнулся одними глазами.
— Что касается практики студентов, то я советую, товарищ Захаров, прилежно выполнять предписания врачей, они знают, как и чему вас учить. И затем: не разбрасывайтесь. И не суйте свой нос куда не следует…
— Вам же говорили! — воскликнул наш чудесный старичина и подмигнул мне.
За окном трижды просигналила машина.
Николаев бросил на спинку стула халат и подал Чуднову руку. Через две минуты красный крестик на стекле «Волги» мелькнул в воротах.
— А я все-таки пошлю его в ЦИУ, — сказал Чуднов. — Пока он будет там, мы здесь наведем порядок, а Борис Наумович, возвратясь и потеряв инерцию косности, его примет. Алена Александровна прямо спросила: «Сумеете Золотова вылечить?» Вот как появилась у нас идея с ЦИУ.
— Скучать будет на курсах, — сказал я. — Он и так все операции делает.
— Думаете, великому умельцу курсы противопоказаны? Ему же там диссертацию профессор поможет закончить. Кандидат наук в больнице! Плохо это или хорошо для всех нас? Вот так-то.
Чуднов, думая о чем-то, ходил по комнате, будто вдруг сразу забыл обо мне. Потом остановился, положил мне на плечо руку и спросил:
— Хотите, расскажу историю Лены Погребнюк?
…Тысяча девятьсот сорок первый год. Девятнадцатилетняя девчонка ушла медсестрой на фронт. Первое ранение под Крюковом, госпиталь — и снова в боях. Десант через Керченский пролив в Крым. Тогда она была сестрой в хирургическом взводе десантной дивизии. Полтора месяца на плацдарме, в отрыве от своих. Каждый метр взрыт немецкими бомбами и снарядами. В операционной работают при коптилках. С потолка падают штукатурка и земля. Осколки врываются через окна. Повторные ранения солдат на операционном столе. Здесь ей перебило руку, а впереди был рейд по тылам врага — дивизия уходила на Митридат, на соединение со своей армией. После войны — институт. Вот как наша Алена Александровна стала врачом, и каким врачом! Она, дорогой мой, свою профессию выстрадала, она свою любовь к ней через огонь пронесла… Это, Николай Иванович, в продолжение нашего разговора о молодых специалистах. Ну, а дальше — «испортили» ей карьеру товарищи: избрали секретарем парторганизации, — и началась ее вторая профессия, уже по партийной линии.
Учитель Дубовский и электрик Луговой быстро поправлялись. За Грининым прочно закрепилась характеристика — прирожденный хирург. Что ж, это можно было понять. Он первым из студентов сделал две полостные операции и сейчас готовился к более сложной. Так говорили сестры и санитарки. Я слушал и только улыбался. Говорят? Пусть!
Настроение у него в последние дни было прямо-таки превосходное. Он не ходил, а плавал по коридорам и палатам, высоко держа пышную голову. Кто его не знал, мог подумать, что это очень важное лицо в больнице. Хотелось подойти и щелкнуть его по носу. Пригни голову, мальчик, шишку набьешь!
Порою было забавно наблюдать за ним.
На днях меня назначили дежурить на «Скорую помощь». Гринин спросил, не буду ли я против, если он подежурит вместе со мной. Я, конечно, не возражал. Гринин попросил Чуднова, и тот разрешил дежурить двоим.
Мы пошли на дежурство.
Светло-голубая машина с красным крестом на боку, казалось, дремала во дворе поликлиники возле старого, покрытого зеленоватой плесенью забора.
В тесной комнатушке с большим окном, выходящим на улицу, за столом сидела совсем молоденькая фельдшерица и весьма оживленно разговаривала по телефону. Это был необязательный и совсем не медицинский разговор. Я раскрыл рот, чтоб сказать об этом, но Гринин схватил меня за руку:
— Подожди, Николай, я скажу… Сестра, разве вы не знаете, что не рекомендуется занимать служебный телефон пустыми разговорами?
— Что?.. Одну минуту, Витя, — сказала фельдшерица в трубку и повернулась к Гринину. Он сидел рядом со мной на кушетке. — Во-первых, я не сестра, а фельдшерица. Во-вторых, я вам не подчиняюсь и прошу мне не указывать. — Черные подведенные ресницы ее дрожали. Она поглядывала на меня, ища в моих глазах сочувствия. Я не вмешивался. Пусть Гринин сам с ней разделается.
— Ваша пустая болтовня может дорого обойтись, — наступал Гринин.
— Что вы сказали, интересный юноша? Дорого обойтись?
— Да! Она может стоить человеку жизни!
— Прошу не указывать, человек с усами. Впрочем, усики вам идут. С ними вы напоминаете мужчину, — фельдшерица взглянула в трубку, словно в зеркало, улыбнулась, представив, наверно, что ее видит тот, с кем она говорила: — Алло, Витенька! Ты меня слушаешь?.. Да так, тут один молокосос ко мне прицепился… Я его, конечно, отшила, как полагается. — Она коротко взглянула на Гринина, проверяя, как он будет реагировать на ее слова, и продолжала разговаривать.
Гринин смотрел на меня, дрожа от ярости.
— Василию Петровичу скажу. Он ей даст на орехи! — Гринин встал, резко одернул халат и уже направился в хирургический кабинет к Коршунову, который сегодня дежурил вместе с нами.
— Повремени, Юра, — сказал я и подошел к столу.
Фельдшерица краем глаза наблюдала за нами.
— Дайте! — сказал я ей и взялся за трубку. Она не отдавала. Я потянул сильнее: — Прошу!
Она опустила трубку, отскочила, словно ее ударили, и истерично закричала:
— Хам! Я на служебном посту, а ты…
Я положил телефонную трубку на рычаг и спросил:
— Может быть, окно открыть, чтобы вас лучше слышали на улице? — И толкнул раму — обе створки распахнулись.
Фельдшерица мгновенно притихла. Сжав толстые накрашенные губы, смотрела на меня, прищурившись, с выражением страха и бессилия. Кривляясь, спросила:
— На что вы еще способны, бывший военный?
— Садись к телефону, Юра, — сказал я.
Гринин сел за стол, а она стояла у раскрытого окна, видимо обдумывая, что бы ей выкинуть. Сначала она сжимала кулаки, потом поковыряла пальцем замазку, повернулась и, бросив мне: «Дуб!», уселась на подоконник.
Я достал из чемоданчика «Последние залпы», раскрыл сотую страницу. Не читалось.
Я оглядел комнатушку. На одной стене — портрет Павлова, на второй — таблица о мерах помощи при отравлениях. Точно такую же таблицу я видел на станции «Скорой помощи» в Москве, где работал зимой полтора месяца. Потом трудно стало совмещать учебу с работой, и я ушел.
В углу стоял стеклянный шкаф с инструментарием, рядом — такой же, с медикаментами.
Вошел Василий Петрович, настороженным взглядом оглядел нас, поводил выпуклыми карими глазами. С наших лиц, наверно, еще не сошло раздражение, потому что Коршунов спросил:
— Что тут у вас?
— Телефон арестовали! — сказала плаксивым голосом фельдшерица.
— Не верьте ей. — Гринин поднял брови. — Она оскорбила нас. Она назвала меня…
— Татьяна Сергеевна любит шутить, — Василий Петрович улыбнулся.
Фельдшерица расцвела. Она мигом соскользнула с подоконника и, подойдя к Гринину, сказала:
— Разрешите, интересный юноша. Освободите место.
Меня покоробило, что ее зовут Татьяной. Я полюбил это имя еще со школьных лет.
Гринин встал со стула. Она села, закинула ногу на ногу.
— Татьяна Сергеевна плохо шутит, — сказал я. — А вернее, не умеет шутить.
— Что вы понимаете в шутках, бывший военный? — фельдшерица улыбнулась, не сводя глаз с Василия Петровича.
— Ну и Татьяна! — сказал я.
— Буду вам Татьяной после загса.
— Боюсь, что и тогда вы не станете Татьяной. Проба не та.
Коршунов двинул черной бровью и улыбнулся.
— Ну, не скучайте и не ссорьтесь… У вас есть что читать?
Мы ответили, что есть. Он ушел в хирургический кабинет. Мы взяли книги и тоже вышли в зал ожидания, опустились на диван и начали читать.
Через час я заглянул в комнату «Скорой помощи». Фельдшерица положила голову на стол рядом с телефонным аппаратом, чтобы услышать вовремя звонок. Человек как человек, когда спит.
Я возвратился к Гринину. Ярко светила над головой лампочка. Гринин читал монографию о хирургии почек. Одолжил у Коршунова.
На «Скорую помощь» долго не звонили. Примерно в час ночи раздался звонок. Фельдшерица сразу же ответила: посоветовала нюхать нашатырный спирт. Видно, кто-то угорел и спрашивал совета.
Гринину читалось плохо. Услышит на улице шаги запоздалого прохожего и ждет, прислушивается, не на скорую ли помощь идет человек. Не дождавшись, выходит на крыльцо. Тишина. Ни души. По звездному небу ползет, словно жук, самолет. Его не видно, лишь светятся бортовые огоньки. Гринин провожает жучков-светлячков взглядом, докуривает папиросу, затаптывает окурок ногой и возвращается в поликлинику.
Снова берется за монографию. Но чувствую: не лежит у него душа к этой книге. Не знаю, может быть, написана тяжелым языком, а может быть, просто еще не дорос парень, и она ему неинтересна.
Василий Петрович выглянул из кабинета.
— Вы бы поспали немного. Завтра рабочий день, отдыхать не придется… В физиокабинет зайдите. Кушеток там полно.
— Спасибо, Василий Петрович, — сказал я.
Мы начали дремать на скамье, как иногда дремлют больные в ожидании приема врача. Не знаю, сколько прошло времени. Из оцепенения меня вывел топот. Гринин вдруг вскочил и побежал к выходу, остановился, левое ухо повернул к раскрытой двери.
— Ты что? — спрашиваю.
— Никуда не уезжал?
— Мальчик, очнись!
— Значит, приснилось. Вот как наяву видел, что эта самая Татьяна приняла срочный вызов. Автобус перевернулся, масса жертв. Ты говоришь: «Пусть этот ребенок поспит». И уходишь.
— Да с чего же я пойду без тебя?
— Ну, знаешь, у всякого свои планы!
Второй раз меня разбудил голос Василия Петровича:
— А зря не пошли в физиокабинет. — Он смотрел на храпевшего Гринина. Увидев, что я открыл глаза, сказал: — Вот ведь как умеет безмятежно спать, а у меня уже не выходит. А у тебя?
— Тоже разучился.
Едва Коршунов скрылся за дверью хирургического кабинета, как зазвенел телефон. Фельдшерица, громко стуча каблуками, пробежала через пустой зал ожидания, забарабанила в дверь. Через минуту она вышла вместе с Василием Петровичем.
— Быстро собирайтесь, — сказал он нам.
Фельдшерица прошла к телефону, а мы выбежали из поликлиники. В руке Василия Петровича — чемоданчик. В нем шприцы, йод, бинты, кордиамин, камфара, валидол. Он сел в кабину справа от шофера, мы — в кузов «коробочки».
Я поднял брезентовую занавеску, прикрывавшую оконце. Ни огонька в домах, ни души на улицах. Шофер гнал машину вовсю.
Улица внезапно оборвалась. Мы въехали в лес. Еще минута — и машина резко остановилась. Нас бросило на стенку кабины. Дьявол, а не шофер. Ему бы камни возить.
— Сюда! Сюда идите!
Комната освещена лампой дневного света. Женщина указывает рукой на кровать. Тень от руки прыгает по стене.
Полный мужчина с красным лицом смотрит на нас. Губы у него с фиолетовым оттенком. Он часто и тяжело дышит. Василий Петрович проверяет пульс, выслушивает фонендоскопом грудь. Потом делает нам знак: «Приступайте».
— Минутку, Николай, — Гринин вежливо оттесняет меня от кровати, занимает ключевую позицию. Спрашивает больного, ощупывает живот.
— Диагноз абсолютно ясен, — говорит он, едва повернув голову ко мне, — острый аппендицит. Необходима экстренная операция. Где можно вымыть руки?
Жена больного с отчаянием смотрит на Василия Петровича.
— Сделайте инъекцию камфары. — Коршунов протягивает Гринину коричневый чемоданчик.
Гринин хочет что-то сказать, но берет чемоданчик, сжимает губы в прямую линию, протирает руки спиртом и молча делает инъекцию.
— Осмотрите. — Василий Петрович кивает мне.
Через семь минут мы уже сидели в хирургическом кабинете поликлиники.
— Все-таки я не согласен, — сказал Гринин. — У больного явный аппендицит!
— Вы тоже нашли аппендицит? — спросил у меня Василий Петрович.
— Упадок сердечной деятельности, — сказал я.
— Сердечный приступ? — Гринин встал с кушетки. — Ну, знаешь, это… это…
Василий Петрович, улыбаясь, глядел на Гринина и вдруг сказал так, будто был старше его не на пять, а на целых двадцать пять лет:
— Юрочка, не дурите!
— Нет, нет!.. Остаюсь при собственном мнении. Конечно, терапевтом я быть не собираюсь, но… — Гринин вытащил портсигар, открыл, сосчитал папиросы, закрыл. Он держал портсигар перед собой и изучал его блестящую поверхность. Интересно, это золото или анодированный металл?
За окном по чистому небу разливалась бледно-розовая заря. Пропело сразу несколько петухов.
Перед уходом из поликлиники Юрий сказал:
— Василий Петрович, ну что это за дежурство? Совсем неинтересно!
— Вам хотелось, чтобы кто-нибудь попал под электровоз?
— Что вы! Вы не так меня поняли.
Когда мы выходили из поликлиники, возле регистратуры уже стояли люди. Они хотели попасть первыми на прием. В кабине санитарной машины сидел наготове шофер и читал учебник физики для восьмого класса. Это уже был не тот шофер, который дежурил с нами ночью. Этот был аккуратно причесан на пробор и носил галстук.
Улицы города оживились. Народ спешил на работу. Проехал фургон с хлебом. Его тащила похожая на слона лошадь. Пробудившись, закричал электровоз. Протяжным гудком отозвалась фабрика.
— Как дежурство, Юра? — спросил Каша, пофыркивая над умывальником.
— Знал бы, не навязывался Николаю. Считай, ночь потеряна. Ни пользы, ни удовольствия.
В этот день я дежурил по больнице, и мне очень не повезло.
Только сел я ужинать, вбегает санитарка Маша из терапевтического отделения, та самая, у которой тридцать три ухажера и которая никак не может выбрать из них достойного жениха.
— Вас Вадим Павлович. Скорее!
Оставив на столе ужин, я бросился за нею.
Вадим Павлович сидел возле больного в седьмой палате. Больной задыхался от удушья. Вадим Павлович собственноручно держал подушку с кислородом. Кивком головы он подозвал меня к себе.
— «Скорая» привезла какого-то пьянчужку, — тихо сказал он. — Я занят. Астматик. Не могу отлучиться. Взгляните, пожалуйста, на привезенного. Если он ничего, пусть везут домой. А если плох, оставьте в больнице.
Машина стояла во дворе, напротив главного входа. Задние двери открыты, на носилках гладко выбритый седенький старичок лет под семьдесят. Возле него фельдшерица в белом халате. Но не та, с которой мы дежурили в последний раз.
— А, доктор! Вот посмотрите, пожалуйста, — обратилась она ко мне. — Пенсионер Новиков. Алкогольное опьянение, а возможно и…
Я не стал выяснять, что думает она в отношении диагноза. Но ее фраза, оборвавшаяся на «и», не осталась незамеченной. Я особенно тщательно осмотрел старика. Измерил пульс, кровяное давление, выслушал сердце и легкие — все как будто бы нормально. Только вот ничего не отвечает, спит. И пахнет водкой.
— Везите домой, — сказал я. — Проспится, и все войдет в норму.
— Значит, не оставите? — спросила фельдшерица.
Мне запомнились ее умные глаза. Может быть, спросить? Но я сказал:
— Нет. Везите домой.
— Тогда вот тут распишитесь. — Она подала бланк.
Я расписался и со спокойной душой направился к Вадиму Павловичу.
Я доложил ему, и он сказал:
— Молодец. Хвалю за оперативность. Вы знаете, не терплю пьяных. И почему не повысят цену на водку раз в пять?
Всю ночь мы проканителились возле больного с бронхиальной астмой. Астматическое состояние удалось снять. Больной начал свободно дышать. Зато сами мы очень устали, глаз не сомкнули. Отоспимся после работы!
Утром мы с Вадимом Павловичем сдали дежурство и разошлись по своим местам.
Я был в своей палате, на обходе, когда прибежал служитель морга, вызвал меня в коридор.
— Вадим Павлович просит вас немедленно зайти.
Прихожу и чувствую, что колени мои задрожали.
На столе для вскрытий лежал гладко выбритый старичок Новиков, которого я вчера смотрел в карете «Скорой помощи».
— В чем дело? — спрашиваю.
Вадим Павлович подводит меня к столу. С минуту смотрю на старичка, потом перевожу взгляд на Вадима Павловича.
— Как же так?
Он пожимает плечами, говорит:
— Что бы ни оказалось на вскрытии, по головке нас не погладят. Минус поставят за поведение. Надо было его, конечно, положить в больницу.
— Но ведь… — начал я.
— Знаю. Никаких объяснений, ученый муж, — перебил Вадим Павлович. — Давайте раньше вскроем.
Через сорок минут причина смерти была ясна: кровоизлияние в мозг.
— Что же теперь? — спросил я.
— Похоронят, и все, — сказал Вадим Павлович. — Ему шестьдесят девять лет. Выпил, сосудик в головном мозгу лопнул — вот вам и кровоизлияние, моментальная смерть. Если бы и в больницу положили, все равно бы умер. От кровоизлияния никуда не уйдешь, когда в шестьдесят девять лет ты напился до потери сознания. Он не отвечал на вопросы?
— Конечно, нет! — ответил я.
— Ну, так чего же?.. Одно плохо — что я сам не посмотрел вслед за вами. Но вы не думайте ничего плохого, товарищ, — сказал Вадим Павлович. — Вашим показаниям я верю как своим собственным.
Я возвратился в отделение в подавленном настроении.
Скоро вся больница узнала о смерти Новикова. И рядом с фамилией умершего упоминался Вадим Павлович и «студент в кителе».
Тяжелое пятно легло на душу.
Случай смерти старика Новикова разбирался на врачебной конференции. Нас, студентов, тоже пригласили. Все шишки, правда, свалились на голову Вадима Павловича. И, как он ни защищался, ему все равно строго указали, что он и сам должен был осмотреть старика, а не передоверять практиканту. Правильно, он, может быть, все равно умер бы, и все-таки дежурный врач обязан был найти несколько минут для осмотра больного. Практикант мог эти несколько минут посидеть у постели астматика.
По моему адресу не было сказано ни слова упрека, наоборот, Чуднов даже похвалил меня за то, что я измерил Новикову кровяное давление в машине, выслушал его сердце и легкие и записал все это в амбулаторной карте. «К вам, Николай Иванович, претензий нет никаких. Сделать больше того, что вы сделали, вы не могли», — сказал Чуднов.
Но разве это меня успокоило? Остаток дня и почти вся ночь прошли в тяжелых размышлениях, от которых я всегда устаю больше, чем от любой другой работы. Я лежал на кровати, не раздеваясь, и слушал через открытое окно ночной город. Он дышал ровно, медленно. И мысли тянулись медленно. «Бездарность. Отправить умирающего отсыпаться…» Невдалеке прогромыхивали поезда, и я по движению звуков определял, идут ли они в Москву или из Москвы. Захотелось уехать. «Устал, Захаров?» — «Нет, не устал. А просто понял: Золотов прав, тысячу раз прав, воробьи мы, и больше ничего».
Самолеты почти беспрерывно бороздили воздух. Казалось, это тракторы сеют рожь. Глухой ровный рокочущий шум. Воробьи… воробьи… Я проснулся от холода и закрыл окно. Было уже утро. Синицы, предвещая еще больший холод, запорхали в кустах перед окнами. Одна постучала клювом в стекло, но, заметив меня, улетела. По двору школы прошли в замасленных спецовках двое рабочих. Каша и Гринин спали. Пусть спят, пока спится. Кто знает, сколько бессонных ночей у них впереди.
Коршунов, видимо, по-настоящему поверил в Гринина. Иначе бы не оставил его старшим в поликлинике. Самого Коршунова срочно вызвали в отделение.
— Юрий Семенович, оставляю вас за себя, — сказал он, уходя. — Вместе с Николаем Ивановичем принимайте больных. Не срывать же нам прием в поликлинике? То, что не сумеете сами, оставьте. Я приду — доделаем общими силами.
— Можете быть спокойны, Василий Петрович! — Гринин сел в кресло Коршунова, простое жесткое кресло, которое часто можно встретить в больницах и поликлиниках. Сел и руки положил на стол. Рукава халата закатаны до локтей. Так он сидел минуты три. Потом, наверно, понял, что поза Коршунова ему не очень-то подходит, вышел из-за стола и принялся за дело.
— Постарайся быстрей принимать, Николай, — сказал он мне на правах старшего.
— Не помню, Юра, чтобы Василий Петрович когда-нибудь нас подгонял.
— Но все же, Николай! Василий Петрович будет доволен, если к его приходу не останется ни одного больного. — Гринин петухом посмотрел на меня.
— Что ты говоришь? — сказал я. — Принимать людей — не дрова рубить. Сам не буду и тебе не советую.
— Ты обижаешься? — Гринин подошел ко мне и взглянул на рану на ноге больного, которую я обрабатывал. — Надо бы побольше срезать ткань, — посоветовал он мне.
— Брось играть в начальники, Юра, — сказал я шепотом. — Яйца курицу не учат.
— Это ты меня яйцом считаешь? — Он выпрямился. — Ну, знаешь… У меня, если хочешь знать, еще никто не умирал! — И он отошел к своему столику, повернулся ко мне спиной.
Больные, сестра Зина и санитарка смотрели на меня с недоумением.
— Новиков умер от кровоизлияния в мозг, — сказал я для всех, — и никто из врачей не виновен в его смерти, в том числе и я.
— О! Ты еще не врач, Николай! И будешь ли врачом — неизвестно. Оседлать науку — это тебе не колхозную кобылку оседлать. Запомни! — Гринин наклонился над рукой больного и что-то рассматривал.
— Советую, Юрка, думать, перед тем как говорить.
Гринин повернул ко мне лицо: гладкая розовая кожа щек, белый без единой морщинки лоб, холеная щеточка усов на узкой верхней губе. Свежесть и молодость. Как говорится, кровь с молоком. Он глядел на меня своими черными красивыми глазами. «Какой странный взгляд! — подумал я. — Так смотрит собака, которая хочет укусить. Не дворняга, нет, а хорошо воспитанный комнатный пес, понимающий, что кусаться допустимо дворняжкам, а не ему. Но укусить хочется, нужно, — вот когда у собаки бывает такой взгляд».
И он-таки укусил.
— Хватит, студент в кителе! Считаю замечания неуместными, — сказал он.
Он сказал это спокойно, холодным золотовским тоном, но не удержался и пустился в объяснения:
— Я знаю, ты обижаешься, что не тебя оставили старшим, хотя ты бывший солдат и тебе скоро тридцать лет. Но ты у Василия Петровича спроси, почему он так решил. Я не напрашивался в старшие.
Мне стало жалко его, этого парня, в сущности ведь неплохого. Родись он пораньше да попади в наш огневой взвод, мы, наверно, сделали бы из него человека.
Я вспомнил дежурство на «Скорой помощи», когда Юра испугался, что я уехал без него на вызов. Неужели он видит во мне конкурента? Вот дурень!
— Работаете? — раздался в дверях голос Чуднова. — Сейчас придет Вадим Павлович. Он вам поможет. Хочу приобщить его к хирургии. До зарезу нужен еще один хирург.
Он вышел, а вскоре морговский врач уже был в нашем кабинете и снимал пиджак. Он надел халат Коршунова и, посмотрев на себя, улыбнулся. Халат был широковат.
— Как идут дела? — обратился ко всем сразу.
— Потихоньку, — ответил я.
Вадим Павлович листал амбулаторные карты, читал записи врачей. Мы с Юрой продолжали прием, как будто ничего не произошло. В сущности, ничего и не произошло. Ну, повздорили два воробья…
— На что жалуетесь? — спросил я больного.
Он жаловался на боли в стопе. Дома он нечаянно наступил на торчавшую иголку.
Мы сходили в рентгеновский кабинет. Игла была хорошо заметна. Она состояла из двух кусочков. Я пометил карандашом то место, где она находилась.
— Придется сделать небольшой разрез, — сказал я. — Сделаю без боли. Согласны?
— Конечно. Я же ходить не могу.
— Зина, дайте, пожалуйста, новокаин, — сказал я сестре.
А Вадим Павлович по-прежнему с благодушным видом листал амбулаторные карты. Скучно ему, что ли, среди живых? Хоть бы Юрию помог, видит же, что у мальчика что-то не ладится. Я уже отпустил четвертого больного, а Гринин все еще возился с первым.
— Вадим Павлович!
Он поставил палец на строчку и настороженно поднял на меня глаза:
— Да? Все в порядке, коллега?
— Полная норма, — ответил я и подошел к Юрию. — Можно тебя на минутку?
Гринин спешил что-то закончить. Он повернулся с неожиданной готовностью.
— Меня торопил, а сам, интересный юноша?
Он принял шутку:
— Видишь ли, бывший военный, тут не так просто… — Краски сошли с его лица, посерьезневшего и растерянного, хотя Юра старался, чтобы растерянность была не видна.
Юноша лет двадцати трех сидел на кушетке с вытянутой рукой. На кисти лежали пропитавшиеся кровью салфетки. Пинцет в руке Гринина дрожал. Напорол парень.
— Можно посмотреть? — спросил я.
— Собственно, смотреть тут нечего, — сказал Гринин. — Но если уж так хочешь — пожалуйста! — Он несмело ухватил пинцетом салфетку, но поднять не успел: вошел Коршунов.
— Как тут они без меня? — спросил Коршунов у Вадима Павловича.
— И спрашивать нечего! Сплошная эрудиция! Гиппократы! Ну, я пошел. — Вадим Павлович моментально снял халат, надел пиджак и удалился.
— Василий Петрович, — неестественно громко сказал Гринин, — я хотел с вами посоветоваться.
Коршунов склонился над пораненной рукой.
— Что произошло? — спросил он у больного.
— Пилой шарахнуло.
— Подвигайте пальцами.
Больной сделал усилие, весь напрягся, а пальцы не двигались.
— Понимаете почему? — спросил у нас Коршунов.
— Конечно! — воскликнул Гринин и отвернулся от меня.
— Откуда прибыли? — спросил Коршунов. — Кто оперировал?
— Ларионов Александр Спиридоныч, — ответил больной.
— Где направление?
— Я без направления. Уговорил регистраторшу записать. Пальцы-то мертвые. Хоть бы левая, а то ведь правая рука, товарищи.
— Одну минутку, больной. — Коршунов отвел нас к стеклянному шкафчику с инструментами и сказал: — Ларионов не сшил сухожилия. Понимаете? Пила разорвала сухожилия, а этот сапожник зашил только кожу… Юрий Семенович, что вы успели сделать?
— Разрезал швы на коже и хотел сшивать сухожилия, — ответил Гринин.
— Приступайте!
Пока Гринин работал, Коршунов ни на секунду не отошел от него. Минут через двадцать я подошел к ним.
Окровавленная, но не очень ладонь. Аккуратно сшитые лоскутки кожи.
Чисто сработано, Юрка, ничего не скажешь!
— Прекрасно, Юрий Семенович! — сказал Коршунов, глядя, как больной пошевелил пальцами. — Прекрасно. Рука будет жить.
Мы продолжали прием. Дело шло к концу. Но в половине шестого в коридоре послышался топот ног, шум.
— Узнайте, пожалуйста, что там такое, — попросил Коршунов Зину.
Она вышла и минуты через две возвратилась в кабинет.
— С фабрики человек двадцать. А запись окончена. Они шумят. «К самому, — говорят, — Чуднову пойдем, если не примете». Давайте примем. Им только на осмотр. Это ведь быстро.
— Скажите регистратуре, чтобы записали. И предупредите, чтобы в коридоре была полная тишина.
Зина навела порядок, и мы начали принимать работниц фабрики. Это было какое-то наваждение, не иначе. Одна жаловалась, что у нее болит горло, другая — что болит живот, третья — что в груди нащупала яблоко, четвертая — что в ухе стреляет, и все пришли с готовым диагнозом — рак.
Я осматривал каждую женщину очень внимательно и не находил никакого рака. Женщины не верили и обращались к Коршунову. Он смотрел. И тоже не находил никаких болезней.
Мы сидели до восьми вечера, приняли не двадцать, а дополнительно пятьдесят человек. И лишь у предпоследнего нашего пациента, бухгалтера фабрики, Гринин обнаружил в животе уплотнение величиной с кулак. Коршунов тоже его осмотрел и посоветовал бухгалтеру сходить в рентгеновский кабинет и в лабораторию для исследования желудочного сока. Предполагался рак желудка.
— Вначале в лабораторию сходите, — сказал ему Василий Петрович и обратился к нам: — Из-за чего этот переполох? Ничего подобного прежде не бывало!
Выручила молодая работница со смешливо вздернутым носиком. На вид ей было не больше семнадцати. Она уже разделась до пояса и стояла, поправляя прическу и посмеиваясь. Еще издали я заметил у нее на губе небольшую темную корочку.
— Что это у тебя на губе? Тоже небось рак? — спросил я.
— Нет! Муж крепко поцеловал.
— Похоже, — согласился я. — А не скажешь ли, почему это вы полетели все в поликлинику?
— Врач попутал. Пришел из больницы с лекцией. Незнакомый, чудной. Напугал до смерти. Всю ночь многие не спали. После смены побежали сюда.
— Незнакомый врач? — спросил Коршунов. — Странно!
— Маленький такой, низенький, широкий в плечах. Волосы как перекисью водорода вымыты, нос горбатый. От каждого вопроса краснеет — умора!
— Так это же Пшенкин! — воскликнул пренебрежительно Гринин.
— Кто? — переспросил Василий Петрович.
— Наш Игорь, — сказал я. — Игорь Александрович Каша.
— Вот-вот! Сестра перед лекцией вроде бы Гречкой его назвала, — сказала работница. — Сколько к вам завтра народу прибежит! Пропасть! Спасибо, что ничего не нашли. До свидания, доктора!
Она вышла, и Коршунов рассмеялся от души.
— Вот вам и сила слова… Придется нам туда выйти, в здравпункт, там и осмотрим людей. С Чудновым согласую… — Он стал вдруг серьезным. — А у этого старичка бухгалтера, думаю, рак. Все-таки рак. И, значит, лекция вашего товарища, несмотря на некоторые недочеты, принесла пользу. Вы тоже готовьтесь к лекциям, друзья! Обскакал нас, хирургов, Чуднов!
Рабочий день окончился. Мы зашли за Игорем в терапевтический кабинет.
— Игорек, ты переполошил всю фабрику своей лекцией, — сказал я.
— Заставь медведя богу молиться… — процедил Гринин.
— У нас на приеме было пятьдесят твоих слушателей! — сказал я.
— Пригнал к нам стадо баранов! — сказал Гринин.
— Ничего не понимаю! — Каша смущенно оглядывал нас, залившись румянцем. Он начал снимать халат, когда мы вошли, не успел его снять и стоял, опустив руки, с халатом, повисшим на бедрах, как юбка.
— Ну и вид у тебя, Пшенкин! — Юрий вытащил блестящий портсигар. — Представляю, каков ты был на сцене. Вперед не трепись, не зная дела. Лектор должен учитывать психологию масс. Масса подобна стаду.
— Какое стадо? Какая сцена? Николай, о чем он говорит?
— Пойдем, Игорек, я тебе все объясню, — сказал я, стаскивая с его рук обвисший халат. — Самое главное — ты помог человеку. Он слушал твою лекцию и пришел к нам. Теперь его будут лечить. А все остальное, что наговорил Юрка, бред. Юрка — бредовый парень.
— Как ты сказал? — Гринин подскочил ко мне, и его бледные пальцы сжались в смешные кулачки.
— Хочу посмотреть на твоих дружков.
— Могу устроить! Только вернемся в Москву!.. Постой-постой, а зачем?
— Интересуюсь… друзьями друга.
— «Друг»! Я чихал на тебя! Понял?
Ну вот, диагноз определился. Остается вылечить. Если б это было так же легко, как в книгах.
Диагноз поставлен, а кто подскажет рецепты? Что привело Юрку к такой болезни? Ничего не знаю. Игорь не прибавил ни штриха. А вылечить, в сущности, можно каждого. Главное, докопаться до истоков. Главное, не быть нейтральным. Чтоб человек и хотел порой закрыть глаза, а у него не получалось бы. Ничего не знаю об истории болезни. А сентябрь так далек.
У бухгалтера фабрики действительно оказался рак желудка. Василий Петрович сказал об этом жене больного, а самому бухгалтеру, улыбаясь и шутя, сообщил, что у него лишь безобидная язвочка, которую вообще-то лучше бы удалить. Болит, не болит, а удалить полезно. Бухгалтер не возражал.
Юра потерял покой. Он умолял Коршунова разрешить ему сделать операцию. Он ходил за ним по пятам. Василий Петрович спросил, делал ли он раньше такие крупные операции. Гринин сказал, что не делал. И добавил: «Но ведь надо же когда-то начинать!»
Василий Петрович сказал:
— Операция весьма сложная, Юрий Семенович. Сможете ли? Ну? Положа руку на сердце? Сможете?
— Кажется, вы правы, Василий Петрович. — Гринин стоял перед ним несколько смущенный. Но всем своим видом он как бы говорил: «Все равно я свое возьму». Право, он выглядел молодцом в этот момент.
Десять минут спустя, проходя по коридору, я видел сквозь стеклянную дверь, как Юра, картинно отставив ногу, стоял возле тети Дуси, курил папиросу и рисовал в воздухе какие-то фигуры. И говорил, говорил, говорил… Об операциях. Гардеробщица слушала и тоже говорила. И, ясное дело, восхищалась.
Опять мне стало жалко этого парня. Способный, а растрачивается по пустякам. Человек, конечно, должен иметь пробивную силу. Должен уметь прокладывать дорогу своей мечте. Все дело в том, куда ты идешь.
Я лежал на своей кровати, крайней у двери, и смотрел на Кашу и Гринина, игравших в шахматы. В чемодане у Игоря нашелся ключ, который подошел к учительской. Там он раздобыл шахматы, и по вечерам ребята азартно сражались. Гринину не везло. Он начинал партии блестяще, но где-нибудь в середине давал маху, а Каша тотчас засекал его промах, добивался перелома, затем и победы. Страдальческими глазами смотрел Гринин на Кашу, когда тот объявлял ему мат. А Каша, выиграв, визжал от радости, и тем громче, чем меньше это нравилось Гринину.
Я лежал на кровати и с удовольствием смотрел на них.
Десять лет назад я уже оканчивал среднюю школу, а Каша, Гринин, их ровесники и ровесницы ходили в детский сад. Теперь у мальчишек усы, а девушки — невесты. Да, детский сад стал взрослым. И нередко они затыкают нас, стариков, за пояс. Ничего не поделаешь. Жизнь идет вперед, и каждое новое поколение становится чем-то выше своих предшественников.
Мы встретились на первом курсе института. Встретились как равные. И постепенно привыкли друг к другу. Они хотели быть чуточку старше, а мы чуточку помоложе. В общем в институте у нас выходило неплохо. А здесь, на практике, я опять почувствовал разницу в возрасте.
Приходят и уходят поколения, исполнив свое дело на земле, а сама планета только молодеет. В пустыни побежала вода, новые города поднялись над тайгой, на целине заколосилась пшеница. Сделать осталось немало. Нам делать. И я хочу знать свою шеренгу и свой взвод.
Игра у ребят была в разгаре. Лежать было хорошо. Приятно бывает полежать и примерить, что к чему. Судя по тишине, преимущество пока было на стороне Гринина. Каша навис над шахматным полем боя, прикусив язык. Лицо выражало хитрость и ожидание. Ему очень хотелось, чтобы Юрий сделал глупость. Но Гринин не торопился, он точно рассчитывал комбинацию.
Хватит, Юрка, рассчитывать! Ставь смелее коня на «эф-четыре» и ответь честно, сумеешь ли ты на другом поле, на поле жизни сделать единственно верный ход? Игорек — тот сумеет, уверен. А ты?.. Что случилось с тобой в ту ночь? С такими способностями и вдруг бросить умирающего ребенка. Ты бросил бы, если б был один. Доказательств у меня не было. Но бывает ведь, когда чувство знает больше рассудка.
…Сейчас Игорь поднимет визг, потому что Гринин взялся не за коня, а за ладью. Ошибка, Юрий! Ты что-то делаешь много ошибок за последнее время, и все из-за того, что не понимаешь простой истины: один за всех, все за одного. Хорошее правило, парень! Отцов учила революция, старших братьев — пятилетки и фронт, а мое поколение училось жизни на заводах, колхозных полях и в армии.
Юрий взглянул на меня и будто понял мою мысль. Иногда мысль человека, ну, просто написана на его лице. Он поставил ладью обратно и двинул коня на «эф-четыре», откинулся на спинку стула и снисходительно посматривал на Кашу. А тот, помрачнев, недовольно выпятив нижнюю губу, уставился на шахматную доску. Не вышло? Думай, поросенок, думай. Дурака обставить нетрудно, умного сумей победить. А у твоего противника есть голова на плечах. Только забита трухой. Много всякой трухи у него в извилинах. Однажды он попрекнул меня кителем. «Для тебя, — говорит, — китель офицера — это вид на жительство в первых рядах». Не так, не так сказано. Не вид на жительство, а путевка в жизнь. И дала путевку армия, научив правильно служить людям, открыв мне самую гуманную профессию на земле.
Тогда, в горкоме, Алена Александровна сказала, что ее поколению армия дала путевку в большую жизнь. А я в годы войны был всего-навсего школьником и не мог пройти той дорогой испытаний, которой прошла она. Но армия и меня научила многому, и прежде всего упорству. Демобилизовавшись, я решил испытать себя.
Окончив первый курс, я приехал домой, в свое родное село. Обнял мать. Покурил с отцом на крылечке. На другой день пошел в районную больницу, как советовал майор Шарин. Вытягиваюсь перед главным врачом и говорю: «Разрешите обратиться! Павел Юрьевич, возьмите медбратом». — «Без диплома? Нельзя! Вот санитаром возьму — пожалуйста. Пойдешь?» Вижу, прячет улыбку в седые усы, уверен, что не пойду. Да почему же не пойти? «Конечно, пойду». — «В какое хочешь отделение?» — «Только в хирургическое!» — «Понятно. — Павел Юрьевич меряет меня взглядом, улыбается. — Что ж, можно и в хирургическое, там как раз Маня в отпуск просится, а замены нет. Выходи завтра же на работу». — «Слушаюсь!»
Все лето я был в санитарах, мыл полы в своей палате, часть коридора, ну, и мужская уборная мне досталась. Таскал утки, прибирал в тумбочках. Бывало, мужики поддевали: «Баба, а не человек. Может, парень, ты и родить умеешь?»
Уберу свою территорию — и в операционную. Часами стоял и смотрел за работой хирурга, под осень осмелился и попросился ассистировать, но Павел Юрьевич сказал: «Рано, молодой человек, рано еще». А на следующее лето я работал в регистратуре, в больничной аптеке, подменяя уходящих в отпуск людей и пропадая все свободное время в хирургическом кабинете. Так я брал «быка за рога», как любит выражаться Юрий. А ему сразу хочется стать хирургическим богом. Вот где неточность!
Мечтаю о том времени, когда все врачи будут начинать снизу, с простой и грубой работы, с лошадиной работы, а тогда уже — в институт. Поработай, и если почувствуешь, что не можешь жить без больницы, — тогда в институт.
— Ты совсем замечтался, Николай, — услышал я голос Игоря. Он стоял около кровати с кепкой в руке. — Может, прогуляемся? — Он был расстроен.
— Продулся-таки? — спросил я.
— Проиграл… Юрка все же догадался сходить конем, а я думал — зевнет. Ну, так пойдешь?
— Нет. Что-то не хочется. А ты иди с Юрием. Иди!
Из окна я посмотрел на улицу. Они шли рядом, а на углу повернули в разные стороны. Игорь свернул направо, Юрий — налево. Как это поется в песне: «Если один говорил „да“, то „нет“ говорил другой…»
Немного времени прошло с тех пор, как мы сблизились, а я к ним здорово привязался. Игорька полюбил, а Гринин для меня раздражающе любопытен. Так же, как Золотов. Вот ведь характер! Нина объясняет просто: «Борис Наумович цену себе набивает». А мне он напоминает тех коллекционеров, которые накупят редкие дорогие картины и запрут в своей квартире. Запрут, развесят по стенкам и любуются. Трудно сказать, что их больше радует, тщеславие или понимание красоты.
Не могу удержаться, чтобы не сравнить Золотова с Василием Константиновичем. Какой человек! У него был дар, которого лишен Борис Наумович: дар отдавать себя людям. Может быть, это шло у него от педагогического опыта, но ведь не всякий ассистент кафедры общей хирургии умел делать это так щедро. Только бери! И я брал. На третьем курсе студенты, бывало, после занятий уходили домой, а я оставался, помогал ему оперировать. Он даже книги из дома для меня приносил: «Эту, Коля, прогляди, а эту проштудируй!» И вот он-то, Василий Константинович, и благословил меня в клинике на первую самостоятельную операцию. За год я прооперировал под его руководством двадцать пять человек. И какое же было у меня торжество, когда на следующее лето я оперировал в своем родном селе, в нашей больнице! Павел Юрьевич был доволен: «Выходишь в люди, санитар!»
Привезли «прободную язву». Я ассистировал Павлу Юрьевичу, а через два дня оперировал такого же больного уже сам. Не было у них лишнего хирурга, просили из области, а оттуда все не присылали.
Образы трех людей храню я в сердце с особым чувством: майора Шарина, ассистента Василия Константиновича и главврача районной больницы Павла Юрьевича. Где бы ни был — в Москве или в этом, ставшем мне родным городке, они всегда со мной. И захотелось пойти к Золотову и сказать: «Вот есть же люди! Какие учителя — врачи!..»
События следующего дня показали, что нелегкую болезнь Золотова и лечить нелегко. Закончив вечерний обход в своей палате, я вышел в коридор. Навстречу двигался Чуднов, за ним крайне взволнованный Золотов. Он торопливо бросал вопросы:
— Михаил Илларионович, что случилось? Зачем меня вызывают в горком?
— Не знаю, батенька, чего не знаю, того не знаю. Когда вызывают-то?
— Погребнюк звонила. Просила зайти через десять минут.
— Поезжайте, если просила.
— В чем же я провинился?
— Чудак человек! Разве в горком только виноватых зовут?
— Ваша очередная каверза. — И Золотов заспешил к выходу.
Похмыкивая, Чуднов начал читать мои дневники в историях болезней.
— Торопиться начинаете, Николай Иванович. Принципиальных замечаний у меня нет, но скажу прямо — мой Игорь красивее ведет истории.
Вернулся Золотов. Озабочен. И, кажется, растерян. Должно быть, здорово намылили шею.
— Что, батенька, там стряслось? — спросил Чуднов.
Золотов сел у открытого окна.
— Товарищ Погребнюк предложила делать доклад.
— Какой доклад? Где?
Золотов взял мою папку и, как веером, махал перед своим лицом.
— В понедельник горком созывает конференцию молодых специалистов, ставят два доклада. Один делает главный инженер стройуправления, второй поручают мне. О росте молодых кадров.
— В понедельник? — с беспокойством протянул Чуднов. — Всего неделя осталась… — И осторожно спросил: — А нас не ругали?
Золотов сидел, отвернувшись к окну. Не поворачиваясь, сказал:
— Я не могу делать этот доклад.
— Я спрашиваю, были упреки в адрес нашей больницы?
— Об этом не было речи, но… — Золотов быстро встал и подошел к столу, за которым сидел Чуднов. — Я не буду делать этот доклад.
— Мы от многого с вами можем отказываться, Борис Наумович, но только не от партийного поручения. И, собственно, почему не будете? Разве вам нечего сказать? Возьмите того же Гринина! Студент-практикант блестяще сделал две операции. Одним этим фактом вы потрясете зал. Конечно, есть недостатки, обдумайте, покритикуйте…
Чертовски сложная штука жизнь! Вот мы, воробьи, приехали в небольшую больницу, в этот небольшой городок, и как властно подхватил нас ее стремительный поток. В сущности, что такое практика? Конечно, не только приобретение профессиональных навыков. Сейчас я это ясно вижу. Через два года нам на работу, и я не хочу оказаться столь профессионально беспомощным, как Бочков. Но также не хочу очутиться на положении Коршунова — робким и беспомощным в общественном отношении. Николаев сказал: «Будьте прилежны…» Иначе говоря, стойте на берегу, и поток пронесется мимо. Нет! Будьте активны — и жизнь тотчас начнет вас учить.
С жадностью я наблюдал за обоими старыми врачами. Тут тоже ведь шла борьба. Борьба за человека. Интересно, знал Чуднов о конференции или нет? Наверно, знал! Наверно, он сейчас в глубине души приговаривает: «Погляжу, Борис Наумович, что ты скажешь людям». У Золотова внутри буря: «На позор хотите выставить?» Он искал и не находил достойных аргументов.
— Михаил Илларионович, я компетентен говорить лишь о хирургическом отделении. Правильнее этот доклад сделать главному врачу.
— Не могу, дорогой, что вы в самом деле! Мне работы хватит. Надо посоветоваться с молодыми специалистами, кое-кому помочь. Выступать-то будем оркестром… Одному вам не отстоять честь больницы.
Звонок. Чуднов взял трубку.
— Да… Борис Наумович сообщил о вашем решении… конечно, помогу…
Не ожидая конца разговора, Золотов махнул рукой и, устало сгорбившись, направился к двери.
— Занятно повернула дело Алена Александровна, — сказал Чуднов, когда мы остались вдвоем. — Вы думаете, он сегодня заснет? Всю ночь будет делать доклад перед своей совестью.
На следующий день в кабинете Чуднова собрались молодые врачи. Михаил Илларионович рассказал о предстоящей конференции и попросил каждого серьезно подготовиться. «Думаю, наши студенты тоже не останутся в стороне», — заметил он в конце.
Игорь поднял руку.
— Пожалуйста, Игорь Александрович.
— Я читал в газетах… мы тут собрались, молодежь… давайте сделаем вместе что-нибудь хорошее для больницы. Ну, чем мы хуже фабричных ребят?
— А что можно сделать, Игорь?
— Например, радиофицировать палаты!
— Правильно! — воскликнула Надежда Романовна.
Я тоже поддержал идею Игоря. Очень хорошо, Игорь. А я думал, ты не умеешь выступать.
Гринин вызвался съездить в Москву за всем необходимым. Он вернулся через два дня и действительно притащил и провод, и наушники, и даже набор инструментов, необходимых радиомонтеру. И карманный приемник — для себя.
По вечерам мы теперь не спешили кто куда, а занимались проводкой. Работали до отбоя, а позже, в школе, заполняли дневники и готовились к следующему дню.
Завершив работу на первом этаже, принялись за второй. Шли от палаты к палате, от койки к койке, укрепляя провод. Однажды Игорь исчез, и я решил отругать его, потому что времени у нас было в обрез. Многоголосый шум притянул меня к окну. Я увидел группу парней, несших пилы, топоры и рубанки. С ними шел Игорек.
— Принимайте пополнение, — сказал он вышедшему навстречу Чуднову.
Тот развел руками, и ребята, окружив его, пошли в столярную мастерскую, размещавшуюся в каменном здании за моргом. Игорек в этой группе выглядел фабзаучником.
Птенец! Он обставил всех нас. После своей лекции о раке он часто бывал на фабрике, знакомился с заболеваемостью, с условиями работы в цехах, а вечерами с таинственным видом делал вычисления и записи в толстой общей тетради. Все ищет великих открытий, думалось мне тогда, Что ж, он сделал открытие, а мы проморгали. Люди ходили в больницу только лечиться. Теперь они пришли, чтобы сделать ее удобнее для себя.
В столярной мастерской уже кипела работа. Под неумелой рукой Каши повизгивало, напрягаясь, полотно лучковой пилы. А вот у длинного паренька рубанок играл в руках, я видел работу отца и понимаю толк в этом красивом деле. Стружка, не ломаясь, завивалась длинным локоном и, шурша, падала на пол.
— Ты не жми, — говорил Игорю не по летам полный юноша, — тут силой не возьмешь, посылай спокойно, и рез у тебя будет правильный.
Чуднов сидел рядом с дедом Акимом, больничным столяром, и его лицо выражало самое полное удовлетворение.
— Николай! — крикнул Каша. — Знакомься! Ребята, знакомьтесь: наш бригадир…
Крепкие пожатия рук.
— Павел!
— Василий!
— Федя, — сказал паренек, кладя рубанок на верстак боком.
Я бы тоже положил так, чтобы не тупилось лезвие.
Очень захотелось поработать вместе с ними, может быть, показать, что и мы не лыком шиты. Я взял рубанок, потрогал большим пальцем лезвие, с радостью почувствовал, что ручка плотно и естественно легла в ладонь. Ну, как бы не осрамиться!.. Но стружка, не ломаясь, упала длинным локоном.
— Видать, держали в руках, доктор, — усмехнулся Федя.
— Бывали дни… А здорово это получилось, что вы пришли, ребята!
— Больница — нам, а мы больнице скорую помощь оказываем, — сказал Павел. — Ну, за дело, товарищи. А то не стоим, не едем.
Работа возобновилась. Ребята делали урны для мусора, готовили детали садовых скамеек, настил для кое-где прогнившего тротуара, соединявшего больничные корпуса.
Павел говорил Чуднову:
— Там у вас черепица с крыши кое-где обсыпалась. Сегодня у нас материала нет, завтра сделаем.
— Паша, я видел, забор в двух местах прохудился. Доски для видимости висят.
— Это же нарочно, — сказал Василий, — захочется пивка выпить — досочку в сторону и в парк!
— Да, ты в этом разбираешься!
— Василий выпить не дурак!
— И когда это доктора лекарство против водки изобретут?
— Игорь, вот тебе наше задание. Найди ты такое лекарство, чтобы Ваську от пол-литра отучить.
— А что? И найду, вот только дайте кончить!
— Долго ждать. К тому времени Ваську в морге обмоют.
— Да ну вас ко всем чертям! — рассердился Василий. — На свои пью.
— Все равно не разрешаем. Мы за тебя в ответе!
Я сказал Павлу, что заберу Игоря с собой, а то задерживается радиопроводка.
— А мы его было совсем в свою бригаду записали. Ну ладно, берите. Как кончишь — приходи сюда, — обратился он к Игорю. — Про воскресенье не забыл? Ваша-то тройка поедет?
— Куда?
Игорь взглянул на Чуднова.
— Михаил Илларионович, вы нас отпустите? Мы всей бригадой собираемся в Москву на «Онегина».
Часа два мы работали на втором этаже — я, Игорь, Юрий и Валя.
— Ребята-то уже кончили! — крикнул от окна Каша.
Мы все подошли к окну. Двор ожил. Рабочие вытащили готовые урны, скамейки. Чуднов ходил и показывал, где и что лучше поставить.
Мы вчетвером стояли все вместе у окна, и, может быть, никогда нам не было так дружно и хорошо.
Не знаю, что передумал Золотов за несколько минувших дней. Я видел, он раза три заходил в кабинет к Чуднову и долго сидел у него. Возвращался замкнутый, подчеркнуто отчужденный и кивком головы приглашал меня заняться очередными делами в перевязочной.
Самокритика, что ни говори, трудная штука для каждого и особенно для Золотова. У людей будущего, быть может, и выработается новая натура, которая легко будет вершить суд над собой. Пока же мы от этого далеки. И неожиданно, будто в насмешку над моими мыслями, Золотов только что отдал половину палат Василию Петровичу. Он подбежал ко мне: «Ты подумай, Николай! То, что казалось вечным и неделимым…» Полчаса спустя Коршунов и Гринин обходили присоединенную территорию. «Сегодня я сожалею, что вы лишь практикант. Могу ли надеяться, Юрий Семенович, что после института вы…» — «Теперь это предложение резонное! На пару лет? Обещаю. В аспирантуру со стажем берут куда охотнее».
Палаты Золотов передал, однако ни к Коршунову, ни к нам не изменился, по-прежнему не хотел знать. Чувствовалось, что на нас он отводит душу. Понимает, что нельзя, что неправильно, и все-таки дуроломит. Поэтому мы, как и раньше, могли рассчитывать на один операционный день в неделю — на Коршуновскую пятницу.
— Ты знаешь, Юра, что я придумал? — сказал я Гринину, когда мы втроем возвращались в четверг из больницы в школу.
Он настороженно взглянул на меня.
— Поскольку Борис Наумович все еще не разрешает мне оперировать, давай поделим пятницы. Одну пятницу с Василием Петровичем оперируешь ты, другую — я.
Гринин остановился:
— Ты что? Белены объелся? Ты прикреплен к Золотову, с ним и договаривайся. Сумел же я найти общий язык с Василием Петровичем! Нет, я не могу уступить тебе ни одной пятницы.
— Почему же не можешь?
— Ты, Николай, говоришь вздор. — Гринин из-под сомкнутых бровей смотрел на меня. — Я так старался, а теперь должен все отдать?
— Не все, а лишь половину.
— Пусть даже половину. Почему я должен расплачиваться за твой… — Юрий остановился, подыскивая слово. — Да, за твой плохой характер!
— Как тебе не стыдно! — воскликнул Игорь, хватая его за локоть.
— Не лезь не в свое дело, — отбросил его руку Гринин. Обращаясь ко мне, он продолжал: — Вся эта возня с молодыми врачами… Кто учит да как учит… какое тебе дело? Странная практика для будущего специалиста!
— Ты в самом деле так думаешь, Гринин?
— Юрка, где твое комсомольское сознание! — снова вмешался Каша.
— Прочитай лекцию своей бабушке.
— Тьфу!
— Чего ты плюешься? — взбешенный Гринин схватил Игоря за руку. — Постой. Ты-то кто такой? Морщишь лоб, как Захаров. Ходишь по-утиному, как Чуднов, и глаза закрываешь по-чудновски, когда слушаешь больного в фонендоскоп! Тоже мне ярко выраженная индивидуальность!
Игорь взвизгнул и повис у Гринина на шее, стараясь свалить. «Ну, я тебя… ну, я тебя!» — повизгивал он.
Я разнял их.
— Двое на одного? — с презрением сказал Гринин.
— Перестань, — оборвал его я.
Утром Гринин ушел в больницу один. На полчаса раньше обычного. Ни я, ни Каша в операционную не пошли. От Нины я узнал, что три операции сделал Коршунов, четвертую — Гринин. Но радости не было на его лице.
— Бойкот? Бойкот объявили? — спросил Гринин, выскочив из операционной.
Я сидел в коридоре возле стола. Я даже не посмотрел на него и продолжал заполнять дневники в историях болезней.
Гринин постоял немного и скрылся в дверях операционной.
Через несколько минут санитарка пришла за мной.
Коршунов подождал, пока она выйдет.
— Я очень огорчен, товарищи. Сегодня утром Юрий Семенович рассказал мне о вашем споре. Я тогда же сказал, кто прав. Но Юрий Семенович остался при собственном мнении. Решим так: две последующие пятницы будет оперировать Николай Иванович, — Коршунов быстрыми движениями сбросил с себя халат, маску и вышел.
— Итак, Гринин, — сказал я, — ты больше не оперируешь. Хирургическая практика для тебя закончилась.
Он готов был расплакаться.
— Ну, что ж, радуйся, Николай! Ты обворовал товарища, если хочешь знать, и можешь радоваться.
Я ничего не ответил. В сущности, что я мог ему сказать? Что, по совести говоря, не очень-то нуждаюсь в коршуновских пятницах? Что, наверно, уступлю их Игорю? Эх, Юрка, мне хотелось услышать от тебя лишь одно слово, и вот я его не услышал. Туговато действует твоя мозговая кора.
Гринин в этот день не находил себе места. Раза три он заходил в мою палату, хотел, кажется, начать разговор и не мог. Он прохаживался по коридору, заложив руки за спину, выходил во двор, опять возвращался в больницу и подолгу стоял у окна, пожевывая папиросу. Он даже поднялся на второй этаж. Я слышал, как он меряет шагами коридор терапевтического отделения, потом спустился вниз с выражением горечи на лице и удалился в свою палату.
Мы обедали без Гринина, он не пришел. В общежитии его тоже не было. Но часом позже я увидел его на крыльце. Он не решался войти в школу.
Начался дождь, мелкий и нудный, как осенью. Все вокруг стало серым.
Я услышал шаги Гринина за дверью нашего класса. Но дверь не открылась.
Минуту спустя он снова был на крыльце. Закурил и долго стоял, глядя на тучи, проносившиеся над крышами.
«Ему чертовски холодно без плаща», — подумал я. Ничего, пусть закаляется.
Я видел, как он поднял воротник пиджака.
Наверно, ты надолго запомнишь этот день. Хотел бы я знать, покраснеет ли, вспомнив о нем, заслуженный товарищ, уважаемый профессор Гринин. Тогда у него будет все — и клиника, и почет, и научные труды, и сынишка. Все у него будет, в том числе и прошлое.
Окно было открыто, и я видел, что по улице мелькнула машина «Скорой помощи», прошуршав по мокрому асфальту. Опять кого-то повезли.
Кто-то протопал к крыльцу. За нами? Хриплый голос нетрезвого человека добродушно проговорил:
— Юрий Семенович! Не журись…
— Кто это? Что вам надо? — нервно выкрикнул Гринин.
— Своих не узнаешь? Па-а-лучай штаны…
— Редькин? Сейчас же вон! Убирайтесь отсюда!
— Держи штаны, говорю! Семенович — чертов сын…
Сверток шлепнулся о сырые доски крыльца. Редькин смотрел на Гринина с пьяным озлоблением и вдруг прежним добродушным голосом сказал:
— Эх ты, цуцик! — и пошел прочь, не разбирая, где лужи.
Гринин уже не стоял, а сидел на ступеньке крыльца, сжав голову руками. Было слышно, как он бормочет:
— За что… за что все они ненавидят… презирают меня…
«Пора мириться», — подумал я и крикнул в окно:
— Ну иди же в класс, Юрка! Хватит дуться.
— А ты… не будешь молчать? — спросил он, продолжая сидеть на крыльце и лишь повернув голову в мою сторону.
— Я — нет. Вот если Игорь…
Игорь сказал в окно:
— Вот чудак!
Тогда Гринин поднялся со ступенек. Через минуту он вошел в класс и протянул мне руку. Она была холодная, будто изо льда.
— Прости, Николай, не знаю, почему так получилось. Поверь, не в моем характере поступать так глупо и так мелко.
— Пожалуй, да… — Я смотрел на белый, без единой морщинки лоб и вдруг увидел поврежденную пилой руку в тот день, когда Коршунов оставил Юрку за себя. И прибавил резковато: — Вижу, дошло до твоих извилин.
Гринин мучительно улыбнулся:
— Кажется, дошло. Ты, Юрка, лучше, чем я думал. Ты не забыл вставить «кажется». И все же хотелось сказать: «Нет, парень, не дошло до твоих извилин!»
Юрка сунул под кровать сверток со штанами и выкурил прямо в классе папиросу. Черт с тобой, кури.
Вскоре мы собрались и пошли в поликлинику. Я негромко насвистывал что-то не очень веселое, в тон моросящему дождю. Снова мы шли втроем. Справа, замкнувшись, шел Гринин. Слева вышагивал огромными шагами Игорь. Он поеживался от холода, но глаза его живо, с хитрецою поблескивали.
Повзрослевшие гусята плескались в луже. Они были так заняты, что не заметили нас, своих старых знакомых.
Игорь первым взбежал на деревянные ступеньки крыльца, открыл застекленную дверь и юркнул в поликлинику.
Под вечер мы завершили радиопроводку, разнесли по палатам наушники. Из городского радиоузла на велосипеде прикатил техник.
— Ну что, москвичи? Закончили? Поздравляю!
Техник полез на чердак, чтобы к чему-то что-то присоединить. Мы не могли отказать ему в этом удовольствии.
Через несколько минут заработали наушники. «Говорит Москва». Даже на расстоянии отчетливо слышны слова диктора. Теперь больным, особенно надолго прикованным к койкам, не придется скучать.
Пойду-ка пройдусь по палатам.
Вот Викторов приник здоровым ухом к наушнику. Глаза веселые, на лице улыбка. Второй день у Викторова нормальная температура.
Лобов сидит на койке, тоже слушает. Оба наушника прижаты дужкой к ушам. О чем он думает, глядя в окно?
Гриша меня не замечает. И у него на голове наушники. Гришу на днях выпишут. Чудесные детские глаза, чистые и бесхитростные, как лесной родник.
В коридор спустился с чердака Гринин. Он вытирал перепачканные руки носовым платком. Подойдя ко мне, сказал:
— Ну, я пойду, Николай.
— К Верочке? — спросил я.
— Да, мы с ней уговорились встретиться на стадионе. Там сегодня футбольный матч.
— Симпатичная у тебя девушка!
— Что-то трудно у меня здесь складываются отношения с людьми, Николай.
— Что, поссорились?
Гринин помолчал.
— Знаешь, — сказал он задумчиво, — мне кажется, что девушка всегда должна быть глупее парня, который ее любит.
Гринин ушел.
Да, жизнь задает этому парню загадки.
Мы с Игорем тоже направились к выходу. Вышли на больничный, двор. Вдоль корпуса с правой стороны бежала медстатистик, тонкая девушка в халате и белой докторской шапочке. Ножки-спички подбрасывали полы халата на бегу.
— Вас Михаил Илларионович зовет! Скорее идите! — крикнула она издали.
— В чем дело, Катя?
— Михаил Илларионович благодарность вам вынес, приказ по больнице отдал. Велел переписать на машинке и повесить на самом видном месте в вестибюле.
— Это за какие же такие доблести? — спросил я.
— За радио, конечно!
Каша прямо-таки кипел от счастья и, конечно, залился румянцем.
— Не пойдем к Михаилу Илларионовичу, — сказал я. — Скажи, что не нашла. Хорошо, Катюша? А то мы на стадион опоздаем. Наши проигрывают.
— Кто это ваши? — спросила она.
— Москвичи.
— И пусть проигрывают! — Катя повернулась и побежала вдоль длинного кирпичного корпуса больницы.
Не знаю, что скажет она главврачу. Похоже, что правду скажет.
Мы быстро пошли к калитке.
— Игорь Александрович, вы куда?
Чуднов стоял возле угла больничного здания и курил, маня нас пальцем. Пришлось повернуть к нему. Нас обогнал почтовый служащий. Он вручил Чуднову телеграмму. Чуднов вскрыл бланк, улыбка сошла с его губ.
— Так и думал. Замучили соседи.
— Какие соседи? — спросил я.
— Больница тут есть. Неподалеку, километрах в двадцати. В соседнем районе. Хирург молодой, не очень опытный — Ларионов.
— О Ларионове мы слышали, — сказал я, снова вспомнив руку молодого рабочего, поврежденную пилой.
— Месяца три назад у него больная умерла на операционном столе. Теперь чуть что — телеграммами забрасывает, требует хирурга. Приходится выручать. Опять буду просить Василия Петровича…
— Могу позвать, — сказал я.
— Мы вдвоем, — добавил Игорь.
— Пожалуйста! Только никуда не отвлекайтесь, — сказал Чуднов. — Сами видите — молния.
Коршунов жил недалеко от поликлиники. Как-то мы шли с приема, и он показал нам свои окна.
Мы быстро шагали по улице. Игорь едва поспевал за мной.
Вот и двухэтажный оштукатуренный дом, под окнами — широколистые тополя.
— Я подожду, — сказал Игорь и сел на лавочку.
Я вошел в подъезд и громко постучал в левую дверь.
Открыл сам Василий Петрович, пригласил войти. Я сказал, что получена телеграмма-молния от соседа.
— А-а! Понятно.
Он начал собираться. Пока он завязывал галстук перед зеркалом, я спросил, где же его жена и дети.
Василий Петрович рассмеялся:
— В проекте! Вот живу в двух комнатах один.
Во второй комнате было много картин.
Василий Петрович, очевидно, заметил мой любопытный взгляд.
— Любишь? — спросил он. — Пожалуйста! — и шире распахнул дверь.
Я вошел. Настоящая картинная галерея. На стенах трудно найти свободное местечко. Картины, картины, большие и маленькие, круглые, квадратные и овальные. Меня заинтересовали знакомые пейзажи: больница, озеро, железнодорожная станция… И — я даже вздрогнул от неожиданности — Нина! Нина на фоне голубого озера. Она стоит на берегу и машет платочком тому, кто плывет к ней на лодке. Лодки не было на картине, но я-то знал, что лодка плывет к Нине и она ждет того, кто плывет к ней. Это все было прямо-таки написано на ее лице… Портреты ему удаются лучше. Почерк Серова. Но уже проглядывает сквозь потуги ученичества и что-то свое, коршуновское. Смотришь, и через несколько лет родится художник. И тогда попробуй определи, кто в Коршунове сидит крепче: художник или врач.
— Хорошо рисуешь, — сказал я. — Всегда с натуры?
— Чаще всего. А ты, случайно, не увлекаешься?
— До армии баловался, — сказал я. — А после не приходилось.
— Заходи как-нибудь. Холст, кисти, краски есть, от тебя требуется лишь желание.
— Правильно, художник! Совсем немного нужно, чтобы рисовать. И чтобы тебя рисовали. Одно желание…
— Что с тобой, Николай? — подошел ко мне Коршунов.
— Завихрение, — ответил я, взяв его под локоть. Мы рядом пошли к двери.
Хотел бы я знать, что со мной. Что задел во мне этот коршуновский этюд? Мужское тщеславие? Мы с Ниной немного дружили, и, бывало, она мило кокетничала, и я с удовольствием смотрел, как она это делает. Девчонки мастера на такие штучки, у них это здорово получается. Словом, все было нормально, а вот увидел ее взгляд, зовущий того, кто в лодке, и стало не по себе. «Ты как собака на сене, Николай. Как собака на сене…»
Игорь встал с лавки, поправил упавшую на лоб прядь волос.
— Никто из вас не хочет проехаться со мной, на соседа посмотреть? — спросил Коршунов.
— Извини, Василий Петрович, — сказал я, — но…
— Объяснять не нужно, — перебил он. — Мало ли какие могут быть причины. Ну, всего!
Коршунов быстро пошел в сторону больницы. Мы стояли на тротуаре.
— А ты чего не поехал? — спросил я Игоря.
— Так…
Мы немного постояли и тоже направились к больнице. Не пойму, что тянуло к ней. Какое-то не совсем осознанное беспокойство.
— Ну, куда летишь? — дернул меня за китель Игорь.
— Может, поехать с Василием Петровичем, а? — спросил я у Игоря. — Может, поедем? Посмотрим на соседа?
— Не поедем, — сказал Игорь. — Устал я от всей этой спешки. То радио проводили, то срочные операции, то… Нет ни одного свободного вечера. Ну, куда спешишь? — Он снова дернул меня за рукав.
— Ну ладно, не поедем. Только узнаю, порядок ли в отделении, и пойдем гулять. Так?
Игорь согласился, и мы быстро зашагали по середине асфальтированной улицы.
В отделении было спокойно, операций пока не предвиделось. Ну, значит, про хирургию можно на час-другой забыть. На доске объявлений в вестибюле мы прочли приказ, касающийся нас, радиомонтеров и бригады фабричных ребят.
— Атаман, с тебя причитается! — Я похлопал Кашу по плечу, и мы отправились погулять, как это было решено.
Людской поток затянул нас, и незаметно для себя мы подошли к железнодорожной станции. Деревянный, потерявшийся в зелени дом. Вдоль перрона, словно в почетном карауле, выстроились высокие березы.
Мы поинтересовались расписанием поездов и решили, что расписание составлено неудачно: приедем в Москву на рассвете, когда еще закрыто метро. Невольно начинал я думать о дне, когда окончится практика, и мы, распрощавшись со всеми хорошими людьми, поедем по домам. Как-то там отец, мать? Здоровы ли?
Скамьи в зале ожидания пустовали. Все пассажиры высыпали на перрон. С минуты на минуту ожидали прибытия поезда, следующего в Москву.
— Погляди, это не Вадим Павлович? — спросил я у Игоря, указывая на человека в светлом макинтоше и зеленой шляпе.
— Конечно, нет, — сказал Игорь. — Чего ему здесь делать?
— А ну, пойдем, — сказал я.
Мы приблизились к мужчине в макинтоше: он! Я тронул его локоть.
— Вы тоже отсюда? — спросил Вадим Павлович, заметив нас. В руках у него был небольшой чемодан в чехле.
— Наша практика закончится тридцать первого июля, — сказал я. — Еще не так скоро. Больше месяца.
— А я уезжаю. Совсем, — сказал Вадим Павлович, поглядывая в ту сторону, откуда должен был прийти поезд.
— Совсем? — переспросил я.
— Здесь нет практики, здесь совершенно нет практики, — говорил он… — Закиснешь во цвете лет. Чуднов предлагает переквалифицироваться на хирурга. Но разве каждый может бросить любимое дело и взяться за чужое? Надеюсь, вы меня понимаете?
Каша вытаращил на него глаза.
— Нет, совсем нет, — продолжал Вадим Павлович. Он говорил тихо, словно сам с собою. — За месяц умерло лишь двое. Разве это практика?
Вдали показался поезд. Вадим Павлович протянул руку. Мы пожали ее. Паровоз, пыхтя, остановил перед перроном свою шеренгу, и Вадим Павлович побежал к передним вагонам.
Мы стояли на перроне и смотрели, как выходят из вагонов немногочисленные пассажиры. Гораздо больше людей ожидало посадки. Все ехали в сторону Москвы. Даже Вадим Павлович.
Игорь стоял рядом со мной и тоже смотрел. Вдруг он подался вперед и выкрикнул:
— Венера!
Он бросился к вагону, который стоял против нас.
По ступенькам спускалась высокая девушка в сиреневом платье. В руке — белая лакированная сумочка, на загорелой шее — белые мелкие бусы.
Игорь подбежал и уже что-то ей говорил. Она улыбалась. Игорь вытащил из кармана блокнот и что-то записал. К ним подошла седая, еще не старая женщина, тоже очень высокая. Девушка протянула ей обе руки. Они поцеловались.
Игорь спрятал блокнот. Девушка подала Игорю руку. Он схватил ее и долго не отпускал. Потом девушка взяла мать под руку, и они пошли.
Я ничего не понимал.
В каком-то оцепенении Игорь смотрел на мать и дочь, пока они не скрылись в лесу. Минуты две он стоял с опущенной головой. Потом подошел ко мне и сказал:
— Пойдем в буфет, хватим по сто граммов. Охота выпить.
— Это по какому случаю? — спросил я.
— Пойдем, Коля, — сказал он.
В станционном буфете было накурено. Голубой дым поднимался к потолку. Окна были открыты, но теплый вечер, казалось, не желал впитывать в себя этот дым.
Около стойки и в проходе толпились люди. Все столики были заняты. Игорь поморщился. Ждать, видно, он не мог.
— Неуютно, — сказал он. — Пойдем куда-нибудь еще.
Мы вышли из здания, прошли по опустевшему перрону и направились к центру города. Из парка доносилась музыка. На Игоря жалко было смотреть. Он шел тяжело, как старик.
Мне не терпелось узнать, почему Игорек так странно ведет себя и при чем тут эта милая девушка Венера, у которой такая милая, совсем не старая мать.
На крутой лестнице кафе мы едва не столкнулись с Любовью Ивановной, с той Любовью Ивановной, которая первая позаботилась о спасении мотоциклиста.
— Игорь Александрович, в самом деле вы женитесь?
— Вы удивлены? — спросил Игорь.
— Иначе бы не спросила.
— Почему удивлены? Скажите, почему? Или я не такой человек, как все? Почему?
— Спокойнее, Игорь Александрович. Я просто подумала, что, может быть, рано жениться в двадцать лет. А вообще-то вы лучше многих… — И она стала спускаться вниз.
В кафе мы заняли отдельный столик. Подошла официантка. Я заказал по сто граммов водки, по кружке пива, яичницу, ветчину, сыр и по стакану компота.
Игорь выпил водку и, не закусывая, взялся за кружку с пивом.
— Не спеши, — сказал я, придерживая его кружку. — Закусывай. Или ты хочешь напиться?
— Хочу! — ответил он. — Если бы ты знал…
— Надеюсь, что буду знать, только сперва закуси.
Игорь упрямо тянул кружку к себе.
— Ты будешь закусывать, дурень? — спросил я. — Не будешь — так скажи, я подожду, когда ты напьешься, и потом вызову «Скорую». Положу тебя отсыпаться в приемном покое. Или сдам в вытрезвитель. Тому лейтенанту.
— Какому?
— Который не давал молока твоему ребенку. Помнишь?
Игорь принялся за яичницу.
— Закусывай как следует, — посоветовал я.
— Ну тебя, Николай.
— Послушай, Игорь, а где сейчас Валя?
— Валя? Не знаю…
— Не знаешь? Это же очень странно.
— Наверно, дома, — неохотно ответил он.
— Но вы же расписались? — спросил я.
— Да.
— Почему же вы не вместе?
— Так надо… После, когда практика закончится, поедем в Москву.
— Не понимаю тебя, Игорь.
— Я сам себя не понимаю… И что тебе от меня надо? Что? Зачем в душу лезешь? — И вдруг тихо, как бы сам с собою он заговорил: — Она свободна. Да, свободна. Понимаешь? Она сказала, что не замужем. Эх, и растяпа ты, Игорь! Я всегда был немного такой. А ведь она все время жила во мне. Я только сейчас понял. — Игорь тер ладонями виски.
Мы молча сидели, тянули пиво, закусывали и не знали, что в эти минуты няни, сестры и машина «Скорой помощи» искали нас по всему городу. Они искали нас везде, но никому не пришло в голову заглянуть в кафе.
Ветер старательно подметал улицу и тротуар. Я повернулся к ветру спиной и закрыл глаза, ожидая, пока пронесется взвихренная пыль.
Игорь спросил совершенно трезвым голосом:
— Ты в парк?
И вдруг повернулся и пошел по улице, не интересуясь, что я отвечу.
Черные клочковатые тучи плыли над городом. Погромыхивал, приближаясь, гром. Молнии бросались на землю.
Люди шли и бежали по улице. Казалось, к городу приближается фронт. Все бежали из парка. И лишь я шел туда. Парк опустел удивительно быстро. Погасли огни. Выключена радиола.
Я сел под навесом летнего ресторана. Буфетчица, уходя, окинула меня подозрительным взглядом.
Хлынул проливной дождь. Деревья угрюмые, потемневшие. Глухо шумят вершины. Кажется, что черные тучи задевают их. Капли пляшут по танцплощадке, по озеру и по аллеям парка. Они отбивают чечетку на скамьях и в лодках, наполненных водой, на трибунах стадиона и на футбольном поле. Везде.
Уже совсем темно. Слева, в доме у ворот стадиона, зажгли свет. Я смотрю на этот светлый маячок. О чем там беседуют люди? О том ли, что дождь может сорвать график спортивных состязаний? Или беспокоятся за судьбу урожая в это дождливое лето?
Около веранды послышались шаги. Я чиркнул спичкой и увидел лохматую седую бороду и усталые глаза старика.
Он спросил сонным голосом:
— Ты чего здесь? — С его обвислых усов стекали капли дождя.
— Да вот сижу. Дождь, мокро.
— Ладно, сиди, — разрешил он. — Не подожги строения… Кто, думаю, спичками балует? — Старик скрылся за деревьями.
Вершины сосен качались. Шишка, сбитая ветром, упала на крышу навеса и покатилась по ней.
Удивительно плохо человеку, когда товарищ попал в беду и ты ничем не можешь помочь.
Я спрыгнул со стола и зашлепал в темноте по мокрой аллее к выходу. Я был зол на тучи, налившие столько воды.
Справа между деревьями я увидел освещенный огнями корпус больницы. Он напоминал корабль, плывущий сквозь шум и свист непогоды. Но почему в такое позднее время не погашен свет?
Я быстро шел, глядя на светлые зовущие окна.
Под высокой аркой входа я увидел девушку. Она бежала мне навстречу. Нина — здесь? Зачем? Ветер вырывал зонт из ее рук. Еще немного, и он улетел бы. Куда подевалась ее сила?
— Ты, Коля? — спросила она.
— Девушка спешит на свиданье, — сказал я, но, увидев ее лицо, ее губы, сразу осекся.
— Борис Наумович умирает! — Нина тяжело дышала.
— Золотов? — Я схватил Нину за руку. Рука была холодная и мокрая. С зонта стекала вода.
— Бежим, — сказала Нина.
Мы побежали.
— Что с Золотовым? — спросил я.
— Не знаю.
— Тебя послали за мной?
— Нет. Я сама. Ты знаешь, с Борисом Наумовичем очень плохо. Ты даже не представляешь.
— Василий Петрович не вернулся?
— В этом вся загвоздка. Послали телеграмму.
— Хорошо, что послали. А кто дежурит сегодня? — спросил я.
— Михаил Илларионович.
Я весь вспотел и промок, задыхался, но бежал.
— Ребят позвали? — спросил я.
— Уже в больнице. Гринин будет оперировать.
— Да?
— Чуднов велел… А я как узнала у Игоря, что ты пошел в парк, так и кинулась за тобой.
Я толкнул вперед стеклянную дверь, пропустил Нину и вошел сам.
В вестибюле полусвет. Несколько человек — мужчины и женщины в мокрых плащах и блестящих накидках — молча стояли у двери приемного покоя.
— Все врачи сбежались! — шепнула мне Нина.
Врачи смотрели на нас. Их было шесть человек: терапевты, педиатры, акушер-гинеколог. Я узнал Бочкова, Ларионова бы еще сюда.
— Какая сила, — сказал я вполголоса, когда мы вошли в раздевалку. Я повесил китель.
— Сила? А толку никакого! — тихо сказала Нина. — Никто не может оперировать. И акушер-гинеколог тоже.
Я вспомнил слова Коршунова о том, что здешний акушер-гинеколог делает только аборты. А все более сложные операции выполняет Золотов.
Врачи говорили вполголоса. Акушер-гинеколог что-то доказывала невропатологу Надежде Романовне. Лицо ее выражало страдание и боль.
— Вы даже ассистировать не будете? — спросила Надежда Романовна.
— Что значит даже? — обиделась акушер-гинеколог.
— Простите, я хотела узнать, будете ли вы ассистировать.
— Я предлагала свои услуги, но Михаил Илларионович сказал, что ему нужен оперирующий врач, а не ассистент. «Ассистентов, — говорит, — у меня хоть отбавляй».
Было очень тихо. Все врачи слушали их разговор. Врачей пришло много, и все они стояли в вестибюле, не раздеваясь.
Вслед за Ниной я вошел в приемный покой. Золотов лежал на кушетке лицом вверх (сразу вспомнился Гришин отец в траве на станции в день нашего приезда). Меня встревожило необычайное выражение его неподвижного лица. Чуднов сидел на стуле и держал руку Золотова в своей, он считал пульс. Лицо Золотова выражало безысходную тоску, почти полное отрешение от жизни. Неужели он, такой сильный и волевой, приготовился умирать?
Когда я вошел, Гринин, наклонившись над книгой, читал вслух про какую-то операцию. Игорь слушал, по-детски полураскрыв рот.
Золотов часто, прерывисто дышал. Глаза его были закрыты.
Щеки Нины, порозовевшие от бега, подчеркивали безжизненную бледность лица Бориса Наумовича.
Увидев меня, Чуднов поднял рубаху Золотова, обнажил живот и сказал:
— Осмотрите, пожалуйста, и вы.
Я склонился над Золотовым. Живот твердый и горячий.
— Серьезно, — сказал я.
— Демонстративная картина, не правда ли? — спросил Чуднов тоном педагога. И добавил: — Прободная язва желудка. Борис Наумович сам поставил диагноз. И я солидарен с ним.
Золотов очнулся, приоткрыл глаза. Тихо спросил:
— Василий Петрович возвратился?
— Пока нет, — ответил Чуднов, — но телеграмму ему послали. В Москву тоже телеграфировали.
— А позвонить никто не догадался? Иногда это быстрее, чем телеграмма, — сказал Золотов.
— Звонили. Сам звонил, — сказал Чуднов.
— Но ждать нельзя, — сказал Золотов. — Как вы полагаете, кто из студентов справится лучше?
— Вам виднее, Борис Наумович. Как хирургов, я их маловато знаю, — сказал Чуднов.
— Николай Иванович здесь? — спросил Золотов.
— Здесь! — сказал я.
— А Юрий Семенович пришел? — спросил Золотов.
— Да, да! — сказал Чуднов, поглаживая руку Бориса Наумовича. — Пришел! Вы не волнуйтесь. Теперь все будет хорошо.
У Гринина вспыхнуло лицо. Слово «теперь» имело к нему самое прямое отношение.
— Ну, так кому делать? — спросил Чуднов, глядя в лицо Золотова.
Золотов не отвечал.
Чуднов еще несколько раз спросил.
— Ну что же такое?.. Как же? — Оглянулся, а посоветоваться и не с кем. — Скорее пойдемте в ординаторскую. — И жестом показал Нине, чтобы она оставалась возле Золотова.
Да, отныне это был уже не Борис Наумович, грозный, неуступчивый заведующий отделением. Это был обычный больной.
Из приемного покоя мы вышли в вестибюль. Ни души. Врачи, поняв, что ничем не могут помочь, разошлись.
И лишь в коридоре хирургического отделения акушер-гинеколог продолжала что-то доказывать невропатологу Надежде Романовне.
— Вы не посидите у Бориса Наумовича? — спросил у них Чуднов.
— С удовольствием, Михаил Илларионович!
— Как же!
Делая друг другу какие-то знаки, они пошли к приемному покою.
В ординаторской мы уселись на диван, но Чуднов поднял нас и спросил:
— С диагнозом все согласны?
Мы были согласны.
Чуднов сказал:
— Нужна срочная операция. Ждать Василия Петровича и врача из Москвы не будем. — Он выпустил изо рта несколько клубочков.
— Не будем? — спросил Каша.
— Не можем, — ответил Чуднов. — Вдруг Василий Петрович пробудет у соседей до утра? Откуда мы знаем? Он не может там прервать операцию… Важна каждая минута. Вам, Юрий Семенович, придется оперировать.
— Я готов. — Руки Гринина поправляли поясок халата.
— Готовы? — Чуднов смотрел на руки Гринина. — Прекрасно, если готовы. Пошли! А товарищи вам помогут.
— Поможем! — выкрикнул Каша.
— Итак, за дело, — сказал Чуднов. — Инструменты уже давно вскипели. — И первым стал закатывать рукава халата.
Гринин мыл руки у дальнего крана. Каша и Чуднов толклись над одной раковиной. У третьей раковины, у самой двери, натирал руки я. Намыленная щетка, словно разумное существо, беспрерывно и самостоятельно двигалась от кончиков пальцев до локтей.
Игорь мыл руки и что-то говорил Чуднову. Шум льющейся из крана воды заглушал его голос. Я ничего не мог разобрать. Иногда Игорь поглядывал в мою сторону, и тогда мне казалось, что разговор идет обо мне. Чуднов в чем-то убеждал Игоря и обмывал под краном полные, заросшие седым волосом предплечья. Игорь держал в воздухе намыленные до локтей руки, ждал, когда Чуднов посторонится.
Операционная…
На операционном столе лежит Золотов. Он никого и ничего не видит. Он в забытьи.
Входит старшая сестра отделения, высокая, широкая в плечах женщина.
— Ампул с кровью нет, — растерянно говорит она.
— Возьмите у меня, — предлагает Чуднов.
— Какая у вас группа? — спрашивает Гринин. Сегодня в операционной он главный. Сегодня ему подчиняются все.
— Право, не знаю, — смутился Чуднов.
— Нина Федоровна, — обратился Гринин к Нине, — срочно определите группу крови.
Нина взяла руку Чуднова и приступила к делу. Вскоре она ответила, что группа крови не подходит для переливания.
Старшая сестра предложила свою кровь. Но ее группа тоже оказалась неподходящей.
Гринин протянул руку Нине, но и его кровь не годилась для Золотова.
Я знал свою группу. Я назвал ее. Все поняли, что она тоже не годится. Нина протянула руку старшей сестре. Теперь старшая сестра взялась за определение группы крови.
— Прекрасно! — воскликнула она. — Ваша кровь ему годится. — Она так и сказала «ему» — это про недосягаемого Бориса Наумовича, перед которым всегда трепетала.
— Нина Федоровна, сколько вам не жалко? — спросил Гринин.
— О чем вы говорите! Хоть литр! — ответила Нина.
— Старшая сестра, перелейте триста кубиков, — распорядился Гринин и посмотрел на Чуднова. Он не возражал.
— Бери четыреста, — шепнула Нина.
Старшая сестра понимающе кивнула, но через минуту опомнилась и спросила:
— Юрий Семенович, а четыреста можно?
— Можно, — ответил Гринин.
Борису Наумовичу было перелито четыреста кубических сантиметров крови, но состояние его, казалось, не улучшилось.
Чуднов поторопил:
— Начнем, товарищи, операцию. Юрий Семенович!
Гринин подошел к операционному столу и положил руки на простыню. Ногти у него недостаточно коротки, но очень чистые. Видно, щетка как следует походила под ними.
Мне показалось, что и старшая сестра смотрит на его ногти. Сегодня и она стояла у операционного стола, готовая в любую минуту прийти на помощь.
— Йод! — властно потребовал Гринин. Черные брови его вдруг сомкнулись, кожа на лбу собралась в глубокие складки.
Операционная сестра Женя подала ему одну палочку с йодом, другую. Третью протянула мне. Мы вместе смазывали кожу живота.
— Простыню! — снова раздался громкий голос Гринина. Его взгляд скользил по оконной раме, по кафельной стене.
Ему подали сверток. Он быстро развернул, ловко покрыл больного простынею, оставив окно для разреза.
— Быстренько, быстренько, товарищи! Как пульс? — осведомился Чуднов.
— Частит, — ответила врач-невропатолог.
Вошла терапевт Екатерина Ивановна. Чуднов встретил ее возгласом:
— Нашего полку прибыло! Милости просим.
— Я вначале даже не поверила. — Старушечье усохшее личико ее сморщилось. Она посмотрела на Золотова, словно опознавая, он ли это. — Борис Наумович, как же вы поддались? Вечно врачи умирают не как люди…
— Екатерина Ивановна, коль пришли, стойте на пульсе, подмените Надежду Романовну, она устала, — сказал Чуднов.
— Устала? Как вы определили? — сказала Надежда Романовна и уступила место старому врачу. Стала рядом. И не уходила до конца.
Екатерина Ивановна положила свою руку на руку Золотова.
— Пульс ничего. Михаил Илларионович. Значит, прободная?
— Да, к сожалению, — Чуднов заволновался. Его круглые плечи вздрагивали.
— А вы знали, что он язвенник? — спросила Екатерина Ивановна.
— Не знал, но догадывался.
— А я знала. Он ото всех скрывал, а со мной советовался, — разоткровенничалась Екатерина Ивановна. — Как он страдал от этой язвы! А скрывал умело. Кроме вас, наверно, никто и не догадывался. Вечно врачи болеют не как люди.
Екатерина Ивановна поискала кого-то глазами:
— Игорь Александрович здесь! Я так и знала. — Наклонилась к его уху и для него одного, тихо-тихо, с укором: — Что же не вы оперируете, а?
Чуднова передернуло, и он пробубнил:
— Никаких «что же». Прирожденному хирургу и карты в руки.
Юрка был поглощен работой и, казалось, ничего этого не слышал. Он заканчивал обезболивание новокаином. Действовал смело, уверенно, несмотря даже на что-то, что все время отвлекало его. Еще немного, и я готов был отбросить все свои предубеждения и поверил бы, что он и взаправду настоящий парень, прирожденный хирург. Я ждал, я хотел этого.
Он отдал Жене шприц из-под новокаина и попросил скальпель.
Женя подала. Холодный, бесстрастный, отточенный до блеска металл. Он будет резать все, что попадет под его лезвие. Ему все равно.
Я пристально следил за рукой Гринина. Я видел, как Гринин большим и указательным пальцами левой руки натянул коричневую от йода кожу, как он между пальцами приложил к ней лезвие скальпеля. Примерился еще раз. Нажал и потянул скальпель на себя.
Края раны разошлись, струйками побежала кровь. Я салфетками промокал ее. Каша промокал тоже. Скальпель отлично делал свое дело. Он мастерски проникал в ткани. Ни одного лишнего движения. Только то, что надо, только так, как надо. Хорошо! Хорошо, Юрка!
Но вот скальпель остановился. Гринин положил его на простыню.
Пальцы мелко вздрагивают. Голова опустилась. Он смотрел в пол. Вот Гринин покачнулся, и я испугался, что он упадет. К нему подбежала санитарка.
— Я… не могу… я… не смогу, — тихо проговорил он, приложив левую ладонь к разгоряченному красному лбу.
— Как? Что вы? — с мольбой в голосе произнес Чуднов. Его голубые глаза выражали ужас.
Растерянность появилась на лицах. Все смотрели на Чуднова. Он смотрел на Кашу. Каша смотрел на меня.
— Если вы не возражаете, — сказал я, — то…
— Конечно, родной! Действуй!
Я коротко взглянул на Гринина и взял с простыни брошенный им скальпель.
Не поднимая головы, с ладонью, приложенной ко лбу, Гринин на носках прошел к двери. Я видел его красную, как кровь, шею. Такие же красные были и уши.
— Кто бы мог подумать, — прошептала Екатерина Ивановна, глядя на дверь, которая только что закрылась. Она взглянула на Золотова и потом на меня. — И что только творится на белом свете… А вы-то сможете? — спросила она у меня. И перевела взгляд на Игоря, будто спрашивала об этом и у него.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1. Снова Гринин
Вместе со скальпелем я оставил в операционной все. Страх пригнул мне голову, толкал в спину.
Я пересек коридор и очутился в вестибюле.
Из приемного покоя по черным клеткам на меня стремительно двинулись три фигуры. Я едва не закричал. Потом я разглядел, что это женщины. Одна была невропатолог, вторая — акушер-гинеколог, третью я не знал.
— Все благополучно, доктор? — спросила третья, одетая в хорошее пальто бежевого цвета.
Я смотрел на нее с недоумением.
— Жена Бориса Наумовича, — пояснила невропатолог.
— Все идет превосходно, — ответил я и заставил себя улыбнуться.
— Операция уже кончилась? — спросила акушер-гинеколог.
— Не совсем, — сказал я и посмотрел на замок, висевший на раздевалке. Мне хотелось поскорее уйти. Тетя Дуся открыла бы в одно мгновение, но по ночам она не работала.
В дверях приемного покоя я увидел санитарку.
— Откройте! — попросил я.
— Вы куда собрались? — спросила она, будто имела право так спрашивать.
— Откройте, пожалуйста, — сказал я более ласково. — У меня срочное дело.
— Ну, откройте, если доктор просит, — сказала жена Золотова. — Разве можно в этом отказывать?
Санитарка открыла. В раздевалке я сорвал с головы белую шапочку. Набросил на плечи плащ. Сунул голову в шляпу.
Группа моих больных вышла в вестибюль и с немым любопытством смотрела, как я одеваюсь.
Я поблагодарил санитарку кивком головы, чувствуя, что на меня смотрит много глаз. Неприятно, когда на тебя смотрят в такие минуты. Я старался двигаться неторопливо. А выйдя за дверь вестибюля, побежал. Едва не растянулся на скользких ступенях больницы. Ветер чуть не сорвал с головы шляпу, и я прихлопнул ее сверху, чтобы она села поглубже.
Лил дождь. Я не знал, куда иду. На пустынной улице ни души. Окна в домах темные. На черных, вымокших от дождя столбах тусклые фонари.
Я шел напрямик, не замечая и не обходя луж. Я спешил. Казалось, за мной гонятся. «Почему ты сбежал, Гринин?» — чудился мне вопрос в свисте ветра. Халат, который я забыл снять, путался в ногах, мешал идти. Черт бы его побрал!
Осмотревшись, я заметил, что нахожусь в парке. Оглянулся: в глаза ударил ослепительно белый свет. Это были окна операционной. Яркий свет раздражал нервы. Я отвернулся и пошел дальше. Я не хотел, я не мог видеть больницу… Когда снова оглянулся, сзади была такая же тьма, как и впереди.
Не помню, как очутился я на скамье. Долго сидел, съежившись, с закрытыми глазами. Воображение рисовало обидные картины. Плащ промок, и дождевые капли стали пробираться к озябшему телу. Я не выдержал и побрел по парку. Может быть, найдется какое-нибудь укрытие?
Убежище от дождя я нашел под навесом летнего ресторана. И здесь холодно, но все-таки сверху не льет. Стульев почему-то не было, и я сел на стол.
Протяжный стон долетел до моего слуха. Кто-то просит о помощи! Я вздрогнул, вскочил, прислушался. Стон не повторился. Слава богу. Я сам нуждался в помощи больше других.
Все-таки иначе было нельзя. Если бы Золотов вдруг не выдержал, вместе с ним погибло бы и мое будущее. А я не имел права так необдуманно рисковать.
Интуиция часто выручала меня. Не подвела она и сегодня. Стоя у операционного стола, я внезапно почувствовал, что вся моя жизнь повисла на волоске. «Уйди! Уйди отсюда! — приказывал внутренний голос. — Разве не видишь, что минуты его сочтены?»
Что теперь думают обо мне они? Что Гринин бездарь? Что Гринин потерял мужество? Ложь! У меня хватило мужества уйти.
А какой ожидал бы меня триумф, если бы операцию я довел до конца и если бы кончилась она успешно!
Чуднов верил в меня. И Коршунов. И даже Золотов, кажется, начал верить. Он спросил, пришел ли я к нему. А я…
В институте все было проще. Там ты отвечаешь лишь за себя. А здесь — еще и за жизнь чужого человека. Самое тяжелое в нашей профессии, наверно, в этом. Я, кажется, еще не дорос до этого.
Пальцы совсем застыли. Я еле вытащил из портсигара очередную папироску. Когда куришь, как будто немного теплее.
Сторож парка, проходя мимо, спросил:
— Еще сидишь? Может, ко мне в дом пойдешь? Обогреешься?
Что за чушь он несет? Из ума, видно, выжил старик.
Пойти в общежитие? В больницу? Нет. Что я им отвечу?
Уже светлая полоса зари осторожно отделила темное небо от темной земли. С озера подул холодный ветер, а я по-прежнему сидел под навесом летнего ресторана и думал, думал. Скоро люди встанут. Сядут завтракать. Пойдут на работу. А я? Что же буду делать я?
Я поежился. Хотелось курить. Но папирос не осталось.
Легкие облака, наливаясь розовым светом, проплывали над головой и исчезали. Может быть, через час они проплывут над Москвой. Над институтом.
К черту нерешительность! Я встал, отряхнулся и уверенной походкой зашагал по аллее парка.
Лишь на мгновение я задержался перед распахнутыми воротами больницы. Нет! Лучше сразу в общежитие. Может быть, они еще не пришли.
К счастью, школа была пуста.
Я быстро разделся и, обвязав мокрым полотенцем голову, лег в постель.
2. Снова Каша
Юра, шатаясь, вышел. Что с ним? Обморок? Кто ему окажет помощь? Хотя… разве он сам не знает, что делать? Да и палатная сестра поможет. Мне так хотелось побежать следом за ним и сказать: «О Золотове, Юра, не волнуйся, здесь-то все в порядке. Твой скальпель, как эстафету, подхватил Николай».
Николай работал спокойно. Но ему трудно было начать. Он был расстроен больше моего, часто оглядывался на дверь, будто надеялся, что вот-вот войдет Юра и скажет… Не знаю, что хотел услышать от него Николай… Один раз он взялся совсем не за тот инструмент, и я понял, что и ему тоже мешали мысли о Гринине. Но постепенно они уходили от него, и руки двигались увереннее.
Я и Чуднов ассистировали. Пальцы у Михаила Илларионовича очень полные, неповоротливые. Они прекрасно выстукивали спины терапевтических больных, но здесь… здесь они не успевали. И капельки пота выступили на носу и полоске щек, не прикрытых маской. Глаза его смотрели, как красиво работал Николай. Но вот со скупою мужской лаской, которую я не раз испытывал на себе, Михаил Илларионович взглянул в лицо моего товарища, и я понял, что ему было очень-очень приятно ассистировать студенту.
Операция шла к концу. Николай ввел Золотову пенициллин со стрептомицином и отошел к белой кафельной стене, тяжело опустился на стул. Он сидел неподвижно, он устал. Устал, как, может быть, никогда не уставал в жизни. Продольные морщинки на его лбу вдруг зашевелились: Николай опять думал о Гринине.
Минуту спустя он осторожно подвигал головой, и я догадался, что ему нужен пирамидон. Я бы мигом сбегал за пирамидоном, но руки были стерильные, да и операция еще не кончилась.
Кожу Николай предоставил зашивать мне, а Михаил Илларионович помогал пинцетами. Золотов обычно отдавал шить кожу Николаю, когда он ему ассистировал. Если бы Золотов знал, что теперь его зашивает студент, да еще проходящий практику в чужом отделении! Я невольно улыбнулся. Теперь-то можно было улыбаться.
Николай подошел к операционному столу, посмотрел, как прилежно Михаил Илларионович сдвигает пинцетами кожу, взглянул на Екатерину Ивановну, которая все еще считала пульс, хотя опасность как будто давно миновала. Улыбка невольно осветила лицо Николая.
Вокруг операционного стола стояли сестры, врачи, няни. Их лица казались торжественными, как и весь вид операционной. Мощная бестеневая лампа в центре, белые кафельные стены, человек на столе и люди в белых халатах вокруг стола. Люди, знающие свое дело… Я был счастлив, что стоял среди них. Рядом с Чудновым. Рядом с Николаем.
Я сделал на животе Золотова наклейку и сказал Николаю:
— Все.
Николай взглянул на меня. В его взгляде я увидел вопрос. Нет-нет, Николай! Не думай! Я нисколечко не обижаюсь, потому что, как и Юрка, я, наверно, тоже не смог бы.
3. Снова Захаров
…В самом деле Игорь, кажется, не обиделся, что был только ассистентом. Но сложись обстановка чуть иначе, именно ему пришлось бы докончить операцию, начатую Грининым.
Не удалось Игорю совершить то, что он называл подвигом. Но ведь практика наша еще не кончается. Впереди много дней и ночей.
И вообще — что такое подвиг? Уж, конечно, не операция. Для хирурга это такой же обыденный труд, как для шахтера добыча угля, как для летчика полет. Или, может быть, все они совершают беспрерывный подвиг?
— А теперь Бориса Наумовича можно отвезти в палату, — сказал я, обмывая в тазу руки.
Подкатили каталку, сестры бережно переложили на нее Золотова.
Чуднов подошел к нам. Он крепко пожал мне руку, потом Игорю.
— Вы теперь в общежитие?
— Что вы, Михаил Илларионович! Разрешите нам подежурить у постели Бориса Наумовича, — попросил я.
— Пожалуйста. Конечно! — Он хотел было сказать еще что-то, но не сказал ничего и пошел к выходу.
Екатерина Ивановна пошла за ним. Мы тоже.
— Я буду у себя, — обернулся к нам Чуднов в коридоре. — Думаю, теперь Борис Наумович вытянет, будет жить человек… — Усталой, переваливающейся походкой Чуднов направился в терапевтическое отделение.
Я смотрел ему вслед и думал: «Да, похоже, что человек будет жить. Человек у нас погибнуть не может. А если подчас и погибает, то это же исключение, несчастный случай, в котором повинны и пострадавший и все мы, остальные. Несчастных случаев быть не должно. Их не будет, когда за жизнь людей будет драться каждый. И драться не как-нибудь, а до последнего, как бы это трудно и сложно ни было. В сущности, жизнь везде должна быть так устроена, чтобы люди не могли умирать. Ни телом, ни душой».
Еще минуту мы молча стояли, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Потом заметили, что к нам бежит санитарка.
— Николай Иванович! Хирург из Москвы приехал. Куда его?
— Проведите к Михаилу Илларионовичу, — посоветовал я.
Санитарка умчалась.
Мы видели, как минуту спустя хирург последовал за нею на второй этаж.
— Посмотрим, на чем он приехал? — спросил Каша.
— Давай.
Мы вышли в вестибюль. С доски объявлений на нас глянула выведенная крупными буквами фамилия «Золотов», Да, ведь послезавтра конференция молодых специалистов. Его доклад…
Во дворе, у входа, стояла легковая машина «Москвич» со столичным номерным знаком.
— Надо поискать Юру, — сказал Каша.
Мы обошли всю больницу, но не нашли Юрия и возвратились в вестибюль.
— Ты видел, как его скрутило? — спросил Каша.
По темным оконным стеклам хлестали струи дождя.
Вдруг расплывчатыми пятнами вспыхнули фары автомашины.
— Еще кто-то едет, — сказал Игорь. — Может, Василий Петрович возвращается?
Я отвел взгляд от окна, посмотрел в усталые глаза товарища и спросил:
— А где же все-таки Юрий?
Осторожно, чтобы не потревожить больного, мы зашли в палату. Жена Золотова почтительно встала.
— Что вы! Сидите, пожалуйста, — попросил я.
Золотова стояла и смотрела на нас.
— Гринин, вы здесь? — спросил Золотов, не открывая глаз.
— Да, — ответил я.
— Что вы нашли в стенке желудка?
— Небольшое отверстие.
— А точнее?
— Диаметром ноль четыре.
— Ушили?
— Да, Борис Наумович. Как вы себя чувствуете?
— Очень хорошо… Спасибо вам, Гринин, — не открывая глаз, проговорил он.
Мы проверили пульс, постояли немного и пошли к двери.
Примечания
1
Центральный институт усовершенствования врачей.
(обратно)




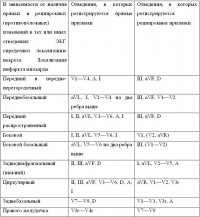

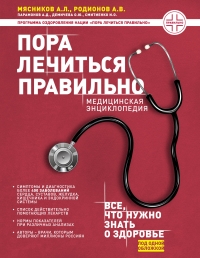


Комментарии к книге «Человек должен жить», Владимир Иванович Лучосин
Всего 0 комментариев