Леонард Млодинов Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гиперпространства
Алексею и Николаю, Саймону и Ирэн
Введение
Двадцать четыре века назад один грек стоял у берега моря и смотрел, как исчезают вдали корабли. Аристотель, судя по всему, проводил за таким тихим занятием немало времени и повидал немало кораблей, раз его однажды посетила интересная мысль. Все корабли исчезали одинаково — сначала корпус, потом мачты и паруса. Он задумался: как такое может быть? На плоской Земле корабли должны были уменьшиться целиком и исчезнуть, превратившись в нераспознаваемую точку. Но корпус исчезал первым, а уж потом все остальное — и это подтолкнуло Аристотеля к подлинному озарению: Земля — искривлена. Аристотель взглянул на общее устройство нашей планеты через окно геометрии.
Ныне мы исследуем космос так же, как тысячелетия назад познавали Землю. Кое-кто слетал на Луну. Непилотируемые летательные аппараты добирались до границ Солнечной системы. Вполне возможно, уже в этом тысячелетии мы долетим до ближайшей звезды — это странствие с достижимой когда-нибудь-скоростью в одну десятую скорости света займет лет пятьдесят. Но даже если мерить расстояниями до альфы Центавра, задворки Вселенной отсюда — в нескольких миллиардах таких «мерных реек». Вряд ли нам доведется узреть, как корабль достигает горизонта Вселенной, подобно увиденному Аристотелем на Земле. И все-таки мы узнали о природе и устройстве Вселенной многое, как некогда и Аристотель, — наблюдая, применяя логику и страшно долго вперяя взоры в космос. Веками горизонты для нас раздвигали гений и геометрия. Что можно вообще доказать о пространстве? Как узнать, где находишься? А может ли пространство искривляться? Сколько в нем измерений? Как геометрия объясняет естественный порядок и единство космоса? Эти вопросы и стоят за пятью геометрическими революциями в мировой истории.
А началось все со скромной схемы, придуманной Пифагором: применить математику как абстрактную систему правил, по которым можно смоделировать физическую вселенную. Следом возникла концепция пространства, отделенного от земли, по которой мы ходим, или воды, в которой плаваем. То было рождение абстракции и доказательства. Вскоре греки, похоже, научились находить геометрические ответы на любой научный вопрос — от принципов действия рычага до орбит небесных тел. Однако греческая цивилизация пришла в упадок, и Запад завоевали римляне. Однажды — аккурат перед Пасхой 415 года — толпа невежд стащила одну женщину с колесницы и убила. Женщина эта была последним ученым, преданным геометрии, Пифагору и рациональной мысли, она последняя трудилась в Александрийской библиотеке, и с этой смертью цивилизация начала соскальзывать в тысячелетие Темных веков.
Однако цивилизация воскресла, а с нею — и геометрия, но уже совсем другая, новая. Ее принес человек весьма цивилизованный — ему нравилось играть в азартные игры, спать до обеда и критиковать греков: их метод геометрического доказательства виделся ему чересчур обременительным. Для облегчения умственного труда Рене Декарт поженил геометрию и числа. Благодаря его идее координат, пространства и формы можно было крутить и вертеть, как никогда прежде, а число получалось визуализировать геометрически. Эти методики породили математический анализ и создали условия для развития современных технологий. Благодаря Декарту геометрические понятия координат и графиков, синусов и косинусов, векторов и тензоров, углов и кривизны присутствуют ныне в любом физическом контексте — от электроники твердого тела до огромных структур в пространстве-времени, от технологии транзисторов и компьютеров до лазеров и космических полетов. Однако работы Декарта взрастили и более абстрактную — и революционную — идею: искривленное пространство. Действительно ли сумма углов в треугольнике равна 180°, или это верно лишь для треугольников на плоскости листа бумаги? И дело тут не только в оригами. Математика искривленного пространства произвела революцию на уровне основ логики не в одной лишь геометрии, но во всей математике. Она создала предпосылки к рождению теории относительности Эйнштейна. Его геометрическая теория пространства и дополнительного измерения — времени, — а также связи между пространством-временем, материей и энергией изменила саму парадигму мышления настолько масштабно, насколько это удалось в свое время лишь Ньютону. Она, безусловно, представлялась вполне радикальной. Но и это, как выяснилось, ничто по сравнению с недавней революцией.
Как-то в июне 1984 года один ученый заявил, что он-де осуществил прорыв в теории, с помощью которой можно объяснить что угодно — от существования субатомных частиц и их взаимодействий до устройства пространства-времени и природы черных дыр. Этот человек считал, что ключ к пониманию единства и порядка во Вселенной — в геометрии, причем геометрии новой и довольно причудливой. Его вывела с трибуны группа людей в белой спецодежде.
Потом выяснилось, что все это было подстроено. Но общая мысль и устремление гения — подлинные. Джон Шварц полтора десятка лет трудился над теорией под названием «струнная», и на нее большинство физиков реагировало так же, как отнеслись бы к уличному психу, просящему денег. Ныне большинство физиков верит, что теория струн верна: геометрия пространства отвечает за физические законы, управляющие всем, что есть в этом пространстве.
Манифест исторической революции в геометрии был написан Евклидом — человеком-загадкой. Если у вас в голове мало что осталось от убийственного предмета под названием «евклидова геометрия» — вероятнее всего, это потому, что вы его весь проспали. Смотреть на геометрию тем манером, какой нам обычно предлагают, — верный способ превращения юных умов в камень. Но евклидова геометрия на самом деле — увлекательный предмет, а труд Евклида — великолепие, чье значение сопоставимо с важностью Библии, а идеи — не менее радикальны, чем марксовы и энгельсовы. Ибо труд Евклида «Начала» открыл окно, в котором нам была явлена природа Вселенной. Его геометрия претерпела четыре революции, ученые и математики подорвали верования теологов, разрушили столь дорогие философам представления о мире и заставили нас пересмотреть и перевообразить наше место в мирозданье. Эти революции, а также их пророки и истории за ними — предмет данной книги.
Часть I. История Евклида
Что вам известно о пространстве?
Как геометрия начала описывать Вселенную и возвестила зарю современной цивилизации.
Глава 1. Первая революция
Евклид, вероятно, лично не открыл ни одного существенного закона геометрии. Тем не менее он — самый знаменитый геометр в истории, и не просто так: тысячелетиями именно в его окне люди впервые видели геометрию. Он и поныне — лицо первой великой революции в представлениях о пространстве: рождения абстракции, понятия о доказательстве.
Постижение пространства началось, что вполне естественно, с представлений о месте — нашем месте, т. е. о Земле. Все началось с развития «измерений земли», как это называли египтяне и вавилоняне. Греческое название того же самого — «геометрия», однако предметы этих занятий совсем не похожи. Греки первыми осознали, что природу можно постичь, применив математику, а геометрия может не только описывать, но и объяснять. Развивая геометрию от простых описаний камня и песка, греки извлекли понятия точки, линии и плоскости. Отбросив вуали материи, они обнаружили структуру такой красоты, какой человечество еще не видело. Евклид стоит как раз на пике борьбы за изобретение математики. История Евклида есть история революции, история аксиомы, теоремы, доказательства — и рождения разума как такового.
Глава 2. Геометрия налогов
Корни достижений греков уходят в древние цивилизации Вавилона и Египта. Йейтс писал[1] о вавилонском равнодушии — особенности, из-за которой вавилонянам не удалось достичь величия в математике. До греков человечество приметило немало хитрых формул, расчетных и инженерных фокусов, однако — в точности как наши политики — люди временами добивались поразительных успехов с феноменально малым разумением, что же они вообще сделали. А им-то что? Они были строителями, что работают впотьмах на ощупь — что-то возводят, где-то укладывают ступени и достигают своих целей, но не понимания.
И не они первые. Люди считали и вычисляли, драли налоги и облапошивали друг друга с незапамятных времен. Некоторые предположительно счетные орудия датируются 30 000 лет до н. э. — всего лишь палки, расписанные художниками с интуитивным математическим чутьем. Но есть и поразительно отличные приспособления. На берегах озера Эдвард (ныне Демократическая Республика Конго) археологи выкопали небольшую кость 8000-летней давности с крошечным кусочком кварца, вделанным в углубление на одном конце. Автор этого приспособления — художник или математик, мы никогда уже не узнаем, — вырезал на кости три колонки насечек. Ученые считают, что эта кость, названная костью Ишанго[2], — возможно, самый древний из найденных прибор для численной записи.
Мысль об осуществлении операций с числами[3] доходила гораздо медленнее, поскольку занятия арифметикой подразумевают некоторую степень абстракции. Антропологи сообщают: если два охотника выпустили две стрелы, завалили двух газелей и заработали две грыжи, волоча добычу к стоянке, во многих племенах все эти «два» и «две» могли быть разными понятиями в каждом случае[4]. В таких цивилизациях нельзя было складывать яблоки с апельсинами. Похоже, на понимание того, что все это частные случаи одного и того же понятия — абстрактного числа 2, — потребовались тысячи лет.
Первые серьезные шаги в этом постижении люди предприняли в шестом тысячелетии до н. э., когда жители долины Нила постепенно отказались от кочевой жизни и принялись культивировать земли в долине[5]. Пустыни Северной Африки — едва ли не самые сухие и бесплодные в мире. И лишь река Нил[6], набухая от экваториальных дождей и тающих снегов Абиссинского нагорья, могла принести, подобно богу, жизнь и пропитание в пустыню. В древние времена каждый год в середине июня сухая, безрадостная и пыльная долина Нила чуяла, как могучие воды устремляются в русло реки, занося плодородным илом округу. Задолго до греческого классика Геродота, описавшего Египет как «дар Нила», Рамзес III оставил запись, указывающую на то, как египтяне почитали этого бога, Нил: они называли его Хапи и подносили ему мед, вино, золото и бирюзу — все самое ценное. Само название страны — Египет — означает на коптском «черная земля»[7].
* * *
Ежегодное затопление долины продолжалось четыре месяца. К октябрю река начинала мелеть и чахнуть, пока земля к следующему лету не высыхала до корки. Восемь засушливых месяцев делились на два сезона: возделывания почв, перит, и сбора урожая, шему. У египтян возникли оседлые общины, располагавшиеся на холмах, которые в периоды затопления превращались в островки, соединенные дамбами. Египтяне создали систему орошения и хранения зерна. Сельское хозяйство стало основой египетского календаря и самой жизни, а его главными продуктами — хлеб и пиво. К 3500 году до н. э. египтяне развили кое-какое производство — ремесла и металлургию. Примерно тогда же они разработали и письменность[8].
Смерть для египтян всегда была неизбежностью, но с достатком и оседлостью неизбежными стали и налоги. Вероятно, именно они первыми потребовали развития геометрии[9]: хоть фараон и владел, в принципе, всеми землями и богатствами, на самом деле частная собственность была и у храмов, и у отдельных частных лиц. Власти оценивали размеры налогов по высоте подъема воды в текущем году и размерам частных владений. Тех, кто отказывался платить, тогдашняя полиция могла уговорить силой, не сходя с места. Займы существовали, но интерес закладывали по принципу «чем проще, тем лучше»: 100 % годовых[10]. Поскольку средства на кону стояли нешуточные, египтяне выработали более-менее надежные, хоть и мучительные методики расчетов площадей квадрата, прямоугольника и трапеции. Для вычисления площади круга его аппроксимировали квадратом со сторонами, равными восьми девятым диаметра. Это примерно то же самое, что 256/81 — или 3,16 — для значения числа π , т. е. завышенная его оценка — правда, всего на 0,6 %. История не сохранила свидетельств, бурчали налогоплательщики по поводу такой несправедливости или нет.
Египтяне применяли свои математические знания с поразительным размахом. Вообразите открытую всем ветрам унылую пустыню в 2580 году до н. э. Архитектор разложил свои папирусы с планом заказанной вами постройки. У него-то работа непыльная: квадратное основание, треугольные грани, ну и да — 480 футов в высоту, из каменных глыб по две с лишним тонны каждая. Вам поручили проследить за строительством. Простите-извините, но никаких лазерных дальномеров и прочих затейливых маркшейдерских приборов нету — кое-какие палки да веревки.
Многие домовладельцы знают: разметка земли под фундамент здания или даже периметра под простенькую террасу при помощи лишь плотницкого угольника и рулетки — задачка непростая. При постройке же такой пирамиды малейшее отклонение от правильных углов — и тысячи тонн камней тысячи человеко-лет спустя в сотнях футов над землей примут форму не строгих треугольных граней пирамиды, сходящихся в одной точке, а шаткой четырехглавой кучи. А фараоны, коим поклонялись как богам, с армиями, резавшими фаллосы убитым врагам[11] просто для точности подсчетов, — совсем не те всесильные божества, которым стоит предъявлять кособокие пирамиды. Прикладная египетская геометрия развилась в полноценный предмет.
Чтобы строительство шло по плану, египтяне подключали специалиста, называвшегося гарпедонаптом, буквально — «натягивателем веревок». Возиться с веревкой гарпедонапт привлекал трех рабов. На ней с определенными интервалами были завязаны узлы, и если ее туго натянуть, получался треугольник с узлами-вершинами и сторонами известной длины — и, соответственно, углами нужного раствора. Например, если натянуть веревку с узлами на 30-м, 40-м и 50-м ярдах, между сторонами в 30 и 40 ярдов получится прямой угол. (Слово «гипотенуза» по-гречески исходно означала «растянутая напротив».) Метод, как выяснилось, блестящий — и куда сложнее, чем может показаться. В наше время сказали бы, что натягиватели веревок строили не линии, а геодезические кривые вдоль поверхности Земли. Нам предстоит убедиться, что именно этим методом — хоть и не в таком умозрительном виде и не в таких малых (бесконечно малых, говоря строго) масштабах — мы и поныне пользуемся для оценки локальных свойств пространства в той области математики, что зовется «дифференциальная геометрия». Именно теоремой Пифагора мы поверяем плоскость пространства.
Покуда египтяне обживали долину Нила, в районе Персидского залива и Палестины развивалась еще одна конурбация[12]. Все началось в Месопотамии — области между реками Тигр и Евфрат — в четвертом тысячелетии до н. э. Где-то в промежутке от 2000 до 1700 года до н. э. несемитские племена, обитавшие к северу от Персидского залива, завоевали своих южных соседей. Их победоносный владыка Хаммурапи назвал объединенное царство по имени своего города — Вавилона. Вавилонян мы и считаем[13] создателями математической системы, что гораздо сложнее египетской.
Инопланетяне, глядящие на Землю в какой-нибудь сверхтелескоп с расстояния в 23 400 000 000 000 000 миль, и сегодня могут наблюдать жизнь и привычки вавилонян и египтян. Для нас же, застрявших на этой планете, собрать полную картину той жизни будет потруднее. О египетской математике мы знаем в основном из двух источников — из «Папируса Ринда», названного в честь Александра Г. Ринда[14], передавшего этот документ в Британский музей, и из «Московского папируса», находящегося в Музее изобразительных искусств в Москве. Наши знания о вавилонянах происходят из раскопок руин в Ниневии, где обнаружили около 1500 табличек. К сожалению, ни на одной не нашлось математических текстов. Зато несколько сотен глиняных табличек удалось накопать в Ассирии — в основном на руинах Ниппура и Киша[15]. Если сравнивать археологические раскопки с поисками в книжном магазине, на сей раз отдел математики в нем обнаружился. Археологи нашли справочные таблицы, учебники и другие объекты, поведавшие многое о вавилонской математической мысли.
Стало известно, к примеру, что функции вавилонского эквивалента инженера не сводились к мобилизации рабочей силы для стройки. Чтобы вырыть, допустим, канал, этот специалист размечал его трапециевидное сечение, рассчитывал объем земли, который необходимо вынуть, прикидывал, сколько один человек прокопает за день, и выдавал количество человекодней, необходимое для осуществления замысла. Вавилонские ростовщики умели даже вычислять сложный процент доходности[16].
Вавилоняне уравнений писать не умели. Все их расчеты выражались словесными задачами. Например, одна из табличек содержала восхитительный текст: «Четыре есть длина и пять есть диагональ. Какова ширина? Размер ее неведом. Четыре раза по четыре есть шестнадцать. Пять раз по пять есть двадцать пять. Вынимаем шестнадцать из двадцати пяти, остается девять. Сколько раз мне взять, чтобы получилось девять? Три раза по три есть девять. Три есть ширина»[17]. Ныне мы бы записали так: «х² = 5²–4²». Недостаток словесной постановки задач — не столько в очевидной громоздкости, сколько в том, что с прозой не получается обращаться так же, как с уравнением, да и правила алгебры применять не так-то просто. На преодоление этого недостатка ушли тысячи лет: старейшее известное использование символа «плюс» появляется в одном немецком манускрипте 1481 года[18].
Приведенная выдержка показывает, что вавилонянам была известна теорема Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Уловка с веревками говорит нам о том, что и египтяне, похоже, знали это соотношение, однако вавилонские писцы испещрили свои глиняные документы впечатляющими таблицами троек, иллюстрирующих эту зависимость. Они записали не только малые тройки — 3, 4, 5 или 5, 12, 13, но и большие — к примеру, 3456, 3367, 4825. Вероятность обнаружить такую тройку путем случайного перебора разных сочетаний чисел по три невелика. Первая дюжина чисел — 1, 2…, 12 — дает сотни разных комбинаций по три, однако лишь 3, 4, 5 удовлетворяет условиям теоремы. Если только вавилоняне не подрядили армию счетоводов, проведших всю жизнь за вычислениями, можно заключить, что о простой теории чисел им было известно достаточно, чтобы выписать эти тройки.
Несмотря на достижения египтян и сообразительность вавилонян, их вклад в математику свелся к обеспечению греков собранием проверенных математических фактов и общих правил. Они действовали подобно полевым исследователям, трудолюбиво описывающим разные биологические виды, а не современным генетикам, стремящимся понять, как же организмы развиваются и функционируют. Например, хоть обе цивилизации и знали теорему Пифагора, ни та, ни другая не вдумалась в общую закономерность, которую мы сегодня записываем как a² + b² = c² (где с — длина гипотенузы прямоугольного треугольника, а и b — длины двух других сторон). Они, похоже, никогда не задавались вопросом, почему такое соотношение вообще существует или как его применить, чтобы получить большее знание. Точное ли это соотношение или приблизительное? В принципе, этот вопрос — ключевой. Но с практической точки зрения — кому какое дело? Пока не появились древние греки, никому никакого дела и не было.
Вообразите задачу, ставшую главной головной болью в геометрии Древней Греции, но никак не волновавшую ни египтян, ни вавилонян, — она замечательно проста. Возьмем квадрат с длиной стороны в одну единицу — какова будет длина его диагонали? Вавилоняне рассчитали это значение как 1,4142129 (в десятичной записи). Этот ответ верен до третьего шестидесятеричного знака после запятой (вавилоняне применяли шестидесятеричную систему счисления). Греки-пифагорейцы додумались, что это число нельзя записать как целое или дробь — для нас, ныне живущих, это означает, что число записывается в виде бесконечной вереницы десятичных знаков без всякой закономерности: 1,414213562… Для греков это оказалось ударом, кризисом религиозных масштабов, из-за которого убили как минимум одного ученого — за то, что поднял визг о значении квадратного корня из двух. Но с чего бы? Ответ — в сути величия греков.
Глава 3. Средь семи мудрецов
Открытие того, что математика — нечто большее[19], нежели алгоритмы расчетов объемов грунта или размеров налогов, принадлежит одинокому греческому купцу, ставшему философом; его звали Фалес, и свершилось это открытие 2500 лет назад. Именно Фалес создал возможность для великих открытий пифагорейцев и, в итоге, написания самих «Начал» Евклида. Он жил во времена, когда по всему миру вдруг так или иначе зазвонили будильники, и человеческий разум проснулся. В Индии рожденный примерно в 560 году до н. э. Сиддхартха Гаутама Будда начал распространение буддизма. В Китае Лао-цзы и его более юный современник Конфуций, появившийся на свет в 551 году до н. э., совершили прорыв в мышлении — с колоссальными последствиями. В Греции же начался Золотой век.
У западного побережья Малой Азии река Меандр, от названия которой происходит слово meander[20], разливается на унылую заболоченную равнину, которая ныне — часть Турции. Посреди этого болота примерно 2500 лет назад стоял Милет — самый процветающий греческий город того времени. Тогда он был портовым центром Ионии и располагался у залива, ныне забитого илом. Милет был отрезан от остальных земель водой и горами, и всего один путь вел вглубь материка, зато на море имелось целых четыре гавани, и поэтому город стал сердцем морской торговли на всем востоке Эгейского моря. Отсюда, лавируя меж островов и мысов, корабли пробирались на юг — к Кипру, Финикии и Египту, или отправлялись на запад — в европейскую часть Греции.
В этом городе в VII веке до н. э. началась революция человеческой мысли, мятеж против предрассудков и небрежных суждений; длилась она почти тысячелетие и создала основы современного мышления.
Наше знание об этих мыслителях-революционерах смутно и зачастую основано на предубежденных свидетельствах поздних ученых — Аристотеля, Платона — и временами противоречивых пересказах. Большинство этих легендарных героев носили греческие имена, но греческую мифологию не принимали. Их преследовали, ссылали, доводили до самоубийства — во всяком случае, согласно дошедшим до нас историям.
Невзирая на все эти кривотолки, существует согласие в том, что в Милете примерно в 640 году до н. э. гордые родители произвели на свет мальчика по имени Фалес. Фалес Милетский славен тем, что чаще прочих называется первым в мире ученым или математиком. Столь древняя дата, присвоенная этим профессиям, никак не угрожает первенству профессии древнейшей — сексуальному предпринимательству, поскольку Милет славился конструкциями из набитой кожи, изобретенными для сексуального удовлетворения женщин[21]. Нам неведомо, торговал ли Фалес этими штуками, засоленной рыбой, шерстью или другими милетскими товарами, но был он состоятельным купцом, деньгами распоряжался в свое удовольствие и, отойдя от дел, взялся постигать знания и странствовать.
Древняя Греция состояла из множества маленьких политически независимых областей, или городов-государств, — частью демократических, частью управляемых аристократами или тиранами. О повседневной жизни греков мы знаем в основном применительно к Афинам, но житье у граждан разных краев Эллады имело много общего и за несколько столетий после Фалеса мало изменилось — за вычетом голодных или военных лет. Грекам, судя по всему, нравилось светски проводить время — в цирюльнях, храмах, на рынках. Сократ обожал обувную лавку. Диоген Лаэртский писал о сапожнике по имени Симон, который первым представил сократовы диалоги в виде разговора. На руинах мастерской V века до н. э. археологи обнаружили осколок винной чаши с именем «Симон»[22].
Древним грекам нравились и званые ужины. За афинским ужином следовал симпосий — буквально «совместное питие». Бражники, хлебая разбавленное вино, обсуждали философию, пели песни, пересказывали анекдоты и играли в шарады. Не преуспевших в разгадывании шарад или болтавших ерунду ожидало наказание — плясать нагишом по зале, например. Увеселения греков смахивают на студенческие, это верно, однако такова же была и их сосредоточенность на постижении. Греки ценили пытливость.
Фалес, судя по всему, как и многие греки Золотого века, обладал неутолимой жаждой знаний. Посещая Вавилон, он впитывал учение и математику астрономии — и прославился тем, что привез это знание в Грецию. Одно из легендарных достижений Фалеса — предсказание солнечного затмения 585 года до н. э. Геродот сообщает, что оно произошло в разгар битвы[23], и благодаря ему сражение прекратилось и воцарился долгий мир.
Фалес подолгу бывал и в Египте. Египтяне владели секретом постройки пирамид, однако им не хватало понимания, необходимого для измерения их высоты. Фалес искал теоретические объяснения фактов, открытых египтянами эмпирически. Обретя это понимание, Фалес мог вывести геометрические методы один из другого, либо овладеть решением одной задачи, зная решение другой, потому что извлек абстрактную суть из определенного практического приложения. Он поразил египтян демонстрацией метода измерения высоты пирамид[24], применив все те же знания свойств подобных треугольников. Позднее Фалес использовал сходную технологию для измерения морского пути корабля. В Древнем Египте он стал знаменитостью.
В Греции Фалес был признан современниками одним из Семи мудрецов — семи умнейших людей на свете. Его деяния впечатляют еще больше, если учесть примитивнейший уровень математического знания у среднего человека того времени. Например, семью веками позже великий греческий мыслитель Эпикур по-прежнему считал[25], что солнце — не такой уж громадный огненный шар, а «как раз такой, каким мы его наблюдаем».
Фалес сделал первые шаги по систематизации геометрии. Он первым доказал геометрические теоремы, подобные тем, что Евклид века спустя собрал в «Началах». Осознав необходимость неких правил, из которых можно обоснованно делать дальнейшие выводы, Фалес изобрел первую систему логического мышления. Он первым осмыслил понятие о сравнимости пространственных фигур: две фигуры на плоскости можно считать равными, если можно так сдвинуть и повернуть одну, чтобы она в точности совпала с другой. Расширение идеи равенства чисел до фигур в пространстве оказалось громадным рывком математизации пространства. Это не так очевидно, как может показаться нам, усвоившим это еще в школьные годы. На самом деле — и мы еще в этом убедимся — такой вывод требует допущения однородности, т. е. что фигура не искажается и не меняется в размерах при движении, а это не так для некоторых пространств, включая наше физическое. Фалес сохранил для своей математики египетское название — «измерение земли»[26], — однако перевел его на родной язык, и получилась «геометрия».
Фалес утверждал, что наблюдение и рассуждение могут объяснить все происходящее в природе. В конце концов он даже пришел к революционному заключению, что природа подчиняется неизменным законам. Удары грома — не вопли сердитого Зевса. Наверняка же существует объяснение получше, вытекающее из наблюдения и рассуждения. А в математике любые выводы о мире должны быть подтверждены правилами, а не догадкам и наблюдениями.
Фалес размышлял и над понятием физического пространства. Он осознал, что вся материя мира, несмотря на ее разнообразие, должна быть по сути одним и тем же веществом. За полным отсутствием подтверждений такой рывок интуиции совершенно поразителен. Следующий естественно возникший вопрос: а что же это за вещество? Живя в портовом городе[27], Фалес, следуя интуиции, выбрал им воду. Поразительно: ученик и соотечественник Фалеса, милетец Анаксимандр пришел к сопоставимому по мощности интуитивному выводу об эволюции, выбрав низшим животным, от которого произошел человек, рыбу[28].
Когда Фалес превратился в немощного старца, устрашенного бессилием собственного ума, он встретил самого важного предтечу Евклида — Пифагора Самосского. Самос был большим городом на одноименном острове в Эгейском море, неподалеку от Милета. Гости острова и по сей день могут обозреть разрушенные колонны и базальтовые руины театра, обращенного к древней гавани. Во дни Пифагора город цвел. Когда Пифагору было 18, умер его отец. Дядя дал ему сколько-то серебра и рекомендательное письмо и выслал с визитом к философу Ферекиду на соседний остров Лесбос, от названия которого происходит слово «лесбийский».
Согласно легенде, Ферекид изучал тайные книги финикийцев и принес грекам верование в бессмертие души и перерождение, а Пифагор сделал эти представления фундаментом своей религиозной философии. Пифагор и Ферекид подружились на всю жизнь, однако на Лесбосе Пифагор не остался. К своим двадцати годам он успел съездить в Милет, где и познакомился с Фалесом.
Вот вам историческая картина[29]: юноша с длинными густыми волосами, облаченный не в традиционную греческую тунику, а в штаны — эдакий античный хиппи, — навещает знаменитого старца. Фалес к тому времени уже понимал, что его прежнее величие клонится к закату. Усмотрев в юноше, быть может, отблеск собственной молодости, он извинился за упадок своего разума.
Нам неведомо, что именно сказал Фалес Пифагору, однако известна сила его влияния на молодого гения. Годы спустя после смерти Фалеса Пифагор, сидя дома, время от времени запевал песни во славу усопшего провидца. Все античные свидетельства той встречи сходятся в одном: Фалес обратился к Пифагору с воззванием на манер Хорэса Грили, однако не на Запад отправил он молодого человека[30], а в Египет.
Глава 4. Тайное общество
Пифагор послушался советов Фалеса[31] и отправился в Египет, но в тамошней математике не обрел поэзии. Геометрические объекты были физическими сущностями. Линия оказалась веревкой, натянутой гарпедонаптом, или кромкой пашни. Прямоугольник — границами участка земли или поверхностью каменной плиты. Пространство — илом, почвой и воздухом. Именно грекам, а не египтянам принадлежит романтическое, метафорическое представление математики: пространство может быть математической абстракцией и, что не менее важно, абстракция эта может быть применена в самых разных обстоятельствах. Иногда линия — это просто линия. Но в то же время линия может представлять и ребро пирамиды, и границу пашни, и путь вороны в небе. Знание об одном переносимо на другое.
По преданию, Пифагор шел как-то мимо кузни и услышал, как по тяжелой наковальне стучат разные молоты. Он задумался. Повозившись со струнами, он обнаружил гармонические последовательности, а также связь между длиной поющей струны и тоном слышимой музыкальной ноты. Струна вдвое длиннее, например, поет в два раза ниже. Наблюдение с виду простое, однако глубина его революционна — его часто считают первым в истории примером эмпирического открытия закона природы.
Миллионы лет назад некто выдавил из себя какое-нибудь мычание или хмыканье[32], а некто другой проговорил бессмертные слова — ныне утерянные, но наверняка означавшие что-то вроде «я понимаю, о чем ты». Так произошел язык. В науке учение Пифагора о гармонии — явление того же порядка, первый пример описания физического мира в математических терминах. Не будем забывать ни на секунду, что во времена Пифагора не существовало даже простейшей математики чисел. Пифагорейцам, к примеру, открытие того, что умножение сторон прямоугольника друг на друга дает площадь этого прямоугольника, показалось подлинным откровением.
Для Пифагора и его последователей главной интригой математики виделись разнообразные численные закономерности. Пифагорейцы представляли себе числа как камешки или точки, выложенные в определенный геометрический узор. Они обнаружили, что некоторые числа можно сложить, разместив камешки на равном расстоянии в два столбика по два, в три по три и т. д. — так, чтобы получался квадрат. Пифагорейцы называли любое количество камешков, которые можно выложить таким способом, «квадратным числом», поэтому и мы зовем их до сих пор квадратами: 4, 9, 16 и т. д. Другие числа, как выяснили пифагорейцы, можно выложить так, чтобы получались треугольники: 3, 6, 10 и т. д.
Свойства квадратных и треугольных чисел завораживали Пифагора. Например, второе квадратное число, 4, равно сумме первых двух нечетных чисел, 1 + 3. Третье квадратное число, 9, равно сумме первых трех нечетных чисел, 1 + 3 + 5, и т. д. (То же верно и для первого квадрата: 1 = 1.) Пифагор заметил и то, что, подобно равенству квадратных чисел сумме соответствующих предыдущих нечетных чисел, треугольные числа есть сумма всех последовательных чисел, четных и нечетных. Да и сами квадратные и треугольные числа взаимосвязаны: если сложить треугольное число с предыдущим или следующим треугольным, получится квадратное число.
Теорема Пифагора тоже наверняка показалась волшебством. Вообразите древних ученых, исследующих треугольники все сортов, а не одни лишь прямоугольные, измеряющих все углы и стороны, крутя их и сравнивая друг с другом. Случись такое исследование в наше время, университеты посвятили бы ему отдельный предмет.
«Мой сын устроился на математический факультет в Беркли, — говорила бы в таком случае какая-нибудь гордая мать. — Треугольники преподает». И вот однажды ее сынуля обнаруживает любопытную закономерность: в любом прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон. Оказывается, это правило действует для больших треугольников, маленьких, толстых, коротких, одним словом — для любого прямоугольного треугольника из всех, какие когда-либо попадались под руку, однако не для любого треугольника вообще. Это открытие наверняка удостоилось бы заголовков в «Нью-Йорк Таймс»: «У прямоугольных треугольников обнаружена поразительная закономерность», — а ниже, помельче: «Практическую применимость предстоит установить еще не скоро».
Пифагоровы фигуры из камешков
Почему стороны прямоугольного треугольника обязаны всегда следовать настолько простому правилу? Теорему Пифагора можно доказать геометрическим умножением, которое любил применять сам Пифагор. Неизвестно, этим ли манером доказывал свою теорему ее создатель, однако способ вполне наглядный — потому что целиком геометрический. Сейчас-то существуют доказательства попроще — они полагаются на алгебру или даже тригонометрию, но ни той, ни другой во времена Пифагора не существовало. Но и геометрическое доказательство незатейливо: это лишь слегка вывихнутая математическая версия игры «соедини точки».
Для доказательства теоремы Пифагора геометрически потребуется знать всего один расчетный факт: площадь квадрата равна квадрату длины его стороны. Это просто-напросто современная формулировка Пифагоровой аналогии с камешками. Берем любой прямоугольный треугольник и строим на его сторонах по квадрату: один со сторонами, равными гипотенузе, и два — со сторонами, равными соответствующим длинам других сторон. Площадь каждого из этих трех квадратов есть квадрат длины соответствующей стороны треугольника. Если удастся доказать, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на двух других сторонах, это и будет доказательством теоремы Пифагора.
Чтобы все упростить, дадим сторонам треугольника имена. У гипотенузы оно уже есть, хоть и длинноватое, но пусть и останется, будем просто писать его с большой буквы — Гипотенуза, — чтобы точно понимать: речь идет об этой конкретной гипотенузе, а не вообще. А два катета назовем Алексеем и Николаем. Удивительное совпадение: именно так зовут двоих сыновей автора книги. На момент написания этой главы Алексей длиннее, а Николай — короче; договоримся учесть эту разницу при поименовании сторон треугольника (хотя доказательство прекрасно справляется и в случае с равными сторонами). Начнем с построения квадрата, длина каждой стороны которого равна сумме длин Алексея и Николая. Далее поставим на каждой стороне по точке, отделив таким образом сегмент длины Николая от Алексея, после чего соединим эти точки. Это можно проделать несколькими способами, но те два, которые интересны нам, обозначены на рисунке, стр. 43. В одном случае выйдет квадрат, чьи стороны равны Гипотенузе, и еще четыре треугольника-«обрезка». В другом получится два квадрата, чьи стороны равны Алексею и Николаю, а сверх того — два прямоугольника-обрезка, которые можно рассечь по диагонали и получить четыре треугольника, в точности равных тем, что у нас получились в обрезках в первом случае.
Остальное — дело счета. У двух построенных квадратов площади одинаковые, поэтому если выкинуть площади четырех треугольников-обрезков из обоих построений, оставшиеся площади недвижимости равны между собой. Однако в первом случае это квадрат со стороной, равной длине Гипотенузы, а во втором — это сумма двух квадратов с длинами сторон, равными Алексею и Николаю. Теорема доказана!
Под впечатлением от этого триумфа знания один из учеников Пифагора написал[33], что «не будь чисел и их природы, ничто существующее никому не было бы ясно». Пифагорейцы отразили основы своей философии в термине «математика» — от греческого «матема», т. е. «наука», «знание». Смысл слова отражает близкую связь понятий, хотя ныне существует четкое разграничение между математикой и наукой, но оно, как мы еще увидим, не было столь отчетливым вплоть до XIX века.
А еще есть разница между осмысленной речью и белибердой, однако пифагорейцы ее не всегда чувствовали. Трепет Пифагора перед взаимоотношениями чисел подтолкнул его к созданию множества мистических нумерологических верований.
Он первым разделил числа на четные и нечетные, но на этом не остановился: он одушевил их, разделив на «мужские» (нечетные) и «женские» (четные). Разные числа он соотносил с определенными понятиями: 1, например, связывал с разумом, 2 — с мнением, 4 — со справедливостью. Поскольку 4 в его системе представлял квадрат, его ассоциировали с правосудием — отсюда, в итоге, происходит современный оборот «square deal»[34]. Отдавая Пифагору должное, следует признать, что нам отделить великое от вздорного легко — спустя каких-то пару тысяч лет.
Пифагор был фигурой харизматической и гением, но и в части саморекламы не подкачал. В Египте он не только постигал египетскую геометрию, но стал первым греком, изучившим египетские иероглифы, и в конце концов занял пост египетского жреца — ну или во всяком случае его посвятили в их ритуалы. Он получил доступ ко всем таинствам — и даже был вхож в секретные храмовые залы. Он провел в Египте не менее тринадцати лет. И покинул страну не по собственной воле — напали персы и взяли его в плен. Пифагор оказался в Вавилоне, где в итоге получил свободу — а заодно разобрался в вавилонской математике. В пятьдесят он в конце концов вернулся на Самос. К тому времени он уже развил философию пространства и математики, которую собирался проповедовать. Дело было за малым — за последователями.
Теорема Пифагора
Его знание иероглифов производило на многих греков впечатление, что Пифагор владеет особыми силами. Он поддерживал слухи, обособлявшие его от простых граждан. Из странного о Пифагоре говорили, например, что он как-то напал на ядовитую змею и искусал ее до смерти. А еще болтали, что как-то в дом Пифагора вломился вор и увидел такое, что сбежал с пустыми руками, однако рассказывать, что же он увидел, отказался[35]. У Пифагора на бедре к тому же было «золотое» родимое пятно, которое он демонстрировал как знак своего божественного происхождения. Люди Самоса оказались не слишком падки на его проповеди, и Пифагор вскоре отбыл к людям попроще — в Кротон, итальянский город, колонизированный греками. Там-то он и основал «общество» своих последователей.
Жизнь Пифагора и легенда, которой она обросла, во многом похожи на таковые у другого харизматического лидера — Иисуса Христа. Трудно поверить, что мифы, рассказываемые о Пифагоре, никак не повлияли на создание кое-каких историй о Христе. К примеру, многие верили[36], что Пифагор — сын божий, в его случае — Аполлона. Мать Пифагора звали Парфенисой, что означает «девственница». До отъезда в Египет Пифагор вел отшельническую жизнь на горе Кармель — подобно нагорным бдениям Христа. Еврейская секта ессеев приняла этот миф и, говорят, позднее имела связи с Иоанном Крестителем. Бытует также легенда о том, что Пифагор восставал из мертвых, хотя, согласно этой истории, Пифагор имитировал собственную смерть, спрятавшись в тайном подземелье. Многие волшебные силы Христа и его чудеса сначала приписывали Пифагору: поговаривали, что он может быть в двух местах одновременно, умеет успокаивать шторм на море и повелевать ветрами, и к нему однажды обратился божественный глас. Кроме того, считалось, что он умеет ходить по воде[37].
Пифагорейская философия к тому же имела кое-что общее с Христовой. К примеру, Пифагор проповедовал, что надо любить врагов своих. Однако в философском отношении он был ближе к своему современнику, Сиддхартхе Гаутаме Будде (ок. 560–480 гг. до н. э.). Оба верили в перерождение[38], возможно — в теле животного, а значит, в животном могла находиться душа, прежде бывшая человеческой. Исходя из этого оба считали любую жизнь ценной и противостояли традиционным для того времени животным жертвоприношениям, а также проповедовали строгое вегетарианство. Рассказывали, что Пифагор как-то вмешался в избиение собаки, сказав мучившему животное человеку, что он-де узнал в псе своего старого друга — перерожденного в собачьем теле[39].
Пифагор считал, что владение вещами мешает достижению божественных истин. Греки в те времена носили шерсть, а вещи склонны были красить в разные цвета. Состоятельный человек мог время от времени набросить мантию, на манер плаща, на плечи, застегнув ее золотой булавкой или брошью — с гордостью демонстрируя свое богатство. Пифагор отказывался от роскоши и запрещал своим последователям носить какую бы то ни было одежду, кроме простого белого льна. Денег они не зарабатывали — полагались на благотворительность кротонцев и, возможно, на средства некоторых учеников, поскольку вся собственность была собрана воедино, и все жили общинно. Устройство самой этой организации установить затруднительно, поскольку привычками и нравами люди того времени совсем не походили на нас. Например, пифагорейская братия отличала себя от обычных людей тем, что не мочилась на публике и не занималась сексом на виду у всех[40].
Скрытность играла важную роль в пифагорейском сообществе — вероятно, благодаря опыту Пифагора в тайных практиках египетского жречества. А может, из нежелания навлекать неприятности, которые могли возникнуть, узнай общественность о революционных идеях пифагорейцев. Одно из открытий Пифагора обросло такой таинственностью, что, согласно легенде, разглашение его было запрещено под страхом смерти.
Вспомним задачу определения длины диагонали в квадрате со стороной в единицу. Вавилоняне рассчитали это значение с точностью до шести десятичных знаков, но пифагорейцам этого показалось мало. Они пожелали знать точное значение. Как можно делать вид, что знаешь хоть что-нибудь о пространстве внутри квадрата, если не знаешь даже такого? Трудность, однако, состояла в том, что это значение пифагорейцы получали все с большей точностью, но ни одно полученное число не было исчерпывающим ответом. Но пифагорейцев так просто не смутишь. Им хватило фантазии задаться вопросом: а существует ли вообще такое число? Они заключили, что нет, — и им хватило одаренности доказать это.
Сейчас-то мы знаем, что длина этой диагонали равна квадратному корню из двух — иррациональному числу. Это означает, что его нельзя записать в десятичном виде с конечным количеством знаков после запятой и также его нельзя записать в виде целого числа или дроби, а пифагорейцам были известны лишь такие числа. Их доказательство несуществования этого числа на самом деле равносильно тому, что это число нельзя записать в виде дроби.
Пифагор со всей очевидностью преткнулся. То, что длина диагонали квадрата[41] не может быть выражена ни в каком виде, провидцу, проповедующему, что числа — всё, было совсем не с руки. Что же теперь: менять философию? Дескать, числа — всё, кроме некоторых геометрических величин, которые нам кажутся совсем уж загадочными?
Соверши Пифагор простую вещь: назови он диагональ как-нибудь особо, например d, или еще того лучше — √2 и сочти ее некой новой разновидностью числа, нашему гению удалось бы ускорить создание системы действительных чисел на много веков. Предприми Пифагор этот шаг, он предвосхитил бы революцию декартовых координат, поскольку за отсутствием численной записи необходимость как-то описать этот новый вид числа недвусмысленно подсказывала изобретение числовой оси. Однако вместо всего этого Пифагор отошел от своей весьма перспективной практики ассоциировать геометрические фигуры с числами и заявил, что некоторые длины не могут быть выражены через числа. Пифагорейцы назвали такие длины алогонами, «неразумными», ныне мы называем их иррациональными. У слова «алогон» — двойной смысл: оно к тому же еще и означает «непроизносимое». Пифагор предложил решить возникшую в его философии дилемму так, что полученное решение было затруднительно отстаивать, и поэтому, в соответствии с общей доктриной скрытности, он запретил своим последователям[42] раскрывать неловкий парадокс. В наши дни людей убивают много за что — из-за любви, политики, денег, религии, но не потому, что кто-то разболтал что-то о квадратном корне из двух. Для пифагорейцев же математика была религией, и поэтому когда Гиппас нарушил обет молчания, его убили.
Сопротивление иррациональному продолжалось еще тысячи лет. В конце XIX века, когда одаренный немецкий математик Георг Кантор создал революционный труд, в котором попытался как-то укоренить эти числа, его бывший наставник, хрыч по имени Леопольд Кронекер, «возражавший» против иррациональных чисел, категорически не согласился с Кантором и потом всю жизнь ставил ему палки в колеса. Кантор, не в силах вынести подобное, пережил нервный срыв[43] и провел последние дни жизни в клинике для душевнобольных.
Пифагор тоже кончил не лучшим образом. Около 510 года до н. э. кто-то из пифагорейцев отправился в Сибарис — судя по всему, в поисках новых последователей. Сведений о том их странствии сохранилось мало; известно только, что всех убили. Позднее несколько сибаритов сбежало в Кротон от тирана Телиса, который незадолго до этого захватил власть в городе. Телис потребовал их выдачи. И тут Пифагор нарушил одно из своих главных правил: не вмешиваться в политику. Он уговорил кротонцев не выдавать беглецов. Разразилась война, Кротон победил, но Пифагору был нанесен непоправимый урон: у него завелись политические враги. Около 500 года до н. э. они атаковали пифагорейцев. Пифагор сбежал. Что с ним произошло дальше, не ясно: большинство источников утверждает, что он покончил с собой; однако есть и свидетельства того, что он тихо дожил остаток своих дней и умер почти столетним.
Пифагорейское общество просуществовало еще какое-то время после той травли — до следующей, случившейся примерно в 460 году до н. э., и в результате погибли практически все, за исключением нескольких последователей. Его учение дотянуло до 300-х годов до н. э. Воскресили его римляне — в первом веке до Р. Х., и оно стало главенствующей силой расцветающей Римской империи. Пифагорейство повлияло на многие религии того времени — александрийский иудаизм, например, дряхлеющие египетские верования и, как мы уже убедились, христианство. Во II веке н. э. пифагорейская математика вкупе со школой Платона получила новый толчок к развитию. Интеллектуальных потомков Пифагора в IV веке опять раздавила власть — восточно-римский император Юстиниан. Римляне терпеть не могли длинные волосы[44] и бороды греческих потомков философии Пифагора, а также их пристрастие к наркотикам вроде опия, не говоря уже об их нехристианских верованиях. Юстиниан закрыл академию и запретил преподавание философии. Пифагорейство еще померцало пару столетий, после чего растворилось в Темных веках примерно в VI веке н. э.
Глава 5. Манифест Евклида
Приблизительно в 300-е годы до н. э. на южном побережье Средиземного моря, чуть левее Нила, жил в Александрии человек, чья работа может потягаться по влиятельности с Библией. Его подход наполнил философию смыслом и определил суть математики вплоть до XIX века. Эта работа стала неотъемлемой частью высшего образования практически на все это время — и остается до сих пор. С восстановлением этого труда началось обновление средневековой европейской цивилизации. Ему подражал Спиноза. Им зачитывался Абрахам Линкольн. Его защищал Кант[45].
Имя этого человека — Евклид. О его жизни нам неизвестно почти ничего. Ел ли он оливки? Ходил ли в театр? Был ли коренаст или росл? История не знает ответов на все эти вопросы. Нам ведомо лишь[46], что он открыл школу в Александрии, у него были блестящие ученики, он осуждал материализм, был довольно милым человеком и написал не менее двух книг. Одна из них, утерянный труд по коническим сечениям, стала основой для позднейшей исключительно важной работы Аполлония[47], сильно продвинувшей науку навигации и астрономии.
Другая его знаменитая работа, «Начала», — одна из самых читаемых «книг» всех времен. История «Начал»[48] заслуживает детективного романа не хуже «Мальтийского сокола»[49]. Во-первых, это не книга в буквальном смысле, но собрание из тринадцати свитков папируса. Ни один оригинал не сохранился — они передавались из поколения в поколение чередой переизданий, а в Темные века чуть было не исчезли совсем. Первые четыре свитка Евклидова труда в любом случае — не те самые «Начала»: ученый по имени Гиппократ (не врач-тезка) написал «Начала» где-то в 400-х годах до н. э., и они-то, судя по всему, являются содержимым этих первых свитков, хотя оно никак не атрибутировано. Евклид никак не претендовал на авторство этих теорем. Свою задачу он видел в систематизации греческого понимания геометрии. Он стал архитектором первого осмысленного отчета о природе двухмерного пространства, созданного одной лишь силой мысли, без всяких отсылок к физическому миру.
Важнейший вклад Евклидовых «Начал» сводился к передовому логическому методу: во-первых, Евклид объяснил все термины введением точных определений, гарантирующих понимание всех слов и символов. Во-вторых, он прояснил все понятия, предложив для этого прозрачные аксиомы или постулаты (эти два термина взаимозаменяемы), и отказался от применения неустановленных выводов или допущений. И наконец, он выводил логические следствия всей системы лишь с использованием правил логики, примененной к аксиомам и ранее доказанным теоремам.
Вот зануда и привереда, а? Зачем уж так настаивать на доказательстве малейшего утверждения? Математика — вертикальное сооружение, которое, в отличие от архитектурной постройки, рухнет, если хоть один математический кирпичик окажется битым. Допусти в системе невиннейшую погрешность — и пиши пропало, в ней уже ничему нельзя доверять. По сути, теорема логики утверждает:[50] если в систему вкралась хоть одна ложная теорема — неважно, о чем она, — этого будет достаточно для доказательства, что 1 = 2. Говорят, однажды некий скептик припер к стенке логика Бертрана Расселла, желая возразить против этой уничтожающей теоремы (хотя в итоге говорил об обратном). «Вот что, — рявкнул усомнившийся, — допустим, один равно два, докажите, что вы — Папа Римский». Расселл, по свидетельствам, задумался на миг, после чего ответил: «Папа и я — двое, следовательно, Папа и я — одно».
Доказательство каждого утверждения означает, среди прочего, еще и то, что интуицию, хоть она и ценный поводырь, следует проверять на пороге доказательства. Фраза «это интуитивно понятно» — неподходящий шаг для доказательства. Слишком уж мы падки на всякую очевидность. Представим, что мы разматываем клубок шерсти вдоль экватора Земли, все 25 000 миль. А теперь представим то же самое, но в футе над экватором. Насколько больше ниток нам потребуется для этого? На 500 футов больше? Или на 5000? Упростим задачу. Представим теперь, что раскатываем один клубок вдоль поверхности Солнца, а второй — в футе над его поверхностью. К какому клубку нужно добавить больше ниток — к тому, что мы разматываем в футе от Земли или в футе от Солнца? Большинству из нас интуиция подсказывает «вокруг Солнца», однако ответ на самом деле таков: одинаковое количество, равное 2π футам, т. е. примерно 6 футов 3 дюйма.
Давным-давно была такая телевизионная программа «Поспорим»[51]. Участника помещали напротив трех подиумов, скрытых занавесами. На одном подиуме находился какой-нибудь ценный объект — автомашина, к примеру, а на двух других — какая-нибудь ерунда, утешительный приз. Допустим, участник выбирал второй подиум. Ведущий затем открывал один из двух оставшихся занавесов, скажем — третий. За ним, положим, находится утешительный приз, следовательно, настоящий приз — либо за первым занавесом, либо за вторым, который участник выбрал изначально. Ведущий далее спрашивает участника, станет ли он менять свой выбор — т. е. выберет ли теперь первый занавес. Вы бы изменили решение? Интуитивно кажется, что вероятность выигрыша — пятьдесят на пятьдесят, хоть так, хоть эдак. Оно было бы так, если бы у нас не было никаких предварительных вводных, но они у нас есть: предыдущий выбор и действия ведущего в этой связи. Внимательный анализ вероятностей, начиная с исходного выбора и далее, или применение нужной формулы, называемой теоремой Байеса (Бейза)[52], показали бы, что шансов больше, если выбор изменить. Таких примеров в математике — когда интуиция подводит нас, а выручает лишь произвольная формальная логика, — навалом.
Точность — еще одно свойство, необходимое математическому доказательству. Наблюдатель может измерить диагональ квадрата с единичной стороной и получить результат 1,4, а с более точными приборами — 1,41 или даже 1,414, и как бы нам ни хотелось принять подобное приближение как достаточное, оно не даст нам получить эпохальное прозрение: это значение длины — величина иррациональная.
Крошечные количественные изменения могут иметь громадные качественные последствия. Вспомним государственные лотереи. Не теряющие надежду неудачники частенько пожимают плечами и говорят: «Не сыграешь — не выиграешь». Это правда, не поспоришь. Но правда и то, что шансы на выигрыш у тех, кто покупает лотерейный билет, и у тех, кто нет, отличаются на малюсенькую долю процента. Что произойдет, если лотерейная комиссия заявит, что решила округлить ваши шансы на выигрыш с 0,000001 % до нуля? Изменение почти неприметное, но поток наличности от продаж оно изменит еще как.
Фокус Пола Карри
Трюк, изобретенный фокусником-любителем Полом Карри[53] (см. предыдущую страницу), жившим в Нью-Йорке, — отличный геометрический пример. Возьмем квадратный лист бумаги и нарисуем на нем сетку из меньших квадратов семь на семь. Разрежем лист на пять частей и переложим их так, как показано на рисунке. В результате получим «квадратный пончик» — квадрат того же размера, что и исходный, однако по центру не будет хватать одного квадратика. Куда подевался этот квадратик? Мы что же, доказали теорему о том, что цельный квадрат равен по площади пончику?
Фокус состоит в том, что при пересборке квадрата фрагменты ложатся чуточку внахлест, и фигура в результате получается слегка жульнической — или, скажем так, приблизительной. Второй сверху ряд клеток получается чуть-чуть выше, а весь квадрат — на 1/49 длиннее по вертикали, чем должен быть, и этого как раз достаточно, чтобы набралась площадь недостающего квадратика. Но если бы нам доступно было измерение длин с точностью лишь до 2 %, мы бы не уловили разницу между этими двумя фигурами и впали бы в искушение сделать мистический вывод, что площади квадрата и «квадратного пончика» равны друг другу.
Учтены ли как-то подобные малые расхождения в теориях пространства? Одной из путеводных идей в создании общей теории относительности, гениальной теории об искривлении пространства, послужило Альберту Эйнштейну именно отклонение перигелия Меркурия от классической ньютоновской теории[54]. Согласно теории Ньютона, планеты движутся по идеальным эллиптическим орбитам. Точка, в которой планета ближе всего к Солнцу, называется перигелием, и, если теория Ньютона верна, планета должна ежегодно проходить строго через эту точку. В 1859 году в Париже Урбен Жан Жозеф Леверье сообщил, что перигелий Меркурия постоянно смещается — самую малость, всего 38 секунд в столетие, что, конечно же, никаких практических последствий не имеет. И тем не менее такое отклонение почему-то происходит. Леверье назвал это «чудовищным затруднением, достойным внимания астрономов». К 1915 году Эйнштейн достаточно развил свою теорию — и вычислил орбиту Меркурия; в эти расчеты обнаруженное отклонение вполне вписалось. По словам биографа Эйнштейна Абрахама Пайса, это открытие стало «высшей точкой его научной жизни. Он был так взбудоражен, что три дня не мог работать». Каким бы малым ни было это отклонение, его объяснение привело к падению классической физики.
Целью Евклида было построить систему так, чтобы в ней не оставалось места для нечаянных допущений, основанных на интуиции, угадывании или приблизительности. Он ввел двадцать три определения[55], пять геометрических постулатов и пять дополнительных постулатов, которые он назвал «Общими утверждениями». На этом фундаменте он доказал 465 теорем — практически все геометрическое знание его времени.
Евклид дал определения точке, линии (которая, согласно определению, может быть искривленной), прямой линии, окружности, прямому углу, поверхности и плоскости. Некоторые понятия он определил довольно точно. «Параллельные прямые, — писал он, — это прямые линии, которые, находясь на одной плоскости, продолженные до бесконечности в обоих направлениях, ни в одном из этих направлений не пересекаются».
Окружность, по словам Евклида, есть «плоская фигура, обозначенная одной линией (кривой) так, что все прямые линии, пересекающие ее и еще одну из точек внутри ее, называемую центром, равны друг другу». О прямом угле сказано так: «Когда прямая линия пересекает другую прямую линию, а образующиеся соседние углы равны друг другу, любой из этих углов — прямой».
Некоторые другие Евклидовы определения — например, точки или прямой — довольно расплывчаты и бесполезны: прямая — это «та, что лежит равномерно на всех точках, что на ней помещены». Это определение, вероятно, возникло из строительной практики — там прямоту линий проверяли, глядя из некой точки вдоль проверяемой прямой. Чтобы вникнуть в это определение, нужно загодя иметь в уме понятие прямой. Точка есть «то, у чего нет частей» — еще одно определение, граничащие с бессмыслицей.
Евклидовы общие утверждения более элегантны. Эти внегеометрические логические утверждения[56], судя по всему, Евклид считал проявлениями бытового здравого смысла — в отличие от постулатов, что были вполне геометричны. Эту разницу обозначил ранее еще Аристотель. Всесторонне взвесив эти интуитивные допущения, Евклид, по сути, добавил их к постулатам, однако явно желал отличать их от чисто геометрических утверждений. Одно то, что Евклид счел необходимым вообще эти утверждения предъявить, указывает на глубину мысли:
1. Равные одному и тому же равны и между собой.
2. И если к равным прибавляются равные, то и целые будут равны.
3. И если от равных отнимаются равные, то остатки будут равны.
4. И совмещающиеся друг с другом равны между собой.
5. И целое больше части[57].
Если же отложить в сторону эти предварительные замечания, геометрическая суть евклидовой геометрии покоится на пяти постулатах. Первые четыре просты и могут быть сформулированы не без изящества. В современных терминах они звучат так:
Евклидов постулат параллельности
1. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую.
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.
3. Из всякого центра всяким раствором может быть описан круг.
4. Все прямые углы равны между собой.
Постулаты 1 и 2 вполне совпадают, похоже, с нашим житейским опытом. По ощущениям — да, мы понимаем, как нарисовать отрезок между двумя точками, и никогда не утыкались ни в какие препятствия в конце пространства, которые не дали бы нам продолжить прямую. Третий постулат несколько мудренее: он предполагает, что расстояния в пространстве заданы так, что длина отрезка при перемещении его с места на место не меняется, где бы ни рисовали круг. Четвертый постулат на вид прост и очевиден. Чтобы постичь его тонкости, вспомним определение прямого угла: это возникающий при пересечении двух прямых угол, равный всем остальным возникшим. Мы такое видели много раз: одна линия перпендикулярна другой, и все углы со всех сторон равны 90°. Но само определение этого не утверждает — оно даже не говорит нам о том, что значение этих углов всегда одно и то же. Можем вообразить мир, в котором эти углы будут равны 90°, если линии пересекаются в некой заданной точке, а если в какой-нибудь другой, то углы получатся другие. Постулат, утверждающий, что все прямые углы равны между собой, гарантирует, что такого быть не может. Это означает в некотором смысле, что линия выглядит одинаково по всей длине — своего рода условие прямизны.
Пятый же постулат Евклида, называемый постулатом параллельности, не настолько очевиден — в отличие от остальных. Это личное изобретение Евклида, а не часть великого корпуса знаний, который он документировал. Но ему, со всей очевидностью, собственная формулировка не нравилась — он изо всех сил старался избегать ее. Позднейшие математики ее тоже невзлюбили: она была недостаточно проста для постулата и требовала доказательства, как теорема. Вот она, в стиле, близком к оригиналу:
5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.
Постулат параллельности (стр. 61) предлагает проверочный критерий тому, сходятся две расположенные на одной плоскости прямые, расходятся или параллельны. Рисунок в этом смысле очень помогает пониманию.
Существует множество разных, но эквивалентных друг другу формулировок постулата параллельности. Одна особенно наглядно демонстрирует то, что постулат говорит нам о пространстве:
Если есть прямая и не лежащая на ней точка, то через эту точку можно провести одну и только одну прямую (в той же плоскости), параллельную данной.
Постулат параллельности может быть нарушен в двух случаях: несуществование параллельных прямых вообще или существование более чем одной линии, проведенной через данную точку параллельно данной прямой.
* * *
Нарисуйте на бумаге прямую, поставьте где-нибудь вне ее точку. Как на ваш взгляд — возможно ли, что провести ни одной параллельной линии через эту точку не удастся? А больше одной — возможно? Описывает ли постулат параллельности наш мир? Вообразима ли геометрия, в которой этот постулат можно нарушить — и при этом остаться в пределах математического смысла? Два последних вопроса в конце концов подвели нас к революции мышления: первый — в наших представлениях о Вселенной, второй — в понимании природы и смысла математики. Но 2000 лет подряд ни в одной области человеческого знания практически не существовало представления более общепринятого, чем «факт», зафиксированный в постулате Евклида: есть одна и только одна параллельная прямая.
Глава 6. Красавица, библиотека и конец цивилизации
Евклид — первый великий математик в длинной и, увы, обреченной череде александрийских ученых. Македоняне[58] — греки, обитавшие на севере континентальной Греции, — в 352 году до н. э. начали покорение и объединение эллинских земель под властью Филиппа II Македонского. После разгромного поражения афинские властители в 338 году до н. э. подписали мир на условиях Филиппа, фактически отказавшись от независимости греческих городов-государств. Всего два года спустя, посещая официальную церемонию, на которой была представлена статуя Филиппа в образе нового бога Олимпа, сам Филипп пал жертвой паршивой кадровой политики: его убил один из телохранителей. Его сын Александр — который Великий, — двадцати лет отроду, принял бразды правления.
Александр высоко ценил знания — возможно, благодаря либеральному образованию, в котором геометрия играла важную роль. Он с почтением относился к чужестранным культурам, чего нельзя сказать о его отношении к их независимости. Вскоре он покорил остальную Грецию, Египет и Ближний Восток вплоть до Индии. Александр поддерживал межкультурное общение и смешанные браки, и сам женился на персиянке. Посчитав, что одного личного примера недостаточно, он повелел и всем македонским вельможам тоже взять в жены по персидской женщине[59].
В 332 году до н. э. в центре свой империи Александр взялся строить роскошную столицу — Александрию. В этом отношении император был Уолтом Диснеем своего времени: ему представлялась тщательно «спланированная» метрополия, центр культуры, торговли и управления. Даже проектируя бульвары Александрии, император словно бы делал математическое заявление: его архитектор устроил из них сетку, что само по себе занятное предвосхищение геометрии координат, которую не изобретут еще восемнадцать веков.
Александр скончался от неведомого недуга через девять лет после начала строительства — и до того, как возведение великого города завершилось. Империя его распалась, но Александрию все-таки достроили. Геометрия города оказалась вполне благоприятной: он стал центром греческой математики, науки и философии после того, как македонский военачальник по имени Птолемей подмял под себя египетский край империи Александра. Сын Птолемея, изобретательно названный Птолемеем II, когда пришло его время править, построил в Александрии громадную библиотеку и музей. Термин «музей» возник оттого, что эту постройку посвятили семи музам, но по сути это был исследовательский институт, первое государственное научное учреждение в мире.
Наследники Птолемея ценили книги и добывали их довольно интересным способом. Птолемей II, пожелав себе перевод Ветхого Завета на греческий, «заказал» эту работу, взяв в плен 70 еврейских грамотеев и поселив их в кельях на острове Фарос. Птолемей III написал всем мировым владыкам и попросил одолжить ему книги, после чего решил их не возвращать[60]. В итоге такой агрессивный метод формирования библиотечных фондов оказался продуктивным: в библиотеке Александрии насчитывалось от 200 000 до 500 000 свитков — в зависимости от того, чьей истории верить, — и библиотека стала хранилищем практически всего мирового знания.
Музей и библиотека сделали Александрию непревзойденным интеллектуальным центром планеты, местом, где величайшие ученые бывшей империи Александра изучали геометрию и свойства пространства. Если бы журнал «Новости Соединенных Штатов и мира»[61] расширил свой обзор академических вузов на всю историю человечества, Александрия обскакала бы в гонке за первое место и Кембридж Ньютона, и Геттинген Гаусса и Принстон Эйнштейна. Буквально все великие греческие мыслители-математики после Евклида трудились в этой невообразимой библиотеке.
В 212 году до н. э. главный библиотекарь Александрии Эратосфен Киренский[62], человек, преодолевший за всю жизнь не более нескольких сотен миль, первым в истории рассчитал обхват Земли. Эти расчеты потрясли его сограждан, показав, сколь малую часть нашей планеты знала в те поры цивилизация. Купцы, первооткрыватели и провидцы, вероятно, мечтательно размышляли о том, есть ли разумная жизнь по ту сторону океана. Подвиг современности, сопоставимый по масштабам с эратосфеновским, — первым обнаружить, что Вселенная не ограничивается пределами нашей Солнечной системы.
Эратосфену озарение насчет нашей планеты далось без всяких дальних странствий. Как и у Эйнштейна, у него получилось применить геометрию. Эратосфен заметил, что в полдень в городе Сиене (ныне Асуан) во время летнего солнцестояния палка, воткнутая в землю, не отбрасывает тени[63]. Для Эратосфена это означало, что палка, воткнутая в землю, оказывалась параллельна солнечным лучам. Если представить Землю в виде окружности и нарисовать прямую из центра через точку на поверхности, представляющую Сиене, и далее в пространство, она окажется тоже параллельной лучам солнца. Теперь двинемся по прямой на поверхности Земли прочь из Сиене — в Александрию. Там вновь нарисуем линию, проведенную из центра Земли через точку-Александрию. Эта линия уже не будет параллельна лучам солнца — она пересекает их под некоторым углом, оттого и появляется видимая тень.
Эратосфену для вычисления части земной окружности — арки между Сиене и Александрией — хватило длины тени от палки, воткнутой в Александрии, и теоремы из «Начал» о линии, пересекающей две параллельные прямые. Он обнаружил, что эта дуга составляет одну пятидесятую от длины обхвата Земли.
Подтянув к делу, вероятно, первого в истории научного ассистента, Эратосфен нанял некого безымянного гражданина, чтобы тот прошел пешком от одного города к другому и замерил расстояние. Нанятый субъект прилежно доложил, что оно составляет примерно 500 миль. Умножив это расстояние на 50, Эратосфен определил обхват Земли в 250 000 миль — с четырехпроцентной погрешностью, а это фантастически точный результат, за который ему бы наверняка дали Нобелевскую премию, а его безымянному ходоку, быть может, — постоянную ставку в библиотеке.
Эратосфен оказался не единственным александрийцем своего времени, кто внес значительный вклад в понимание мира. Астроном Аристарх Самосский, также трудившийся в Александрии, применил гениальный, хоть и довольно затейливый метод, объединивший тригонометрию и простенькую модель небес, для расчета вполне осмысленной приблизительной величины Луны и расстояния до нее. Еще раз подчеркнем: у греков возникло новое представление об их месте во Вселенной.
Еще одна знаменитость, привлеченная Александрией, — Архимед. Родившись в Сиракузах, городе на острове Сицилия, Архимед приехал в Александрию учиться в великой школе математиков. Мы, быть может, и не знаем, кем был тот гений, что впервые обточил камень или дерево до округлой формы и поразил изумленных зевак явлением первого колеса, но мы точно знаем[64], кто открыл принцип рычага: Архимед. Он, кроме того, открыл принципы гидростатики и много разного привнес в физику и инженерное дело. Математику он поднял на такую высоту, выше которой без инструментария символьной алгебры и аналитической геометрии забраться было невозможно еще около восемнадцати веков.
Одно из достижений Архимеда в математике — доведение до совершенства методов матанализа, не слишком далеких от предложенных Ньютоном и Лейбницем. С учетом отсутствия картезианской геометрии это достижение смотрится еще более впечатляющим. Главной победой, одержанной с помощью его метода, сам Архимед считал определение объема сферы, вписанной в цилиндр (т. е. сферы, радиус которой равен радиусу и высоте цилиндра), — он равен двум третям объема этого цилиндра. Архимед так гордился этим открытием[65], что потребовал высечь изображение шара в цилиндре на своем надгробии.
Когда римляне захватили Сиракузы, Архимеду было семьдесят пять. Он был убит римским солдатом, когда изучал рисунок, вычерченный на песке. На его надгробие нанесли изображение, о котором он просил. Спустя более сотни лет римский оратор Цицерон посетил Сиракузы и нашел захоронение Архимеда рядом с воротами в город. Заброшенная могила заросла колючкой и вереском. Цицерон распорядился восстановить могилу. Увы, ныне ее уже не найти.
И астрономия в Александрии тоже достигла пика развития[66]: во II веке до н. э. — стараниями Гиппарха, а во II веке н. э. — Клавдия Птолемея (не родственника царя). Гиппарх наблюдал небеса тридцать пять лет, сложил свои наблюдения с данными вавилонян и разработал модель Солнечной системы, согласно которой пять известных тогда планет, Солнце и Луна двигались по общей круговой орбите вокруг Земли. Ему так ловко удалось описать движение Солнца и Луны, как это видно с Земли, что он мог предсказывать лунные затмения с точностью до пары часов. Птолемей усовершенствовал и расширил эти результаты в книге «Альмагест», осуществив мечту Платона дать рациональное объяснение движению небесных тел, и она была главным астрономическим трудом вплоть до Коперника.
Птолемей также написал книгу под названием «География»[67], которая описывала земное мироздание. Картография — предмет крайне математичный, поскольку карты — плоские, Земля — почти сферическая, а сферу нельзя описать при помощи плоскости, сохранив при этом точными и расстояния, и углы. «География» — начало серьезной картографии.
Ко II веку н. э. значительно развились и математика, и физика, и картография, и инженерное дело. К тому времени мы уже знали, что материя состоит из неделимых кусочков под названием атомы. Мы изобрели логику и доказательство, геометрию и тригонометрию, а также некоторую разновидность матанализа. В астрономии и науке о пространстве мы владели знанием, что мир очень стар и что мы обитаем на шаре. Мы даже располагали размерами этого шара. Мы начали понимать свое место во Вселенной. Мы изготовились двигаться дальше. Сейчас-то мы знаем, что есть и другие солнечные системы — всего-то в десятках световых лет от нас. Продлись Золотой век без заминок, мы, быть может, уже послали бы к ним исследовательские корабли. Может, мы бы оказались на Луне в 969-м, а не в 1969-м году. Может, мы бы поняли о пространстве и жизни то, что у нас сейчас и в голове не укладывается. Однако обстоятельства сложились так, что прогресс, начатый греками, задержался на тысячелетие.
Не исключено, что о причинах средневекового интеллектуального заката написано больше слов, чем было в свитках Александрийской библиотеки. Простого ответа нет. Династия Птолемеев пришла в упадок за два века до рождения Христа. Птолемей XII передал царствование сыну и дочери, унаследовавшим власть после смерти правителя в 51 году до н. э. В 49 году до н. э. его сын устроил заговор против сестрицы и прибрал всю власть к рукам. Сестрица же и сама была не промах — нашла способ добраться до самого римского императора и попросить о помощи (в те времена, хоть формально и не завися от Рима, империя Птолемеев уже находилась под римским господством). С этого начался роман Клеопатры с Юлием Цезарем. В итоге Клеопатра заявила, что собирается родить Цезарю сына. Римский император — мощный союзник египтянам, однако этот альянс был обречен — вместе с самим Цезарем. После того, как двадцать три римских сенатора напали на своего императора и закололи его во время Мартовских ид 44 года до н. э., внучатый племянник Цезаря, Октавиан, подчинил Риму и Александрию, и Египет.
Поскольку Рим завоевал Грецию, римляне получили доступ к интеллектуальному достоянию греков. Наследники греческих традиций покорили бо́льшую часть мира и столкнулись со многими техническими и инженерными трудностями, однако их императоры не поддерживали математику так, как это делали Александр или Птолемей Египетский, и цивилизация их не произвела на свет ни одного математического гения масштабов Пифагора, Евклида или Архимеда. За 1100 лет их правления — с 750 года до н. э. — история не помнит ни одной доказанной римлянами теоремы и ни одного математика. Для греков определение расстояний было математической задачей с участием равных и подобных треугольников, параллакса и геометрии. В римских учебниках[68] в словесно сформулированной задаче от читателя требовалось найти метод определения ширины реки, когда другой берег занят врагом. «Враг» — понятие, чья полезность в математике довольно спорна, зато оно — ключевое для римской манеры мышления.
В абстрактной математике римляне не разбирались — и гордились этим. Цицерон сказал: «Греки держали геометров в высочайшем почете. Потому и более всего развили они математику. Но мы положили предел этому искусству его пользой в измерении и счете». Вероятно, о римлянах можно было бы сказать: «Римляне держали воинов в высочайшем почете. Потому более всего развили они насилие и мародерство. Но мы положили предел этому искусству его пользой в покорении мира».
Нельзя сказать, что римляне не были образованы. Были. Они даже писали на латыни всякие технические методички, но те были исковерканными работами, одолженными у греков. К примеру, главный переводчик Евклида на латынь, римский сенатор из почтенной семьи Аниций Манлий Северин Боэций[69] — своего рода редактор «Ридерз Дайджест» римских времен. Боэций разбил работы Евклида на части, создав некоторый конспект для студентов, готовящихся к тестам с вариантами ответов. На современном жаргоне можно было бы назвать этот труд «Евклид для “чайников”» или рекламировать по телевизору с подписью «ЗВОНИТЕ 1-800-ДОКАЖИ-КА», но во времена Боэция это была вполне авторитетная работа.
Боэций приводил лишь определения и теоремы и, похоже, считал аппроксимации точными результатами. И это еще цветочки. В некоторых случаях он попросту ляпал ошибки — вот где ягодки-то. За перевирание идей греков Боэция не секли, не распинали, не жгли на костре и вообще не подвергали ни одному из популярных наказаний, применявшихся к умникам в Средние века. Его падение произошло из-за увлечения политикой. В 524 году ему отрубили голову за «заговорщические связи» с Восточной Римской империей. Лучше бы портил математику.
Еще одна показательная в своем головотяпстве книга того периода была написана бывалым купцом из Александрии. «Земля, — писал этот римлянин, — плоская. Необитаемая ее область имеет форму прямоугольника, длинная сторона которого вдвое длиннее его короткой… На севере размещается конического вида гора, вокруг которой вращаются солнце и луна». Его книга «Topographia Christiana»[70] была основана не на логике и наблюдении, а на Писании. Видимо, ничего так чтиво, сгодится полистать, потягивая вкусное, насыщенное свинцом римское вино: «Топография» была бестселлером аж до XII века, покуда сами римляне не стали историей.
Последним великим ученым, работавшим в Александрийской библиотеке, оказалась Гипатия[71], первая великая женщина-ученый, чье имя сохранила для нас история. Она родилась в Александрии около 370 года н. э. в семье знаменитого математика и философа Теона. Теон выучил дочь математике. Она стала его ближайшим сотрудником и в конце концов полностью затмила его. Один из ее учеников Дамаский, со временем превратившийся в ее сурового критика, писал о ней: «Она по натуре своей была изощренней и талантливей отца своего». Ее судьба и ее более широкое значение долго обсуждались множеством великих вроде Вольтера или Эдварда Гиббона в «Истории упадка и разрушения Римской империи»[72].
На рубеже V века Александрия была одним из величайших оплотов христианства. Из-за этого между государством и Церковью происходила нешуточная борьба. В те времена Александрия пережила множество общественных беспорядков и конфликтов между христианами и нехристианами вроде греческих неоплатоников и иудеев. В 391 году христианская толпа ворвалась в библиотеку и сожгла бо́льшую ее часть.
15 октября 412 года[73] умер христианский архиепископ Александрии. Ему наследовал его племянник по имени Кирилл, которого часто описывают как субъекта жадного до власти и в целом неприятного. Светскую власть в тот период представлял некто по имени Орест — префект Александрии и светский владыка Египта в 412–415 годах.
Гипатия считала себя интеллектуальной наследницей Платона и Пифагора — никак не Христианской церкви. Некоторые утверждают, что она даже училась в Афинах, где удостоилась лаврового венка, а им награждали лучших афинских учеников; по возвращении в Александрию Гипатия надевала этот венок при всяком появлении на публике. Судя по всему, это она написала важные комментарии к двум знаменитым греческим трудам — «Арифметике» Диофанта и «Коническим сечениям» Аполлония; эти работы читают и поныне.
О Гипатии также говорили, что была она красавицей и впечатляющим оратором; она читала многолюдные открытые лекции о Платоне и Аристотеле. Дамаский писал[74], что «весь город преклонялся пред нею и боготворил ее». В конце каждого дня она усаживалась в колесницу и отправлялась в академию — в роскошно украшенную залу лекций, где в подвесных лампах курились благовонные масла, а громадный купол был расписан греческим художником. Гипатия в белых одеяниях и неизменном лавровом венке вставала перед публикой и зачаровывала ее своим греческим красноречием. К ней стекались ученики из Рима, Афин и других великих городов Империи. Посещал ее лекции и римский префект Орест.
Орест подружился с Гипатией и стал ее наперсником. Они часто встречались и обсуждали не только ее лекции, но и дела городской и политической важности. Это и сделало ее союзницей Ореста в борьбе с Кириллом. Кириллу она, видимо, представлялась фигурой угрожающей: ее ученики занимали высокие посты и в Александрии, и вне ее. Гипатии хватало смелости продолжать лекции, хотя Кирилл и его приспешники распускали слухи о том, что она ведьма, владеющая черной магией, и наводит на горожан сатанинские чары.
Есть несколько версий того, что произошло далее, и большинство из них не противоречит друг другу[75]. Однажды утром, во время Великого поста 415 года Гипатия взошла на колесницу — по некоторым сведениям, рядом со своим домом, а по некоторым — на улице по дороге к дому. Несколько сотен Кирилловых прихвостней — христианских монахов из некого монастыря в пустыне — набросились на нее, избили и потащили в церковь. В церкви ее раздели догола и ободрали с нее плоть то ли заостренной черепицей, то ли глиняными черепками. После чего порвали ее на куски и сожгли останки. Согласно одному свидетельству, части ее тела разбросали по всему городу.
Все работы Гипатии уничтожили. Вскоре та же участь постигла и остатки библиотеки. Орест покинул Александрию — быть может, его отозвали, и по историческим документам о нем более ничего не известно. Следующие имперские чиновники наделили Кирилла властью, которой он так алкал. Впоследствии его канонизировали.
По оценкам недавних исторических исследований[76], на одного знаменитого математика в истории человечества приходится три миллиона человек. Ныне исследовательские труды широко доступны по всему миру. В IV веке, когда свитки кропотливо копировали вручную примитивными орудиями письма, потеря такого произведения означала, что труд, в ней заключенный, попадал в Красную книгу. Мы не можем представить, какие великие сокровища вавилонской и греческой математики были утеряны навсегда в пожаре библиотеки, содержавшей более 200 000 свитков. Но мы точно знаем, что в библиотеке содержалось более сотни пьес Софокла, из которых до наших дней дотянуло лишь семь. Гипатия была воплощением греческой науки и рационализма. С ее смертью наступила гибель греческой культуры.
С падением Рима (около 476 года н. э.) Европе достались огромные каменные храмы, театры и особняки, современные городские удобства типа уличного освещения, проточной горячей воды и канализации, но очень мало чего из достижений ума. К 800 году[77] сохранились лишь фрагменты перевода Евклидовых «Начал» на латынь. Вписанные в подборку обзорных текстов, они содержали только формулы, как попало примененные округления и никаких попыток выводов. Греческая традиция абстрагирования и доказательства, казалось, утеряна навсегда. Блистательная исламская цивилизация процветала, а Европа скатывалась в глубокую интеллектуальную пропасть. Этот период европейской истории получил соответствующее название: Темные века.
Но все же греческую мысль воскресили. Интерес к книгам вроде «Топографии» увял, а работы Боэция были заменены переводами поточней. В период позднего Средневековья группа философов создала пространство мысли, в которой процветали великие математики XVI века — Ферма, Лейбниц, Ньютон. Один из таких мыслителей оказался в центре следующей революции геометрии и нашего понимания пространства. Имя ему Рене Декарт.
Часть II. История Декарта
Где вы находитесь?
Как математики открыли простые принципы графиков функций и координат, что привело к эпохальному прорыву в философии и науке.
Глава 7. Революция местоположения
Откуда вам известно, где вы находитесь? Поняв, что существует пространство как таковое, следом задать этот вопрос — естественнее всего. Может показаться, что ответ — за картографией, наукой о картах. Но картография — лишь начало. Подлинная теория определения местоположения ведет к понятиям гораздо глубже простого утверждения «Калэмэзу[78] — в квадрате F3».
Определение местоположения не сводится к названию населенного пункта. Представьте, что эмиссар другой планеты приземляется у нас — эдакое тощее существо, голова пузырем, сам дышит кислородом, ну или косматый, похожий на обезьяну субъект, предпочитающий оксид азота. Пожелай мы общаться, нашему гостю не помешал бы словарь. Но хватит ли этого? Если ваше представление о качественном общении сводится к обмену репликами вроде «Я Тарзан, ты Джейн», словарем можно ограничиться, однако для обмена межгалактическими идеями пришлось бы выучить грамматику обоих языков. В математике тоже есть свой словарь — система наименований точек на плоскости, в пространстве или на шаре, но это лишь начало. Подлинная мощь теории местоположения — в способности соотносить разные местоположения, пути между ними и их формы, а также взаимодействовать с ними при помощи уравнений, т. е. в объединении геометрии и алгебры.
Ныне, как говорится в одном старом учебнике по этому предмету[79], «учащемуся в наше время эти приемы даются практически без усилий». Трудно представить себе, до каких еще более грандиозных теорий додумались бы великие астрономы-физики Кеплер и Галилей, владей они приемами геометрии координат, но им пришлось обходиться без них. А вот уже располагая этим знанием, их последователи, Ньютон и Лейбниц, создали математический анализ и современную физику. Если бы геометрия и алгебра продолжили существовать порознь, мало какие достижения современной физики и инженерии стали бы возможны.
Подобно революции доказательства, первая веха на пути революции места — изобретение карт — возникла еще в догреческие времена. И хоть греческие гении вложились в этот предмет, конец цивилизации оставил его незавершенным, но сила этого знания уже оказалась на свободе. Следующим шагом в том же направлении стало изобретение графического представления функций, но оно случилось лишь с возрождением интеллектуальной традиции, после «темного» Средневековья. В итоге ушли последние великие греческие математики и картографы, и эта революция отстала на десяток веков.
Глава 8. Происхождение широты и долготы
Кто именно, когда и зачем начертал первую карту, нам неведомо. Однако мы знаем, что некоторые из первых известных нам карт[80] были созданы из тех же соображений, по которым египтяне изобрели геометрию. Эти карты — простые глиняные таблички 2300 годов до н. э. — содержали не топографические легенды или религиозные орнаменты, а записи о налогах на собственность. К 2000 году до н. э. карты земельных владений описывали границы угодий, перечисляли их хозяев и были вполне распространены и в Египте, и в Вавилоне. Можем представить себе увешанную драгоценностями месопотамскую даму, с некоторым трудом удерживающую в руках здоровенную глиняную табличку; она тыкает в некую точку на ней и торжественно произносит нараспев слова древнего языка: «Выбор места решает все».
Чем больше храбрецов отправлялось в странствия за семь морей, тем острее становилась потребность в картах — с гораздо более насущной целью. Совсем недавно, в 1915 году, когда судно сэра Эрнеста Шеклтона, «Эндьюренс», оказалось в ледяном плену и потерпело крушение среди антарктической зимы, величайшей опасностью для команды стали не ветры в 200 миль/час и не температуры, опускавшиеся до –70 °C, а невозможность найти дорогу назад. И так было всю историю человечества: главная задача мореплавателей и первопроходцев в открытом океане — не потеряться. Допустим, вы отклонились от курса и не располагаете никакой информацией о том, где находитесь. Инструментов навигации у вас нет, а есть лишь примитивнейший приемопередатчик, чтобы позвать на помощь. Как сообщить спасателям о своем местоположении?
Две координаты, описывающие в наши дни положение на поверхности Земли, называются «широта» и «долгота». Представить их можно так: поместим в наш умозрительный ящик с инструментами три точки, две линии и шар. Берем шар и представляем его плавающим в пространстве. Он, понятно, символизирует Землю. Затем разместим на нем три точки в следующем порядке: одну — на Северном полюсе, одну — в центре, а третью — в любом месте на поверхности. Первой линией из нашего набора соединим Северный полюс и центр Земли. Это ось вращения планеты. Второй линией соединим центральную точку и точку на поверхности. Она окажется под некоторым углом к оси Земли. Этот угол, независимо от способа обозначения, определяет вашу широту.
Исходная идея широты пришла на ум античному метеорологу по имени Аристотель. Изучив влияние местоположения на Земле на климат в данной точке, он предложил поделить земной шар на пять климатических зон исходя из их положения относительно севера и юга. Эти зоны со временем включили в карты и провели между ними линии постоянных широт. Теория Аристотеля предполагает, что широту можно определить, хоть и приблизительно, исходя из климата местности: холоднее всего на полюсах, а чем ближе к экватору, тем теплее. Ясное дело, в некоторые дни в Стокгольме может быть теплее, чем в Барселоне, а значит, этот метод не слишком практичен — если только не торчать подолгу на одном месте, наблюдая за погодой. Лучше определять широту, ориентируясь по звездам. Проще всего это делать, найдя звезду, расположенную вдоль оси Земли. И такая звезда в северном полушарии есть, называется она «Полярная».
Полярная звезда полярной была не всегда[81] — земная ось по отношению к звездам не зафиксирована на одном месте. Она прецессирует, описывая узкий конус примерно за 26 000 лет. В некоторых великих пирамидах Древнего Египта есть проходы, выстроенные вдоль линии, проходящей через альфу Дракона: во времена постройки пирамид полярной была именно эта звезда. Древним грекам оказалось труднее: им настоящей полярной звезды было не видать. Всего через 10 000 лет северную полярную звезду наблюдать будет очень просто: ею станет Вега, ярчайшая звезда северного неба.
Если есть возможность видеть одновременно Полярную звезду и линию горизонта на севере, простая геометрия показывает, что угол между линиями от вас до Полярной звезды и от вас до горизонта и есть приблизительное значение широты.
Приблизительное оно оттого, что предполагает размещение Полярной звезды точно вдоль оси Земли и что радиус Земли пренебрежимо мал по сравнению с расстоянием до этой звезды; оба этих приближения годны, однако не идеально точны. В 1700 году[82] Исаак Ньютон изобрел секстант — прибор, облегчающий процесс вычисления широты этим способом. Заблудившийся путешественник мог, тем не менее, применить и старинный метод, сделав угломер из двух палок.
Долготу определить труднее. Добавим к нашему инструментарию еще одну сферу — гораздо бо́льшую, чем Земля, с Землей в качестве ядра. На этой сфере вообразим звездную карту. Если бы Земля не вращалась, долготу можно было бы измерять, соотносясь с этой картой. Однако вращение Земли приводит к тому, что звездная карта, видимая вам, через мгновение станет картой, видимой вашему соседу, расположенному чуть западнее вас. Говоря совсем точно, коль скоро Земля совершает оборот в 360° за 24 часа, наблюдатель западнее вас на 15° увидит то же небо, что и вы, буквально через час. На экваторе эта разница соответствует примерно 1000 миль. Сравнение двух фотоснимков звезд, сделанных на одной широте, но без указания времени съемки, ничего не сообщает о вашей долготе. Напротив, если сравнить снимки, сделанные на одной широте и в одно время ночи, можно определить разницу в долготах. Но для этого нужны часы.
Аж до XVIII века не существовало часов, способных выдерживать движение, температурные перепады и соленый влажный воздух, непременные на морских судах, и при этом идти так точно, чтобы по ним в безбрежном океане можно было определять долготу. Удовлетворить требование к точности оказалось непросто: ошибка всего в три секунды[83] в день за шестинедельное путешествие соответствует ошибке в определении долготы более чем на полградуса. До XIX века, к тому же, существовало множество разных систем определения долготы. Наконец в октябре 1884 года[84] удалось договориться об одном меридиане на весь мир, назначить его «нулевой» долготой и от него отсчитывать разницу. Этот главный меридиан проходит через Королевскую обсерваторию в Гринвиче, неподалеку от Лондона.
Первая великая карта мира, доставшаяся нам от греков, была составлена учеником Фалеса Анаксимандром примерно в 550-х годах до н. э. Его карта делила мир на две части — Европу и Азию. На карте Анаксимандра Азия включала в себя Северную Африку. К 330 году до н. э. греки даже наносили карты на некоторые свои монеты; на одной видно возвышенности, поэтому ее принято считать «первой известной в истории физической картой рельефа местности».
Пифагорейцы, вдобавок к своим эпическим открытиям, похоже, первыми предположили, что Земля имеет форму сферы. Это представление, конечно, совершенно необходимо для точного составления карт и, к счастью, обрело мощную поддержку в лице Платона и Аристотеля — еще до того, как Эратосфен более-менее доказал этот факт, применив сферическую модель планеты для расчетов длины окружности Земли. После того как Аристотель предложил делить мир на климатические зоны, Гиппарх додумался разбить их на равные интервалы, добавив линии «север — юг» под прямыми углами. К появлению Птолемея, примерно через пять веков после Платона и Аристотеля и четыре столетия после Эратосфена, этим линиям дали имена «широта» и «долгота».
В «Географии» Птолемея, похоже, применен метод, схожий со стереографической проекцией Земли на плоскую поверхность. Для определения местоположений Птолемей применил широту и долготу как координаты. Он присвоил их каждому месту на Земле, какие были ему тогда известны, — итого 8000. В книге также содержались рекомендации по составлению карт. «География» на сотни лет стала главным источником картографической информации. Картография, как и геометрия, изготовилась идти дальше — к современности. Но, как и геометрия, никакого развития в Римскую эпоху не получила.
Римляне составляли карты, но, как и в случае с геометрией, сосредоточивались на вражеских войсках за рекой — их усилия оказались нацелены исключительно на решение прагматических, а зачастую — сугубо военных задач. Когда орда христиан разгромила библиотеку Александрии, «География» вместе с математическими трудами греков исчезла. С падением Рима начались времена невежества цивилизации — в равной степени и в части определения местоположения, и в отношении теорем и связей между пространственными объектами. Геометрия и картография в конце концов переживут второе рождение и будут трансформированы новой теорией места. Но для этого нужно было совершить возрождение само́й интеллектуальной традиции западной цивилизации.
Глава 9. Наследие проклятых римлян
Близился к концу VIII век. Великие труды и традиции греков утеряны и забыты; часы и компас — почти так же далеко в будущем, как для нас — звездолет «Энтерпрайз»[85]. Лежа в своих постелях или прямо на полу, дрожа от холода или обливаясь по́том, пытаясь заснуть, обитатели тех времен не бормотали себе под нос: «Если я не воскрешу в себе тягу к знаниям, этот период интеллектуального распада и застоя не закончится еще почти тысячу лет». И все-таки один великий человек признавал необходимость дальнейшего постижения и предпринял шаги, приведшие в конце концов к возрождению европейской интеллектуальной традиции.
Генетически Карл Великий, он же Шарлемань[86] может показаться белой вороной. Его скелет после смерти померяли — король оказался шести футов четырех дюймов роста[87], по тем временам — великан. Его отец, которого Папа Стефан возвел на трон как короля Пипина I в 754 году, был коротышкой, до этого прозывавшимся Пипином Коротким. Статью Карл пошел, судя по всему, в мамашу, королеву Берту. Ее после смерти никто не обмерял, но прозвище намекает на ее габариты: ее звали «grand pied», т. е. «большая нога».
Карл оказался силен во всем: и физически, и интеллектуально, но, что наверное, важнее всего, — в размерах своей армии.
Философия правления Карла сводилась к принципу «если нам стена мешает, эту стену мы снесем», и он успешно применял ее к карте Европы. Он расширил границы Франкского королевства, вломившись к соседям — ломбардцам, баварцам и саксам. Он стал главенствующей силой Европы и насаждал римскую католическую веру всюду, где воцарялся. Если бы этим все и ограничилось, Карл оказался бы просто очередным монархом, коротавшим досуг за покорением мира. Но Карл был покровителем образования — на манер Александра. Он осознал, что располагает сонмом учителей, и пригласил всех известных просветителей со всего королевства и из-за его пределов к своему двору в Аахене, где учредил Дворцовую школу. К этой затее монарх относился со всей серьезностью и как-то даже собственноручно выпорол нерадивого ученика за ошибку в латыни. Нам неизвестно, порол ли Карл сам себя, но мы знаем, что был он безграмотен, хоть и предпринял несколько попыток выучиться писать. (В понятиях того времени порка — не слишком суровое наказание: за употребление мяса в пятницу карали смертью.)
При Карле движущей силой образования стала Христианская церковь, потребовавшая работы легионов грамотных монахов. При монастырях и храмах возникли церковные школы, а учителей поставляли ордены доминиканцев, францисканцев и др. В этих школах растили священников, готовили образованную аристократию и восстанавливали почтение к классикам. Писцов усаживали в архивы многократно переписывать манускрипты — учебники, энциклопедии, антологии. Для увеличения эффективности этого труда монахи развили новый вид письма — каролингский минускул[88], и он по-прежнему остается основой нашей письменной латиницы. Карл также оказался страшно активен в части заботы о себе: знак того времени — его стремление к долгожительству. Для этих целей Карл не стал призывать к себе толпу алхимиков или собирать при дворе медицинскую академию — он создал настоящее теологическое производство, религиозную фабрику, производящую его здоровье. В одном из монастырей Карл собрал 300 монахов и 100 псаломщиков, чтоб те непрерывно молились за его здравие — в три смены, круглосуточно. Все одно помер. В 814 году.
Возрождение, инициированное Карлом, оригинальных научных трудов произвело мало. После смерти короля границы его владений сжались, а наследники не стали продолжать культурного ренессанса. И все же уровень грамотности не упал ниже того, что был в эпоху до Каролингов (на самом деле, до Карла). Церковные школы, им выпестованные, хоть и не были незыблемыми бастионами независимого мышления, распространились, как одуванчики, и в конце концов превратились в европейские университеты; первым, по сведениям большинства историков, стал Университет Болоньи — в 1088 году. Благодаря им Европа как интеллектуальная твердыня смогла со временем воспрянуть, и в особенности — Франция, которая стала центром математики. На границе тысячелетий Темные века завершились. Средневековьем мы называем период, продлившийся еще 500 лет.
Торговлей, странствиями и крестовыми походами европейцы наконец познакомились с арабами Средиземноморья и Ближнего Востока, с византийцами Восточной Римской империи. В формате крестовых походов «знакомство» с европейцами было столь же привлекательным, как с марсианами в «Войне миров». И все же европейцы, грабя арабские земли и безжалостно мордуя мусульманских и иудейских неверных, алкали и их мудрости. На Западе-то математика и наука увяли, а в исламском мире сохранились верные копии многих греческих трудов, включая работы Евклида и Птолемея. Мусульмане и иудеи тоже не слишком продвинулись в абстрактной математике, однако добились серьезных успехов в расчетных методах. Их религия требовала понимания времени и календаря, и они развили все шесть тригонометрических функций и усовершенствовали астролябию — портативный прибор, позволяющий точно оценивать высоту звезды или планеты.
Церковь и светские властители поддерживали ученых в охоте за вражеским знанием — и за утерянными интеллектуальными сокровищами греков, хоть в оригинале, хоть в арабском переводе. В начале XII века англичанин Аделард Батский прибыл в Сирию под видом ученика-магометанина. Позднее он перевел «Начала» Евклида на латынь и на сей раз — с доказательствами. Век спустя Леонардо Пизанский, он же Фибоначчи, принес из Северной Африки понятие нуля и индо-арабскую систему чисел, какой мы ее знаем и поныне. Вливание греческого знания запитало новые университеты.
Все было готово для нового Золотого века под стать греческому. Это веяние не прошло незамеченным и современниками. Некий английский монах по имени Варфоломей писал[89]: «Как город Афины древних времен был матерью свободных искусств и писаний, колыбелью философов и всех мыслимых наук, так же и Париж наших дней…» К сожалению, вмешались житейские обстоятельства.
Математик Эндрю Уайлз, не так давно (и успешно) доказавший Великую теорему Ферма, добиваясь этой победы, избрал жизнь ученого-затворника и тихое размышление. Уайлз взялся за работу через 350 лет после Ферма. За столько же лет до Ферма наступил пик развития средневековой математики. Жизнь средневекового профессора не предполагала семинаров с перерывами на кофе, дней безмятежной сосредоточенности, перемежающихся прогулками по университетскому городку или великих гостей-математиков и приятных совместных с ними ужинов в китайских ресторанчиках по соседству. Всем известно, что Европа в Средние века на райский сад не походила. Но если вы оказались в дурацком научно-фантастическом фильме, и безумный ученый как попало крутанул руль машины времени, молитесь не оказаться в XIII или XIV веке.
Средневековому математику приходилось мириться с летней жарой и ледяной зимней стужей, после заката здания едва-едва отапливались и почти не освещались[90]. По улицам бегали одичавшие свиньи и рылись в отбросах, кровь забиваемого скота лилась из мясницких лавок, а из дверей птичников летели отрубленные куриные головы. Лишь в больших городах существовала канализация. Самого короля Франции Людовика IX как-то окатили сверху помоями, содержимое которых не годится для упоминания на этих страницах.
Боги погоды тоже были не в духе. Европа в те времена оказалась на пороге сырого и холодного периода, и настолько он был отвратителен, что заслужил название малого ледникового[91]. В Альпах разрослись ледники — впервые с VIII века. В Скандинавии ледяные поля перекрыли североатлантические морские пути. Одолевали неурожаи. Производительность сельского хозяйства стремительно падала. Повсюду царил голод. В Англии простолюдины ели собак, кошек и другие новаторские блюда, которые один документ того времени описывал как «нечистую пищу». Аристократия страдала симметрично: им приходилось есть своих лошадей. Есть одно описание голода в Рейнской области, когда к виселицам в Майнце, Кельне и Страсбурге приставляли войска: изголодавшиеся жители срезали и разделывали мертвых висельников.
В октябре 1347 года на северо-востоке Сицилии причалил флот, прибывший с Востока. К несчастью для европейцев, эти флотоводцы достаточно владели геометрией, чтобы найти дорогу к порту. А вот медицинского знания им явно недоставало. Все находившиеся на борту были мертвы или умирали. Моряков взяли в карантин, но крысы сошли на берег, неся в Европу «черную смерть». К 1351 году население Европы вымерло почти наполовину. Флорентийский историк Джованни Виллани писал: «Эта болезнь вызывает вздутия в паху и подмышками, болящий харкает кровью, а через три дня он уже мертв… Многие земли и города безнадежны. Чума длилась до ____»[92]. Виллани оставил пробел в конце отчета, планируя вписать дату окончания эпидемии. Как выяснилось, отличный способ проклясть себя: в 1348 году «черная смерть» забрала и Виллани.
Учебные заведения от всех этих напастей спасали плохо[93]. Университетских городков еще не существовало как понятия. Обыкновенно у университета и зданий-то не было. Ученики жили общиной, вскладчину. Преподаватели работали в съемных комнатах, на постоялых дворах, в церквях и даже борделях. Как и жилые помещения, классы дурно освещались и отапливались. В некоторых университетах были приняты, прямо скажем, средневековые порядки: студенты платили профессуре сами. В Болонье студенты нанимали и увольняли преподавателей, штрафовали за пропущенные по неуважительной причине занятия или неспособность ответить на какой-нибудь трудный вопрос. Если лекция оказывалась неинтересной, слишком тягомотной, слишком скорой или недостаточно громко прочитанной, профессора могли освистать или даже закидать чем-нибудь. В университете Лейпцига возникла необходимость ввести правило, запрещающее швырять в преподавателей камнями. Лишь к 1495 году немецкое законодательство недвусмысленно запретило кому бы то ни было из университетской среды окатывать новичков мочой. Во многих городах студенты бузили и задирали местных жителей. По всей Европе преподавателю суждено было иметь дело с таким поведением учащихся, по сравнению с которым «Зверинец»[94] — видеокурс хороших манер.
Наука того времени являла собой сборную солянку античного знания вперемешку с религией, суеверием и мистикой[95]. Распространена была вера в чудеса и астрологию. Даже великие схоласты вроде Св. Фомы Аквинского принимали без критики факт существования ведьм. Сицилийский император Фридрих II основал в 1224 году Университет Неаполя — первое учебное заведение, управлявшееся мирянами. Не связанный докучливым понятием этики, Фридрих предавался своей любви к науке[96], время от времени ставя эксперименты на живых людях. Однажды он устроил двум «везучим» узникам по одинаковой обильной трапезе. Одного счастливчика он затем отправил спать, а второго — на изнурительную охоту. После чего вскрыл обоих — посмотреть, у кого лучше усвоилась пища. (Диванным овощам на радость: пищеварение оказалось лучше у спавшего.)
Представления о времени оставались смутными[97]. Вплоть до XIV века никто и не знал толком, который час. Световой день, поделенный на двенадцать равных интервалов — по ходу движения солнца над головой, — состоял из часов, протяженность которых менялась от времен года. В Лондоне, на 51 1/2° северной широты, где между восходом и закатом в июне почти вдвое больше времени, чем в декабре, средневековый час колебался между 38 и 82 современными минутами. Первые часы, о которых доподлинно известно, что они отбивали равные промежутки времени, появились не ранее 1330-х годов — в церкви Св. Готарда в Милане. В Париже первые часы в общественном месте установили на одной башне Королевского дворца лишь в 1370 году. (Они существуют до сих пор — на углу бульвара дю Палэ и набережной де л’Орлож.)
Технологий для измерения коротких временны́х промежутков не существовало. Переменные величины типа скорости можно было оценить лишь приблизительно. Фундаментальные единицы измерения — например, секунды — в средневековой философии попадались редко. Непрерывные количества чего бы то ни было расплывчато описывались «степенями» величины — или им присваивали сравнительные размеры. Например, о каком-нибудь слитке серебра могло быть сказано, что он весит, как треть ощипанной курицы или вдвое больше мыши. Неуклюжесть системы усугубляло и то, что главной книгой Средневековья в части численных пропорций являлась «Арифметика» Боэция, а Боэций для их описания дробями не пользовался. Для средневековых ученых пропорции, описывавшие количества, числами не являлись, и к ним — в отличие от чисел — нельзя было применять арифметические действия.
Картография тоже оставалась примитивной[98]. Карты средневековой Европы не предназначались для описания точных геометрических и пространственных соотношений, в них не соблюдались правила геометрии, равно как не существовало понятия о масштабе. В результате географические карты имели символический, исторический, декоративный или религиозный смысл.
Этих препятствий прогрессу мысли хватило бы и так, но существовала и непосредственная препона: Католическая церковь требовала от средневековых ученых буквального восприятия Библии. Церковь учила, что всякая мышь, всякий ананас, всякая комнатная муха служат высшим целям Божественного плана, и план этот можно постичь исключительно с помощью Писания. Выражать иные мнения было опасно.
У Церкви существовали веские причины бояться возрождения мысли. Если Библия ниспослана свыше, значит, ее авторитет — в отношении и мироустройства, и морали — зиждется на абсолютном принятии священных текстов. Однако библейские описания природы частенько противоречили наблюдаемым природным явлениям или математическим рассуждениям. Развивая университеты, Церковь, сама того не ведая, поучаствовала в уменьшении своего влияния — в представлениях и о природе, и о нравственности. Но стоять в стороне и наблюдать, как подрывают ее главенство, Церковь тоже не стала.
* * *
Ключевыми фигурами натурфилософии в позднем средневековье оказались схоласты — особенно из Оксфордского и Парижского университетов[99]. Они искали гармонии ума, изо всех сил пытаясь примирить физические теории и религию. Центральной темой их философии стала не природа Вселенной, а «мета-вопрос» — возможно ли знание, данное Библией, получить или объяснить с помощью рассуждения.
Первый великий схоласт боролся за логическое рассуждение как метод выяснения истины. Им был парижанин XII века Пьер Абеляр. Его позиция в средневековой Франции была чревата неприятностями. Абеляра отлучили от Церкви, а его книги сожгли. Самый знаменитый схоласт Св. Фома Аквинский также отстаивал методы разума, но вот он оказался для Церкви удобоварим. Аквинский подошел к знанию с позиций Подлинного Верующего — или, скажем так, как человек, не желавший, чтобы у огня, разведенного на его книгах, грелись перемерзшие зимней ночью монахи. Аквинский не отправился вслед свободно ведущим его рассуждением, а начал с принятия истинности католической веры и взялся ее доказывать.
Аквинского Церковь проклинать не стала, зато ему решительно противостоял его современник, схоласт Роджер Бэкон. Бэкон первым из натурфилософов придал огромное значение эксперименту. Абеляру не поздоровилось лишь из-за того, что он поставил разум выше Писания, а еретик Бэкон поставил превыше всего истину, выведенную из наблюдения за физическим миром. В 1278 году его отправили в тюрьму — на четырнадцать лет. Он умер вскоре после того, как был отпущен на свободу.
Уильям Оккамский, францисканец из Оксфорда, впоследствии парижанин, знаменит той самой «бритвой», которая и по сей день актуальна для физической науки. Попросту говоря, принцип бритвы Оккама сводится к следующему: теории следует создавать, делая как можно меньше допущений, взятых с потолка. У струнной теории, например, есть намерение строго вывести фундаментальные константы — заряд электрона, число (и тип) существующих «элементарных частиц» и даже число измерений пространства. В предыдущих теориях вся эта информация принималась аксиоматически: ее включали в построения, а не выводили из них. И к математике применима такая эстетика: например, при создании геометрической теории следует опираться на минимально необходимое количество аксиом.
Оккам ввязался в свару между францисканским орденом и папой Иоанном XXII и был отлучен от Церкви. Он сбежал, получил прибежище у императора Людовика IV и осел в Мюнхене. Умер в 1349-м, в разгар чумы.
Из четверых схоластов — Абеляра, Аквинского, Бэкона и Оккама — пронесло только Аквинского. Абеляра, помимо отлучения, еще и кастрировали: его представления о браке не совпали с таковыми у дядюшки его возлюбленной, а тот оказался каноником Католической церкви.
Схоласты сделали громадный вклад в интеллектуальное возрождение Запада. Одним из наследников их учения оказался загадочный французский священник из селения Аллемань[100], подле Кана[101]. С точки зрения математики его работы оказались наиболее многообещающими. В современных книгах по астрономии и математике этот человек, ставший епископом Лизьё, едва упоминается. В соборе Парижской Богоматери давно уж не светят поминальные свечи, заказанные его братом Анри. Мест его памяти на Земле почти не осталось, но вполне символично, что, прибыв на Луну, вы сможете посетить кратер, названный в его честь — кратер Орем.
Глава 10. Скромное обаяние графиков
Суровая сноровистая женщина плывет в лодке по речным протокам в глубине тропических лесов Амазонии — возвращается домой к кровожадным рыбам и ордам москитов, останавливаясь в лесных хижинах, ведомых мало кому, кроме немногих одиноких местных. Она не персонаж из Средневековья. Она из нашего века. Кто она? Может, врач? Волонтер международной помощи? Нет, даже не тепло. Она везет кремы, духи и косметику компании «Эйвон».
Тем временем в нью-йоркской головной конторе ее начальники в костюмах анализируют ход своей мировой войны с сухостью кожи, применяя методы, изобретенные человеком, о котором, без сомнения, ни один из этих начальников сроду ни разу не задумался. Вообразим графики, отражающие ежегодный рост прибылей «Эйвона» по сегментам рынка: международные показатели — синим, местные — красным. Ежегодный отчет иллюстрирует общий оборот компании, объемы сбыта, прибыли отдельных торговых точек; в нем целые страницы прочих показателей во всех мыслимых видах графиков и диаграмм — и тебе столбчатых, и круговых.
Если бы средневековый торговец показал кому-нибудь результаты своей работы в таком виде, на него бы вытаращили глаза. Что означают эти разноцветные геометрические фигуры, соседствующие в том же документе с римскими цифрами? Макароны и сыр уже успели изобрести (сохранился английский рецепт XIV века[102]), а вот идею поженить числа и геометрические фигуры — нет. Ныне графическое представление знания настолько общепринято, что мы едва ли думаем о нем как о математическом приеме: даже самый матемафобный директор «Эйвона» понимает, что линия на графике прибылей, тянущаяся вверх, есть многая радость. Но куда бы ни тянулись графики — вниз или вверх, — изобретение их стало жизненно важным шагом на пути к теории местоположения.
Союз чисел и геометрии греки понимали, увы, неверно — аккурат в этом месте философия оказалась помехой. В наши дни любой школьник изучает, грубо говоря, числовой ряд — линию, обеспечивающую упорядоченную связь между точками на ней и положительными и отрицательными целыми числами, равно как и между всеми дробями и прочими числами на этой линии. Эти «другие числа» — иррациональные, т. е. не целые и не дроби, как раз их отказался признавать Пифагор, но они тем не менее существуют. Числовой ряд обязан включать в себя и их — без иррациональных чисел в нем возникнет бесконечное множество дыр.
Мы уже говорили, как Пифагор открыл квадрат с длиной стороны в единицу, у которого диагональ равна квадратному корню из двух, а это иррациональное число. Если эту самую диагональ отложить в числовом ряду от нуля, другой ее конец обозначит точку, соответствующую иррациональному числу — квадратному корню из двух. Запретив обсуждение иррациональных чисел — они не вписывались в его представления о том, что все числа обязаны быть либо целыми, либо дробными, — Пифагор был вынужден запретить и ассоциацию прямой с числом. Таким способом он замел эту неувязку под ковер — и придушил тем самым одну из самых плодотворных идей в истории человеческой мысли. У всех свои недостатки.
Одним из немногих преимуществ утери греческих трудов стал упадок влияния пифагоровых представлений об иррациональных числах. Теория иррациональных чисел не получила твердого фундамента аж до самого Георга Кантора и работ его современника Рихарда Дедекинда — в XIX веке. И тем не менее, со Средних веков и до Дедекинда и Кантора большинство математиков и ученых закрывали глаза на кажущееся несуществование иррациональных чисел и вполне счастливо, хоть и неумело, все равно их применяли. Очевидно, радость получения правильного ответа перевешивала неприятности работы с числами, которых не существует.
В наше время применение «нелегальной» математики — общее место науки, особенно физики. Теория квантовой механики, например, разработанная в 1920–1930-х годах, очень полагалась на нечто придуманное английским физиком Полем Дираком — дельта-функцию. Согласно математике того времени, дельта-функция попросту равнялась нулю. По Дираку же, дельта-функция равна нулю всюду, кроме одной точки, где ее значение — бесконечность, и, если применить эту функцию вместе с определенными методами счисления, она дает ответы одновременно и конечные, и (обычно) отличные от нуля. Позднее французский математик Лоран Шварц смог доказать, что правила математики можно переформулировать так, чтобы допустить существование дельта-функции, и из этого доказательства родилась целая новая область математики[103]. Квантовые теории поля в современной физике в этом смысле тоже можно считать «нелегальными» — во всяком случае, никто пока не смог успешно доказать, говоря математически, что такие теории существуют «по правилам».
Средневековые философы горазды были говорить одно, а записывать другое — или даже писать сначала одно, а потом другое в полном противоречии с первым, лишь бы сберечь шкуру. И вот в середине XIV века Николай Орезмский[104], позднее — епископ Лизьё, — изобретая графики, не слишком беспокоился о противоречиях, возникающих из-за иррациональных чисел. Орем по умолчанию игнорировал вопрос о том, достаточно ли одних лишь целых и дробных чисел для заполнения базисной прямой графика. Он сосредоточился на том, как приспособить свои новые картинки к анализу количественных отношений.
Графики можно воспринимать как изображение функции, отражающее изменение одного количества в связи с изменением другого. Прибыли компании «Эйвон» от продаж в странах третьего мира в зависимости от времени, сожженные вами калории в зависимости от пройденного расстояния, максимальная дневная температура воздуха в зависимости от географического местоположения — вот они, примеры функций. Любую можно понять, построив ее график. У графика из последнего примера есть специальное название, намекающее на некую более глубинную связь: это карта. Метеорологическая.
Любая карта — своего рода график. К примеру, «нормальная» географическая карта отражает названия городов и стран, а также, быть может, еще кое-какие данные — в зависимости от их географического положения. Греки и прочие, не отдавая себе в этом отчета, применяли такие графики — карты — тысячи лет. Неясно, отдавал ли себе отчет и Орем, но ключевой вопрос он все-таки затронул: имеет ли какой-либо географический или геометрический смысл кривая или иная геометрическая форма, образованная графиком, построенным на некотором множестве данных, т. е. функция?
Если построить график зависимости степени возвышенности земли от местоположения, получится знакомая нам топографическая карта, и ее связь с реальной географией очевидна. Гора в форме уточки на карте местности будет отражена фигурой уточки. А вот если изобразить зависимость погоды от местоположения, получится тоже некоторая поверхность, но не буквальная форма погоды, а некая геометрическая фигура, смысл которой можно изучить. Соотнеся таким образом функции с геометрией, мы получаем описание взаимосвязи между определенными типами функций и типами форм. Изучение линий и поверхностей превращается, стало быть, в изучение тех или иных функций, и наоборот; вот он, союз геометрии и числа. И именно этот шаг и делает изобретение Оремом графиков таким важным для математики.
Сила графиков, применяемых не-математиками к анализу закономерностей в данных, обусловлена все той же связью чисел с геометрией. Человеческий ум легко распознает некоторые простые формы — например, линии и окружности. Разглядывая некую совокупность точек, мы пытаемся затолкать их в эти привычные формы и в итоге можем заметить геометрические закономерности, если данные представлены в виде графика, хотя закономерности в тех же данных, представленных таблицей, можно запросто проглядеть. Искусство построения графиков в этом ключе проанализировано в классическом труде Эдварда Тафта «Наглядное представление количественной информации».
Рассмотрим три довольно скучные колонки чисел:
В каждой представлены некоторые замеры, т. е. каждая величина имеет погрешность эксперимента. Первый набор чисел назовем данными Алексея — допустим, их получил студент по имени Алексей, и, аналогично, второй и третий наборы — Николая и мамы. Если представить эти данные как функцию времени, возникнет ли какая-нибудь закономерность, а если возникнет, то какая? Вот в чем вопрос.
Глядя на числа в таблице, усмотреть закономерности непросто, но стоит построить графики, все немедленно проясняется. График, построенный на данных Алексея, — прямая, если не считать точки с координатой времени 2, где Алексей либо чихнул, либо отвлекся на приятеля и его компьютерную игру.
Данные Николая укладываются в хорошо нам известную форму под названием парабола, которая описывает, например, зависимость энергии пружины от длины ее растяжения или высоты положения летящего пушечного ядра от пройденного расстояния. Математически говоря, эта форма описывается функцией, где измеряемая величина возрастает с квадратом времени (или расстояния). Мамин график есть верхняя правая четверть окружности, одной из самых распространенных форм в нашей жизни, и, как и в случае Алексея, одной из основных евклидовых фигур. Но вот из одних лишь записанных цифр это куда как не очевидно.
Орем применил эту новую мощную геометрическую методику для доказательства одного из знаменитейших законов физики того времени — мертонского правила[105]. Между 1325 и 1359 годами группа математиков из оксфордского Мертон-Колледжа, предложила понятийный аппарат для количественного описания движения. В античных дискуссиях расстояние и время рассматривались как количества, которые можно описать численно, однако «быстроту», она же «скорость», никто не считал.
Данные принимают форму
Ключевая теорема, выведенная мертонской школой, — мертонское правило — оказалась своего рода мерной линейкой в гонках черепахи и зайчихи. Вообразим некоторую черепаху, которая бежит, скажем, одну минуту со скоростью, допустим, в одну милю в час. А теперь вообразим зайчиху, стартующую еще медленнее, но с постоянным ускорением — так, что к концу минуты она несется с гораздо большей прытью, чем ее соперница, движущаяся с постоянной скоростью. Согласно мертонскому правилу, если через минуту движения с постоянным ускорением зайчиха бежит вдвое быстрее черепахи, они прошли к этому моменту одно и то же расстояние. Если скорость зайчихи больше черепашьей более чем вдвое, она окажется впереди, а если менее чем вдвое — отстанет.
Если облечь все это в ученые термины, правило звучит так: расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением из состояния покоя, равно расстоянию, пройденному объектом за то же время со скоростью, равной половине от максимальной. С учетом мутности представлений о местоположении, времени и скорости, а также недоразвитости инструментов измерения мертонское правило производит сильное впечатление. Однако без приемов матанализа или алгебры мертонцы никак не могли доказать своих рассуждений.
Николай Орезмский доказал это правило геометрически, применив методику графиков. Он принялся откладывать время по горизонтальной оси, а скорость — по вертикальной. Таким способом постоянная скорость отображалась в виде горизонтальной прямой, а постоянное ускорение — линией, устремляющейся вверх под некоторым углом. Орем понял, что площадь под этими линиями — прямоугольник и треугольник соответственно — есть пройденное расстояние.
Расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением (в мертонском правиле), таким образом, есть площадь прямоугольного треугольника, чье основание пропорционально времени движения, а высота представляет максимальную скорость. Расстояние, пройденное объектом с постоянной скоростью, задается площадью прямоугольника с таким же основанием, как и у треугольника, а высота его вполовину меньше высоты треугольника. Оставалось лишь доказать, что площади этих двух фигур равны. Например, если удвоить этот треугольник, достроив к его гипотенузе такой же, и удвоить прямоугольник, достроив к нему такой же по верхней стороне, получится одна и та же фигура.
Орем применил аналогичное графическое рассуждение[106] при формулировке закона, который обычно приписывают Галилею: расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением, растет с квадратом времени. Убедиться в этом можно, представив вновь все тот же прямоугольный треугольник, чья площадь есть расстояние, пройденное с постоянным ускорением. Эта площадь пропорциональна произведению основания на высоту, а они в свою очередь пропорциональны времени.
Такое интуитивное понимание Оремом природы пространства не менее поразительно. А еще Николай Орезмский утер Галилею нос[107], фактически сделав вклад в эйнштейнову теорию относительности. В пределах этой теории имеет смысл лишь относительное движение. Учитель Орема в Париже, Жан Буридан, считал, что Земля не может вращаться: если бы она вращалась, стрела, пущенная вертикально вверх, падала бы в другое место. Орем возразил своим примером: мореход на корабле, вытягивая руку вдоль мачты, воспринимает это движение как вертикальное. Однако нам с суши это движение увидится как диагональное — потому что корабль движется. И кто же тогда прав? Орем считал, что сам вопрос в данном случае сформулирован неверно: невозможно выяснить, происходит ли движение объекта без соотнесения его с другим. Ныне это наблюдение иногда называют принципом относительности Галилея.
Николай Орезмский не опубликовал множество своих трудов, а многие не довел и до логического завершения. Во многих своих рассуждениях он подошел вплотную к научному перевороту, но во имя Церкви всякий раз отступал. К примеру, опираясь на свой анализ относительности движения, Орем пришел к размышлениям о том, можно ли развить астрономическую теорию, согласно которой Земля бы вращалась и даже двигалась бы вокруг Солнца, — эти революционные идеи позднее провозгласили Коперник и Галилей. Но Орем не только не смог убедить в этих представлениях своих современников, но и сам в конце концов от них отказался, и сдался он не перед доводами разума[108], а перед Библией. Ссылаясь на псалом 93: 1, Орем писал: «Облечен Господь могуществом[109] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется»[110].
Во многом Николай Орезмский обрел блистательные прозрения о природе мира, но всякий раз отшатывался от истины, открывавшейся ему. Например, у Орема были крайне скептические представления о демонах, граничившие с ересью: он утверждал, что их существование не может быть доказано законами природы. И, тем не менее, как добропорядочный христианин, он продолжал считать, что они существуют как объект веры. Быть может, умиляясь собственной противоречивости, Орем писал как-то[111], следуя Сократу: «Я действительно не знаю ничего, кроме того, что я ничего не знаю». Преданность Орема религиозному ведомству оказалась вознаграждена: он рос в бедности, а стал советником короля, послом и наставником Карла V. Благодаря поддержке монарха в 1377 году Орема за пять лет до смерти возвели в сан епископа.
Хотя нет никаких доказательств того, что Галилей использовал какие-либо труды Орема, интеллектуальное наследование очевидно. Увы, революция Николая Орезмского в математике так и не произошла, и миру пришлось подождать еще 200 лет, а пока Церковь слабела, двое других французов украдкой приняли эстафету и на сей раз изменили математику навсегда.
Глава 11. Солдатская сказка
31 марта 1596 года[112] хворая французская аристократка, сухо кашляя — возможно, туберкулез, — родила своего третьего ребенка. Младенец оказался слабым и болезненным. Несколько дней спустя мать скончалась. Врачи предсказывали, что вскоре и чадо последует за родительницей. Отцу ребенка пришлось ох как не просто, однако он не сдался. Первые восемь лет он не выпускал сына из дома, почти все время держал в кровати, приставил к нему сиделку и сам заботился о нем со всей родительской любовью. Ребенок протянет пятьдесят три года, прежде чем его доконают слабые легкие. Так был спасен для мира один из его величайших философов, архитектор следующей математической революции — Рене Декарт.
Когда Декарту было восемь (некоторые говорят, десять[113]), отец отправил его в Ла-Флеш, иезуитскую школу — тогда еще новую, но вскоре приобретшую знаменитость. Ректор школы позволял юному Декарту допоздна валяться в кровати, покуда ученик не готов был явиться на занятия. Неплохая привычка, если удается ее поддерживать, а у Декарта это получалось вплоть до последних месяцев жизни. Учился Декарт хорошо, но по окончании восьми школьных лет начал демонстрировать скептицизм, которым и прославился как философ: он пришел к убеждению, что все, чему его учили в Ла-Флеш, либо бесполезно, либо ошибочно. Вопреки этому осознанию он подчинился желанию отца и провел еще два года в бесполезной учебе, на сей раз — в соискании степени в юриспруденции.
Наконец Декарт забросил науку букв и переехал в Париж. Там он ночами вел светскую жизнь, а днем лежал в постели и изучал математику (приступая к занятиям, разумеется, после полудня). Математику он полюбил, и она даже время от времени приносила ему доход — Декарт применял ее за игровым столом. Однако довольно скоро Париж Декарту приелся.
Что делали молодые люди с некоторыми средствами во времена Декарта, если желали странствовать и искать приключений? Шли в армию. В случае Декарта — в армию принца Морица Оранского (Нассауского). То была настоящая добровольческая армия — Декарту за его службу не платили. В итоге все остались при своих: Декарт не только ни в каких военных действиях не поучаствовал — через год он присоединился к вооруженным силам противника, герцога Баварии. Странное дело: сначала вербуемся к одним и не воюем, потом к другим — и опять не воюем. Но в тот период в войне Франции и Голландии против Испано-австрийской монархии возникло затишье, а Декарт пошел в армию ради путешествий, а не из политических соображений.
Служить Декарту понравилось: он встречался с людьми из разных краев, и в то же время ему хватало уединения, чтобы посвящать его изучению математики и наук, а также размышлениям о природе Вселенной. Его странствия почти немедленно принесли плоды.
Однажды в 1618 году солдат Декарт оказался в маленьком голландском городке Бреда, где увидел толпу, собравшуюся вокруг уличного объявления. Он подошел ближе и попросил пожилого зеваку перевести ему написанное на французский. Ныне в таком объявлении можно прочесть что угодно — рекламное воззвание, запрет парковки, призыв помочь с поисками человека. Но есть такое, чего теперь в уличных объявлениях не встретишь, а именно: математическую задачку, адресованную широкой публике.
Декарт осмыслил поставленную задачу и отметил походя, что она довольно проста. Его переводчик — может, озлившись на него, а может, забавы ради — взял незнакомца на слабо и принялся подначивать: дескать, давай, реши-ка. И Декарт решил. Пожилой собеседник ученого, человек по имени Исаак Бекман, сильно изумился, что само по себе целое дело: Бекман был выдающимся голландским математиком своего времени.
Бекман и Декарт так подружились, что Декарт впоследствии писал[114] о Бекмане как о «вдохновителе и духовном отце» его учений. Именно Бекману Декарт четыре месяца спустя описал свои революционные взгляды на геометрию. Письма Декарта другу в следующие пару лет обильно приправлены отсылками к новым представлениям об отношениях между числами и пространством.
Всю свою жизнь Декарт относился к работам греков весьма критически, однако геометрия раздражала его пуще прочего. Она казалась ему неуклюжей и усложненной без всякой необходимости. Ему, казалось, противны были сами формулировки греческой геометрии, вынуждавшие его трудиться прилежнее потребного. Анализируя задачу, поставленную греком Паппом Александрийским, Декарт писал, что «мне утомительно уже то, сколько всего об этом надо писать»[115]. Он критиковал их систему доказательств, потому что каждое новое оказывалось уникальным в своем роде, и одолеть его можно было «лишь при условии великого изнурения воображения»[116]. Не одобрял он и того, как греки определяли кривые — описательно, что само по себе, конечно, бывало скучным, а доказательства делало путаными. Ныне ученые пишут, что «декартова математическая лень — притча во языцех»[117], но самому Декарту вовсе не совестно было искать некую связующую систему, что упростила бы доказательства геометрических теорем. Таким способом он мог спать дольше и все равно больше сделать для науки, чем критиковавшие его более прилежные ученые.
Сравним для примера определение круга Евклидом (часть I «Начал») и Декартом — и убедимся в успехах последнего:
Евклид: Круг есть плоская фигура, содержащаяся внутри одной линии[118], на которую все из одной точки внутри фигуры падающие[119] прямые равны между собой[120].
Декарт: Круг есть все х и у, удовлетворяющие уравнению х² + у² = r² для заданного значения r.
Даже тем, кто не в курсе, что такое «уравнение», определение Декарта должно показаться проще. И вся штука не в том, чтобы определить, что такое уравнение, а в том, что в декартовом методе круг определяется им. Декарт перевел язык пространства на язык чисел и, что еще важнее, применил этот перевод к перефразированию геометрии в алгебру.
Декарт начал свой анализ с превращения плоскости в подобие графика, изобразив горизонтальную прямую и назвав ее осью х, а вертикальную — осью у. За исключением одной существенной детали, любая точка на этой плоскости описывалась теперь двумя числами: вертикальным расстоянием до горизонтальной оси, обозначенным у, и горизонтальным расстоянием до вертикальной оси, обозначенным х. Точки на плоскости с тех пор записываются в виде «упорядоченных пар» (х; у).
Но вернемся к существенной детали: если буквально отмерить расстояния, как описано выше, для каждой пары координат (х; у) найдется более одной точки. Например, рассмотрим две точки, каждая из которых на единичный отрезок выше оси х, но располагаются они по обе стороны от оси у: допустим, одна лежит на два единичных отрезка правее, а другая — на два единичных отрезка левее. Поскольку обе точки расположены на один единичный отрезок выше оси х и обе — в двух единичных отрезках от оси у, в соответствии с нашим рассуждением обе можно описать парой координат (2, 1).
Такая же неоднозначность возникает в почтовых адресах. Могут ли два человека, проживающие по адресу 80-я улица, 137, задрать нос и заявить: «Да я б никогда в том районе жить не стал». Отчего бы и нет? «Вестсайдская история» и «Истсайдская история» — однозначно две разные истории[121]. Математики избавляются от этой неоднозначности в координатах в точности так же, как градостроители — в почтовых адресах, с той лишь разницей, что первые используют знаки «плюс» и «минус», а вторые приписывают к адресу «восточный»/«западный» или «северный»/«южный». Математики подрисовывают знак «минус» к координате х всех точек, размещающихся левее оси у (т. е. «восточной стороне» — «истсайду»), и к координате у всех точек, расположенных ниже оси х (т. е. «южной стороне», или «саутсайду»). В нашем случае у первой точки координаты останутся без изменений — (2, 1), а у второй станут такие: (-2, 1). Мы делим плоскость на четыре четверти (квадранта) — северо-восточная, северозападная, юго-восточная и юго-западная. У всех точек в «южном» квадранте значение координаты у отрицательное, а у всех точек в «западном» отрицательно значение координаты х. Эту систему обозначения принято называть декартовыми координатами. (На самом деле примерно тогда же аналогичное открытие сделал Пьер Ферма, однако если за Декартом водилась дурная привычка ни на кого не ссылаться в своих публикациях, Ферма имел худшую склонность — не публиковать свои работы вообще.)
Ясное дело — и мы в этом уже убедились — применения координат как таковых новинкой не было. Птолемей еще во II веке использовал систему координат в своих картах[122]. Но работы Птолемея сводились исключительно к географии. Никакого другого значения — помимо приложимости к земному шару — он в них не видел. Подлинное новаторство идей Декарта применительно к координатам состояло не в них самих, а в том, что́ Декарту удалось из них извлечь.
Изучая классические греческие кривые, манеру определения которых Декарт столь глубоко презирал, он, тем не менее, обнаружил удивительные закономерности. Например, он изобразил несколько прямых и выяснил, что для любой прямой координаты х и у любой точки на ней всегда связаны простым отношением. Алгебраически эту связь можно выразить уравнением вида ах + by + c = 0, где а, b и с — постоянные, т. е. обычные числа вроде 3 или 4 1/2, и зависят они лишь от того, какую прямую в данный момент мы рассматриваем. Это означает, что любая точка, описываемая координатами (х, у), лежит на некоторой прямой тогда и только тогда, когда сумма х, взятого а раз, у, взятого b раз, и с равна нулю. Таково альтернативное — алгебраическое — определение прямой.
С точки зрения Декарта, линия есть множество точек с особым свойством: если прирастить одну координату, чтобы получить другую точку того же множества, необходимо прирастить и другую координату в строго заданной пропорции. Его определение круга (или эллипса) устроено по тому же принципу. С единственной разницей: убавляя одну координату, необходимо добавлять к другой так, чтобы (взвешенная) сумма квадратов координат, а не просто координат самих по себе, оставалась неизменной.
За триста лет до Декарта Николай Орезмский тоже подметил, что кривые можно определять через соотношение координат, и тоже вывел некоторое подобие уравнения прямой. Но во времена Орема алгебра еще не имела широкого хождения, и за отсутствием подходящей формы записи Орем не смог развить идею дальше[123]. Декартов метод ассоциирования алгебры и геометрии привел к обобщению представлений Николая Орезмского, и теперь всю греческую математику можно было описать просто и сжато. Эллипсы, гиперболы, параболы — все их, как выяснилось, можно определить через простые уравнения в координатах х — у.
Возможность определять классы кривых по виду их уравнений имеет далеко идущие последствия для науки. Взглянем еще раз, к примеру, на данные, полученные Николаем, но сдвинем запятую в числах на один десятичный знак. Теперь-то понятно, что они такое — это таблица приблизительных средневысоких температур[124] 15-го числа каждого месяца (кроме января) в Нью-Йорке. Ученый может задаться вопросом: есть ли простая взаимосвязь между этими показателями?
Как мы уже видели, отображение этих данных в виде графика дает нам простую геометрическую фигуру — параболу. Знание уравнения, описывающего параболу, дает нам кое-какие предсказательные возможности — позволяет сформулировать «закон средневысоких» для нью-йоркской погоды. Закон таков: обозначим через у температуру ниже 85 градусов по Фаренгейту, а через х — число месяцев до или после 15 июля, и тогда у равен дважды х в квадрате. Опробуем это правило. Чтобы определить, какова будет средневысокая температура в Нью-Йорке, скажем, 15 октября, отметим, что октябрь — через три месяца после июля, т. е. х = 3. Поскольку три в квадрате — девять, средняя температура 15 октября есть дважды по девять, т. е. на 18 градусов ниже показателя 15 июля (85 градусов). Таким образом, по нашему «закону» выходит средняя температура приблизительно 67 градусов. Реальные данные — 66 градусов. Для большинства месяцев закон приложим вполне точно — и его можно применять и для других дней календаря, а не только к 15-м числам месяцев, если вам не лень возиться с дробями.
Сформулированный нами закон определяет отношение между у и х ; это частный случай того, что математики называют функцией. В нашем примере парабола есть график функции. Физика в существенной степени занимается именно тем, что мы сейчас проделали: обнаружением закономерностей в данных, определением функциональных зависимостей и (этим мы не озаботились) объяснением причин той или иной взаимосвязи.
Точно так же, как можно вывести физические законы графически, применив картезианские методы, у евклидовых теорем тоже есть алгебраические следствия. Например, представьте теорему Пифагора в декартовых терминах. Вообразите прямоугольный треугольник. Для простоты положим, что вертикальная сторона его лежит вдоль оси у и тянется от точки начала координат до точки А, а горизонтальная сторона — из точки начала координат вдоль оси х до точки В. Таким образом длина вертикальной стороны равна координате у ее конечной точки А, а длина горизонтальной стороны — координате х конечной точки В.
Теорема Пифагора в данном случае говорит нам, что сумма квадратов горизонтальной и вертикальной сторон, х² + у², есть квадрат длины гипотенузы. Если принять определение, что расстояние между двумя точками А и В есть длина линии, соединяющей их, то мы только что установили, что квадрат расстояния между А и В есть х² + у². А теперь представим любые две точки А и В на плоскости. Мы вполне можем изобразить оси х и у так, чтобы получилась та же ситуация, которую мы только что рассмотрели: А размещается на горизонтальной оси, а В — на вертикальной. Это означает, что квадрат расстояния[125] между любыми двумя точками А и В есть попросту сумма квадратов разниц между их соответствующими координатами.
* * *
Декартова формула для определения расстояния[126] имеет глубокие связи с евклидовой геометрией, и нам еще предстоит в этом убедиться. Но его представление о расстояниях как о функции разниц координат и в общем случае состоятельно; именно оно позднее стало ключевым для понимания природы и евклидовой, и неевклидовой геометрий.
Декарт применил свои прозрения в геометрии ко многим своим знаменитым трудам в физике. Он первым сформулировал закон рефракции света в его современном тригонометрическом виде; ему же принадлежит первое исчерпывающее объяснение физики радуги. Его геометрические методы оказались настолько всеобъемлющими для всех его представлений, что он сам писал: «Вся моя физика есть не что иное как геометрия»[127]. И тем не менее Декарт откладывал издание своих трудов по геометрии координат целых девятнадцать лет, да и вообще ничего не публиковал до своих сорока. Чего он боялся? Да как обычно — Католической церкви.
По многократному настоянию друзей Декарт уже готов был обнародовать свои работы несколькими годами ранее — в 1633-м. И тут этот итальянец по имени Галилей издал труд под названием «Диалог о двух главнейших системах мира»[128]. Симпатичная такая пьеска — трое болтунов разговаривают об астрономии. Явно внебродвейское нечто. Но почему-то отцы Церкви решили разобраться, что к чему, и как-то не впечатлились. Быть может, сочли, что актер, представлявший их птолемеевские воззрения, получил слишком мало реплик. К сожалению, в те дни, если Церковь бралась рецензировать книгу, она рецензировала и автора, а результатом такой рецензии — и для книги, и для автора — мог стать костер. В случае с Галилеем сожгли книгу, а самому Галилею пришлось от нее отречься и — ах да! — от Инквизиции ему еще и достался тюремный срок без возможности откинуться. Декарт фанатом Галилея не был. Он даже написал свою рецензию на книгу итальянца: «Сдается мне, ему (Галилею) не достает вот чего: он постоянно отвлекается и все никак не раскроет во всей полноте ту или иную тему, а это говорит о том, что он в ней не разобрался по порядку…»[129] И все же он разделял гелиоцентрические представления Галилея, а также и другие разумные соображения, и потому принял тяжкую участь Галилео близко к сердцу. Хоть он и жил в протестантской стране, издание своей книги все равно отменил[130].
Но все-таки Декарт наконец собрался с духом и в 1637 году обнародовал первую работу, позаботившись о том, чтобы его труд никоим образом не задевал Церковь. К сорока годам Декарту было что сказать далеко не только о геометрии, и он объединил все накопившееся в одном томе. Под предисловие потребовалось 78 страниц. Оригинальная рукопись носила не слишком хлесткое название: «Рассужденье о вселенской науке, что могла бы возвысить нашу природу до величайших вершин совершенства; далее о диоптрике, о метеорах и геометрии, где любопытнейшие соображения, какие автор смог добыть, дабы доказать вселенскую науку, кою он предлагает, объясняются таким манером, что даже и те, кто никогда не учился, смогут их постичь»[131]. При издании название слегка подсократили — видимо, сотрудники той службы, что в XVII веке выполняла функции отдела издательского маркетинга. И все равно получилось длинновато. Время обточило название до совсем краткого, и ныне эту работу Декарта обычно именуют «Рассуждением» или «Рассуждением о методе».
«Рассуждение о методе» — протяженный трактат, описывающий философию Декарта и его рациональный подход к решению научных задач. «Геометрия», третье приложение, была призвана показать результаты, каких удалось добиться методами, предложенными Декартом. Свое имя он с титульного листа убрал — и не потому, что название заняло всю страницу, а из-за неизбывной боязни преследования. К сожалению, его друг Марен Мерсенн написал вступление и в нем не оставил никаких сомнений в личности автора книги.
Опасения Декарта оправдались: его подвергли жестокой критике[132] — за брошенный Церкви вызов. Даже математическая часть его труда вызвала злобную реакцию. Ферма, который, как мы уже сказали, открыл сходный способ алгебраизации геометрии, взялся цепляться по мелочам. Блез Паскаль, другой гениальный французский математик, отверг работу целиком. И все же частные распри лишь ненадолго могут удержать развитие науки, и всего через несколько лет декартова геометрия стала частью практически любого университетского курса. А вот философию его принимать не торопились.
Яростнее прочих на Декарта нападал человек по имени Воэций — глава богословского факультета Университета Утрехта. Ересь Декарта, по мнению Воэция, была обычного сорта: вера в разум и наблюдение как инструменты определения истины. Декарт же на самом деле пошел еще дальше — он верил, что люди могут властвовать над природой, а также совсем скоро обнаружат лекарства от всех болезней и тайну вечной жизни.
Декарт мало с кем дружил и так и не женился. Любовь же у него все-таки была[133], ее звали Элен. В 1635 году она родила ему дочку — Франсин. Судя по всему, они прожили втроем с 1637 по 1640 год. Осенью 1640-го, в разгар войны с Воэцием, Декарт уехал приглядеть за изданием своей новой книги. Франсин заболела — вся покрылась багровыми пятнами. Декарт поспешил домой. Нам не ведомо, успел ли он вовремя, но девочка умерла на третий день болезни. Декарт и Элен вскоре расстались. Если бы не запись, рассказывающая о ее жизни и смерти, сделанная на клапане обложки одной из книг Декарта, мы бы, может, никогда и не узнали, что Франсин была его дочкой, а не племянницей, как он всем говорил — во избежание скандала. Декарт всю свою жизнь был известен как человек безэмоциональный, а эта смерть раздавила его. После нее он не прожил и десяти лет.
Глава 12. Во льдах Снежной королевы
Через несколько лет после смерти Франсин двадцатитрехлетняя королева Кристина Шведская[134] пригласила Декарта ко двору. В биографическом фильме 1933 года Кристину сыграла Грета Гарбо, и воображение и впрямь рисует изящную юную шведку — эдакую высокую беспечную блондинку. Как водится, голливудская история не вполне близка к истине. Настоящая Кристина была коротышкой, одно плечо выше другого, с низким мужским голосом. Ей не нравилась традиционная женская одежда, по описаниям она смахивала на кавалериста. Говаривали, что еще ребенком королева обожала пушечную пальбу.
К двадцати трем годам из Кристины уже получился суровый десятник, нетерпимый к хлюпикам. Она спала не более пяти часов в сутки и нимало не трепетала от мысли о долгих ледяных зимах Швеции: ведь тогда можно играть в хоккей на асфальте, залитом водой из шланга (если бы хоккей, асфальт и шланги были к тому времени уже изобретены). И сотни лет спустя мы, читая о Декарте, можем предположить, что двор ее шведского величества — не совсем то место, где нашему герою хотелось бы прохлаждаться. И тем не менее Декарт выбрал эту игру. Отчего же?
Кристина была умнейшей женщиной, преданной учению, и ей было одиноко в этом северном краю. Желая создать в своих снегах собственный интеллектуальный эдем, средоточие науки, удаленное от центра Европы, она тратила немалые средства на приобретение томов для грандиозной библиотеки. Как и Птолемей, она собирала книги, но, в отличие от египетского императора, коллекционировала и их авторов. Судьба Декарта оказалась предопределена, когда в 1644 году он встретился и подружился с Пьером Шану. На следующий год Шану отправили в Швецию посланником короля Франции. Прибыв в Швецию, он раструбил о своем друге, а другу воспел Снежную королеву. Кристина согласилась с Шану: Декарт — первостатейная добыча. Она отправила во Францию одного своего адмирала — уговорить Декарта. Пообещала ему кое-что дорогое его сердцу: создать под него академию, которой он станет руководить, и придать ему дом в самой теплой части Швеции (что, задним числом, не самое шикарное предложение). Декарт колебался, но в конце концов согласился. У него не было доступа к сайту прогнозов погоды, но он имел некоторые представления и о шведском климате, и об особе, его пригласившей. За день до отъезда Декарт составил завещание.
Зима, встретившая Декарта в 1649 году, оказалась одной из суровейших в истории Швеции. Если и были у него мечты лежать весь день под множеством толстых одеял, в тепле и уюте, подальше от адского холода снаружи, и размышлять о природе Вселенной, мечты эти были грубо разрушены. Его ежедневно призывали ко двору к пяти утра — давать Кристине пятичасовые уроки морали и этики. Декарт писал другу: «Кажется, самая мысль человеческая замерзает здесь этой зимой — как вода…»
Тем январем друг его Шану, с которым они делили жилище, свалился с пневмонией. Декарт нянчился с другом — и заболел сам. Врач Декарта находился в отлучке, и Кристина отправила к нему другого медика, который оказался заклятым врагом Декарта — тот у многих при дворе вызывал злую зависть. Декарт отказался от услуг этого человека, который в любом случае, вероятно, ничем бы не помог — предписанное им лечение сводилось к кровопусканию. Лихорадка усиливалась. Всю неделю или больше Декарт провел в бреду. В перерывах между припадками забытья он рассуждал о смерти и философии. Надиктовал письмо своим братьям, прося их приглядеть за няней, что ходила за ним в годы его болезненного детства. А несколько часов спустя, 11 февраля 1650 года, Декарт скончался.
Его похоронили в Швеции. В 1663 году цель Воэция наконец была достигнута: Церковь запретила работы Декарта. Однако церковники заметно утеряли свое влияние во многих кругах, и этот запрет лишь подогрел интерес к трудам ученого. Правительство Франции запросило останки Декарта, и в 1666 году, после долгих уговоров, шведское правительство выслало кости Декарта на родину. Ну, бо́льшую часть: череп они оставили себе[135]. Останки Декарта еще не раз после этого перезахоранивали. Ныне они покоятся под маленьким поминальным камнем на кладбище Сен-Жермен-де-Пре. Почти все — за вычетом черепа, который в конце концов прибыл во Францию в 1822 году. В наши дни его экспонируют в стеклянной витрине Музея человека в Париже.
Через четыре года после смерти Декарта Кристина отказалась от трона. Она обратилась в католичество, считая, что своим просветлением обязана Декарту и Шану, и осела в Риме, постигнув, быть может, прелести более теплого климата — вероятно, и этим постижением она обязана Декарту.
Часть III. История Гаусса
Могут ли параллельные прямые пересечься в пространстве?
Гений-любимец Наполеона представляет Евклиду его Ватерлоо. Начинается величайшая революция в геометрии со времен греков.
Глава 13. Революция искривленного пространства
Евклид стремился создать непротиворечивую математическую систему, основанную на геометрии пространства. Следовательно, свойства пространства, проистекающие из евклидовой геометрии, таковы, какими они представлялись древним грекам. Но действительно ли пространство устроено так, как описывал Евклид и количественно определял Декарт? Или возможны и другие варианты?
Неизвестно, вскинул бы Евклид бровь-другую, узнай он, что его «Начала» еще 2000 лет останутся непреложны, но программисты сказали бы, что 2000 лет до выхода версии 2.0 — довольно долго. За это время многое изменилось: мы открыли устройство Солнечной системы, получили возможность рассекать по морям, изобрели карту и глобус, а также прекратили пить разбавленное вино за завтраком. И, кроме того, у математиков развилась поголовная непереносимость к пятому постулату Евклида — о параллельности. Увы, не содержание этого утверждения находили они отвратительным, а то, что место этому допущению было среди теорем.
Те математики, кто на протяжении веков пытался доказать постулат параллельности как теорему, подходили совсем близко к открытию странных и поразительных новых разновидностей пространства, но всяк претыкался на простой убежденности: этот постулат есть истинное и неотъемлемое свойство пространства.
Всяк за исключением одного: пятнадцатилетнего подростка по имени Карл Фридрих Гаусс, которому, так уж вышло, суждено было стать одним из любимцев Наполеона. Озарение, посетившее юного гения в 1792 году, заронило семена новой революции. В отличие от предыдущих, эта принесет не революционное развитие идей Евклида, а совершенно новую операционную систему. Вскоре будут открыты и описаны неведомые изумительные пространства, остававшиеся незамеченными столько веков.
С открытием искривленных пространств возник естественный вопрос: евклидово ли наше пространство — или, может, оно иное? Именно этот вопрос произвел переворот в физике. Но и математику он поверг в недоумение. Если евклидова структура не есть простая абстракция, описывающая истинное устройство пространства, то что же она такое? Если можно усомниться в постулате параллельности, как же тогда быть с остальными евклидовыми построениями? Вскоре после открытия искривленного пространства вся евклидова геометрия рухнула, а за нею — вот те на! — и вся остальная математика. Когда же пыль осела, в новой эпохе очутились не только теория пространства, но и вся физика с математикой.
Чтобы понять, насколько трудно оказалось противоречить Евклиду, стоит задуматься о том, сколь глубоко укоренилось его описание пространства. «Начала» и в его-то времена были классикой. Евклид не только определил природу математики, но его книга играла ключевую роль в образовании и натурфилософии как образец логического мышления. Эта работа имела решающее значение для интеллектуального возрождения в Средние века. Этот труд после изобретения печатного станка в 1454 году издали одним из первых, а с 1533 года и до XVIII века она оставалась единственной греческой работой, напечатанной на языке оригинала[136]. До XIX века любой труд по архитектуре, устройство любого рисунка и картины, любая теория или уравнение, примененные в науке, были евклидовыми по умолчанию. И «Начала», конечно, заслуживали своего великого положения. Евклид превратил наше интуитивное чувство пространства в абстрактную логическую теорию, из которой мы научились выводить все остальное. Быть может, нам стоит благодарить Евклида в первую очередь за то, что он осмелился без стыда оголить свои допущения и никогда не претендовал на то, что доказанные им теоремы есть не более чем логические следствия немногих не доказанных им постулатов. Мы, правда, уже сообщили в части I, что один из его постулатов — постулат параллельности — вызвал неудовольствие практически у всех исследователей, изучавших труды Евклида, поскольку лишен был простоты и интуитивной ясности, свойственной остальным евклидовым допущениям. Вспомним формулировку:
Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.
Евклид, доказывая первые свои двадцать восемь теорем, постулат параллельности никак не использовал. К тому времени он уже доказал утверждение, обратное этому постулату, а также и другие, куда более пригодные для звания аксиом, — вроде фундаментального факта, что сумма длин двух любых сторон треугольника всегда больше длины третьей. Так зачем же ему, зашедшему так далеко, понадобился этот затейливый и вполне технический постулат? Сроки сдачи книги поджимали, что ли?
За 2000 лет, за 100 поколений родившихся и умерших, пока менялись границы, пока возникали и угасали политические системы, а Земля проскочила 1000 миллиардов миль вокруг нашего Солнца, мыслители планеты по-прежнему оставались привержены Евклиду, не ставя под сомнение слов бога своего, кроме одного малюсенького «но»: можно ли как-нибудь все-таки доказать этот дурацкий постулат?
Глава 14. Незадача с Птолемеем
Первую известную нам попытку доказать постулат параллельности произвел Птолемей — во втором веке н. э.[137]. Аргументацию он применил довольно изощренную, но в сути метод оказался прост: он допустил видоизмененную форму постулата и из нее вывел исходный. И что прикажете думать о Птолемее? Он, что ли, жил на территориях, свободных от здравого смысла? Или нам представить, как он несся к друзьям с воплями: «Эврика! Я открыл новый вид доказательства — замкнутого на само себя!»? Математики наступать на эти грабли не стали дважды — они наступали на них снова и снова: как выяснилось, некоторые самые безобидные допущения и кое-какие очевидные настолько, что их оставили недоказанными, оказались замаскированным постулатом параллельности. Связь этого постулата со всей остальной евклидовой теорией столь же тонка, сколь и глубока. Через пару сотен лет после Птолемея Прокл Диадох сделал вторую знаменательную попытку доказать постулат раз и навсегда. Прокл в V веке учился в Александрии, после чего перебрался в Афины, где возглавил Платоновскую академию. Он часами корпел над трудами Евклида. У него был доступ к книгам, давным-давно исчезнувшим с лица Земли, — например, к «Истории геометрии» Евдема, современника Евклида. Прокл написал комментарии к первой книге «Начал», и они стали источником большой части нашего знания о древнегреческой геометрии.
Чтобы разобраться в доказательстве Прокла, полезно сделать три вещи: во-первых, рассматривать альтернативную формулировку постулата, приведенного выше, — аксиому Плейфэра[138]; во-вторых, сделать доказательство Прокла чуточку менее техническим; в-третьих, перевести его с греческого. Аксиома Плейфэра звучит так:
В плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной.
Большинству из нас в современном мире куда понятнее карты и планы улиц, нежели прямые, обозначенные загадочными символами а или X. Поэтому давайте-ка рассмотрим доказательство Прокла в более привычных обстоятельствах — скажем, на примере Пятой авеню в Нью-Йорке. Представим еще одну авеню, параллельную Пятой, и назовем ее Шестой. Не забываем, что под параллельностью, по Евклиду, мы подразумеваем их «непересекаемость», т. е. Пятая авеню не пересекает Шестую.
Высоко над кофейнями и лотками с хот-догами возносится почтенное здание, в котором размещается уважаемое издательство самых качественных на свете книг — «Фри Пресс» (по совпадению — первый издатель этой). Никоим образом не принижая заслуг «Фри Пресс», назначим его на роль «точки, не лежащей на данной прямой».
Затем, в точном соответствии с математической традицией, запомним, что нашими допущениями об этих улицах будут только факты, которые мы упомянули выше. Хотя в целях предметного иллюстрирования доказательства мы имеем в виду именно эти две авеню, как математики мы не можем включать в наше доказательство те свойства этих авеню, которые заранее не оговорили. Если вам известен другой издатель (неудачник — в отношении этой книги, по крайней мере) под названием «Рэндом Хаус», размещающийся дальше по улице, а также что Пятая и Шестая авеню отстоят друг от друга на некоторое расстояние, и что на некоем перекрестке там обитает слюнявый псих, выбросьте это все из головы. Математическое доказательство — упражнение в применении лишь исчерпывающе предложенных фактов, а в евклидовых «Началах» никакие особые свойства Нью-Йорка не значатся. Подобное неоправданное допущение вы, может, сделали бы, не задумываясь, и оно превратило бы все последующие доводы Прокла в ложные.
Итак, мы готовы сформулировать аксиому Плейфэра в предложенных нами терминах:
В плоскости Нью-Йорка через издательство «Фри Пресс», не размещающееся на Пятой Авеню, проходит одна и только одна авеню, параллельная Пятой, т. е. Шестая.
Это утверждение не в точности повторяет аксиому Плейфэра, поскольку мы, как и Прокл, допускаем, что существует хотя бы одна прямая — или улица (Шестая авеню) — параллельная данной (Пятой авеню). Это, вообще-то, еще требуется доказать, но Прокл интерпретировал одну из евклидовых теорем как гарантию этого факта. Примем это допущение и мы, и поглядим, можно ли, следуя логике Прокла, доказать аксиому в предложенной формулировке.
Чтобы доказать этот постулат, т. е. превратить его в теорему, необходимо продемонстрировать, что любая улица, проходящая через «Фри Пресс» и при этом не Шестая Авеню, непременно пересекает Пятую. Вроде бы это очевидно и следует из нашего повседневного опыта — именно поэтому такая улица и называется поперечной. Нам всего-то и надо, следовательно, доказать это без применения постулата параллельности. Начнем с того, что представим некую третью улицу, у которой лишь одно свойство: она прямая и проходит через «Фри Пресс». Назовем ее Бродвеем.
В своем доказательстве Прокл начал бы с того, что двинулся бы от «Фри Пресс» вдоль Бродвея к центру города. Вообразим улицу, идущую от того места Шестой авеню, где остановился Прокл, и перпендикулярную этой самой Шестой авеню. Назовем ее Николай-стрит, см. рисунок на следующей странице.
Николай-стрит, Бродвей и Шестая авеню образуют прямоугольный треугольник. По мере продвижения Прокла в центр города этот треугольник становится все больше.
Доказательство Прокла
Стороны этого треугольника, включая Николай-стрит, могут стать сколь угодно длинными. Отдельно отметим, что протяженность Николай-стрит постепенно сделается больше расстояния между Пятой и Шестой авеню. Следовательно, сказал бы Прокл, Бродвей пересечет Пятую авеню — что и требовалось доказать.
Доказательство это простое, но ложное. Для начала в нем есть малозаметное ошибочное использование концепции «все больше». Николай-стрит может, конечно, удлиняться дальше, но так и не стать длиннее одного квартала, как ряд чисел 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6…, который все отрастает, но так и не переваливает за единицу. Этот недостаток можно исправить. Как и Птолемей, Прокл сделал необоснованное допущение. Он применил свойство параллельных дорог, которое интуитивно зримо, но никак им не доказано. Каково же это допущение?
Ошибка Прокла — в том, что он применил формулировку «Пятая и Шестая авеню отстоят друг от друга». Вспомните наше предупреждение: «…если вам известно… что Пятая и Шестая авеню отстоят друг от друга на некоторое расстояние… выбросьте это все из головы». И хотя Прокл не уточняет, на каком именно расстоянии находятся эти две улицы, он утверждает, что это расстояние постоянно. Таков наш жизненный опыт в отношении параллельных прямых — и Пятой и Шестой авеню, но его никак нельзя математически доказать, не ссылаясь на постулат параллельности, ибо это он и есть.
В сходном тупике оказался и великий багдадский ученый IX века Сабит (Табит) ибн Курра[139]. Его логику можно постичь, вообразив, как Сабит прогуливается по прямой вдоль Пятой авеню, держа мерный шест длиной в один нью-йоркский квартал перпендикулярно той же Пятой авеню. Идет Сабит вдоль Пятой авеню, а конец его мерного шеста какую описывает траекторию? Сабит утверждал, что эта траектория — прямая линия, допустим, Шестая авеню. Из этого допущения Сабит и «доказывал» постулат параллельности. Линия, описываемая дальним концом мерного шеста, — определенно некоторая кривая, но на каком основании можем мы утверждать, что она есть прямая линия? Выясняется, что единственным основанием для этого утверждения является — совершенно верно! — постулат параллельности. Лишь в евклидовом пространстве набор точек, равноудаленных от некоторой прямой, есть прямая. Сабит, таким образом, повторил ошибку Птолемея.
Рассуждения Сабита касаются глубоких аспектов самого понятия пространства. Евклидова система геометрии зависит от возможности двигать фигуры и накладывать их одну на другую. Именно так проверяется конгруэнтность, или эквивалентность, геометрических фигур. Вообразите, что перемещаете треугольник. Естественный способ произвести такое перемещение — взять каждую из трех его сторон, являющихся сегментом прямой линии, и сдвинуть на одно и то же расстояние в одном и том же направлении. Но если набор точек, равноудаленных от данной прямой, не есть прямая, стороны смещенного треугольника перестанут быть прямыми. В процессе движения фигура исказится. А может ли пространство действительно иметь такое свойство? К сожалению, вместо того, чтобы довести это рассуждение до чудесных мест, в которые оно вело, Сабит интерпретировал угрозу искажения как «доказательство», что его допущение о равноудаленности прямых обоснованно.
Вскоре после Сабита исламская поддержка наук иссякла. Один провинциальный ученый жаловался даже, что там, где он жил, узаконили убийство математиков. (Скорее всего, это произошло не от общего презрения к умникам, а оттого, что математики имели привычку изучать астрологию, а ее, так уж исторически сложилось, частенько связывали с черной магией и считали опасной, а не милой безделицей, как сейчас.)
Порядковый номер года по христианскому календарю почти удвоился, когда геометрические труды Сабита и его последователей, наконец, воскресли. Это случилось в 1663 году, когда английский математик Джон Валлис[140] прочитал лекцию, в которой цитировал одного из преемников Сабита — Насира ад-Дина ат-Туси.
Валлис родился в Эшфорде, графство Кент, в 1616 году. Когда ему было пятнадцать, он застал брата за чтением книги по арифметике и сам сильно увлекся этим предметом. И математику не предал, хотя изучал богословие в кембриджском Эммануэл-Колледже, а в 1640 году был рукоположен в священники. На дворе стояли времена, обычно называемые Английской гражданской войной: между королем Карлом I и Парламентом происходили распри с религиозным подтекстом. Валлис преуспел в криптографии — разделе математики, связанном с расшифровкой сообщений; он помогал парламентариям. Говорят, за эти заслуги он и получил в 1649 году в Оксфорде Савилианскую кафедру геометрии[141], после того как его предшественника Питера Тёрнера сместили за роялистские взгляды. Как бы то ни было, Оксфорду такая замена пошла только на пользу.
Тёрнер всегда был просто-напросто дружком архиепископа кентерберийского и вечно описывал квадратуры в правильных политических кругах, но за всю жизнь не опубликовал ни одной математической работы. Валлис же стал ведущим английским математиком доньютоновской эпохи и повлиял на самого Ньютона. Ныне даже не-математики — особенно те, что разъезжают на известной марке дорогого автомобиля, — знакомы с хотя бы одним аспектом его трудов: Валлис ввел символ ∞, обозначающий бесконечность[142].
Валлис предложил преобразовать евклидову геометрию заменой ужасного постулата параллельности другой формулировкой, интуитивно понятной. Примерно такой:
Треугольник с любыми длинами любых сторон можно увеличивать и уменьшать как угодно, изменяя длины сторон, но углы при этом останутся неизменны.
Допустим, у нас есть треугольник, у которого все углы равны 60°, а стороны — единичной длины; можно предположить, что существует другой треугольник, у которого углы тоже равны 60°, но стороны при этом какие угодно: 10, 10, 10 или 1/10, 1/10, 1/10 или 10 000, 10 000, 10 000. Такие треугольники — с пропорционально меньшими или большими сторонами, но с равными соответствующими углами — называются подобными. Если принять аксиому Валлиса, тогда, за вычетом пары преодолимых технических затруднений, постулат параллельности легко доказуем[143] с применением логики, похожей на Проклову. «Доказательство» Валлиса математиками так и не было принято, потому что оно есть, по сути, подмена одного постулата другим. Однако, если мы проследуем логике Валлиса в обратную сторону — придем к изумительному результату: если существует пространство, в котором постулат параллельности недействителен, то подобных треугольников не существует.
Ну и кому какое дело? А вот и нет: треугольники-то повсюду. Рассеките треугольник по диагонали — получите два треугольника. Уприте руку в бок — форма, образуемая при этом вашей рукой и боком, есть треугольник. В самом деле: хоть каждое тело и обладает уникальной формой, любое можно смоделировать при помощи сетки треугольников — с достаточной точностью; именно так устроена трехмерная компьютерная графика. А если подобных треугольников не существует, многие наши повседневные допущения не соответствуют действительности. Взгляните на симпатичный дамский костюм в каталоге одежды: вы ожидаете, что к вам прибудет экземпляр, подобный приведенному в каталоге, пусть даже и в десятки раз больше. Летите любимыми авиалиниями: вы предполагаете, что форма крыла, вполне пригодная для полета авиамоделей, имеет те же дивные свойства и у здоровенного самолета. Наймите архитектора, чтобы тот пристроил к вашему дому парочку дополнительных комнат: вы рассчитываете, что достраиваемые помещения соответствуют архитектурным чертежам. В неевклидовом пространстве этим ожиданиям никак не оправдаться. Ваши одежда, самолет и новая спальня претерпят искажения.
Быть может, такие странные пространства математически и существуют, но могут ли быть такие свойства у реального пространства? Мы бы ведь заметили, правда? Может, и нет. Отклонение в 10 % в форме вашей улыбки ваша мама, вероятно, заметит, а вот в 0,0000000001 % — скорее всего, нет. Неевклидовы пространства — почти евклидовы для маленьких фигур, а мы с вами живем в довольно маленьком углу Вселенной. Как и в квантовой теории, где законы физики принимают странные новые формы, лишь в мирах куда меньших, чем те, с которыми мы имеем дело ежедневно, может существовать искривленное пространство, но оно столь похоже на евклидово, что в масштабах обычной земной жизни мы не заметим разницу. И все-таки — как и в квантовой теории — последствия кривизны для физических теорий могут быть колоссальными.
К концу XVIII века, если бы математики взглянули на свои открытия по-другому, они бы заключили, что неевклидовы пространства существовать могут, а если так, у них могут быть кое-какие странные свойства. Однако вместо этого математики продолжили огорчаться из-за невозможности доказать, что эти странные свойства приводят к противоречиям, а значит, пространство — все-таки евклидово.
Следующие пятьдесят лет революция происходила тайно. Постепенно, за несколько столетий, были открыты новые виды пространств, но о них математическое сообщество либо умалчивало, либо их не замечало. До тех самых пор, пока ученые в середине XIX века не взялись разбираться с бумагами незадолго до этого почившего в бозе старика из немецкого Гёттингена, — тогда-то и открылись секреты неевклидова пространства. К тому времени большинство тех, кто открыл эти пространства, включая старика-немца, поумирало.
Глава 15. Наполеоновский герой
23 февраля 1855 года, Геттинген. Человек, возглавлявший атаку на Евклида, лежал в своей холодной постели, он был стар и каждый вздох давался ему с трудом. Его ослабевшее сердце едва толкало кровь по венам, а легкие переполнялись жидкостью. Карманные часы — тик-так, тик-так — отсчитывали время, что осталось ему на Земле. Но вот они остановились. Почти в тот же миг замерло и его сердце. Подобные символические детали обычно применяют лишь писатели[144].
Несколько дней спустя старика похоронили рядом с безымянной могилой его матери. После его смерти по всему дому обнаружилось немалое состояние, запрятанное по углам — в ящиках комода, в шкафчиках, в столе. Дом его был скромен, крошечный кабинет меблирован лишь столом, бюро и диваном, с одной лампой. Маленькая спальня не отапливалась.
Он провел большую часть жизни несчастным человеком, друзей у него было мало, а взглядов на жизнь он придерживался глубоко пессимистических[145]. Десятки лет преподавал в университете, однако считал эту работу «обременительной и неблагодарной»[146]. Он чувствовал, что «мир, лишенный бессмертия, — бессмыслен»[147], однако сделаться верующим так и не смог. Он удостоился множества почестей, но писал, что «горести превосходят радость стократ»[148]. Он оказался в сердце восстания против Евклида, однако не желал, чтобы об этом узнали. Для ученых-математиков — и тогда, и ныне — этот человек, вместе с Архимедом и Ньютоном, — один из величайших математиков мира.
Карл Фридрих Гаусс родился в немецком Брауншвейге 30 апреля 1777 года, через пятьдесят лет после смерти Ньютона. Семья его обитала в бедном квартале убогого селения через 150 лет после пика его благоденствия. Родители Гаусса принадлежали к той категории населения, которая с немецкой точностью именовалась «полугражданами». Мать — Доротеа — не владела грамотой, работала служанкой. Отец — Гебхард — брался за всякий плохо оплачиваемый рабский труд: копал канавы, клал кирпич, вел бухгалтерию местного похоронного общества.
Внимание: иногда, если о человеке говорят «честный, работящий», дело пахнет керосином. Возникает, знаете ли, такое ощущение, что добром эта характеристика не кончится. Он был человеком честным, работящим. Вот только сынка своего четырнадцать лет держал в чулане — связанным и с кляпом во рту… Предупредив вас, можем сказать вот что: Гебхард Гаусс был человеком честным, работящим.
О детстве Карла Гаусса сохранилось множество историй. Арифметикой он овладел едва ли не раньше, чем научился говорить. Воображение рисует малыша, тыкающего пальчиком в уличного торговца снедью и умоляющего мать: «Есть хочу! Дай!» — а когда желаемое приобретено, он безутешно плачет, потому что не знает, как сказать: «Тебя обсчитали на тридцать пять пфеннигов». Судя по всему, такая картинка недалека от реальности. Самая известная байка о даровании маленького Гаусса, описывает одну субботу — ребенку тогда было года три. Его отец подсчитывал оплату бригады работников. Вычисления заняли некоторое время, и Гебхард не заметил, что за ним наблюдает сын. Представим, что у Гебхарда был нормальный двух-трехлетний сын, которого звали, допустим, Николай. Вероятнее всего, Николай бы, к примеру, опрокинул стакан молока на отцовы расчеты и завопил бы: «Прости меня!» и «Хочу еще молока!» — более-менее на одном дыхании. Карл же сказал примерно следующее: «Тут ошибка в сложении. Правильно будет так…»
Ни Гебхард, ни Доротеа сына никак не натаскивали дополнительно, какое там — Карла вообще никто не учил арифметике. Представим, что Николай сидит в два часа пополуночи на постели и говорит вслух на древнеацтекском, будто он одержим — если не бесами, так уж точно ребенком старше десяти лет. Столь же «естественным» нам показалось бы и поведение Карла. Но его родители привыкли. Приблизительно тогда же Карл сам научился читать.
К сожалению, Гебхард не рвался пестовать талант отпрыска, наняв ему частного преподавателя из школы Монтессори. Оно и понятно: семья была бедная, а Мария Монтессори родится лишь через сто лет. И все-таки Гебхард мог бы найти способ дать сыну образование. Но вместо этого он приставлял малыша к проверке своих расчетов зарплат, а время от времени показывал его друзьям на потеху — устраивал эдакий цирк одного актера. У маленького Карла было плохо со зрением, и он иногда не мог прочитать столбик чисел, которые отец подсовывал ему для сложения. Карлу мешала застенчивость, он ничего не говорил и смирялся с поражением. Вскоре Гебхард стал отправлять Карла работать после обеда — сучить пряжу, чтобы сын поддерживал семейный бюджет.
В зрелые годы Гаусс к отцу с нескрываемым презрением, называя его «высокомерным, неотесанным грубияном»[149]. К счастью, у Карла было еще два родственника, и вот они-то ценили его дарование: мать и дядя Йоханн, брат Доротеи. Гебхард пренебрегал талантом сына и считал формальное образование бессмысленным, а Доротеа и Йоханн верили в дар Карла и противостояли Гебхарду во всем. Для Доротеи сын был радостью и гордостью с самого рождения. Много лет спустя Карл привел в свой скромный дом приятеля по колледжу — Вольфганга Бойяи, совсем не богатого, однако, так уж вышло, венгерского аристократа. Доротеа отвела Бойяи в сторонку и спросила его — что само по себе прогрессивно даже в наши дни, — действительно ли Карл настолько умен, как все о нем говорят, а если да, то куда это может его завести. Бойяи ответил, что Карлу суждено стать величайшим математиком Европы. Доротеа расплакалась.
Карл поступил в свою первую школу в семь лет. Школа эта совсем не смахивала на иезуитскую Ла-Флеш, в которую пришел восьмилетний Декарт и которая позднее прославилась. Напротив, по описаниям эта школа была «убогой тюрьмой» или даже «чертовой дырой». Убогой тюрьмой/чертовой дырой управлял тюремщик/черт/директор по фамилии Бюттнер, что в переводе с немецкого, видимо, означает «А ну делай, как я сказал, не то выпорю». В третьем классе Карлу наконец позволили изучать арифметику, которой он владел с двух лет.
На арифметических занятиях Бюттнер пробуждал интерес юнцов к математике, предлагая им складывать длинные столбцы чисел — до ста штук за раз. Бюттнер, судя по всему, считал, что сам он столь веселых потех не достоин, и поэтому давал ученикам такие числа, кои сам мог сложить без труда, применяя определенные формулы, но он был слишком любезен, чтобы делиться ими с классом.
Однажды Бюттнер поставил детям задачу сложить числа от 1 до 100. Не успел Бюттнер сформулировать задание, как его самый маленький ученик, Карл, сдал свою доску. За час до всех остальных. Когда подошло время проверять сделанное, Бюттнер обнаружил, что Карл единственный из полусотни учеников произвел вычисления безошибочно, и при этом на его доске не значились никакие промежуточные расчеты. Похоже, мальчик постиг формулу суммирования и вычислил ответ в уме.
Говорят, Гаусс открыл эту формулу, заметив, что происходит, если складывать не одно, а два множества чисел от 1 до 100. Далее можно устроить сложение так: складываем 100 и 1, 99 и 2, 98 и 3 и т. д. В итоге получается 100 выражений, каждое равно 101, а значит, сумма всех чисел от 1 до 100 должна быть равной половине результата умножения 100 на 101, или 5050. Это частный случай формулы, известной еще пифагорейцам. Они даже использовали ее в своем тайном обществе как пароль: сумма чисел от единицы до любого другого числа равна половине произведения этого любого (крайнего) числа на него же, увеличенного на единицу.
Бюттнер изумился. На расправу над разгильдяями он был скор, однако и дарование умел оценить по достоинству. Гаусс, начав со временем преподавать математику в колледже, никогда студентов не лупил, но отношение Бюттнера к гению и его презрение к недостатку оного, похоже, унаследовал. Годы спустя Карл напишет с отвращением о трех своих студентах-одногодках: «Один подготовлен очень средне, другой менее чем средне, а третьему не достает ни подготовки, ни способностей…»[150] Этот его комментарий показывает отношение Гаусса к учительству вообще. Студенты же со своей стороны платили ему за презрение взаимностью.
Бюттнер на свои деньги выписал из Гамбурга самый передовой по тем временам учебник арифметики. Возможно, Гаусс наконец обрел наставника, в котором столь остро нуждался. Карл стремительно освоил книгу. К сожалению, она не вызвала у него никаких затруднений. Тогда-то Бюттнер, столь же искусный оратор, сколь и математик, заявил: «Я более ничему не могу его научить», — и сдался; наверное, чтобы вновь сосредоточиться на порке своих менее одаренных учеников, которые успели как-то заскучать. Девятилетний Карл приблизился еще на один шаг к карьере мозолистого трудяги и поедателя сосисок.
И все-таки Бюттнер не оставил гений Гаусса без внимания. Он приставил к мальчику своего одаренного семнадцатилетнего помощника — Йоханна Бартельса. У Йоханна была потрясающая работа: он изготавливал писчие перья и наставлял учеников Бюттнера, как ими пользоваться. Бюттнер знал, что за Бартельсом водится страсть к математике. Вскоре девяти— и семнадцатилетний уже учились вместе — совершенствовали доказательства, приведенные в учебниках, и помогали друг другу овладевать новыми понятиями. Прошло несколько лет. Гаусс стал подростком. Любой, у кого есть ребенок-подросток, кто знаком с подростками или кто им хоть раз был сам, знает: это означает проблемы. В случае Гаусса вопрос стоит так: чьи это проблемы?
Ныне подростковая протестность — это болтаться всю ночь невесть где с подружкой, у которой в языке штифт с бриллиантом. При жизни Гаусса пирсинг себе можно было справить исключительно на поле боя, но протестности против общественных нравов хватало будь здоров. Мощное интеллектуальное движение в Германии в те времена называлось «Sturm und Drang» — «Буря и натиск».
Какое бы немецкое общественное движение ни полюбило слово «буря», стоит держать ухо востро, но это конкретное возглавили Гете и Шиллер, а не Гитлер и Гиммлер. «Буря и натиск» боготворила гений личности и протест против установленных правил. Гаусса не принято считать адептом этого движения, но гением он был и действовал в этой связи своим уникальным способом: он не воевал ни с родителями, ни с политической системой. Он воевал с Евклидом.
В двенадцать лет Гаусс взялся критиковать евклидовы «Начала». Он сосредоточился, как и прочие до него, на постулате параллельности. Но критика Гаусса оказалась свежее и еретичнее. В отличие от своих предшественников, Гаусс не пытался ни нащупать более удобоваримую формулировку постулата, ни признать его необязательность путем доказательства через другие постулаты. Возможно ли, думал Гаусс, что пространство на самом деле искривлено?
К пятнадцати годам Гаусс стал первым математиком в истории, принявшим идею, что может существовать логически непротиворечивая геометрия, в которой постулат параллельности недействителен. Понятное дело, это еще требовалось доказать, и до создания такой новой геометрии путь предстоял неблизкий. Невзирая на дарование, Гауссу-подростку по-прежнему грозило стать очередным землекопом. К счастью для Гаусса и науки в целом, его друг Бартельс знал одного парня, который знал другого парня, который знал парня по имени Фердинанд, герцог Брауншвейгский.
Через Бартельса до Фердинанда дошли слухи о многообещающем молодом человеке с математическим даром. Герцог предложил оплатить ему обучение в колледже. И тут камнем преткновения стал отец Карла. Гебхард Гаусс, видимо, считал, что единственный путь в жизни человека — это копать канавы. Но Доротеа, неспособная прочесть ни одну из книг, которые хотело изучать ее чадо, встала за сына горой. Карлу позволили принять щедрое предложение. В пятнадцать лет он поступил в местную гимназию — приблизительный эквивалент нашей старшей школы. В 1795 году, в восемнадцать, его взяли в Гёттингенский университет.
Герцог и Гаусс сдружились. Герцог продолжал поддерживать Гаусса и после колледжа. Гаусс, наверное, догадывался, что вечно так продолжаться не может. Ходили слухи, что щедрость истощала казну герцога быстрее, чем хотелось бы, да и немолод он был — шестьдесят с лишним, а наследник его мог оказаться куда менее великодушным. Но так или иначе — последующие десять лет были для Гаусса интеллектуально самыми плодотворными.
В 1804 году он влюбился в добрую и приветливую барышню по имени Йоханна Остхофф. Под ее чарами Гаусс, который так часто производил впечатление высокомерного и абсолютно самовлюбленного человека, вдруг стал смиренен и самоуничижителен.
О Йоханне своему другу Бойяи он писал:
Уже три дня этот ангел, едва ль не слишком возвышенный для этой земли, — моя невеста. Я чрезвычайно счастлив… Главная черта ее — тихая преданная душа без единой капли горечи или кислоты. О, насколько же она лучше меня… Я никогда не смел и надеяться на такое блаженство. Я не красив, не галантен, мне ей нечего предложить, кроме честного сердца, исполненного преданной любви. Я уж отчаялся когда-нибудь обрести любовь[151].
Карл и Йоханна поженились в 1805 году. На следующий год у них родился сын Йозеф, а в 1808 году — дочь Минна. Век их счастья оказался недолог.
Осенью 1806 года не болезнь, а рана от мушкета, полученная в сражении с Наполеоном, унесла жизнь герцога. Гаусс стоял у окна в своем доме в Гёттингене и смотрел, как едет на повозке его смертельно раненый друг и покровитель. По иронии судьбы, Наполеон не стал уничтожать родной город Гаусса — из-за того, что «здесь живет величайший математик всех времен».
Смерть герцога, естественно, принесла семье Гаусса финансовые затруднения. Но, как выяснилось, это было меньшее из зол. В последующие несколько лет умерли отец Карла и его заботливый дядюшка Йоханн. А потом, в 1809-м, Йоханна родила их третьего ребенка — Луиса. Роды Минны были трудны, а с рождением Луиса и мать, и младенец тяжко заболели. Через месяц после родов Йоханна скончалась. Вскоре после ее смерти почил и новорожденный. За краткое время жизнь Гаусса потрясала одна трагедия за другой. Но и это еще не все: Минне тоже суждено было умереть молодой.
Гаусс вскоре женился повторно и родил в новом браке еще троих детей. Но для него после смерти Йоханны, похоже, не осталось поводов для радости. Он писал Бойяи: «Это правда — в моей жизни много было того, что чтимо в этом мире. Но поверьте мне, дорогой друг мой, трагедия прошивает мою жизнь красною лентой…»[152] Незадолго до своей смерти в 1927 году один из внуков Карла обнаружил среди писем деда одно, залитое слезами. Поверх этих клякс дед писал:
Одинокий, сную я меж счастливых людей, окружающих меня. И если хоть на мгновенья заставляют они меня забыть о моей печали, она возвращается с удвоенной силой… Даже ясное небо усугубляет мою грусть…
Глава 16. Падение пятого постулата
Гаусса не стали бы считать светилом математики, не повлияй он так глубоко на многие ее области. И тем не менее иногда Гаусса воспринимают как фигуру переходную — скорее как ученого, завершившего разработки, начатые Ньютоном, а не основоположника работ грядущих поколений. В части геометрии пространства это совсем не так: его усилия обеспечили математикам и физикам поле для работы на сто лет вперед. И лишь одно мешало революции произойти: Гаусс хранил свою работу в тайне.
Когда Гаусс в 1795 году стал гёттингенским студентом, он живо заинтересовался вопросом постулата параллельности. Один из преподавателей Гаусса — Абрахам Кёстнер — увлекался на досуге коллекционированием литературы по истории постулата. У Кёстнера даже был студент Георг Клюгель, написавший диссертацию — анализ двадцати восьми неудачных попыток доказать постулат. И все же ни Кёстнер, ни кто другой не готовы были к тому, что подозревал Гаусс: что пятый постулат может быть недействителен. Кёстнер даже говаривал, что лишь сумасшедший стал бы сомневаться в состоятельности постулата. Гаусс держал свое мнение при себе, хотя, как выяснилось, записывал соображения в свой научный журнал, который обнаружили через сорок три года после смерти ученого. Позднее Гаусс пренебрежительно отозвался о Кёстнере, баловавшемся писательством: «Ведущий математик среди поэтов, ведущий поэт среди математиков»[153].
Между 1813 и 1816 годами, уже преподавая математическую астрономию в Гёттингене, Гаусс наконец произвел решительный прорыв, которого ждали со времен Евклида: он составил уравнения, описывающие части треугольника в новом, неевклидовом, пространстве, чью структуру мы теперь называем гиперболической геометрией. К 1824 году Гаусс, похоже, разработал всю теорию целиком. 6 ноября того же года Гаусс написал Ф. А. Тауринусу[154] — юристу немалого ума, развлекавшемуся математикой: «Допущение, что сумма трех углов[155] меньше 180°, приводит к особой геометрии, довольно отличной от нашей[156], что совершенно последовательно, и я развил ее вполне удовлетворительно…» Гаусс эту геометрию никогда не обнародовал и настаивал, чтобы ни Тауринус, ни кто иной не предавали его открытия огласке. Почему? Церкви Гаусс не боялся, он опасался ее пережитков — светских философов.
Во дни Гаусса пути науки и философии еще не окончательно разошлись. Физику знали не как «физику», а как «натурфилософию». Научное мышление уже не карали смертью, но соображения на основе интуиции или веры все равно частенько считали в равной мере осмысленными. Одно модное поветрие особенно веселило Гаусса — «столоверчение»: группа во всем остальном разумных людей усаживалась вокруг стола, все клали на него руки. Примерно через полчаса стол, видимо, заскучав, начинал двигаться или вращаться. Это движение означало, по всей видимости, что-то вроде спиритического послания мертвых. Какие такие послания призраки отправляли живым, не вполне понятно, зато вывод очевиден: мертвые люди предпочитают ставить столы к дальней стене. Представляется, как компания бородатых, облаченных в черные костюмы судейских, семенит вместе со столом, изо всех сил пытаясь удержать руки на заданных местах и увязать перемещение с оккультным анимическим магнетизмом, нежели с приложением собственных сил. В современном Гауссу мире такие явления могли казаться разумными, а вот мысль о том, что Евклид ошибался, — нет.
* * *
Гаусс повидал слишком много ученых, втянутых в изнурительные распри с недоучками, чтобы влезать в нечто подобное самому. Валлис, к примеру, чьи работы Гаусс ценил, оказался вовлечен в ожесточенную дискуссию с английским философом Томасом Гоббсом[157] о том, как лучше всего считать площадь круга. Гоббс и Валлис[158] более двадцати лет публично обменивались оскорблениями, потратив уйму бесценного времени на сочинение памфлетов под названиями «Приметы абсурдной геометрии, деревенского наречия и др. у доктора Валлиса».
Философ, чьих последователей Гаусс боялся более всего[159], был Иммануил Кант, скончавшийся в 1804 году. Физически Кант был Тулуз-Лотреком философов: сутулый, едва ли пяти футов ростом, с сильно деформированной грудной клеткой. В 1740 году он поступил в университет Кёнингсберга на теологию, но обнаружил в себе влечение к математике и физике. Окончив университет, он принялся публиковать работы по философии и стал частным преподавателем и признанным лектором. Около 1770 года он взялся за работу, впоследствии ставшую его самой знаменитой книгой, — за «Критику чистого разума», изданную в 1781-м. Кант отмечал, что геометры его дней обращались в своих «доказательствах» к здравому смыслу и графическим изображениям, и считал, что от претензий на строгость[160] следует отказаться, а вместо этого полагаться на интуицию. Гаусс придерживался противоположного мнения[161]: строгость необходима, а большинство математиков — некомпетентны.
В «Критике чистого разума» Кант называл евклидово пространство «неизбежной необходимостью мысли»[162]. Гаусс не отметал идеи Канта прямо с порога. Он с ними сначала ознакомился, а потом их отмел. Более того, говорят, Гаусс, в попытке постичь Канта, прочел «Критику чистого разума» пять раз, а это, знаете ли, немалый труд для человека, освоившего русский и греческий с меньшим усилием, чем большинству из нас требуется для отыскания Χωριάτικη Σαλάτα[163] в афинском меню. Внутренняя борьба Гаусса становится понятнее, если представить, с какой ясностью Кант формулировал мысли о различии между аналитическим и синтетическим суждениями:
Во всех суждениях, в которых мыслится отношение субъекта к предикату (я имею в виду только утвердительные суждения, так как вслед за ними применить сказанное к отрицательным суждениям нетрудно), это отношение может быть двояким. Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытом виде) в этом понятии А, или же В целиком находится вне понятия А, хотя и связано с ним. В первом случае я называю суждение аналитическим, а во втором — синтетическим[164].
В наши дни математики и физики нимало не беспокоятся, что об их теориях скажут философы. Знаменитый американский физик Ричард Фейнман[165] на вопрос, что он думает о философии, дал емкий ответ, состоящий из трех букв: первая — «х», две остальные — характерное окончание «-ня»[166]. Но Гаусс воспринял работу Канта всерьез. Он писал, что различие между аналитической и синтетической мыслью, приведенное выше, «таково, что либо вязнет в тривиальности, либо ложно». Но мыслями этими — так же, как и своими теориями о неевклидовом пространстве, — он делился лишь с теми, кому доверял. Причуда истории, из-за которой вскинуто было немало бровей: Гаусс-то своих революционных работ 1815–1824 годов не публиковал — в отличие от двух других его современников.
* * *
23 ноября 1823 года Йоханн (Янош) Бойяи, сын старинного друга Карла Гаусса, Вольфганга Бойяи, написал отцу, что «создал новый, иной мир из ничего»[167], имея в виду свое открытие неевклидова пространства. В тот же год в российском городе Казань Николай Иванович Лобачевский в своем неизданном учебнике геометрии осмыслил последствия нарушения пятого постулата. Лобачевский учился у Йоханна Бартельса, в те времена служившего профессором в Казани. И Вольфганг Бойяи, и Бартельс давно интересовались неевклидовым пространством и много обсуждали с Гауссом его соображения на этот счет.
Совпадение? Гений Гаусс открывает великую теорию и рад обсудить ее с друзьями, но отказывается ее публиковать. Вскоре после этого друзья и родственники этих друзей вдруг, откуда ни возьмись, выходят и заявляют, что они сделали точно такое же великое открытие. Это стечение обстоятельств породило как минимум одну песенку о Лобачевском[168] — с обвинительным текстом: «Ворец идей, ты не своди очей с чужих затей…» Однако большинство историков в наши дни считает, что передался скорее дух, нежели конкретика трудов Гаусса, а Бойяи и Лобачевский не ведали о работе друг друга — во всяком случае, в свое время.
К сожалению, не ведал никто. Ключевых для науки высоколобых математиков никто не слушал. Лобачевский свою работу опубликовал, а толку? Она вышла в никому не известном русском журнале «Казанский вестник». А Бойяи похоронил свой труд в приложении к одной из отцовых книг под названием «Tentamen» («Опыт»). Четырнадцать с чем-то лет спустя Гаусс наткнулся на статью Лобачевского, а Вольфганг написал ему о работе сына, но Гаусс по-прежнему не собирался издавать свои труды — он не желал оказаться в эпицентре скандала. Написал Бойяи вежливое поздравительное письмо (отметив, что сам уже достиг сходных результатов) и великодушно выдвинул Лобачевского в члены-корреспонденты Королевского научного общества Гёттингена (и в 1842 году того немедленно избрали).
Янош Бойяи не обнародовал более ни единой математической работы[169]. Лобачевский же стал успешным функционером, а впоследствии — и ректором Казанского университета. Бойяи и Лобачевский, быть может, так бы и растаяли вдали, если бы не связь с Гауссом. Как ни парадоксально, однако именно смерть Гаусса в итоге привела к неевклидовой революции.
Гаусс крайне педантично относился к хронике событий, связанных с его персоной. Он увлеченно собирал некоторые странные данные[170] — например, продолжительности жизни умерших друзей в днях, или число шагов от обсерватории, в которой он трудился, до различных мест, которые ему нравилось навещать. Он и работу свою датировал пофазно. После его смерти ученики набросились на его записи и корреспонденцию. Там они обнаружили его труды, посвященные неевклидову пространству, а также статьи Бойяи и Лобачевского. В 1867 году их включили во второе издание влиятельного сборника Рихарда Бальцера «Elemente der Mathematik». Совсем скоро они стали стандартными опорными ссылками для тех, кто работал над новой геометрией.
В 1868 году итальянский математик Эудженио Бельтрами упокоил раз и навсегда тему доказательства постулата параллельности: он доказал, что евклидова геометрия образует непротиворечивую математическую структуру, и так же ведут себя новооткрытые неевклидовы пространства. Непротиворечива ли евклидова геометрия? Мы еще увидим, что это пока ни доказано, ни опровергнуто.
Глава 17. Блуждания в гиперболическом пространстве
Что же за птица это неевклидово пространство? Гиперболическое пространство, открытое Гауссом, Бойяи и Лобачевским получается, если заменить постулат параллельности допущением, что для любой данной прямой есть не одна, а несколько параллельных прямых, проведенных через ту или иную точку, не лежащую на данной прямой. Одним из следствий этого, писал Гаусс Тауринусу, является то, что сумма всех углов в треугольнике всегда меньше 180° на величину, которую Гаусс назвал угловым дефектом. На другое следствие наткнулся Валлис: подобных треугольников в таком пространстве не существует. Эти два следствия связаны между собой, поскольку угловой дефект зависит от размеров треугольника. Чем больше треугольник, тем больше угловой дефект, а маленькие треугольники — более евклидовы. В гиперболическом пространстве к евклидовым формам можно приблизиться, но достигнуть их нельзя — в точности как вы не достигнете скорости света или своего идеального веса.
Вроде бы малое изменение простой аксиомы — постулата параллельности, однако его хватило, чтобы породить волну, прокатившуюся по всему корпусу евклидовых теорем и поменявшую каждую, что описывала форму пространства. Словно Гаусс вынул стекло из евклидова окна и заменил его на искажающую линзу.
Ни Гауссу, ни Лобачевскому, ни Бойяи не удалось выработать простой способ наглядно иллюстрировать этот новый вид пространства. Это получилось у Эудженио Бельтрами и — попроще — у Анри Пуанкаре, математика, физика, философа и двоюродного брата будущего президента Франции Раймона. И тогда, и ныне Анри — менее известный Пуанкаре, но, как и его кузен, умел ввернуть словцо. «Математиками рождаются, а не становятся», — писал Пуанкаре. Так родилось это клише, и Анри прочно закрепил за собой место в народном сознании. А вот труд Анри 1880 года куда менее известен вне академических кругов — в этой работе он определил четкую модель гиперболического пространства[171].
Создавая свою модель, Пуанкаре заменил базовые элементы типа прямой и плоскости вещественными объектами, после чего перевел аксиомы гиперболической геометрии в эти новые термины. Допустимо переводить неопределенные термины пространства как кривые или поверхности — или даже как разновидности еды, если при этом смысл, который им сообщается применимыми к ним постулатами, хорошенько определен и непротиворечив. Можно смоделировать неевклидову плоскость как поверхность зебры, считать волосяные луковицы на ее шкуре точками, а полосы — линиями, если нам так хочется, покуда такой перевод не противоречит аксиомам. Например, вспомним первый постулат Евклида применительно к пространству зебры:
1. От всякой волосяной луковицы до всякой волосяной луковицы можно провести кусок полосы.
Этот постулат в пространстве зебры недействителен: у полос зебры есть ширина, и полосы эти размещаются на животном в строго определенном направлении. Между двумя волосяными луковицами, расположенными вдоль какой-нибудь полосы, но смещенными от нее в стороны, не получится провести кусок полосы. Зебр в модели Пуанкаре не было. Зато она была похожа на блин.
Вот как устроена Вселенная Пуанкаре: вместо бесконечной плоскости — конечный диск, вроде блина, но бесконечно тонкий и с идеальной круговой кромкой. «Точки» — такие штуки, которые считались точками со времен Декарта: местоположения, вроде кристалликов мелкого белого сахара. Линии Пуанкаре — вроде изогнутых бурых следов от сковородки. Если же говорить технически, эти линии — «любые дуги окружностей[172], пересекающие границу диска под прямыми углами». Чтобы не путать их с линиями, которые нам подсказывает интуиция, станем называть их линиями Пуанкаре.
Собрав эту физическую картинку, Пуанкаре должен был придать смысл применимым к ней геометрическим понятиям. Одним из важнейших оказалась конгруэнтность — то самое докучливое свойство фигур, которое Евклид предписал нам проверять путем наложения. В своем четвертом «общем замечании» Евклид писал:
4. И совмещающиеся друг с другом равны между собой.
Как мы уже говорили, возможность перемещать фигуры в пространстве, не искажая их, нам гарантирована лишь при условии принятия евклидовой формы постулата параллельности. Поэтому применение общего замечания № 4 в рецепте конгруэнтности — ни-ни в неевклидовом пространстве. Решение Пуанкаре — интерпретировать конгруэнтность путем определения системы измерения длин и углов. Две фигуры в таком случае окажутся конгруэнтными, если длины их сторон и углы между ними совпадут. Вроде очевидно, да? Но все не так-то просто.
Определение способа измерения углов оказалось вполне лобовым. Пуанкаре определил угол между двумя линиями Пуанкаре как угол между их касательными в точке пересечения этих линий. А вот чтобы ввести определение длин — или расстояний, — Пуанкаре пришлось попотеть. С постижением этого понятия могут возникнуть трудности, поскольку Пуанкаре запихнул бесконечную плоскость в конечную область. Например, вспомним второй постулат:
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.
Очевидно, применение обычного определения расстояний к блину делает постулат недействительным. Но Пуанкаре переопределил расстояние: новое пространство сжимается по мере приближения к его краям, и именно так конечная область превращается в бесконечную. На первый взгляд все просто, но Пуанкаре не мог просто взять и определить расстояние по своему произволу — чтобы стать приемлемым, его определение должно было удовлетворять многим требованиям. Например, расстояние между двумя точками должно быть всегда больше нуля. Кроме того, в точном математическом выражении, выбранном Пуанкаре, линия Пуанкаре должна была соединять любые две точки по кратчайшей траектории, возможной между ними (такие линии называются геодезическими ): в точности как обычные линии есть кратчайший путь между двумя точками в евклидовом пространстве.
Если вдуматься во все фундаментальные геометрические понятия, необходимые для определения гиперболического пространства, выяснится, что модель Пуанкаре приводит к непротиворечивому определению каждого. Мы можем проверить остальные, но интереснее всего рассмотреть именно постулат параллельности. Гиперболическая версия его, данная в модели Пуанкаре в форме аксиомы Плейфэра, выглядит так:
В плоскости через точку, не лежащую на данной линии Пуанкаре, можно провести множество других линий Пуанкаре, не пересекающих данную.
Рисунок на странице 179 иллюстрирует, как это выглядит.
Модель Пуанкаре для гиперболического пространства — лаборатория, где легко разобраться с кое-какими необычными теоремами и свойствами, которые математики с таким трудом пытались обнаружить. Предположим, например, что надо изобразить прямоугольник, не существующий в неевклидовом пространстве. Начертим для начала линию Пуанкаре в качестве базовой. Затем — еще два отрезка линий Пуанкаре, по одну и ту же сторону от базовой и перпендикулярные ей. Наконец соединим два отрезка третьим так, чтобы он, как и базовая линия, был перпендикулярен этим двум отрезкам. Это невозможно. В мире Пуанкаре не бывает прямоугольников.
Чего же Пуанкаре добился всем этим? Воображение рисует нескольких очкастых математиков Парижского университета: они по окончании семинара о модели Пуанкаре из вежливости аплодируют умнику Анри. Быть может, они даже приглашают Пуанкаре после его лекции на абсент или блинчик, на котором потом рисуют вареньем прямоугольники. Но зачем кому бы то ни было через сто с лишним лет писать книгу обо всем этом? Или вам — умному и очень занятому читателю — разбираться в ней?
Соль шутки вот в чем: модель Пуанкаре — не просто модель гиперболического пространства. Это и есть гиперболическое пространство (в двух измерениях). На языке математики это означает, что ученые доказали: все мыслимые математические описания гиперболической плоскости — изоморфны, или, говоря нашим с вами языком, одинаковы. Если наше пространство гиперболическое, оно поведет себя в точности как модель Пуанкаре (но только в трех измерениях). Перефразируя диснеевскую песенку, он вообще-то мал, этот блин[173].
Параллельные линии в гиперболическом и евклидовом пространствах
* * *
Через пару десятилетий после открытия гиперболического была открыта еще одна разновидность неевклидова пространства — эллиптическое. Оно получается при другом нарушении постулата параллельности: не существует никаких параллельных линий (т. е. все линии на плоскости должны пересекаться). В двух измерениях этот тип пространства был известен и в другом контексте изучен еще греками, а потом и Гауссом — но ни те, ни другой так и не прониклись важностью этого примера эллиптического пространства. Оно и понятно: в пределах евклидовой системы было доказано, что даже с допущениями альтернативных формулировок постулата параллельности эллиптических пространств не существует[174]. В конце концов загвоздка заключалась не в самих эллиптических пространствах, а в аксиоматической структуре Евклида.
Глава 18. Букашки, звать их «род людской»[175]
Десять лет, начиная с 1816 года[176], Гаусс провел по большей части вдали от дома — руководил огромной работой по изучению местностей в Германии; ныне мы называем такие работы геодезической съемкой. Перед исследователями стояла задача измерения расстояний между городами и другими точками на местности и создания соответствующих карт. Это упражнение не так просто, как может показаться, — по нескольким причинам.
Первая трудность, которую пришлось преодолевать Гауссу, заключалась в ограниченных возможностях геодезических инструментов. Прямые линии приходилось строить из коротких отрезков, всякий раз — с определенной погрешностью измерения. И погрешности эти очень быстро накапливались. Гаусс с этой неувязкой взялся справляться не как любой нормальный исследователь, вроде автора этой книги, т. е. не стал ожесточенно рвать на себе волосы и время от времени орать на собственных детей, а тем временем по чуть-чуть приращивать точность измерения и затем публиковать результат в таких формулировках, чтобы звучало как можно солиднее. Нет, Гаусс разработал ключевую для современной теории вероятности и статистики идею — теорему, согласно которой случайные погрешности распределяются относительно среднего значения в виде колоколообразной кривой.
Разобравшись с задачей погрешностей, Гаусс взялся за следующую: как собрать двухмерную карту из данных о трехмерном пространстве, в котором поверхности имеют разную высоту и кривизну. Основная трудность заключается в том, что поверхность Земли имеет не ту же геометрию, что евклидова плоскость, — такова математическая версия бытового затруднения, какое испытывает любой родитель, когда-либо пытавшийся завернуть мяч в подарочную бумагу. Если вы как родитель эту проблему преодолеваете, нарезав бумагу маленькими квадратами и обклеив ими мяч, значит, вы применяете Гауссов подход — с поправкой на технические нюансы. Эти самые нюансы Гаусс опубликовал в статье 1827 года. С тех пор вокруг этой статьи образовалось целое отдельное направление математики — дифференциальная геометрия.
Дифференциальная геометрия — теория искривленных поверхности, в которой поверхность описывают методом координат, изобретенных Декартом, после чего анализируют при помощи дифференциального счисления. Вроде вполне частная теория, применимая, допустим, к кофейным чашкам, крыльям самолетов или к вашему носу — но не к устройству нашей Вселенной. У Гаусса было иное мнение. В статье он отразил два своих главных озарения. Перво-наперво заявил, что саму по себе поверхность можно считать пространством. Можно, иными словами, считать пространством поверхность Земли, чем она в бытовом смысле и являлась — до эпохи воздухоплавания, во всяком случае. Вероятно, Блейк не имел всего этого в виду, когда сочинил строку «Увидеть мир в одной песчинке»[177], но в итоге поэзия сомкнулась с математикой.
Еще одно революционное открытие Гаусса: кривизну заданного пространства можно изучить исключительно в его пределах, без оглядки на большее пространство, которое может содержать, а может и не содержать заданного. Технически говоря, геометрия искривленного пространства может быть изучена без учета евклидова пространства большей размерности. Мысль о том, что пространство может «искривляться» само по себе, а не во что-то еще, позднее оказалась необходимой для общей теории относительности Эйнштейна. В конечном счете, коль скоро мы не можем выбраться за пределы нашей Вселенной и взглянуть на ограниченное трехмерное пространство, в котором обитаем, со стороны, лишь такая теорема оставляет нам надежду на определение кривизны нашего мира.
Чтобы понять, как нам определить кривизну вне зависимости от пространства снаружи, представим Алексея и Николая двухмерными существами в цивилизации, жестко привязанной к поверхности Земли. Насколько их опыт отличается от нашего — за вычетом воздушных перелетов, покорений Эвереста и того факта, что рекорд по прыжкам в высоту у этой цивилизации — ноль?
Вот, к примеру, эти самые прыжки в высоту. Дело не в том, что Алексей никак не может оторваться от земли, — для него не существует самого понятия такого отрыва. И нам, «трехмерникам», нечего тут задаваться. В эту самую минуту на какой-нибудь гулянке у четырехмерных существ одна-другая умиленная душа, быть может, потягивает «маргариту» и постигает нашу с вами ограниченность. Раса ползучих букашек, мы и помыслить не можем о прыжках «в высоту» в их четырехмерном пространстве.
Также требует пояснений и неспособность Алексея и Николая влезть на Эверест. Ясное дело, добраться до вершины они могут — это же все равно часть земной поверхности. Но у них не будет представления о перемене высоты. Алексей выходит из лагеря у подножия и движется к вершине, а то, что нам известно как земное тяготение, будет для него загадочной силой, которая тянет его назад к стоянке, словно горный пик наделен странным свойством отталкивания.
Помимо этой загадочной силы, Алексей и Николай переживают искривление геометрии пространства. К примеру, любой треугольник, в котором содержится гора, включает в себя до странности большое пространство. Оно и понятно: поверхности горы больше площади ее основания, но Алексей и Николай воспримут это как искажение пространства.
Алексею и Николаю невдомек, что существуют палочки, воткнутые в песок; они не могут наблюдать никакого Солнца, отбрасывающего тени от этих палочек. Лодка, исчезающая за горизонтом, для них — плоская, у нее ни корпуса, ни мачт. Все подсказки о том, что наша планета круглая, подмеченные древними, исчезнут, а Николаю и Алексею будет известны лишь расстояния и отношения между точками в их пространстве. Без намеков из третьего измерения Евклид и сам заключил бы, что это пространство — неевклидово.
Треугольники на глобусе
Представим древнего ученого по имени Неевклида. Сидит она себе в своем кабинете в академии и приходит к тем же выводам, что и наш старик Евклид. Но прежде чем обнародовать свои «Начала», она желает проверить, приложимы ли ее теории к пространству за пределами стен академии, т. е. к широкомасштабной геометрии пространства. Ее ученик Алексей приносит ей карту из библиотеки — см. рисунок на стр. 185. На карте видно, что габонский Либревиль располагается на нулевой широте, 9° ВД в вершине прямоугольного треугольника, две другие вершины которого приблизительно приходятся на нигерийский Кано (24°) и угандийскую Кампалу. Одна из основных теорем евклидовой геометрии — теорема Пифагора. Неевклида просит Алексея произвести расчеты и проверить ее. Алексей докладывает:
Сумма квадратов катетов: 3 444 500
Квадрат гипотенузы: 3 404 025
Неевклида, взглянув на результаты, выговаривает Алексею: нерадивый ты счетовод. Однако, проделав повторный расчет собственноручно, Неевклида обнаруживает, что Алексей прав. Тогда Неевклида применяет другой оборонительный прием теоретика: она списывает расхождения в расчетах на экспериментальную ошибку. Отправляет в библиотеку другого своего ученика, Николая, чтобы он собрал больше данных. Николай возвращается с координатами вершин треугольника пообширнее: Либервиль, итальянский Кальяри (39° CШ) и колумбийская Лерида (71° ЗД). Этот треугольник тоже отображен на карте. Николай вычисляет:
Сумма квадратов катетов: 38 264 845
Квадрат гипотенузы: 32 455 809
Неевклиде все это не нравится. Расхождение стало еще больше. Как мог ее коллега Непифагор так сильно ошибаться? Как так вышло, что Неевклида, померив уйму треугольников, ни разу не заметила этой нестыковки? «Те треугольники, — вмешивается Алексей, — были крошечными, а эти — громадные». Николай замечает, что чем больше треугольник, тем больше расхождение. Он выдвигает предположение, что все треугольники, которые им приходилось изучать, они измеряли в их крошечной лаборатории или в городе, и расхождения оказывались столь малы, что остались незамеченными.
Неевклида решает потратить кое-какие грантовые деньги и отправить Алексея и Николая в экспедицию в Нью-Йорк. Там по ее поручению, на 40°45’ СШ и 74°00’ ЗД, Николаю предстоит пройти расстояние в десять минут долготы на запад и оказаться примерно в центре Ньюарка. Николаю же поручено пройти десять минут широты на север — он окажется таким образом в Нью-Милфорде, штат Нью-Джерси. С хорошей точностью эти три точки образуют прямоугольный треугольник со следующими длинами сторон: Нью-Йорк — Нью-арк 8,73 мили; Нью-Йорк — Нью-Милфорд 11,53 мили; Нью-Милфорд — Ньюарк, 14,46 мили.
Неевклида проверяет выполнение теоремы Пифагора:
Сумма квадратов катетов: 209
Квадрат гипотенузы: 209
Для достаточно маленьких треугольников все получается. У Неевклиды в голове уже созревают зачатки неевклидовой геометрии, и она отправляет своих учеников в еще одну, последнюю экспедицию.
На сей раз Алексею и Николаю предстоит пройти по морю от Нью-Йорка до Мадрида (40° CШ, 04° ВД), т. е. практически строго на восток. Этот путь им нужно проделать не единократно, всякий раз слегка меняя маршрут и измеряя точную протяженность пути. Их задача, как некогда у Колумба, — выявить кратчайшее расстояние между этими заданными точками, или обнаружить геодезическую прямую. Работа эта — на несколько лет, но статья, которую потом можно опубликовать, обещает настоящий фурор.
Если плыть по прямой от Нью-Йорка до Мадрида, т. е. строго вдоль линии широты, выйдет ли маршрут кратчайшим? Нет. Оказывается, нужно плыть вдоль странной кривой, обозначенной на карте, сначала направляясь на северо-восток, а потом постепенно сворачивая на юг, покуда курс не выровняется на юго-восток. Той же траекторией катится шар для боулинга, если ничто ему не мешает, и мигрируют некоторые гениальные птицы[178], например, американские ржанки или таитийские кроншнепы. Так же натягивали от точки к точке веревку и двухмерные египетские умельцы-строители.
Все это легко понять, если представить, как выглядит Земля из космоса. «Строго на восток» в странствиях по глобусу не реализуется, поскольку направления «север» и «восток» — не фиксированные. При перемещении из Нью-Йорка в Мадрид направления, называемые «на восток» или «на север», вращаются в трехмерном пространстве. Кратчайшая траектория между Нью-Йорком и Мадридом — или между любыми другими двумя точками на земном шаре — кривая, называемая большим кругом (это круг на земном шаре, центр которого совпадает с центром Земли; это самые большие окружности, какие можно изобразить на земной поверхности, отсюда и название). Большие круги — аналоги линий Пуанкаре во вселенной Пуанкаре, линии, которые мы по привычке называем прямыми, и они выполняют роль прямых в евклидовых аксиомах. Линии широт — большие круги, равно как и экватор, но лишь он — кривая с постоянной широтой (центры всех остальных кругов с постоянной широтой располагаются выше или ниже по оси Земли).
Нью-Йорк — Мадрид
Вид из космоса местным вроде Неевклиды не ведом. Для нее «центра Земли» не существует, а также не существует «космоса», и Гаусс доказал, что такое возможно. Неевклида, воодушевленная результатами Алексея и Николая, заключила бы, что пространство, в котором она живет, — неевклидово: не гиперболическое, а похожее на поверхность шара, т. е. эллиптическое.
В неевклидовом пространстве все большие круги пересекаются. Суммы углов в треугольнике всегда больше 180° (в гиперболическом пространстве — меньше). В треугольнике, образованном экватором и двумя линиями долгот, соединяющих экватор с Северным полюсом, к примеру, сумма углов составляет 270°. Как и в случае гиперболического, это пространство на малых расстояниях тоже смахивает на евклидово, оттого отклонения так долго и не замечали. Например, превышение суммы углов в треугольнике привычных 180° уменьшается по мере уменьшения самих треугольников.
Геометрия эллиптического пространства, называемая сферической, хорошо известна еще с античных времен. Большие круги еще тогда знали как геодезические. Геометрические формулы, описывающие части сферических треугольников, — уже обнаружены и применялись в картографии. Но эллиптические пространства не вписывались в евклидову парадигму, и открытие эллиптичности пространства земного шара досталось одному из учеников Гаусса — Георгу Фридриху Бернхарду Риману. Он совершил это открытие, когда жизнь Гаусса клонилось к закату, но именно оно, как никакое иное, в конце концов привело к революции искривленного пространства.
Глава 19. Повесть о двух инопланетянах
Георг Риман[179] родился в 1826 году в маленькой деревне Брезеленц, неподалеку от мест, где появился на свет Гаусс. В семье Риманов было шестеро детей. Двум его сестрам, да и ему самому, выпала судьба умереть молодыми. Его мать скончалась, когда он был еще мал. До десяти лет его обучал дома отец, лютеранский пастор. Риман больше всего любил историю, особенно — польского национального движения. Серьезный юный Георг явно не производил впечатления души компании — он ею и не был. Напротив — выказывал патологическую застенчивость и скромность. И гениальность. Приверженцы конспирологических теорий предположили бы, имея в виду Гаусса и Римана, что в начале XIX века под немецким Гамбургом некая высшая инопланетная раса основала колонию и подбросила двум нищим местным семьям гениальных младенцев. И хотя никаких анекдотов о гениальном детстве Римана, в отличие от детства Гаусса, не сохранилось, похоже, Риман уже тогда был чуточку умнее, чем положено всем нам.
Когда Риману исполнилось девятнадцать, директор его гимназии, человек по имени Шмальфус, дал ему кое-что занимательное — книгу Адриена Мари Лежандра[180] «Théorie des nombres» («Теория чисел»), что математически эквивалентно выдаче юному Риману штанги для установления мирового рекорда по жиму от груди стоя. Штанга эта весила 859 страниц — обширных, плотных, набитых от края до края абстрактной теорией. Грыжа гарантирована: лишь чемпион мог бы справиться с таким весом — при этом обильно потея и кряхтя. Для Римана же эта книга оказалась суперлегким весом, судя по всему, — захватывающим чтением, не требующим никакой сосредоточенности. Он вернул том через шесть дней с комментарием вроде: «Приятно было почитать». Через несколько месяцев Риман сдал экзамен по содержанию книги — с отличным результатом. Позднее Георг внесет свой фундаментальный вклад в теорию чисел.
В 1846 году все еще девятнадцатилетний Риман поступил в Университет Гёттингена, где преподавал Гаусс. Риман начал студентом-теологом — вероятно, рассчитывая молиться за угнетенных поляков. Однако вскоре переключился на предмет своей первой любви — математику. Недолго побыв в Берлине, в 1849 году Риман вернулся в Гёттинген, чтобы завершить работу над диссертацией. В 1851 году он сдал свой труд на суд в том числе и Гаусса, который к тому времени уже стал легендой и был столь же легендарно строг со своими студентами.
Реакция Гаусса на работу Римана оказалась такой, какую он демонстрировал в редких случаях, когда его впечатляли чьи-то математические успехи. Гаусс писал[181], что Риман выказал «творческий, деятельный, поистине математический ум и… великолепно плодотворное воображение», а также добавил, что он, Гаусс, произвел сходную работу, но не опубликовал. (Посмертное исследование трудов Гаусса показало, что все подобные его заявления ложью не были.) Риман пришел в восторг. В 1853 году ему исполнилось двадцать семь и он двигался к финишу на длинном пути к преподаванию в Гёттингене. В Германии тех времен подобная академическая позиция приносила не скромные деньги, какие платят за нее ныне. Она не приносила никаких денег. Многим из нас такое положение дел видится несколько ущербным. Риман же алкал этого звания — ступеньки к профессорству. А студенты, бывало, не скупились на чаевые.
Оставалось преодолеть последнее препятствие — прочитать пробную лекцию. Риман представил факультету на выбор три темы. Такова была традиция — выбирать тему лекции нового преподавателя. На всякий случай Риман хорошенько подготовился к первой и второй. Гаусс, баловник эдакий, выбрал третью.
Третьим вариантом Риман предложил тему, которая, очевидно, его интересовала, но он в ней разбирался неважно. Большинство академических ученых, проходя собеседование на работу и специализируясь на политике Люксембурга, не станут предлагать тему пробного выступления «О шриланкийских рептилиях», даже если она стоит третьей в их списке интересов. Когда Гаусс, к тому времени уже тяжело больной и уведомленный врачом о близкой смерти, выбрал третью тему Римана, тот, возможно, спросил себя: «О чем я вообще думал?» Эта самая третья тема звучала так: «Uber die Hypothesen welche der Geometrie zu grunde liegen» («О гипотезе, лежащей в основе геометрии»). Формулируя эту тему, он знал, как дорога она была Гауссу практически всю его жизнь.
Дальнейшее состояние Римана понятно: несколько недель он переживал что-то вроде нервного срыва — пялился в стену, парализованный свалившимся бременем. Наконец, с приходом весны, он как-то собрался и за семь недель склепал лекцию. Прочитал он ее 10 июня 1854 года. Это был тот редкий случай в истории, когда точная дата и подробности профессионального собеседования сохранились для потомков.
Риман представил свою лекцию в контексте дифференциальной геометрии, сосредоточившись на свойствах бесконечно малых областей поверхности, нежели на ее общих геометрических свойствах. По сути, Риман неевклидову геометрию как таковую ни разу и не помянул. Но последствия его работы были очевидны: Риман объяснил, каким образом сферу можно интерпретировать как двухмерное эллиптическое пространство.
Подобно Пуанкаре, Риман дал свою интерпретацию понятий «точка», «прямая» и «плоскость». В качестве плоскости он выбрал поверхность сферы. Его точки, как и у Пуанкаре, были местоположениями — в том же смысле, в каком Декарт имел в виду пары чисел, они же координаты (по сути — широта и долгота той или иной точки). Линиями Римана оказались большие круги — геодезические линии сферы.
Как и для модели Пуанкаре, необходимо было подтвердить, что модель Римана допускает непротиворечивые интерпретации постулатов. Сейчас самое время вспомнить, что уже доказана невозможность существования эллиптического пространства. Разумеется, обнаружилось, что в модели Римана имеются кое-какие нестыковки. Мало создать пространство на основе новой версии постулата параллельности — риманово пространство противоречило существующим версиям и других постулатов. Например, возьмем второй. Евклид писал:
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.
Применим ли этот постулат к отрезкам больших кругов сферы? До Римана второй постулат интерпретировали в том значении, что должен существовать отрезок сколь угодно большой длины. Но у большого круга есть предел — длина окружности, в 2π раз больше радиуса этой самой сферы.
Даже в математике иногда полезно нарушать законы. Риман стал Розой Паркс, отказавшейся пересесть в хвост автобуса[182]: он поставил под вопрос не неправедное, но неоправданное. Он постановил, что второй постулат описывает не существование сколь угодно длинных отрезков, а лишь гарантирует, что у прямых нет конца, а это верно для больших кругов. Математический Верховный суд — сообщество математиков, — услышав это, почесал в затылках. Каковы последствия новой интерпретации закона юным Риманом? Не противоречит ли это другим законам? Можно ли сделать его не противоречащим?
Вторым постулатом нестыковки не исчерпались. Риманово понятие прямой привело к другим затруднениям, которым Риман не имел объяснений. Например, большие круги нарушают допущение, что две прямые могут пересекаться лишь в одной точке. Как и линии долгот, пересекающиеся на обоих полюсах, все большие круги пересекаются в двух точках на противоположных сторонах сферы.
Понятие промежуточности тоже оказалось непросто интерпретировать. Евклид основывал это понятие на первом постулате:
1. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую.
Чтобы найти точку между двумя другими, Евклид рисовал отрезок, соединяющий эти две точки. Любая точка (отличная от концевых) на этом отрезке находится «между» двумя концевыми. Каверза модели Римана заключается в том, что любые две точки можно соединить по окружности двумя способами. Индонезия — она между экваториальной Африкой и экваториальной Южной Америкой? Чтобы ответить на этот вопрос, можно провести линию вдоль экватора, соединяющую два континента, и проверить, проходит ли она через Индонезию. Но в рамках римановой модели можно попасть из Южной Америки в Африку, отправившись хоть на запад, хоть на восток. Один маршрут проходит через Индонезию, а другой — нет.
Из-за этой неопределенности все евклидовы доказательства применительно к земному шару, связанные с построением отрезков между точками, грешат негодными формулировками. А это приводит к причудливым последствиям. Например, представьте сферическую вселенную Римана с радиусом в 40, а не 4000 миль, как у Земли. В один погожий день глянете вы вперед — и увидите собственный зад. А этот самый зад — он перед вами или позади вас? Или возьмем обруч. Его радиус — 1 метр. Вот крутите вы обруч на талии и спрашиваете: внутри вы обруча или нет? Вроде бы очевидно, что да. Теперь мысленно увеличьте обруч — до размеров гоночной трассы, миля в ширину. Для обруча великоват, но по сравнению с радиусом планеты в 4000 миль — мизер. Стоя в центре, вы все еще можете с уверенностью утверждать, что вы — внутри. А теперь увеличьте обруч до радиуса в 4000 миль. Обруч опоясал планету, как экватор, и тут-то вдруг ваше положение по отношению к обручу становится спорным: вы внутри или снаружи? А если еще больше увеличить радиус обруча, чтобы его окружность раздалась от вас во все стороны, — и тут он вдруг на самом деле схлопывается. В конце концов он окажется тем же, каким мы впервые его представили, — в метр радиусом, но его центр теперь находится в точке на другой стороне мира от вас. И вроде бы вы получаетесь снаружи его. Как можно переместиться изнутри наружу, всего лишь увеличивая размеры обруча? С низложением понятия «между» понятия «сзади» и «спереди», «внутри» и «снаружи» более не просты. Таковы противоречия наивного эллиптического пространства.
Избавиться от этих затруднений можно лишь путем аккуратного переопределения многих понятий. Как обычно, Гаусс предвидел и это. В 1832 году он писал Вольфгангу Бойяи: «В полном своем развитии смысл слов вроде “между” должен основываться на ясных понятиях, которые можно добыть, но я их пока не обрел»[183]. В этом Риман ему тоже не помог. Но, сосредоточившись в основном на малых областях поверхности, Риман глобальными противоречиями вроде тех, что мы только что обсудили, похоже, не интересовался и не боялся их. И, невзирая на эти открытые вопросы, лекция Римана считается одним из шедевров математики. Но все же из-за этих неувязок она не озарила вселенную математики подобно фотонной торпеде[184]. Гаусс вскоре после этой лекции умер. Риман продолжил разбираться в вопросах местной структуры, нежели широкомасштабной геометрии пространства, и его работа не имела серьезного прижизненного научного влияния.
В 1857 году в тридцать один год Риман в конце концов стал ассистентом профессора — с унылым жалованьем, приблизительно эквивалентным тремстам долларов в год. На это ученый жил сам и поддерживал трех своих сестер, однако самая младшая, Мари, вскоре умерла. В 1859 году умер Дирихле, заменивший Гаусса на его посту, и Риман сам занял место Гаусса. Три года спустя, в тридцать шесть, он женился. На следующий год у него родилась дочка. Теперь уже с приличным достатком и молодой семьей жизнь Римана вроде бы начала налаживаться. Но, увы, ненадолго. Он подхватил плеврит, переросший в туберкулез, который и добил его — как и его сестер в юные годы — всего в тридцать девять.
Работа Римана в дифференциальной геометрии стала краеугольным камнем общей теории относительности Эйнштейна. Не прояви Риман неосмотрительность, включив в свой список тем геометрию, и не будь Гаусс таким настырным, выбрав эту тему, математический аппарат Эйнштейна, потребный для его революции в физике, не существовал бы. Но еще до начала переворота труды Римана по эллиптическим пространствам произвели не менее мощное действие на мир математики. Необходимость видоизменять не только постулат параллельности, но и прочие, оказалась равносильна перетиранию прядей в веревке — и веревка вскоре лопнула. И лишь тогда математики осознали, что на этой веревке висела не только геометрия, но и вся математика.
Глава 20. Лицевая подтяжка на 2000-м году
Лекция Римана 1854 года дождалась публикации лишь в 1868-м — через два года после его смерти и через год после книги Бальцера, пролившей свет на работы Бойяи и Лобачевского. Последствия наработок Римана мало-помалу показали, что Евклид совершил ошибки нескольких разновидностей: он сделал множество негласных допущений, другие толком не доформулировал, а кроме того, попытался определить больше, чем было возможно.
Ныне мы видим огрехи евклидовой аргументации. Проще всего критиковать Евклида за искусственное разграничение между постулатами и «общими понятиями». Глубже лежит наша современная попытка аксиоматизировать любые допущения и ничто не принимать за истину всего лишь на основании «очевидности» или «здравого смысла». Это на самом деле вполне новомодный подход — победа Гаусса над Кантом, — и критиковать Евклида за то, что он не произвел этот рывок, затруднительно.
Еще одна структурная проблема евклидовой системы — непризнание необходимости в неопределимых понятиях. Представим словарное определение пространства как «безграничной емкости или места, распространяющегося во всех направлениях». Осмысленно ли это определение, или оно лишь подменяет расплывчатым термином «место» искомый термин «пространство»? Если у нас нет уверенности, что мы отчетливо понимаем значение «места», можем поглядеть в словаре и его определение. Словарь утверждает, что «место» есть «часть пространства, занятая тем или иным объектом». Эти два слова — «место» и «пространство» — частенько определяются друг через друга.
Хоть и придется повозиться, но поскольку любое слово в словаре определяется другими, обнаружится, что такая подмена происходит с любым определением. Единственный способ избежать логического круга — допустить существование в конечном языке неких словарно неопределимых понятий. Ныне мы понимаем, что и математические системы обязаны включать подобные неопределимые понятия, и стараться включать минимальное их число, необходимое для того, чтобы система оставалась осмысленной.
С неопределимыми понятиями следует обращаться бережно, поскольку легко впасть в заблуждение, вложив смысл в понятие, сначала не доказав этого, даже если этот смысл кажется очевидным из физической реальности. Сабит совершил эту ошибку, приняв за «очевидное» замечание о том, что линия, равноудаленная от прямой, есть прямая. Как мы уже убедились, ничто в системе Евклида, кроме самого постулата параллельности, нам этого не гарантирует. Применяя неопределимые понятия, мы должны отбросить любые коннотации, навязываемые нам словоупотреблением. Перефразируя великого гёттингенского математика Давида Гильберта[185][186], заметим, что непременно должна быть возможность заменить «точки», «прямые» и «окружности» на «мужчин», «женщин» и «пивные кружки». Тогда, математически говоря, эти понятия должны насытиться смыслом из самих утверждений — например, первых трех постулатов Евклида:
1. От всякого мужчины до всякого мужчины можно провести женщину.
2. Ограниченную женщину можно непрерывно продолжать по прямой.
3. Из всякого мужчины всякой пивной кружкой может быть описан круг.
Евклид делал и другие ошибки — сугубо логические, и они привели его к доказательствам теорем, в которых некоторые стадии оказались необоснованными. Например, в самом первом предложении он заявляет, что равносторонний треугольник может быть построен на любом отрезке прямой. В доказательстве он строит два круга, центры каждого из которых находятся на концах отрезка, и у каждого радиус равен длине этого отрезка. Далее он берет точку, в которой эти окружности пересекаются. Хотя рисование окружностей нам эту точку ясно покажет, Евклид не дает никаких формальных гарантий существования этой точки. По сути, его системе не достает постулата, обещающего непрерывность линий или окружностей, т. е. что в них нет разрывов. Кроме того, он не сумел распознать и другие допущения, применяемые им в доказательствах, например, что точки и прямые существуют, что не все точки лежат на одной прямой и что на любой прямой есть как минимум две точки.
В другом доказательстве он неявно допустил, что, если три точки лежат на одной прямой, мы можем определять одну из них как лежащую между двумя другими. Ничто в его постулатах или определениях не дает нам доказать это. На деле это допущение — своего рода требование прямизны: оно не допускает кривых, поскольку такие линии могут образовывать замкнутую петлю — к примеру, круг, — и тогда ни одну точку на ней нельзя считать лежащей между двумя другими.
Некоторые возражения доказательствам Евклида смотрятся как придирки, однако невинные очевидные допущения без всяких видимых последствий могут иногда равняться серьезным теоретическим утверждениям. К примеру, допущение существования всего одного треугольника, чья сумма углов равна 180°, позволяет доказать, что у всех треугольников сумма углов составляет 180°, а также позволяет доказать постулат параллельности.
В 1871 году прусский математик Феликс Клейн[187] показал, как устранить очевидное противоречие в сферической модели эллиптического пространства Римана, усовершенствовав попутно и Евклида[188]. Вскоре после этого математики вроде Бельтрами и Пуанкаре предложили свои новые модели и подходы к геометрии. В 1894 году итальянский логик Джузеппе Пеано выдвинул новый набор аксиом для определения евклидовой геометрии[189]. В 1899 году Гильберт, не знакомый с работами Пеано, выдал свою версию формулировки геометрии — в наиболее распространенном ныне виде[190].
Гильберт полностью посвятил себя прояснению фундаментальных основ геометрии (а впоследствии помог развить общую теорию относительности Эйнштейна). Он многократно пересматривал свои формулировки — до самой смерти в 1943 году. Первый шаг его метода — превращение неявных допущений Евклида в развернутые утверждения. В свою систему Гильберт — по крайней мере в седьмом издании своего труда в 1930 году, — включил восемь не определенных понятий и увеличил число аксиом Евклида с десяти (включая общие утверждения) до двадцати[191]. Аксиомы Гильберта разделили на четыре группы. Они включают в себя не опознанные Евклидом допущения вроде тех, что мы уже рассмотрели:
Аксиома I-3: Каждой прямой a принадлежат по крайней мере две точки. Существуют по крайней мере три точки, не принадлежащие одной прямой.
Аксиома II-3: Среди любых трех точек, лежащих на одной прямой, существует не более одной точки, лежащей между двумя другими.
Гильберт и другие ученые доказали, что все свойства евклидова пространства можно вывести из этих аксиом.
* * *
Революция искривленного пространства глубоко повлияла на все области математики. Примерно со времен Евклида и до работ Гаусса и Римана, обнаруженных посмертно, математика была по большей части дисциплиной прагматической. Евклидова структура воспринималась как описание физического пространства. Математика в некотором смысле была разновидностью физики. Вопросы непротиворечивости математических теорий казались порожними — доказательства следовало искать в физическом мире. Но к 1900 году математики осознали, что аксиомы — спорные утверждения, они суть всего лишь основа системы, следствия которой необходимо изучать в некоем подобии умозрительной игры. Внезапно математические пространства превратились в абстрактные логические конструкты. Природа физического пространства стала самостоятельным предметом, вопросом физики, а не математики.
Перед математиками встал вопрос совсем нового свойства: доказательство логической непротиворечивости их построений. Понятие доказательства, переместившееся за последние века развития расчетных методик на заднее сиденье, вновь стало главенствующим. Состоятельна ли геометрия Евклида? Самый лобовой способ доказать непротиворечивость логической системы — доказать все мыслимые теоремы и продемонстрировать, что ни одна не противоречит другой. Поскольку существует бесконечное количество возможных теорем, такой подход годится лишь тем, кто планирует жить вечно. Гильберт опробовал иную тактику. Как и Декарт с Риманом, Гильберт определили точки в пространстве через числа. В случае с двухмерным пространством, например, каждая точка соответствует паре действительных чисел. Превратив точки в числа, Гильберт смог перевести все фундаментальные геометрические понятия и аксиомы в арифметические. Так доказательство любой геометрической теоремы переводится на язык арифметических или алгебраических действий с координатами. А поскольку любое геометрическое доказательство следует логически из аксиом, арифметическая интерпретация должна вытекать из аксиом, облеченных в арифметическую форму. Если в геометрии возникает противоречие, оно проявится и при переводе на язык арифметики, а если арифметика непротиворечива, стало быть, стройны и гильбертовы формулировки евклидовой геометрии (для неевклидовых геометрий эти действия тоже были позднее проделаны). Яснее некуда? Хотя в итоге Гильберту и не удалось доказать абсолютную непротиворечивость геометрии, доказать относительную непротиворечивость он все-таки смог.
Из-за бесконечности числа возможных теорем абсолютная непротиворечивость геометрии, арифметики и, если уж на то пошло, всей математики — дело куда более трудоемкое. Чтобы разобраться и с этим, математики изобрели абстрактную теорию объектов, имеющую с ними дело на самом общем уровне, независимо от всяких особенностей того, чем они на самом деле являются. Эта теория, которую ныне преподают в большинстве общеобразовательных школ, называется теорией множеств.
И все-таки даже самая простая теория множеств сталкивается с путаными парадоксами: один такой был опубликован в 1908 году в малоизвестном журнале «Abhandlung der Friesschen Schule» Куртом Греллингом и Леонардом Нелсоном. Греллинг и Нелсон рассматривают множество слов. Возьмем, во-первых, множество всех прилагательных, описывающих сами слова. Например, слово «двадцатиоднобуквенный» само, да, состоит из двадцати одной буквы, а прилагательное «многосложный» — многосложно. В пику этому множеству есть множество всех прилагательных, которые себя не описывают. На ум почему-то приходят слова типа «хорошо написанный», «поразительный» и «другу рекомендуемый» (если в этой книге и есть хоть одно предложение, которое стоит вызубрить, — вот оно). Последнее множество называется гетерологическим — вероятно, оттого, что «гетерологический» само по себе многосложно.
Красота? Но есть, однако, закавыка: а «гетерологический» — гетерологическое слово? Если да, значит, оно себя описывает, следовательно, оно таковым не является. Раз оно таковым не является, значит, оно себя не описывает, а следовательно — является. Вот что математики называют парадоксом; для не-математика это всего лишь знакомая безвыигрышная ситуация (понятие, придуманное математиками, дай им бог здоровья)[192].
* * *
В 1903 году Бетран Расселл, без пяти минут лорд Расселл, попытался навести порядок, предположив в своей скромной книге под названием «Принципы математики», что вся математика должна выводиться из логики. Совместно со своим коллегой по Оксфорду Алфредом Нортом Уайтхедом он попытался добиться такой выводимости — или хотя бы показать, как это сделать, — в трехтомном магнум-опусе, изданном между 1910 и 1913 годами. Вероятно, потому, что этот труд был серьезнее публикации 1903 года, он получил латинское название «Principia Mathematica». В «Principia» Расселл и Уайтхед заявили, что свели всю математику к единой системе основных аксиом, из которых можно доказать все теоремы математики, подобно евклидовой системе применительно к геометрии. В их системе даже такие фундаментальные понятия как числа рассматривались как эмпирические конструкты, которые необходимо обосновывать более глубокими аксиоматическими структурами.
Гильберт отнесся к этим заявлениям скептически. Он подначил математиков строго доказать успешность программы Расселла и Уайтхеда. Этот вопрос отложили насовсем в 1931 году шокирующей теоремой Курта Гёделя[193]: он доказал, что в системе достаточной сложности — в теории чисел, к примеру, — должно существовать утверждение, чью истинность или ложность невозможно доказать. Это уничтожает утверждение Расселла и Уайтхеда: они не только не показали, как именно все математические теоремы можно вывести из логики, но и в принципе не могли бы этого сделать!
Математики продолжают работать над фундаментом своей науки, но со времен Гёделя никому еще не удалось заметно изменить общую картину. По-прежнему не существует общепринятого подхода к тому, что начал Евклид: к аксиомам математики.
Между тем сила математики — не в одних лишь умозрительных играх, и это ни в чем не очевидно так, как в применении Эйнштейном свежеоткрытых типов математических пространств к тому, в котором мы живем. Хоть и серьезно перемоделированная, геометрия продолжила быть окном видения нашей Вселенной.
Часть IV. История Эйнштейна
Отчего пространство искривляется?
У пространства появилось новое измерение — в ХХ веке оно взрывается пространством-временем и превращает служащего патентного бюро в героя столетия.
Глава 21. Революция со скоростью света
Гаусс и Риман показали, что пространство может искривляться, и разработали математику, необходимую для описания этого явления. Далее встал вопрос: а в каком пространстве обитаем мы? Или — еще глубже: что определяет форму пространства?
Изящный и точный ответ, данный Эйнштейном в 1915 году, на самом деле впервые в общих чертах был предложен еще в 1854-м самим Риманом:
Вопрос обоснованности геометрии… связан с вопросом внутренней причины метрических взаимоотношений пространства… нам следует искать причину этих метрических взаимоотношений вне самого пространства, во внешних силах, воздействующих на него…[194]
Что отталкивает объекты друг от друга или сближает их? Риман, оказалось, сильно обогнал свое время и поэтому не смог развить на основании своего прозрения внятную теорию — он ушел настолько далеко вперед, что даже сами слова его нельзя было оценить по достоинству. Однако шестнадцать лет спустя один математик все же обратил на них внимание.
21 февраля 1870 года Уильям Кингдон Клиффорд представил Кембриджскому философскому обществу статью под названием «О пространственной теории материи». Клиффорду тогда было двадцать пять — как и Эйнштейну, когда он опубликовал свою первую статью по специальной теории относительности. В своей статье Клиффорд смело заявил[195]:
Я утверждаю: 1. Малые области пространства подобны в своей природе небольшим холмам на поверхности, которая в целом плоская; 2. Свойство кривизны, или искажения, подобно волне, постоянно передается от одной области пространства к другой и далее; 3. Переменность кривизны пространства — вот что на самом деле происходит в процессе того явления, которое мы называем движением материи…
Выводы Клиффорда далеко превзошли римановы в детализации. Что вряд ли заметили бы, да вот поди ж ты: он все понял правильно. Современный физик, прочтя слова Клиффорда, сказал бы: «Откуда он знал?» Эйнштейн пришел к сходным заключениям лишь через годы тщательных логических построений. А у Клиффорда не было даже теории. Ему, тем не менее, удалось интуитивно прийти к столь подробным выводам — его, Римана и Эйнштейна вела одна и та же математическая мысль: если объекты в свободном движении перемещаются по прямым, характерным для евклидова пространства, могут ли возникнуть другие виды движения, обусловленные кривизной неевклидова пространства? И вот наконец именно последовательные шаги доказательства Эйнштейна, основанные на физике, а не на математике, позволили ему развить теорию, которая не далась Клиффорду.
Клиффорд лихорадочно трудился над своей теорией — обычно по ночам: день его был слишком занят преподавательскими и административными задачами в Лондонском университетском колледже. Но без глубинного понимания физики, приведшего Эйнштейна к промежуточному шагу — специальной теории относительности, — шансы Клиффорда развить свои представления до рабочей теории оставались незначительны. Математика предшествовала физике, и в этом состояла трудность, похожая на ту, что наблюдается ныне в теории струн, и мы это еще увидим. Клиффорд ничего не добился. Он умер в 1876-м — некоторые считают, от переутомления. Было ему всего тридцать пять.
Клиффорд, среди прочего, печатал шаг во главе колонны, состоящей из него одного. В мире физики небеса тогда были солнечны и ясны, и мало кто видел смысл тратить время на возню с законами, в которых не наблюдалось никаких изъянов. Более 200 лет всем казалось, что любое явление во Вселенной объяснено ньютоновской механикой — теорией, основанной на соображениях Исаака Ньютона. С его точки зрения, пространство есть «абсолютная», зафиксированная, богоданная конструкция, оборудованная декартовыми координатами. Траектория движения объекта есть прямая или иная кривая, описываемая набором чисел — координатами, обозначающими точки, соединенные этой траекторией в пространстве. Времени отводится роль «параметра» маршрута, что на математическом жаргоне означает «показатель того, в какой части траектории вы сейчас находитесь». К примеру, Алексей отправляется с Сорок второй улицы по Пятой авеню с постоянной скоростью один квартал в минуту и тогда его координаты — Пятая авеню и (42 плюс количество минут в пути) — ая улица. Указывая, сколько минут он прошагал, мы определяем, где именно Алексей сейчас находится.
С таким пониманием пространства и времени законы Ньютона предсказывают, как и почему движется объект вроде Алексея: они описывают его положение как функции от параметра под названием «время». (Здесь сделано допущение, разумеется, что Алексей — неодушевленный объект, что не всегда истинно: вообразите его в наушниках и с плеером.) Согласно Ньютону, Алексей продолжит свое постоянное движение — по прямой и с постоянной скоростью, — покуда на него не подействует внешняя сила, к примеру — зал видеоигр за углом. Или, с учетом этого привлекающего фактора, законы Ньютона предскажут, что траектория движения Алексея отклонится от постоянной. Они, эти законы, количественно сообщат нам, как именно Алексей станет двигаться с учетом его личной инерции, а также силы и направления ее приложения. Согласно ньютоновым уравнениям, ускорение тела (т. е. изменение скорости или направления движения) пропорционально силе, приложенной к нему, и обратно пропорционально его массе. Но описание движения тела под воздействием приложенной к нему силы — это еще полдела, известное под названием «кинетика». Чтобы сформировать завершенную теорию, нам надо знать еще и «динамику», т. е. как определить мощь и направление воздействие этой самой силы, если даны ее источник (зал видеоигр), предмет воздействия (Алексей) и расстояние между ними. Ньютон вывел уравнение лишь для одной такой воздействующей силы — гравитационной.
Объединив два набора уравнений — для силы (динамика) и для движения (кинетика), — можно (в принципе) описать траекторию движения объекта как функцию времени. Можно, скажем, предсказать, как Алексей опишет круг по игровому залу, или (как ни прискорбно это может быть) траекторию движения межконтинентальной баллистической ракеты. Ньютон воплотил стремление, возникшее еще у Пифагора: создал систему математики, позволяющую описывать движение. Кроме того, что Ньютон объяснил, как один и тот же закон управляет движением на Земле и в пространстве, он добился еще кое-чего, не менее важного: объединил две старые самостоятельные дисциплины — физику, считавшуюся занятой сугубо житейскими повседневными вопросами, и астрономию, которую воспринимали как науку о небесных телах.
* * *
Если ньютоновы представления о пространстве и времени верны, легко увидеть, чего не может быть. Во-первых, не может быть пределов у скорости, с которой один объект приближается к другому. Чтобы в этом убедиться, вообразим, что такая предельная скорость существует; назовем ее с. Теперь представим, что объект приближается к нам с этой скоростью. Давайте (в научных целях) плюнем в этот объект. Если вся эта драма разворачивается в осязаемой среде под названием «абсолютное пространство», легко заметить, что этот объект приближается к вашей слюне быстрее, чем к вам. Закон предельной скорости нарушен. Во-вторых, скорость света не может быть постоянной. Точнее, свет должен достигать разных наблюдателей с разной скоростью. Если поспешите свету навстречу, он доберется до вас быстрее, а если будете удирать от него — медленнее.
Если существует объективное устройство пространства, эти две истины самоочевидны. И все-таки эти две «истины» ложны. Вот оно, основание специальной теории относительности, компонент, которого не доставало в первых рассуждениях о физике искривленного пространства. Это факт, который «наблюдали» задолго до того, как смогли «оценить по достоинству».
Глава 22. Другой Альберт относительности
Через несколько лет после того как юный Риман продемонстрировал острый интерес к польской истории, юная пара из этнически польской провинции Познань, тогда находившейся под прусским правлением, родила малыша по имени Альберт. Представляется, что героическая борьба польского самосознания — куда более притягательный материал для чтения, нежели переживание реальности. И если поляки были героями, они же были и антигероями, выказывавшими злобный антисемитизм, что позднее сделало Польшу излюбленным местом Гитлера — страной газовых камер. Как бы то ни было, в 1855-м, в год смерти Гаусса, семья Альберта, Михельзоны[196], эмигрировали в Нью-Йорк, а вскоре после этого — в Сан-Франциско. Польско-прусский еврей, первый «американец», получивший Нобелевскую премию, прибыл в страну трехлетним ребенком за полвека до появления Нобелевской премии как таковой.
В 1856 семья Майкельсонов переехала в Мёрфиз, удаленный шахтерский городок в округе Калаверас, что на полпути между Сан-Франциско и озером Тахо. Отец Альберта открыл галантерейную лавку, но семья так и не осела. Все более удаляясь от своих германо-еврейских корней, Майкельсоны в конце концов обосновались в новеньком городе в Неваде. Новый «город», чуть больше кемпинга по размерам, разместился на склонах горы Дэйвидсон в 1859 году. По легенде, пьяный шахтер разбил бутылку виски о камень и тем самым крестил новое поселение. Так возникло поселение, которое позднее станет одним из крупнейших городов Старого Запада: Вирджиния-сити. Однако название это — совсем не в честь штата, а сплошная транзитивность: шахтера звали Джеймс Финни, кличка его была «Старая Вирджинья», и город он поименовал в свою честь. Золото и серебро на горе Дэйвидсон быстро превратили селение Финни в один из первых промышленных городов Запада, сопоставимый по размерам с Сан-Франциско и столь же изобильный на оружие, азартные игры и, разумеется, салуны. Одна из младших сестер Альберта написала о тамошней жизни роман «Мэдиганы». Младший брат Чарлз, подвизавшийся журналистом-невидимкой при «Новом курсе» президента Франклина Рузвельта, также писал о новой родине в своей автобиографии «Разговоры призрака». Но после переезда маленькому Альберту не пришлось провести слишком много времени с семьей. Он выказал многообещающий ум, и его оставили у родственников в Сан-Франциско, где он поступил в Линкольновскую начальную школу, а затем — в школу Боя, где проживал в доме директора.
В 1869 году юноша Майкельсон включился в конкурс на поступление в Военно-морскую академию на другом конце страны — в Аннаполисе, штат Мэриленд. Он не прошел. И тут проверке подверглись не только его знания, но и настойчивость: шестнадцатилетка запрыгнул в поезд, шедший через весь континент по железной дороге, отстроенной всего за несколько месяцев до этого, и направился в Вашингтон на встречу с президентом Грантом. Тем временем один невадский конгрессмен написал Гранту поручительство за Альберта. В его сообщении значилось, что Альберт — всеобщий любимец среди евреев Вирджиния-сити, и если бы Грант помог ему, это добавило бы президенту голосов среди еврейства. Майкельсон все-таки встретился с Грантом[197]. Свидетельств этой встречи не сохранилось. В народе репутация Гранта мало отличалась от таковой у Вирджиния-сити: истина — в виски. За исключением краткого периода его жизни, это не самая точная характеристика Гранта. Правда же, хоть о ней вспоминают нечасто, заключалась в том, что Грант был великолепным математиком[198]. Может, Грант проникся к юному математическому гению, а может, сделал жест в сторону еврейского электората, но он совершил невероятное: выдал Майкельсону особое назначение в Академию, потребовав от заведения расширить в тот год квоту на новых кадетов. История рассудила так, что важнейшей заслугой президента Гранта, вероятно, стал эксперимент Майкельсона-Морли.
Майкельсон стал чемпионом Академии по боксу и имел репутацию задиры с Дикого Запада. В части образовательных успехов Майкельсон окончил академию девятым из двадцати девяти студентов. Но средние оценки никак не иллюстрируют подлинной динамики его карьеры: он лидировал в оптике и акустике, в мореходстве стал двадцать пятым, а по истории — распоследним. Таланты и интересы Майкельсона оказались кристально ясны — равно как и представления начальства о сфере его увлечений. Суперинтендант академии Джон Л. Уорден (который в 1862 году командовал броненосцем северян «Монитор» в сражении с паровым фрегатом южан «Мерримак») сказал Майкельсону: «Если бы вы уделяли меньше времени всякой науке и больше — морскому артиллерийскому делу, когда-нибудь, возможно, из вас вышел бы какой-то прок для страны»[199]. Несмотря на этот очевидный упор на стрельбу в противовес науке, курс физики в Аннаполисе был по тем временам одним из лучших в стране. Учебник по физике у Майкельсона был переводом французского издания 1860 года за авторством Адольфа Гано. В этом учебнике Гано описывает вещество, которое, по устоявшемуся на тот момент мнению, заполняло собой всю Вселенную: «…такая неуловимая, непостижимая и чрезвычайно эластичная жидкость, именуемая эфиром, распределенная во всей Вселенной; она насыщает собой массы всех тел, от плотнейших и самых непроницаемых до легчайших и прозрачнейших»[200].
Гано далее придает эфиру фундаментальную роль в большинстве явлений, изученных в его время: «…движение особого рода, произведенное с эфиром, может порождать феномен тепла; движение того же рода, но с большей частотой, порождает свет; быть может, движение другого вида или свойства есть причина электричества».
Современные представления об эфире были предложены Кристианом Гюйгенсом[201] в 1678 году[202]. Само понятие назвал так Аристотель[203] — это был его пятый элемент, материя, из которой состоят небеса. Согласно Гюйгенсу, господь сотворил пространство на манер громадного аквариума, нашу планету — как плавучую игрушку, какую бросают рыбкам на потеху. Разница лишь в том, что, в отличие от воды, эфир протекает не только вокруг, но сквозь нас. Это представление приходилось по сердцу всем, кому — как и Аристотелю — не нравилась мысль о «ничто» — или вакууме — в пространстве. Гюйгенс приспособил эфир Аристотеля в попытке объяснить открытие датского астронома Олафа Рёмера, обнаружившего, что свет от одной из лун Юпитера добирается до Земли не мгновенно, а какое-то время спустя. Этот факт — а также другой: свет, похоже, движется со скоростью, не зависящей от его источника, — указывали на то, что свет состоит из волн, перемещающихся в пространстве подобно звуку, распространяющемуся по воздуху. Однако звуковые волны, как и волны на воде или скакалке, считались упорядоченным движением среды — воздуха, воды или веревки. Если пространство пусто, по тогдашним представлениям, волна в нем распространяться не может. Пуанкаре в 1900 году писал: «Известно, откуда произрастает наша вера в эфир. Когда свет движется к нам от далекой звезды… он уже не в звезде, но пока и не на Земле. Неизбежно где-то он обретает, скажем так, материальную поддержку»[204].
Как и большинство новых теорий, гюйгенсов эфир имел свои «хорошие, плохие и гадкие»[205] стороны. Плохим и гадким в теории Гюйгенса оказалось малюсенькое допущение, что целая Вселенная и все, что в ней находится, пронизано этим предельно разреженным и, следовательно, не доступным к наблюдению веществом. Гюйгенсу много чего пришлось замести под ковер: одно дело — постулировать всеприсутствующую во Вселенной жидкость, и совсем другое — примирить ее существование с известными законами физики. Теорию Гюйгенса не приняли при его жизни — предпочли воззрения Ньютона на свет как на поток частиц.
В 1801 году был поставлен эксперимент, изменивший устоявшиеся взгляды. К тому же, благодаря ему возник важный новый инструмент XIX века для изучения света. Экспериментальная установка выглядела невинно — всего лишь вариация опытов, проводившихся из века в век: пропускание света через щель. Однако английский физик Томас Юнг (Янг) пропустил два луча света от одного источника через две отдельные щели и посмотрел, как эти лучи перекрываются на экране. Он обнаружил некий узор — чередование света и тени, т. е. интерференционную картину. Интерференция в терминах волн объясняется просто. Перекрывающиеся волны в некоторых участках суммируются, а в некоторых — гасят друг друга, подобно гребешкам и ложбинам, наблюдаемым при пересечении кругов на воде. Волновая теория света вернула к жизни теорию эфира.
Возражения к теории Гюйгенса за прошедшие века никуда не делись. Напротив — разгорелась битва нетерпимостей. В одном углу ринга был свет как волновое движение безо всякой среды. Он смахивал на волну на воде в отсутствие воды, и болельщиков у него оказалось немного. В другом углу — свет как волна в среде, которая есть везде, но ее нигде нельзя засечь. Эдакая вода, которая вроде бы всюду, но ее нигде не видно, и этому участнику тоже затруднительно симпатизировать. Быть (но без всякого видимого эффекта) иль не быть? Вот в чем состоял вопрос. Обывателю подобные различения — шило и мыло. Ученым того времени оказался однозначно мил эфир. Всяко лучше, чем «не быть». Незнание физиков, из чего этот эфир состоит, виделось им «несущественным», как писал Э. Г. Фишер[206] в своей книге «Начала натурфилософии» (1827).
Но одному физику — французу Огюстену-Жану Френелю — природа эфира не казалась несущественной. В 1821 году он издал математический трактат о свете. Колебания волн могут быть двух принципиально разных видов: либо вдоль направления движения — как звуковые, например, или как у игрушки Слинки, или под прямым углом к нему, как волны по веревке. Френель показал[207], что световые волны скорее всего — второго рода. Но такие волны требуют от среды особой эластичности — грубо говоря, определенной плотности. А значит, решил Френель, эфир не есть газ или жидкость, пронизывающие Вселенную, а твердое вещество. То, что раньше было плохим и гадким, превратилось в почти невообразимое, но, тем не менее, до конца столетия осталось общепринятым.
Глава 23. Материя пространства
Попытки разобраться, из чего же сделано пространство, привели, быть может, к величайшим научным прорывам в истории. Шла ожесточенная борьба между учеными, которые, по большому счету не знали, куда устремляются или куда попали, когда добрались. Как и само пространство, тропы их петляли и изгибались.
* * *
Все началось в 1865 году, когда шотландский физик пяти футов и четырех дюймов ростом опубликовал статью «Динамическая теория электромагнитного поля». Затем, в 1873 году, продолжил тот же разговор в «Трактате об электричестве и магнетизме». При рождении автор получил имя Джеймс Клерк[208], но, чтобы претендовать на наследство умершего дяди, отец автора добавил к фамилии «Максвелл». Как выяснилось, ценой небольших денег и благодаря необычным обстоятельствам, дядя увековечил свое имя — хотя бы среди физиков и историков науки.
Электромагнитная теория Максвелла считается краеугольным камнем современных механики, теории относительности и квантовой теории. Его серьезным бородатым лицом не украшают кофейные кружки. Ни нью-йоркские, ни голливудские стервятники от культуры не находят его образ притягательным. И тем не менее жизнь Максвелла знаменита среди тех, кто в старших классах или в колледже пытался постичь разнообразие и сложность явлений электричества, магнетизма и света, а затем, изучив векторное счисление, внезапно обнаруживал, что все эти премудрости содержатся в нескольких незатейливых строках, подобных тем, что Алексей назвал бы «численными фразами». Рядом с университетским городком Калтеха один пасадинский магазин как-то имел в продаже футболку, на которой значилась цитата-парафраз из передовицы Господа Бога — Книги Бытия: «И сказал Господь: “Да будет[209]”. И стал свет». Эти четыре уравнения — максвелловы[210]. Если не считать уравнения закона всемирного тяготения, эта горсть буковок и диковинных символов описывала все силы, известные науке.
Радио, телевидение, радары и спутники связи — всего лишь следствие этого знания. Квантовая версия максвелловой теории — самая продуманная и дотошно выверенная квантовая теория поля из существующих; она стала моделью нынешней Стандартной модели элементарных частиц, мельчайших известных нам единиц материи. Пристальный анализ теории Максвелла предполагает и специальную теорию относительности, и отсутствие какого бы то ни было эфира. Но все это в его время было совсем не очевидно.
Ныне теорию Максвелла студентам-физикам представляют в виде лапидарного набора дифференциальных уравнений, определяющих две векторные функции, из которых, в принципе, можно вывести все оптические и электромагнитные явления в вакууме. Изящнейшая теоретическая конструкция. Но, изучая ее по текстам, понимаешь, что вся эта красота имеет столько же общего с процессом ее открытия, сколько занятия по Ламазу[211] и деторождение: адская боль и вопли придают второму переживанию несколько иной оттенок. Давным-давно один студент (я) сдал домашнюю работу, в которой решил сложную задачку про электромагнитное излучение двумя способами — чтобы прочувствовать волшебство более мощного метода. Элегантное решение — с применением современных тензоров — заняло менее страницы. Подход с позиций «грубой силы» для достижения того же результата потребовал восемнадцать страниц математики. (Преподаватель вычел у студента баллы за то, что тот вынудил его во всем этом копаться.) Последняя методика была ближе к исходным максвелловым теоретическим выкладкам — и все равно не настолько громоздкая. Теория Максвелла 1865 года содержала набор из двадцати дифференциальных уравнений с двадцатью неизвестными.
Вряд ли стоит упрекать Максвелла за то, что он не применил упрощенную форму записи: ее не просто не применяли широко — ее тогда еще не изобрели. С другой стороны, теория Максвелла не только была или выглядела сложной, она еще и объяснялась плоховато. Судя по всему, та же присущая Максвеллу дотошность, что позволила ему впитать и объединить обширное знание того времени, а затем умозрительно слепить из него настолько сложную теорию, повредила способности ученого растолковать ее. Хендрик Антон Лоренц, более прочих вложившийся в объяснение и упрощение максвелловой теории, писал позднее: «Постигать соображения Максвелла не всегда просто. В его книге ощущается недостаток единства, поскольку он достоверно описывает постепенный переход от старых идей к новым»[212]. Куда менее доброжелательны слова Пауля Эренфеста — он называл наработки Максвелла «своего рода интеллектуальными джунглями»[213]. Максвелл предоставил коллегам необработанную выгрузку своей оперативной памяти, а не педагогическое пособие. Однако невзирая на бестолковость презентации своей теории, Максвелл оказался величайшим знатоком электромагнитных явлений, каких тогда видывал мир. И что же он думал о материи пространства — с учетом всех его прозрений? Эфир или не эфир? В 1878 году он опубликовал статью на эту тему в девятом издании Британской энциклопедии:
Какие бы трудности ни возникали у нас при создании непротиворечивых представлений о составе эфира, сомнений быть не может: межпланетарные и межзвездные пространства не пусты, но заполнены некой материальной субстанцией или телом, которое, определенно, наибольшее и, вероятно, самое однородное из всех, что нам известны[214].
Даже великий Максвелл не смог расстаться с этой идеей.
Стоит все-таки отдать ему должное: он не просто отмахнулся от эфира, как многие другие, и отверг его как ненаблюдаемую необходимость. Он открыл первое и главное наблюдаемое следствие: если свет движется с постоянной скоростью относительно эфира, а Земля — по эллиптической орбите сквозь эфир, то скорость, с которой свет, испускаемый пространством, приближается к Земле, будет не одной и той же в зависимости от того, в какой точке орбиты Земля находится. Земля, вообще говоря, в январе и в июне, т. е. находясь в противоположных точках орбиты, движется в разных направлениях. 23 апреля 1864 года Максвелл попытался экспериментально определить, с какой скоростью Земля движется сквозь эфир.
По результатам этого эксперимента Максвелл сдал в журнал «Труды Королевского общества» статью под названием «Эксперимент с целью определить, влияет ли движение Земли на преломление света». К сожалению, ее так никогда и не опубликовали: ее редактор, Дж. Г. Стокс (Стоукс), убедил Максвелла в несостоятельности его подхода. На самом деле, состоятельным он был — по крайней мере в принципе. Максвелл не дожил до решения вопроса об эфире, но в 1879 году, мучаясь адской желудочной болью от рака, что вскоре отнимет у него жизнь, он отправил одному своему другу письмо на заданную тему. Это письмо в конце концов приведет к экспериментальному доказательству того, что эфира не существует.
Письмо Максвелла издали посмертно в журнале «Нэйчер», где его заметил Майкельсон. Оно и подтолкнуло его к эксперименту. Чтобы разобраться в замысле Майкельсона, вообразим, что Николай, Алексей и их отец играют в мяч в парке. Втроем они формируют прямоугольный треугольник с отцом в вершине прямого угла, Николаем в северной вершине и Алексеем — в западной, на равных расстояниях от отца, вдоль вертикальной и горизонтальной осей.
Теперь представим, что все трое бегут на север с одинаковой скоростью. Положим, расстояние от отца до каждого сына составляет 10 ярдов, и они втроем бегут со скоростью 10 миль в час. Отец гонится за Николаем, убежавшим с мячом, а Алексей старается не отставать от отца по параллельной дорожке. Отец смотрит на часы и кричит: «Пора домой!» Услышав его, дети вопят в ответ: «Нет!» Внимание, вопрос: услышит ли отец ответ одного из сыновей раньше, а другого — позже?
Ответ — «да». Не имеет значения, насколько шустро бежит любой говорящий, их крики летят по неподвижному воздуху с одной и той же скоростью, назовем ее с. Но Николай убегает от крика отца, а значит, звуку, чтобы добраться до Николая, придется пролететь большее расстояние, чем те 10 ярдов, которые разделяют бегущих, — на то расстояние, которое Николай пробежит за время, необходимое звуку, чтобы до него долететь, помимо заданных 10 ярдов. Ответному же крику Николая не придется пролететь и тех 10 ярдов, что отделяют его от отца, потому что отец бежит навстречу звуку, а значит, путь звука составит 10 ярдов минус расстояние, которое отец успеет пробежать за то время, необходимое звуку, чтобы добраться до отца. Иными словами, крик отца долетает до Николая со скоростью с — 10 миль/час, а крик Николая достигнет отца со скоростью с + 10 миль/час. Алексей, с другой стороны, не обгоняет отца и не отстает от него, стало быть, их крики достигают своих целей со скоростью, просто равной с.
Разговор на бегу
С учетом этих объяснений вроде очевидно, что путь туда и путь обратно занимает разное время, но как же все-таки быстрее: с постоянной скоростью с в обоих направлениях или сначала помедленнее (с — 10), а потом побыстрее (с + 10)?
Алексей и Николай знают ответ из сказки, которую им иногда читают на ночь (покуда они старательно не желают спать). Мораль этой сказки такова: тише едешь — дальше будешь. Чтобы в этом убедиться, предположим ненадолго, что скорость звука с равна 10,00001 (это в переводе с десятичной записи на обычный язык означает «10 и еще чуточку») миль/час. В таком случае вопли Алексея и его отца летят со скоростью 10,00001 миль/час, т. е. по 2 секунды в каждом из двух направлений. Николаев ответный клич полетит к отцу гораздо прытче, т. е. со скоростью с + 10 = 20,00001 миль/час, и достигнет слуха отца где-то через 1 секунду. Но сначала надо, чтобы зов отца услышал Николай. Сколько времени это займет? Скорость движения этого звука — всего лишь с — 10 = = 10,00001 — 10 = 0,00001 миль/час. С такой скоростью отец докричится до сына через три недели. Алексей выиграл. Разумеется, скорость звука на самом деле примерно 675 миль/час, или около 300 ярдов в секунду. И хоть это практически фотофиниш, результат этих догонялок все равно тот же.
Если заменить звук светом, а воздух — эфиром, предыдущий эксперимент превратится точь-в-точь в описание максвеллова замысла. Папе с сыновьями не придется бегать взапуски: Земля и так несется свозь пространство, вращаясь вокруг Солнца со скоростью примерно 18,5 миль в секунду. (Земля и вокруг своей оси вращается, но с гораздо меньшей скоростью.) Есть одна тонкость: вращение Земли вокруг Солнца с заданной скоростью не означает, что Земля с этой скоростью движется сквозь эфир. Тем не менее, вроде бы предполагается, что Земля движется сквозь эфир с некоторой скоростью, и она должна, по идее, меняться с временами года, т. е. с изменением направления движения Земли в пространстве по орбите. В самом деле, наш эксперимент с отцом и мальчишками должен позволить нам измерить скорость движения Земли в эфире: мы же знаем, с каким отрывом выигрывает Алексей, и это знание даст нам решение для скорости с. Примерно такой опыт Майкельсон и поставил — простой эксперимент, лабораторией которому послужил весь мир.
Свет движется споро — даже по сравнению со скоростью движения Земли по орбите: примерно в 10 000 раз быстрее. Для теории очень удобная круглая цифра, однако для эксперимента — ужас кромешный. Математика в этом случае говорит нам, что при такой скорости разница во времени обменов между Алексеем и Николаем и их отцом составит всего одну миллионную процента. Это означает, что, если отец, Алексей и Николай находятся на расстоянии одного светового года друг от друга, сигналы от мальчишек долетят за треть секунды. Применим ли практически предложенный метод? Вроде бы нет.
К счастью для Майкельсона, француз Арман Ипполит Луи Физо получил от своего отца-врача в наследство целое состояние и посвятил свое время и деньги утолению любопытства к оптике. Физо особенно увлекался созданием наземных конструкций для измерения скорости света — реализовывал устремления Галилея. Галилею, правда, недоступны были блага промышленной революции и точные приборы[215], появившиеся в середине XIX века. Для достижения поставленных целей Физо смог соорудить аппарат, в котором луч света двигался беспрепятственно целых 5 миль. Пять миль на неспешном автобусе преодолеть быстро не выйдет, а вот со скоростью 186 000 миль в секунду — еще как. И тем не менее в 1849 году замеры Физо показали скорость света с пятипроцентной погрешностью от современного значения[216]. В 1851-м он провел серию опытов для проверки теории протекания эфира вдоль земной поверхности. Эту теорию в 1818 году предложил Френель, и она доказала свою важность, поскольку означала, что точки на земной поверхности вообще-то могут иметь малую или нулевую скорость относительно эфира. Аппарат Физо 1851 года получился сложным и производил сильное впечатление, а также содержал важное нововведение — «делитель луча», сработанный из слегка посеребренного зеркала, рассекавшего световой луч на два: каждый двигался далее своим путем, а затем они вновь соединялись. В установке Майкельсона тонкий луч света от крошечного источника натыкался на такое же зеркало, и половина его проходила насквозь, а половина отражалась под углом 90°. Роль отца, размещенного в вершине треугольника, исполняло это самое наполовину посеребренное зеркало. Алексея и Николая заменяли обычные зеркала, они просто отражали луч и посылали его обратно.
Майкельсон маленьким источником света генерировал узкий луч и направлял его на делитель. Поскольку луч ведет себя как волна, значит, если после воссоединения один луч вернулся быстрее другого, колебания этих двух лучей не останутся в одинаковой фазе, т. е. не будут двигаться «в ногу». В результате произойдет интерференция, а из нее можно вычислить временную разницу и определить скорость движения в эфире, как и ранее. (Если б нам не нужен был этот самый интерференционный эффект, можно было бы провести такой эксперимент, просто-напросто посветив между двумя точками в разные стороны, и сравнить время движения света.)
Майкельсон не мог, конечно, надеяться на то, что два рукава его аппарата будут равны с точностью до длины волны или что ему удастся померить их длину с такой точностью. Более того, у него не было никакой возможности узнать, под каким углом его установка находится по отношению к вектору скорости движения эфира. Майкельсон умно разрешил эти затруднения, поворачивая аппарат на 90° и измеряя сдвиги интерференционной полосы по мере того, как лучи «менялись ролями», не прибегая к измерению самих интерференционных полос.
Для развития боксерских умений Майкельсону далеко ехать не потребовалось, а вот его судьба как ученого сложилась иначе. В 1880 году он получил разрешение военно-морского начальства на путешествие через Атлантику — продолжить образование. Подобные дотации были в те времена довольно распространены — эдакая попытка американского правительства украсить военную мускулатуру налетом интеллекта. Майкельсону тогда не исполнилось тридцати, но, оказавшись в Берлине и Париже, он уже разработал свою гениальную модель интерферометра.
Майкельсон предложил схему установки, которую требовалось собрать с ювелирной точностью: отклонение в одну тысячную миллиметра в длине одного рукава относительно другого ставило под угрозу любые замеры. Если температура в одном рукаве оказалась бы выше всего на одну сотую градуса, эксперимент Майкельсона пошел бы прахом. Прежде чем начать, Майкельсон укутал рукава аппарата бумагой — чтобы предотвратить температурные перепады, — а также обложил все приборы тающим льдом, чтобы поддерживать единую температуру в 0 °C. Наконец, его установка обладала такой чувствительностью, что регистрировала возмущение, возникавшее от шагов по мостовой в ста ярдах от лаборатории.
Такие приборы стоят недешево. Майкельсон хотел изготовить латунную раму у знаменитых немецких умельцев приборостроения Шмидта и Хенша, но такой роскоши позволить себе не мог. По счастью, один его земляк, американец, за несколько лет до этого стяжал славу и состояние за изобретение «говорящего телеграфа» — приборчика, ныне называемого телефоном. В 1880 году его изобретатель, Александр Грэм Белл, уже трудился над новым проектом — видеофоном. Белл нанял Шмидта и Хенша строить себе исследовательские приборы и имел под это особый бюджет. Как раз на средства из него и соорудили аппарат Майкельсона.
Майкельсон осуществил свой эксперимент в немецком Потсдаме в апреле 1881 года. Вообще никакой разницы во времени прохождения света сквозь пространство он не обнаружил. Что это означало? Перед Майкельсоном не стояла цель разоблачить или даже проверить гипотезу эфира — он желал измерить нашу скорость в эфире. Ничего не обнаружив, он не сделал вывод, что эфира не существует, — он лишь заключил, что мы неким манером в нем не движемся. Как такое может быть: Земля не движется сквозь эфир? Один вариант ответа дал Френель и его вроде бы подтвердил, хоть и неточно, Физо: теория захвата эфира. В любом случае, ни сам Майкельсон, ни все остальные не восприняли полученные результаты как угрозу существованию эфира. Сэр Уильям Томсон (лорд Келвин), приехав в 1884 году в Соединенные Штаты[217], выразился очень прямо: «…светоносный эфир есть… единственное вещество, в котором мы можем быть в динамике уверены. Лишь в этом мы убеждены, такова подлинность и состоятельность светоносного эфира». В конце концов электромагнитная теория Максвелла требовала наличия волн, а волнам нужна среда. Большинство физиков не обратило на опыт Майкельсона никакого внимания. Позднее он писал: «Я неоднократно пытался заинтересовать моих ученых друзей в этом эксперименте, но все тщетно… Меня обескуражил такой недостаток внимания к нему»[218].
* * *
Но кое-кто отнесся к эксперименту Майкельсона очень серьезно — голландский физик Лоренц. В 1886 году он подверг сомнению теоретический анализ Майкельсона[219], указав на нестыковку, впервые обозначенную французским физиком Андре Потье в 1882 году. Анализ Майкельсона — как и вышеприведенные наши рассуждения — содержат незаметную ошибку. Мы допустили, что вопль отца перемещается к Алексею горизонтально (в заданных нами условиях), начиная с того момента во времени, в котором находился отец, когда закричал, и до того момента во времени, в котором Алексей был, когда услышал этот крик. Но к тому мигу, когда крик достигает Алексея, все уже несколько продвинулись вперед. Это означает, что отцовский вопль вынужден пролететь больше тех десяти горизонтальных ярдов, которые мы включили в наше допущение. Это маленькое дополнительное расстояние и объясняет небольшое прибавление во времени и уменьшает разницу, на которую взаимодействие Алексея с отцом больше, чем Николая с отцом. В свете этого нового взгляда на всю ситуацию сдвиг интерференционных полос оказался вполовину меньше, чем ожидал Майкельсон. Лоренц считал, что при правильном анализе эксперимент Майкельсона включает достаточно погрешностей, чтобы отменить его выводы.
Майкельсон же вернулся в Соединенные Штаты и стал профессором Кейсовской школы прикладных наук в Кливленде. Вскоре Лоренц, а заодно и лорд Рэли потребовали уточненного повторного эксперимента. Майкельсон взялся работать над ним с коллегой из соседнего заведения — Колледжа западного резервного района — Эдвардом Уильямсом Морли. Тогда же, в 1885 году, у Майкельсона случился нервный срыв, и он отбыл в Нью-Йорк. Морли продолжил работу, не ожидая возвращения Майкельсона, однако тот к концу семестра вернулся в Кливленд. В полдень 8 июля 1887 года, а затем 9, 11 и 12 июля Майкельсон и Морли провели решающий эксперимент, ставший впоследствии частью любого студенческого курса физики. Реакция на результаты усовершенствованного эксперимента была столь же прохладной, что и ранее. Отрицательный результат, который мы сейчас воспринимаем как революционный, тогда многие сочли за неудачу в поиске желаемого эффекта — измерения нашей скорости в эфире. И хотя Майкельсон и Морли поначалу планировали продолжать измерения — например, в разные времена года, т. е. когда Земля находится в разных точках на своей орбите, они тоже утратили интерес[220].
Подобно открытию искривленного пространства, эксперимент Майкельсона-Морли не произвел взрыва в истории идей. Скорее, он поджег фитиль. Первый дымок от этого фитиля поплыл в 1889 году, когда об эксперименте вроде бы забыли: новый американский журнал «Сайенс» напечатал коротенькое письмо. Начиналось оно так:
С огромным интересом прочел я о восхитительно изящном эксперименте господ Майкельсона и Морли, нацеленном на выяснение важного вопроса о том, сколь сильно эфир затягивается движением Земли. Полученный ими результат, похоже, входит в противоречие с другими, показывающими, что эфир в воздухе может двигаться лишь до незначительной степени. Я бы предположил, что едва ли не единственная гипотеза, могущая примирить это противостояние, состоит в том, что длина материальных тел меняется в зависимости от того, вдоль эфира они движутся или против него, на величину, зависящую от квадрата отношения их скоростей и таковой у света…[221]
Это что вообще? В каком смысле — длина материальных тел меняется? Пространство, в котором мы обитаем, меняет материю? Письмо заканчивалось еще двумя длинными фразами. Оно было подписано ирландским физиком Джорджем Фрэнсисом Фицджералдом и описывало форму одного из фундаментальнейших понятий теории, которую в конце концов объяснят Майкельсон и Морли: относительность.
Примерно в то же время Лоренц, по-прежнему размышлявший над результатам майкельсоновых измерений, пришел к аналогичному заключению. Правда, Лоренц, ведущий физик-теоретик 1890-х, попытался соорудить объяснение[222] сжатию тел, основанное на том, что молекулярные взаимодействия осуществляются через эфир. (К тому моменту, стараясь спасти идею эфира, ученые перестали считать его не подверженным влиянию физических сил.) Без физического объяснения этого сжатия такое объяснение выглядело поделкой на скорую руку, вроде эпициклов Птолемея[223]. И все равно попытки таким способом сформулировать толкование потерпели крах — особенно потому, что силы, которые Лоренцу пришлось постулировать, плохо вязались с ньютоновской механикой.
* * *
К 1904-му за год до первой статьи Эйнштейна по теории относительности, Лоренц и другие сделали несколько занятных открытий, но не оценили их следствий. Новая теория Лоренца вводила разницу между двумя видами времени: «местного» и «вселенского» (хотя вселенское время у него считалось предпочтительным). Лоренц также осознал, что движение электрона сквозь эфир должно влиять на значение его массы, и это воздействие экспериментально подтвердил физик Вальтер Кауфман. Пуанкаре задался вопросом: может ли скорость света быть предельной скоростью во Вселенной (это закономерность, вытекающая из теорий сжатия)? Он также рассуждал о субъективности пространства и времени: «Нет абсолютного времени; утверждение, что две длительности равны, само по себе не имеет смысла… у нас нет даже прямых догадок об одновременности двух событий, происходящих в разных местах…»[224] Граница между временными вещами и вневременной Вселенной, в которой они существуют, начала разрушаться. Какая же из всего этого должна была возникнуть геометрия?
Альберту Эйнштейну потребовалось сформулировать простую теорию, которая объяснила наблюдаемое поведение света, движущегося в пространстве. Пространство и время слились навек, а их тетушка геометрия стала существом более чем эксцентричным.
Глава 24. Технический эксперт-стажер третьего класса
Проезжая в 1805 году мимо дома Гаусса в Гёттингене, Наполеон возвращался после убедительной победы при Ульме. Император пощадил Гёттинген из уважения к Гауссу, однако и место его победы вскоре станет столь же почитаемым: там родится один из, быть может, величайших физиков в истории человечества — Альберт Эйнштейн. Случилось это в 1879-м — в год смерти Максвелла.
В отличие от Гаусса, Эйнштейн вундеркиндом не был[225]. Заговорил он поздно — утверждают, в три года. В общем, тихий и замкнутый ребенок. Его учили на дому — до того дня, когда он вдруг закатил истерику и швырнул в учителя стулом. В начальной школе успехи его были так себе. Временами все получалось, но некоторые учителя держали его за бестолочь или даже за умственно отсталого. К сожалению — и тогда, и ныне — зубрежку считали ключевой частью школьных занятий, а зубрить Эйнштейн никогда не умел. Учителя всегда с готовностью поощряли детей, которые мгновенно кричали с места: «Север!» — в ответ на вопрос, куда указывает стрелка компаса, но не ценили ребенка, который задумывается над вопросом — как это бывало с пятилетним Эйнштейном, — какие такие силы заставляют стрелку двигаться. Нельзя сказать, что немецкие школы никак не развились со времен Бюттнера и Гаусса. В наказание за неправильный ответ детей больше не пороли — современные технологии предписывали резко бить по костяшкам пальцев. Скрытый за эйнштейновыми небыстрыми ответами гений был всего лишь стратегией испуганного ребенка: боясь наказания, он всегда по нескольку раз проверял ответ в уме, прежде чем выпаливать вслух.
На школьных собраниях родители девятилетнего Альберта, вероятно, выслушивали что-нибудь вроде: юный Альберт хорош в математике и латыни, но сильно отстает по всем остальным предметам. Легко представить сомнения его учителей и беспокойство родителей. Выйдет ли когда-нибудь толк из этого четвероклашки? К тринадцати годам Эйнштейн уже демонстрировал небывалые способности к математике. Он взялся за более сложные математические знания вместе с другом постарше и с дядей. Кроме того — изучал работы Канта, особенно его воззрения на время и пространство. Кант, может, и ошибался насчет роли интуиции в математических доказательствах, однако его соображения о том, что время и пространство суть плоды нашего восприятия, заинтересовали Эйнштейна еще подростком. И хотя человеческая психология тут не при чем, субъективность измерения пространства и времени и дали относительности ее название.
К 1895 году молодой Эйнштейн уже знал об эксперименте Майкельсона-Морли, о работах Физо и Лоренца. И хотя тогда Эйнштейн еще принимал концепцию эфира, он понял: независимо от того, с какой скоростью движешься, догнать световую волну не удастся. Относительность уже была на подходе.
Внеклассные интеллектуальные увлечения Эйнштейна никак не упрощали ему школьной жизни. Пятнадцатилетнему Альберту учитель греческого — очевидно, не слишком нежный тип — сказал при всем классе, что мальчик интеллектуально безнадежен, тратит попусту общее время и должен покинуть школу немедленно. Он предусмотрительно произнес это по-немецки, а не по-гречески, потому что в противном случае Альберт его бы не понял. Немедленно класс он не покинул, однако вскоре принял учительский совет. Он добыл у семейного врача справку о том, что у него намечается нервный срыв, и еще одну — у своего учителя математики; в ней говорилось, что всю математику, какая есть по программе, Альберт уже освоил. Он отнес оба документа директору школы, и ему разрешили бросить учебу.
В то время Альберт жил в общежитии — его родители переехали в Италию. Теперь он мог к ним туда приехать. И хотя из школы его, может, выперли за здорово живешь, его такая жизнь вполне устраивала. Следующие полгода будущий гуру физики и соперник Исаака Ньютона гарцевал по Милану и его окрестностям. Когда его спрашивали, какие у него планы на трудоустройство, он говорил, что настоящую работу даже обсуждать не желает. Он готов рассмотреть приглашение стать преподавателем философии в колледже. К сожалению, философские факультеты университетов не рвались нанимать школьников-недоучек. Даже преподавание в школе требовало университетского диплома. Тут не надо быть Эйнштейном, чтобы понять: единственный оставшийся вариант — получать удовольствие.
Однако отец Альберта Герман тоже был Эйнштейн, между прочим, и этот Эйнштейн такое спускать сыну не собирался. Признавая за чадом математический дар, он нудил, улещивал и, в выражениях родного для этой семьи идиша, «капал на мо́зги», покуда Альберт не согласился вернуться в школу и выучиться на инженера-электромеханика. Герман сам электромехаником не был, но пару раз начинал свое дело по продаже электрического оборудования (оба раза погорел). Альберт решил поступать в одну из лучших школ — «Eidgenoessische Technische Hochschule» (ETH) в Цюрихе, известную под множеством разных названий, например, «Политехникум». Университет этот имел международную славу, а также — один из немногих — не требовал диплома гимназии. От абитуриента ожидалось одно — сдать вступительный экзамен. Альберт попробовал. Провалился.
Как обычно, с математической частью экзамена у Альберта проблем не возникло, но кроме нее в экзаменационные тесты входили и дурацкие предметы. Он засыпался на французском, химии и биологии. Поскольку, вероятно, Альберт не горел желанием писать статьи по биохимии на французском, попытка отказать ему в обучении показалась Эйнштейну бессмысленной. Другие тоже так считали. Альберт метил высоко, и на той высоте его математическое дарование не прошло незамеченным.
Хайнрих Вебер, математик и физик, занимавший должность преподавателя физики в той школе, пригласил Альберта вольнослушателем на свои лекции. Директор школы Альбин Херцог организовал Эйнштейну год подготовительного обучения в соседнем заведении. На следующий год Эйнштейн с гимназическим дипломом в руках был допущен к занятиям в ЕТН без пересдачи вступительных экзаменов. Эйнштейн вознаградил доверие Вебера и директора школы, доказав соответствие результатов своих вступительных экзаменов правде жизни: как и ожидалось, учился он плохо. А как иначе? Программа имела ту же дефектную образовательную философию, что и экзамен. Эйнштейн отзывался о ней так: «Приходилось запихивать все это в голову ради экзаменов, нравится тебе оно или нет. Это принуждение так меня подкосило, что, стоило сдать последний экзамен, как мне целый год даже и думать о каких-либо научных задачах было отвратительно»[226].
Эйнштейн продирался сквозь учебную программу по конспектам друга — Марселя Гроссманна, который в дальнейшем сыграет ключевую роль в математической судьбе Эйнштейна. Вебер поведением своего протеже не был доволен, считал его высокомерным. Возможно, все дело в том, что Альберт считал лекции Вебера устаревшими и не достойными посещения. Подобные чарующие манеры Эйнштейна превратили Вебера из наставника в недруга. Летом 1900 года, за три дня до выпускного экзамена, Вебер решил отыграться: он потребовал от Эйнштейна переписать поданную работу, потому что она-де написана не на форменных бланках. Специально для тех, кто родился после 1980 года: в докомпьютерные времена этот трюк невозможно было проделать путем загрузки файла в принтер и нажатием кнопки. Эта работа требовала некоторых утомительных манипуляций, известных под названием «письмо от руки», и оно поглотило то немногое время, что осталось у Альберта для подготовки к экзаменам.
По результатам Эйнштейн оказался третьим из четверых экзаменуемых, но все-таки сдал. Сокурсники получили университетские должности, но ему Вебер дал дурные рекомендации и преградил эту стезю. Эйнштейн тянул лямку, подменяя преподавателей на занятиях, потом давал частные уроки, а 23 июня 1902 года оказался в том самом — теперь уже знаменитом — Швейцарском патентном бюро. Его шикарная должность называлась «технический эксперт-стажер третьего класса». Работая в патентном бюро, Эйнштейн попутно получил докторскую степень в Цюрихском университете. Позднее он вспоминал, как его диссертацию поначалу не взяли, сочтя слишком короткой. Он дописал одну-единственную фразу и подал работу снова. На сей раз ее приняли. Трудно сказать, правдива эта история или просто дурной сон после ночных коньячных возлияний, поскольку никаких свидетельств этому не сохранилось. Тем не менее, она заключает в себе суть научной жизни Эйнштейна в те поры.
Оставив «образование» в прошлом, в 1905 году мозг Эйнштейна взорвался революционными идеями, которых хватило бы на три или четыре Нобелевские премии, если б их давали по каким-нибудь объективным критериям. Этот год оказался самым плодотворным из всех, что когда-либо вообще выпадали ученым, — по крайней мере, со времен Ньютона и его визита к матери на ферму в 1665–1666 году. Кроме того, Эйнштейну недосуг было сидеть и смотреть, как падают яблоки: он добился всех своих результатов, трудясь в патентном бюро. Урожай его состоял из шести статей (пять из них опубликовали в тот же год). Одна основывалась на его докторской диссертации — материях геометрии, вернее — на геометрии материи, а не пространства. Эйнштейн издал свою диссертацию в «Annalen der Physik» под названием «Новое определение размеров молекул»[227], в котором представил новый теоретический метод определения этих самых размеров. Эта работа позднее нашла применение в широком диапазоне научных областей: от движения песчинок в цементных смесях до мицелл казеина (частиц белка) в коровьем молоке. Согласно исследованию[228], проведенному Абрахамом Пайсом в 1970-х, между 1961 и 1975 годами на эту работу ссылались чаще, чем на любую другую, написанную до 1912 года, включая и работы самого Эйнштейна по теории относительности. Эйнштейн в 1905 году тоже написал две статьи по броуновскому движению — неупорядоченному перемещению крошечных частиц, взвешенных в жидкости, впервые замеченному шотландским ботаником Робертом Броуном[229]. Рассуждение Эйнштейна, основанное на представлении о том, что движение происходит за счет случайного бомбардирования молекулами жидкости частиц взвеси, привело к подтверждению новой молекулярной теории материи французским экспериментатором Жаном Батистом Перреном. Перрен за свою работу получил в 1926 году Нобелевскую премию.
В другой статье, написанной в том же 1905-м, Эйнштейн дал объяснение, почему некоторые металлы под воздействием света испускают электроны. Это явление получило название фотоэлектрического эффекта. Вот что в этом феномене требовалось объяснить: для данного металла существует некий порог частоты, ниже которого эффект не наблюдается, независимо от интенсивности облучения. Эйнштейн для объяснения существования этого порога применил квантовую гипотезу Макса Планка: если свет состоит из частиц (позднее их назвали фотонами), чья энергия зависит от частоты излучения, то лишь выше определенной частоты у фотона, сталкивающегося с поверхностью металла, достанет энергии, чтобы выбить из металла электрон.
Эйнштейн включил в свои рассуждения гипотезу Планка с такой дерзостью, будто это мировой физический закон. По тем временам к этой концепции относились как дурно понятому аспекту взаимодействия излучения с материей, и она никого не волновала: в этой области науки и так с лихвой хватало вопросительных знаков. И уж конечно никто — в отличие от Эйнштейна — помыслить не мог, что квантовая гипотеза приложима к излучению: такой подход противоречил хорошо понятой и опробованной теории Максвелла. Как и другая революционная работа Эйнштейна, эта поначалу мало кому показалась убедительной. Лоренц и даже сам Планк возражали доводам Эйнштейна. Ныне мы воспринимаем эту статью как поворотную в истории квантовой теории — наравне с открытием Планком самого кванта. За эту работу Эйнштейн получил в 1921 году Нобелевскую премию по физике. Однако и сейчас — чуть ли не сто лет спустя — он памятен двумя другими публикациями 1905-го. Они заявили начало одиннадцатилетней одиссеи, приведшей ученых в странную новую вселенную искривленного пространства, чью математическую возможность доказали Гаусс и Риман.
Глава 25. Относительно евклидов подход
В двух статьях, опубликованных в «Annalen der Physik» в 1905 году, — «К электродинамике движущихся тел»[230] от 26 сентября, и «Зависит ли масса тела от содержащейся в нем энергии?», изданной в ноябрьском номере, — Эйнштейн объяснил свою первую — специальную — теорию относительности.
В гимназические дни Эйнштейн открыл для себя книгу о Евклиде. В отличие от Декарта и Гаусса, Эйнштейн стал поклонником античного ученого: «Там нашлись такие утверждения, как, например, пересечение трех высот треугольника в одной точке, которые, какими бы неочевидными ни были, могут быть доказаны с такой доподлинностью, что не остается места никаким сомнениям. Эта ясность и определенность произвели на меня неописуемое впечатление»[231]. Парадоксально, однако в позднейших теориях Эйнштейна ключевую роль играет неевклидова геометрия. Но в специальной теории относительности Эйнштейн применил подход Евклида. Он основывал свои рассуждения на двух аксиомах о пространстве:
1. Невозможно определить, не прибегая к сопоставлению с другими телами, покоитесь ли вы или находитесь в равномерном движении.
Первую аксиому Эйнштейна, обычно именуемую принципом относительности (Галилея), впервые постулировал Орем. Она истинна даже в пределах ньютоновой теории. Однажды Николай катался по квартире на пластмассовой пожарной машине. Алексей, поглощенный чтением какого-то детского ужастика, сидел на стуле в нашей проезжей кухне. Проносясь мимо, Николай выставил пластиковый топор, предусмотрительно приобретенный вместе с машиной и шлемом. Топор вышиб книгу у Алексея из рук, и вместе они — топор и книга — упали, спровоцировав братьев на традиционные взаимные обвинения. Алексей заявил, что это проезжавший мимо Николай воткнул в него топор и сбил книгу на пол. Николай же утверждал, что он держал топор неподвижно, а Алексей на него налетел. Отец обоих, предпочтя не влезать в юридические разбирательства, разразился лекцией о научной стороне ситуации.
Законы Ньютона предсказывают одни и те же события и в случае статичности Николая и подвижности книги Алексея, и в случае статичности Алексея и подвижности топора Николая. Таков первый постулат Эйнштейна: невозможно отличить первое от второго, и поэтому позиция обоих мальчиков в равной степени легитимна. (Досталось обоим.)
2. Скорость света не зависит от скорости его источника и одинакова для всех наблюдателей во Вселенной.
Вторая аксиома Эйнштейна, как и первая, тоже не революционна. Как мы уже видели, уравнения Максвелла требуют, чтобы скорость света не зависела от источника, и это никого не беспокоило, поскольку таково нормальное поведение распространяющихся волн. Соль допущения Эйнштейна — именно во второй части формулировки: «…и одинакова для всех наблюдателей». Что это значит?
Если бы вы могли утверждать, что движетесь, это ничего бы не значило: все наблюдатели могли бы согласиться, что скорость света есть скорость, с которой он приближается к «покоящемуся» объекту. Так обстоят дела в рамках законов Ньютона: пространство, или эфир, абсолютны и являются системой отсчета, относительно которой может быть измерено любое движение. Но если невозможно отличить покой от равномерного движения, все наблюдатели меряют одну и ту же скорость приближающегося света, находятся они сами в движении или нет, — и тут-то мы и натыкаемся на тот самый парадокс с плевками, о котором уже говорили. Как же может свет приближаться и к вам, и к вашему плевку с одинаковой скоростью?
Чтобы понять такое поведение света, следует задаться вопросом, что́ стоит за нашими рассуждениями. Если станем принимать эти две аксиомы Эйнштейна, кхм, аксиоматически, вопросов у нас не может быть. А какие еще допущения мы сделали? Мы прочно оперлись на понятие одновременности, поэтому естественно разобраться именно с ним. Вот этим Эйнштейн и занялся.
Рассмотрим ситуацию, похожую на ту, что сам Эйнштейн в 1916 году осмыслил в своей книге «Относительность»[232]. Эйнштейну нравилось применять аналогии с железной дорогой: опыт катания на поездах обеспечил ему очевиднейшее практическое доказательство невозможности определить, находишься ли ты в равномерном движении. Всякий, кому доводилось ездить по железной дороге или в метро, вероятно, имеет тот же опыт, что получил Эйнштейн в свое время: невозможно понять, твой вагон движется, соседний или оба. В нашем примере Алексей и Николай размещаются на разных концах вагона метро. Они впервые катаются на метро одни, без родителей. Родители стоят на платформе и машут им, надеясь, что знаки «Вагон неисправен», которые они наклеили на окна, до некоторой степени уберегут детей от толчеи. Положим, мама с папой стоят на платформе на таком же расстоянии друг от друга, что и Алексей и Николай, и тем самым вскоре после отправления состава, мама поравняется с Алексеем, а папа — с Николаем. Они расположились так неспроста: у них с собой фотоаппараты. Маме хочется запечатлеть первую поездку сыновей, а папе — иметь подходящие снимки для полиции, на случай, если дети не вернутся к назначенному сроку. Смиряясь перед законом природы, именуемым братским соперничеством, мама и папа собираются сделать снимки в один и тот же миг: мама сфотографирует улыбающегося Алексея, а папа — Николая. А раз фото одновременные, ни одному сыну не удастся потом хвастаться, что его фото сделали первым. И все-таки обстоятельства готовят семье братскую междоусобицу.
Причина этой распри — в ответе на простой вопрос, поставленный Эйнштейном: два события, которые считают одновременными родители, сочтут ли таковыми дети? Наша первая загадка такова: что именно значит оборот «два события происходят одновременно»? Если два события происходят в одном и том же месте, ответ тривиален: они одновременны, если происходят в одно и то же время (замеренное по часам, находящимся в этом месте). А вот если эти события происходят не в одном и том же месте, ответ получается совсем не тривиальным и для понимания требует подлинной проницательности.
Предположим, свет (или что угодно еще, чем можно отправить сигнал) движется с бесконечной скоростью. Тогда в миг, когда сработали обе фотовспышки, их свет мгновенно достиг Алексея и Николая. Они в таком случае могли бы запросто ответить на вопрос об одновременности, сравнив события в некоторой точке, в данном случае — время достижения светом от вспышек его точек назначения. Если они увидели сначала одну вспышку, значит, ту фотографию сделали первой. Однако поскольку свет перемещается не с бесконечной скоростью, этот подход не сработает. У папы, главного ученого в семье, возникает предложение. Он устанавливает фотодетекторы вдоль дистанции между ним и мамой. Если снимки делаются в одно и то же время, свет вспышек должен пересечься строго посередине между ними. Николай, услышав это соображение, тут же его присваивает (такая вот у него милая привычка). Алексей устанавливает фотодетекторы в их с Николаем вагоне.
Поезд трогается. Мама и папа синхронизировали часы. Снимки сделаны. Да, световые лучи от вспышек пересекаются ровно на полпути между мамой и папой. Довольны ли Алексей с Николаем? Нет — потому что когда лучи вспышек пересекаются, их вагон уже проехал чуточку дальше, поэтому, если смотреть из вагона, лучи вспышек пересеклись не строго посередине. Всю эту историю иллюстрирует рисунок на следующей странице.
С точки зрения сыновей каждая вспышка есть событие, происходящее в их мире, т. е. в вагоне метро, который они оправданно воспринимают в покое. Как и их родители, они не видят причин, почему свет от вспышек не должен перекрыться на полпути между ними. И поэтому когда свет вспышек перекрывается ближе к Алексею, оба делают вывод, что Николая сфотографировали первым. И хотя родители синхронизировали вспышки, фотографирование не воспринимается синхронным в системе отсчета, которая движется относительно их самих. Отец теперь корит себя, что не придумал иначе — так, чтобы вспышки произошли одновременно не для них с мамой, а для детей.
Ну хорошо, все понятно, скажете вы, но кому тут мы голову морочим? В заданных условиях именно дети перемещаются, а родители находятся на неподвижной платформе. Так может казаться, потому что Земля представляется нам неподвижной, но это, само собой, не так. Представьте наблюдателя в космосе: Земля для него вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, и поэтому допущения, что либо поезд, либо платформа так или иначе можно считать «покоящимися», имеют очевидные ограничения. Или вот что: отбросим всякие декорации и представим детей и родителей в пустом пространстве. Теперь у нас действительно нет внешнего ориентира для определения, кто же движется. Эффект совершенно тот же — и он подлинный: то, что родители воспринимают как одновременное, таковым не видится детям, и наоборот.
Потеха в метро
С отменой одновременности возникает относительность времени и пространства. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь заметить, что для измерения длины чего угодно нам необходимо сначала отметить концевые точки измеряемого объекта, а затем приложить к нему мерную линейку. Если объект по отношению к нам покоится, эта задача тривиальна. А если объект движется, потребуется промежуточный шаг. Мы могли бы, например, отмерить две концевые точки на неподвижном объекте — на покоящемся листе бумаги, скажем, пока объект перемещается вдоль этого листа. Затем, как и в первом случае, можно приложить линейку и померить расстояние между двумя нашими отметками. Однако делать эти отметки нам придется — ох уж это гнусное словечко! — одновременно. Если же мы ошибемся и сделаем одну отметку раньше второй, конец нашего объекта переместится на некоторое расстояние и полученные размеры не будут истинными. К сожалению, когда мы производим то, что считаем одновременными замерами, человек, движущийся вместе с измеряемым объектом, таковыми их считать не станет. Он обвинит нас в том, что мы отметили один конец прежде другого и тем самым получили неверный результат. Это означает, что у объектов нет длин в абсолютном смысле слова. Их длина зависит от наблюдателя. А это уже совсем иная геометрия.
Часто говорят, что в теории относительности движущиеся объекты воспринимаются как сжатые в направлении их движения. Это означает, что объект, измеряемый наблюдателем, считающим объект движущимся, будет воспринят как более короткий, нежели в случае наблюдателя, который считает объект неподвижным. Эйнштейн обнаружил аналогичные аномалии и в поведении времени. Движущиеся относительно друг друга наблюдатели не договорятся о длинах или интервалах времени или о том, сколько времени прошло. Подобно пространственным, и временные промежутки не имеют абсолютного значения.
Время, которое наблюдатель отмеряет между двумя событиями, находясь на одном месте, — что в его системе отсчета есть фиксированная точка пространства, — называется собственным временем. Любой другой наблюдатель, находящийся в движении (с постоянной скоростью) относительно первого, воспримет временной интервал между двумя событиями как больший. Поскольку относительно себя самих мы всегда находимся в покое, время нашей жизни, измеряемое другими, всегда дольше, нежели его воспринимаем мы сами (фактор общего ускорения жизни в расчет принимать не будем). Другим кажется, что наши часы отстают. Но мы, увы, умрем по сигналу внутреннего таймера, который движется вместе с нами. В специальной теории относительности трава на соседской лужайке и впрямь зеленее.
Что это означает применительно к законам движения? В специальной теории относительности объекты все еще подчиняются первому закону Ньютона: они движутся по прямой, если на них не действует внешняя сила. Наблюдатели могут не соглашаться в том, какой длины тот или иной сегмент этой самой прямой, — но не в том, что она, в принципе, прямая. Однако это пока и не «релятивистская формулировка» первого закона: в теории относительности для разных наблюдателей пространство и время по-разному взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы и пространство, и время оказались охвачены одной теорией, понятия геометрии необходимо видоизменить.
Вместо точек в пространстве и времен событий нам придется формализовать понятие события, иными словами — ввести точки в четырех измерениях пространства-времени. Мы теперь говорим не о траекториях в пространстве, а о мировых линиях в пространстве и времени. Отныне у нас не расстояния, а комбинация временно́го интервала и пространственных расстояний между событиями. А вместо прямых — геодезические линии, определяемые (по техническим причинам) как кратчайшие или длиннейшие мировые линии, соединяющие два события[233]. Вот вам типичный пример события: автор этой книги сидит в определенной точке пространства, т. е. за своим столом, в определенное время. Типичная мировая линия: писатель торчит за своим столом по многу часов подряд. Эта конкретная мировая линия имеет переменную временну́ю координату и постоянную пространственную. Такое положение дел для мировых линий допустимо. «Траектория» в пространстве у нашего писателя — скучная фиксированная точка, зато в пространстве-времени мировую линию он все-таки прочерчивает, в точности так же, как поднимающийся лифт, у которого координаты восток-запад не меняются, а вот координата высоты — переменна. Расстояние между двумя точками в пространстве-времени на этой мировой линии отличается от нуля, хотя расстояние, пройденное в пространстве, равно нулю, а все потому, что эти точки разнесены во времени.
Чтобы разобраться в том, как перевести первый закон Ньютона на релятивистский язык, предположим, что некоторому объекту предстоит переместиться от Алексея из точки времени нуль по его часам к Николаю с точкой времени одна секунда по его часам — такое с объектами происходит довольно часто. Какова будет траектория этого объекта, если на него не воздействуют внешние силы? На языке относительности два рассматриваемых события имеют координаты (пространство = местоположение Алексея, время = нуль) и (пространство = местоположение Николая, время = единица). Допустим, мальчишки покоятся относительно друг друга и часы у них синхронизированы; тогда объект двинется по прямой с некоторой постоянной скоростью, необходимой для того, чтобы успеть добраться от Алексея к Николаю за одну секунду по их часам. Такова мировая линия свободного объекта в специальной теории относительности.
Какой закон управляет этой мировой линией? Рассмотрим, что произойдет иначе — если бы объект не двигался по прямой, а заложил бы крюк. За то же время ему пришлось бы преодолеть большее расстояние, а значит, чтобы добраться до цели вовремя (местоположение Николая во времени = одна секунда), — и двигаться шустрее. Но, как мы уже убедились, если объект двигается относительно другого, его время изменяется медленнее, т. е. объект прибудет к цели менее чем за одну секунду по своим часам.
Движение объекта в пространстве по прямой и с постоянной скоростью образует мировую линию, вдоль которой часы этого объекта покажут максимум возможного времени, прошедшего между двумя событиями. Следовательно, первый закон Ньютона можно сформулировать в терминах новой геометрии так:
Если на объект не действует внешняя сила, он всегда перемещается вдоль мировой линии от одного события к другому так, что время, прошедшее по часам этого объекта (т. е. собственное время) максимально.
Эйнштейн знал, что его теория станет пушечным ядром, запущенным в за́мок современной физики. Он преклонялся перед Ньютоном, но это не помешало ему уничтожить одну из ключевых установок ньютоновской теории: существование абсолютного пространства и времени. К тому же, Эйнштейн отправил в небытие двухсотлетней давности краеугольный камень физической теории — эфир. И хотя его специальная теория относительности одержала много побед (объяснение большего периода существования у быстрых радиоактивных частиц, равенство и взаимопревращение энергии и материи), Эйнштейну хватило ума догадаться: люди, которые посвятили свои жизни пестованию и усовершенствованию того самого замка, вряд ли угостят шнапсом и приятельски похлопают по спине того, кто этот замок уничтожил. Эйнштейн изготовился к войне.
Прошли месяцы, а войны не случилось. Выходил выпуск за выпуском «Annalen der Physik», а на бомбардировку Эйнштейна миру физики словно бы нечего было ответить. Наконец Эйнштейн получил письмо от Макса Планка, в котором тот попросил разъяснений по нескольким вопросам. Прошло еще несколько месяцев. И что, всё? Душу вкладываешь в новую революционную теорию мироздания, а в ответ получаешь лишь пару вопросов от какого-то парня из Берлина?
1 апреля 1906 года Эйнштейна повысили в патентном бюро — он стал техническим экспертом второго класса. По понятиям бюро — честь, но, прямо скажем, не Нобелевская премия. Эйнштейн начал задумываться, не засланец ли он с планеты Неудачников, выражаясь словами Алексея. Или, выражаясь словами самого Эйнштейна, «достопочтенная государственная чернильница-урыльник»[234]. Час от часу не легче: в свои двадцать семь Эйнштейн опасался, что дни его созидания сочтены. Вероятно, он мог бы задумываться, не придется ли ему умереть в безвестности, как Бойяи и Лобачевскому, — но, как и почти все остальные, он о них и слыхом не слыхивал.
Однако Эйнштейну невдомек было, что письмо, полученное им от Макса Планка, было лишь вершиной айсберга. Зимним семестром 1905–1906 года на коллоквиуме по физике в Берлине Планк представил теорию Эйнштейна. А летом 1906 года он отправил одного своего студента — Макса фон Лауэ — навестить Эйнштейна в его патентном бюро. Наконец-то Эйнштейну выпала возможность пообщаться с миром реальных физиков.
Эйнштейн, войдя комнату, где дожидался его фон Лауэ, так засмущался, что не сумел представиться[235]. Фон Лауэ глянул на него, но не обратил особого внимания, поскольку не мог вообразить, что настолько неприметный человек может быть автором теории относительности. Эйнштейн вышел. Чуть погодя, правда, вернулся, но все равно никак не мог собраться с духом и заговорить с гостем. Наконец фон Лауэ представился сам. По пути к дому Эйнштейн предложил ему сигару. Фон Лауэ обнюхал ее. Дешевая дрянь. За разговорами посланец Планка втихаря выбросил подношение в реку Аре. Ни видом, ни запахом увиденного фон Лауэ не впечатлился, а вот услышанное подействовало на него сильно. И фон Лауэ, которого в будущем ожидала Нобелевская премия (1914 года, за открытие дифракции рентгеновских лучей), и Макс Планк, Нобелевский лауреат 1918 года, стали ключевыми сторонниками Эйнштейна и теории относительности. Годы спустя, рекомендуя Эйнштейна на место в Праге, Планк сравнит его с Коперником.
Поддержка Планком теории относительности — ирония судьбы: он с большим трудом принял ранние работы Эйнштейна по фотоэффекту — новую интерпретацию его же, Планка, квантовой теории. Но вот поди ж ты: в части теории относительности Планк оказался человеком широких и гибких взглядов — он немедленно воспринял ее как верную. В 1906 году Планк стал первым человеком после Эйнштейна, опубликовавшим статью по теории относительности. В той статье он первым же и применил относительность к квантовой теории. А в 1907 году он — также первым — руководил диссертацией на тему теории относительности.
Бывший преподаватель Эйнштейна по Политехникуму Герман Минковский, находившийся тогда в Гёттингене, оказался еще одним поборником теории относительности — из тех немногих, кто внес в нее важный вклад еще на заре ее существования: он устроил коллоквиум, на котором ввел в теорию относительности геометрию и понятие о времени как о четвертой координате. В лекции 1908 года Минковский сказал: «Таким образом пространство само по себе и время само по себе обречены отойти в мир теней, и лишь союз этих двух сохранит независимое существование»[236].
Невзирая на поддержку маститых физиков — преимущественно в Германии, — широкого признания специальной теории относительности пришлось дожидаться. В июле 1907 года Планк написал Эйнштейну, что из сторонников относительности «собирается скромная толпа»[237]. А от многих одобрения так и не поступило. Майкельсон, как мы уже говорили, вцепился в эфир. Лоренц, хоть и — вполне взаимно — испытывал уважение к Эйнштейну, тоже не был готов расстаться с эфирной концепцией[238]. А Пуанкаре, так и не постигший теории относительности, противился ей вплоть до своей смерти в 1912 году[239].
Но пока физическое сообщество не спеша раздумывало над идеями Эйнштейна, он уже принялся за работу над следующей, еще более великой революцией. И эта революция вновь сделает геометрию центром физики — той точкой, от которой она отклонилась после того, как Ньютон ввел уравнения математического анализа. По сравнению с этой первая революция покажется цветочками.
Глава 26. Эйнштейново яблоко
Как потом рассказывал сам Эйнштейн, в ноябре 1907 года, он «сидел в кресле в патентном бюро в Берне и вдруг возникла мысль: “если человек свободно падает, он не чувствует собственного веса”»[240].
Не за эти соображения платили Эйнштейну на службе. Его там держали для того, чтобы он отказывал изобретателям вечных двигателей, оценивал идеи по усовершенствованию мышеловок и разоблачал устройства для превращения кизяков в алмазы. Работа временами развлекала и никогда не тяготила чрезмерно. Тем не менее рабочий день был восьмичасовой, а рабочая неделя — шестидневная. Позднее выяснилось, что он частенько притаскивал на работу свои заметки и украдкой возился с ними прямо в конторе, поспешно пряча в стол, если появлялось начальство. Герр Эйнштейн — такой же рохля, как и все мы. Директор бюро был настолько неосведомлен, что, когда в 1909 году Эйнштейн наконец решил уволиться и заняться университетским преподаванием, рассмеялся и решил, что Эйнштейн шутит. Уже было объяснено броуновское движение, придуман фотон и создана специальная теория относительности, и все это — прямо у директора под носом.
«Если человек свободно падает, он не чувствует собственного веса». Позднее Эйнштейн назвал это «счастливейшей мыслью» его жизни[241]. Был ли Эйнштейн печальным одиноким человеком? Вообще-то его личная жизнь — не голливудская сказка. Он женился, развелся, женился повторно и все время относился к брачной жизни отрицательно. От своего первенца он отказался — отдал на усыновление. Его младший ребенок оказался шизофреником и умер в психиатрической больнице. Нацисты гонялись за ним по всему континенту, а на второй родине ему так и не удалось почувствовать себя как дома. Однако мысль, доставившая Эйнштейну столько радости, в любой жизни оказалась бы значимой, имей она одинаковое значение для всех.
Эйнштейн говорил, что это осознание «поразило» его; оно стало откровением, приведшим ученого к его величайшему достижению. Падающий человек Эйнштейна стал эйнштейновым яблоком, семенем, его ростки — новая теория тяготения, новое представление о космологии, новый подход к физической теории вообще. Эйнштейн искал нечто подобное с 1905 года — новый принцип, могущий стать путеводным в поисках лучшей теории относительности. Он понимал, что исходная теория неполна. Даже с учетом всех следствий субъективности пространства и времени, его специальная теория все равно оставалась лишь новой кинетикой. Она описывала, как тела реагируют на воздействие определенных сил, но она их не определяла. Ясное дело, специальная теория относительности задумывалась так, чтобы идеально стыковаться с теорией Максвелла, поэтому загвоздка состояла не в электромагнитных силах. Силы гравитации же — совсем другое дело.
Единственной на 1905 год теорией тяготения оставалась ньютонова. Ньютон был не дурак: он дал такое описание гравитационным силам, чтобы оно увязывалось с его же кинетикой, т. е. с его законами движения. Поскольку специальная теория относительности заменила ньютоновские законы новой кинетикой, неудивительно, что Эйнштейн счел гравитационную теорию Ньютона неподходящей. Вспомним формулировку закона всемирного тяготения:
Сила тяготения между двумя материальными точками в любой момент времени пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними в данный момент времени.
Вот и вся недолга. Этот закон можно перевести на язык математики и производить количественные расчеты. Можно применить методы матанализа и перейти от материальных «точек» к протяженным объектам. А можно воткнуть его в законы движения и получить уравнения, описывающие, как объекты вроде небесных тел движутся под влиянием друг друга. Или, обильно попотев и проявив гениальность, можно приблизительно решить эти уравнения и предсказывать орбиты вновь открытых астероидов — это сделало знаменитым Гаусса: он предсказал орбиту Цереры[242]. Исследование следствий гравитационного закона Ньютона оказалось куда сложнее его исходной формулировки, и физики с легкостью нашли себе работу на тысячи человекочасов.
Этот закон был немил самому открывателю: Ньютон находил мгновенную передачу силового воздействия подозрительной. В теории относительности подозрение переросло в обвинение: ничто не может передаваться быстрее скорости света. Но и это еще не все. Задумаемся над оборотом «в данный момент». В теории относительности, как мы успели заметить, это субъективная категория. Если две массы находятся в движении друг относительно друга, события, кажущиеся одной из этих масс одновременными, другой массой будут восприняты как произошедшие в разное время. Ну и к тому же, как обнаружил Лоренц, они не договорятся ни о показателях масс, ни о значениях расстояний.
Эйнштейн знал, что до совершенства его теории не хватает описания гравитации, не противоречащего специальной теории относительности. Но Эйнштейну не давало покоя еще кое-что. В специальной теории он активно настаивал на принципе, что наблюдатель обязан иметь возможность считать себя покоящимся, не меняя при этом теорий физики — в частности, принципа, что скорость света есть постоянная величина. Это утверждение обязано применяться к любому наблюдателю. Но в специальной теории относительности оно применимо лишь к наблюдателю, находящемуся в равномерном движении.
«Что это за привилегированное состояние такое — равномерное движение?» — может брюзгливо спросить скептик или логик. Отрепетированный ответ таков: состояние движения по прямой с постоянной скоростью. Действительно, из толпы наблюдателей, движущихся по прямой с постоянной скоростью относительно друг друга, получается славный «клуб старых друзей», и его члены могут втихаря договориться о равенстве и мере во всем. Но удастся ли им отбиться от чужака, если тот заявит, что их движение равномерно лишь по отношению друг к другу и только потому, на самом деле, что они меняют направление и скорость движения в унисон?
Вообразим стадион, битком набитый фанатами, прикипевшими к своим сиденьям в угаре и азарте игры. Вот он, символ равномерного движения: состояние диванного овоща (равномерное движение с нулевой скоростью). Теперь представим другого диванного овоща — астронавтку, в часы досуга на космической станции не отлипающую от кресла перед телевизионным монитором. С ее точки зрения целый стадион фанатов вращается с бешеной скоростью вокруг земной оси, и это движение с трудом можно именовать прямолинейным. Какой судья может обжаловать ее заявление о том, что это она покоится, а они — вращаются? Или, если уж на то пошло, заявление какого-нибудь третьего наблюдателя, по чьему мнению и астронавтка, и стадион несутся куда-то как на пожаре, дружно виляя туда и сюда?
Оказывается, есть способ разобраться, что к чему. Для автора этой книги все просто: в состоянии равномерного движения он сидит себе спокойно и размышляет над красотой, с какой законы Ньютона описывают мир вокруг, а если подвергнуть автора избыточным ускорениям, он зеленеет и принимается блевать. Такое явление впервые наблюдалось в «шеви» в начале 1960-х. Воздействие, оказываемое ускорением на человеческое тело, разумеется, сложно, однако физика за ним стоит простая: ускорение не проходит незамеченным. Поставим мысленный эксперимент с участием сына Эйнштейна Ханса Альберта в качестве морской свинки. Хансу Альберту в 1907 году было пять лет — возраст, в котором предельно неравномерное движение все еще видится извращенно притягательным. Теперь представим Ханса Альберта на карусели, а его папу, доктора Эйнштейна, на покоящейся платформе, окружающей карусель.
У Ханса Альберта в кулачке — леденец на палочке. Он выпускает его. Если бы карусель стояла на месте, леденец бы попросту упал вниз. Но она вращается, и леденец улетит вдаль по касательной к той точке, в которой его выпустили из рук. Дети склонны считать себя центром Вселенной. Представим, что на этом же настаивает Ханс Альберт: в обоих случаях покоится именно он. Во втором случае карусель не покажется ему движущейся. Напротив, с его точки зрения, это мир вращается вокруг него. Старшего Эйнштейна во всем этом беспокоило то, что, в отличие от столкновения топора Николая и книги Алексея, в этих двух свидетельских описаниях события вроде бы подчинялись разным законам. Чтобы убедиться в этом, давайте проанализируем, как именно оба наблюдателя воспринимают ситуацию. Эйнштейн-отец строит систему координат с привязкой к Земле. В его системе его положение не меняется, а Ханс Альберт описывает круги с центром в виде оси карусели. Леденец какое-то время будет двигаться вместе с Хансом Альбертом — к этому движению его принудит сжатый кулачок ребенка. В тот миг, когда Ханс Альберт ослабит хватку, леденец продолжит движение в соответствии с законами Ньютона. Это означает, что он покинет круговую орбиту и направится по прямой с той скоростью и в том же направлении, какие у него были в момент расставания с Хансом Альбертом. Ни законы Ньютона, ни специальная теория относительности не нуждаются в коррективах для описания этого происшествия.
Теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения Ханса Альберта. Он строит систему координат, привязанную к карусели так, что его положение не меняется. Леденец какое-то время покоится там же, где и Ханс Альберт. Но стоит ему разжать кулачок, как леденец внезапно отправляется в полет. Объекты ни в ньютоновой, ни в эйнштейновой физике так себя не ведут. Похоже, законы этих физик не выполняются. Более того, в своей системе отсчета у Ханса Альберта может возникнуть искушение заменить первый закон на такое утверждение:
Тело в покое склонно оставаться в покое лишь при условии, что ты за него крепко держишься. Если его отпустить, оно улетает без всякой на то видимой причины.
Вращающийся наблюдатель Ханс Альберт, настаивая на своем состоянии покоя, вынужден менять законы физики, чтобы описать движение объектов в своем мире. Видоизменение ньютоновых законов движения (т. е. кинетики) — один способ добиться соответствия. Если бы Хансу Альберту было бы не наплевать на «спасение» законов Ньютона, он мог бы проделать следующее: сохранить формулировки законов, но определить загадочную «силу», что воздействует на все во Вселенной, разбрасывая что ни попадя вокруг карусели. Поскольку — за вычетом того, что эта сила отталкивающая, а не притягивающая, — она смахивает на гравитацию, станем звать ее «фиглитация».
Ньютон знал, что ускоренное движение системы отсчета заставляет объекты перемещаться словно под воздействием таинственных сил вроде фиглитации. Такие вот кажущиеся силы были известны под названием фиктивных, поскольку у них нет физического источника — например, заряда, — и их можно устранить, взглянув на систему в другой системе отсчета — в которой движение равномерно (такая система отсчета называется инерциальной). Отсутствие фиктивных сил в ньютоновой теории предоставляло истинный критерий равномерного движения. Если не возникает никаких фиктивных сил, значит, вы движетесь равномерно. Если возникает — вы ускоряетесь. Такое определение нервировало многих ученых, особенно Эйнштейна. Ладно, положим, в этом смысле равномерное движение вроде бы оказывалось определимо физически. Но как быть в отсутствие фиксированной системы отсчета в абсолютном пространстве? Что, имеет какой-то больший смысл выделять ускоряющиеся системы отсчета супротив покоящихся?
Представим экспериментальный объект в пространстве, лишенном любой материи и энергии. Как в нем различить линейное и круговое движение, если вокруг нет ничего, относительно коего можно оценить движение? Ньютон ответил на этот вопрос исходя из своей веры в абсолютное пространство: даже совершенно пустое, оно наделено фиксированной системой отсчета, относительно которой определяется движение. Бог не жулик, приборы без батареек не всучивает: Вселенную он оборудовал хорошенько — не только Евклидом, но и Декартом. Популярная альтернативная теория того времени — предложение австрийского физика Эрнста Маха: центр масс всей Вселенной — точка, относительно которой оценивается любое движение. Таким образом, грубо говоря, движение, равномерное по отношению к далекой звезде, есть подлинное инерциальное движение. Но у Эйнштейна были на этот счет свои соображения.
С помощью специальной теории относительности Эйнштейну удалось стереть границу между покоем и равномерным движением (с ненулевой скоростью), а также причесать под одну гребенку всех инерциальных наблюдателей. Теперь ему нужно было расширить теорию так, чтобы в нее попали все наблюдатели, включая и тех, что ускоряются относительно инерциальных систем отсчета. Если бы ему это удалось, новой теории уже не потребовались бы ни фиктивные силы для оправдания «неравномерного движения», ни необходимость в поправках к физическим законам движения. Овощи на стадионе, космонавт на Луне, Ханс Альберт на карусели, Альберт-старший на неподвижной платформе — все они смогут применять эту теорию, не раздумывая о том, какова же подлинная инерциальная система отсчета. Был в этом замысле и философский мотив. Эйнштейну не хватало лишь теории. Как же к ней подобраться? Необходим ключевой принцип.
Озарение, посетившее Эйнштейна следом за «счастливейшей мыслью», дало ему именно то, что он искал. «Если человек свободно падает, он не чувствует своего веса». Вот он, первый указатель искомого направления, компас на долгом пути к новой теории. В более широкой формулировке это утверждение стало принципом эквивалентности[243], или третьей аксиомой Эйнштейна:
Невозможно различить вне сопоставления с другими телами, движется ли данное тело с постоянным ускорением или покоится в равномерном гравитационном поле[244].
Иными словами, гравитация — фиктивная сила. Как и фиглитацию, ее можно считать всего лишь декоративным элементом выбранной нами системы отсчета и устранить, выбрав другую. Этот принцип применим к равномерному воздействию поля тяготения и это — его простейший вид, в каком сам Эйнштейн впервые помыслил его. Работы Гаусса и Римана позволили Эйнштейну применить этот принцип к любому полю тяготения путем представления неравномерного поля как мозаики бесконечно малых (т. е. вот прямо очень-преочень маленьких) равномерных полей, соединенных вместе, но этого утверждения он не делал еще пять лет, до 1912 года. Вот тогда-то он и сформулировал название «принцип эквивалентности».
Давайте разберемся, что Эйнштейн имел в виду под исходным вариантом равномерного поля. Ньютон в качестве равномерно движущихся систем отсчета представлял корабли, Эйнштейн — поезда, а иногда — лифты. Ньютон, может, вообще иначе смотрел бы на гравитацию, вообрази он лифт, но этот вид транспорта начал приживаться лишь в 1852 году, когда Элиша Грейвз Отис решил небольшую инженерную задачку: как не дать пассажирам шмякнуться и убиться, если кабель оборвется. Представьте: едете вы в лифте и вдруг ощущаете невесомость. Принцип эквивалентности есть простое воплощение этого интуитивного наблюдения: в этих обстоятельствах невозможно определить, оборвался ли кабель или это гравитацию отключили (хотя последнее, конечно, проходит по категории «мечтать не вредно»). Если можно падать свободно в равномерном поле тяготения, законы физики будут теми же, что и в среде без тяготения вообще. Выпустите из рук стакан с кофе, и он поплывет рядом, будь вы хоть в глубоком космосе, хоть в лифте, падающем вам на погибель с девяносто первого этажа.
Теперь предположим, что вы входите в лифт на первом этаже конторского здания. Двери закрываются, а вы зажмуриваетесь. Теперь откройте глаза. Вы чувствуете свой вес. Что за силу, тянущую вниз, вы ощущаете? Может, это земное тяготение, а может, Землю внезапно уничтожили пришельцы и тащат лифт вверх, каждую секунду увеличивая скорость на 32 фута в секунду. Вряд ли это тема для собеседования на открытую вакансию, но согласно принципу эквивалентности эффект в обоих случаях один и тот же. Отпустите кофейный стакан, и он плюхнется на пол одним и тем же манером — оба раза.
Тот факт, что объекты в свободно падающем лифте будут словно бы плавать, а в ускоряющемся лифте в пространстве без гравитации — падать, предсказано законами Ньютона. В этих сценариях новой физики как таковой нету. Но, как обычно, Эйнштейн неутомимо вытрясал из ситуации ее тайны. И тайны эти оказались странными: тяготение должно влиять на ход времени и форму пространства.
Чтобы определить влияние на ход времени, Эйнштейн применил анализ ситуации с лифтом примерно в том же ключе, что и в случае с вагоном метро. Он зафиксировал восприятия различных наблюдателей, обменивающихся световыми сигналами и регистрирующих время получения этих сигналов. Эйнштейн собирался описать физику этой ситуации с помощью специальной теории относительности, но столкнулся с некоторой трудностью. Поскольку наблюдатели двигаются с ускорением, специальная теория на них не распространяется. Тогда он сделал допущение, ставшее впоследствии одной из опорных точек конечной теории: внутри достаточно небольшого объема пространства, краткого промежутка времени и небольшого ускорения — специальная теория относительности по-прежнему приблизительно применима. При таком подходе Эйнштейн смог применить свою теорию и принцип эквивалентности для бесконечно малых областей — даже в неравномерном поле.
Вообразите длинную космическую ракету с Николаем в носовой части и Алексеем в хвостовой. У них идентично настроенные часы. Алексей дает сигнал фонариком каждую секунду по своим часам. Для простоты предположим, что, согласно замерам Алексея и Николая, корабль у нас в одну световую секунду длиной. (В смысле, свет долетит от Алексея к Николаю за одну секунду.) Что наблюдает Николай?
Поскольку Алексей подает сигнал каждую секунду, и каждая вспышка добирается до Николая за одну секунду, через одну секунду Николай будет видеть по вспышке в секунду. Теперь представим, что ракета стартует с постоянным ускорением. Что меняется? Свет от следующей после старта вспышки достигнет Николая быстрее, чем ожидалось, поскольку Николай теперь двигается ему навстречу. Положим, свет доберется до цели на 0,1 секунды раньше положенного. Согласно принципу эквивалентности, Николай и Алексей могут и не считать, что какое-то движение вообще происходит, и счесть ощущение «тяги» за проявление сил гравитации. Но если они не воспринимают ускорение и связывают его с действием поля тяготения, они и движение Николая навстречу вспышке света могут отрицать. Они придут к заключению, что прибытие сигнала на 0,1 секунды раньше связано с ускоряющим действием, оказываемым гравитацией на часы Алексея, и поэтому он дает вспышку на 0,1 секунды раньше условленного срока.
Если, согласно принципу эквивалентности, обе интерпретации допустимы, мы вынуждены заключить, что часы, размещенные в гравитационном поле выше, идут быстрее. Из-за поля тяготения Земли часы Алексея, квартирующего на верхней полке, чуточку спешат по сравнению с часами Николая, обитающего на нижней. Самую малость. Даже в поле тяготения Солнца, которое гораздо мощнее, время на Земле, находящейся в 93 миллионах миль над Солнцем, бежит всего на две миллионных доли быстрее, чем на поверхности Солнца. При таких соотношениях существо на Солнце выигрывает всего примерно одну минуту в год[245]. Вряд ли стоит ради этого терпеть тамошний климат. Такое искажение времени влияет на частоту света, которая есть число колебаний световой волны в секунду. Влияние это не сильное, однако его Эйнштейн предсказывал (оно называется гравитационным красным смещением[246]). Из-за этого вашу любимую радиостанцию, вещающую на частоте 1070 АМ-диапазона (т. е. 1070 кГц), у которой передатчик на 110-м этаже Мирового торгового цент ра, надо ловить на частоте 1070,00000000003. Маньяки качественного звука, берите на карандаш.
Эйнштейн впервые выдвинул соображение, что гравитация влияет на ход времени, в 1907 году. Из специальной теории относительности нам известно, что пространство и время взаимосвязаны. Сколько понадобилось времени техническому эксперту, чтобы осознать: присутствие гравитации меняет и форму пространства? Пять лет. Стоит это запомнить — на случай, когда вдруг проглядите что-нибудь, что впоследствии покажется вам очевидным. Эйнштейн говорил: «Если б мы знали, что именно делаем, это не называлось бы исследованием, правда?»[247]
Эйнштейн совершил логический переход к искривленному пространству летом 1912 года в Праге. Шел шестой год размышлений над созревающей теорией относительности. И опять этот шаг был сделан благодаря озарению. Эйнштейн писал: «Из-за лоренцева сокращения в системе отсчета, вращающейся относительно инерциальной, законы, действующие на твердые тела, не отвечают правилам евклидовой геометрии. Значит, евклидову геометрию нужно отставить…»[248] В переводе: «Когда движешься не по прямой, евликдова геометрия искажается».
Представим Ханса Альберта уже десятилетним, но вновь на карусели. Предположим, его отцу, размещенному на неподвижной платформе, карусель видится идеальным кругом. Что сообщает нам специальная теория относительности о пространстве в заданных условиях? (Как и ранее, этот анализ не вполне строг, поскольку связан с применением специальной теории относительности к неравномерному движению.) Представьте, что в каждый момент времени от местоположения Ханса Альберта мы строим две перпендикулярные оси. Одна ось направлена радиально (вовне от карусели). Это направление действия силы, которую в этот миг ощущает Ханс Альберт. Ханс Альберт в этом направлении вовсе не движется — расстояние между ним и центром карусели неизменно. Другая ось — касательная к карусели. В любой заданный момент она указывает направление движения Ханса Альберта. Она всегда перпендикулярна направлению действия силы, которую чувствует мальчик.
Теперь, положим, отец бросает Хансу Альберту крошечный горизонтальный квадратик, и одна его сторона совпадает с радиусом карусели. Он просит Ханса Альберта пронаблюдать за фигурой и сообщить, какой она формы. Что же нам сообщит Ханс Альберт? То, что отцу представлялось квадратом, для него будет выглядеть как прямоугольник. Таков эффект лоренцева сокращения. Поскольку Ханс Альберт в каждый момент времени движется по касательной и никогда — вдоль радиуса, две стороны квадрата, параллельные касательной, сжимаются, а стороны, параллельные радиусу, — нет. Если бы Ханс Альберт измерил длину окружности и диаметр карусели в терминах этих длин соответственно, он обнаружил бы, что их соотношение не равно π . Пространство Ханса Альберта искривлено. Его отец заключает, что евклидову геометрию необходимо отставить. Остается единственный вопрос: в пользу чего?
Глава 27. Вдохновился? Попотей
Ломать — не строить. Эйнштейну для построения новой физики требовалась новая геометрия, которая описывала бы искажение пространства. К счастью, Риман (и несколько его последователей) уже все придумали. К несчастью, Эйнштейн не слыхал о Римане — как, впрочем, и почти все остальные. Зато Эйнштейн еще как слыхал о Гауссе.
Эйнштейн помнил свой студенческий курс по инфинитезимальной геометрии, включавший гауссову теорию поверхностей. Эйнштейн обратился к своему другу Марселю Гроссманну, которому в 1905 году посвятил свою докторскую диссертацию. Гроссманн к тому времени трудился на ниве математики в Цюрихе и специализировался как раз по геометрии. Встретившись с Марселем, Эйнштейн воскликнул: «Гроссманн, ты должен мне помочь, иначе я сойду с ума»[249].
Эйнштейн растолковал свои нужды. Копаясь в литературе, Гроссманн обнаружил работы Римана и других по дифференциальной геометрии. Там все было мудрено. И сложно. Совсем не примитивно. Гроссманн доложил: да, нужная математика уже существует, но в ней «чудовищный беспорядок, с которым физикам не следует возиться»[250]. Однако повозиться Эйнштейн пожелал. Он нашел инструменты формулировки своей теории. Но попутно выяснил, что Гроссманн прав.
В октябре 1912 года Эйнштейн написал другому своему другу и коллеге-физику Арнольду Зоммерфельду: «…за всю свою жизнь так тяжко я не работал никогда и пропитался великим уважением к математике… по сравнению с этой задачей исходная теория (специальная теория относительности) — детская забава»[251].
Это приключение заняло еще три года, два из которых Эйнштейн трудился в тесном сотрудничестве с Гроссманном. Студент, на чьих конспектах Эйнштейн проскочил учебные годы, теперь стал его наставником. Планк, узнав о замыслах Эйнштейна, сказал ему: «Как старший товарищ, я должен предостеречь вас: для начала у вас ничего не выйдет; а если и выйдет, вам никто не поверит»[252]. Но к 1915 году Эйнштейн вернулся в Берлин — по приглашению самого Планка. С тех пор Гроссманн написал совсем немного исследовательских статей и менее чем через десять лет тяжело заболел рассеянным склерозом. Эйнштейн, постигнув необходимое ему, завершил создание теории без него. 25 ноября 1915 года он представил работу под названием «Уравнения поля тяготения» Прусской научной академии[253]. В ней он объявил: «Наконец общая теория относительности завершена как логическая структура»[254].
Как же общая теория относительности описывает природу пространства? Она показывает, как материя и энергия Вселенной влияют на расстояния между ее точками. Пространство, рассматриваемое как множество, есть попросту собрание некоторых элементов — точек. Структура пространства, которую мы называем геометрией, возникает из соотношений между точками, и эти соотношения именуются расстояниями. Привнесенная структура соотносится с исходной так же, как, скажем, телефонная книга со списком домов и карта, определяющая их пространственные связи. Занимаясь картографированием Германии, Гаусс обнаружил, что, определив расстояние между парой точек, можно установить геометрию пространства, а Риман привнес в это наблюдение детали, необходимые Эйнштейну для формулировки его физики в геометрических терминах.
В сухом остатке все сводится к спору двух наших старых друзей — Пифагора и Непифагора. Вспомним, что в евклидовом мире можно померить расстояние между любыми двумя точками, применив теорему Пифагора. Мы попросту накладываем прямоугольную координатную сетку. Назовем координатные оси «восток — запад» и «север — юг». Согласно теореме Пифагора, квадрат расстояния между двумя точками равен сумме квадратов разницы между их положениями относительно оси восток — запад и север — юг.
Как установила Неевклида, в искривленном пространстве это соотношение недействительно. Пифагорову формулу необходимо заменить новой — непифагоровой. В непифагоровой формуле для вычисления расстояний значения разницы вдоль оси север — юг и вдоль оси восток — запад не обязательно считаются одинаково. Более того, возможно, появится и еще одно значение — продукт разнесенности север/юг и восток — запад. Математически говоря, получается: (расстояние)² = g₁₁ х (разнесенность восток — запад)² + g₂₂ х (разнесенность север — юг)² + g₁₂ x (разнесенность восток — запад) х (разнесенность север — юг)[255]. Числа, обозначенные через g, называются метрикой пространства (а сами факторы g называются компонентами метрики). Поскольку метрика определяет расстояние между двумя точками, она, геометрически говоря, полностью характеризует пространство. Для евклидовой плоскости и прямоугольных координат компоненты метрики попросту g₁₁ = g₂₂ = 1, а g₁₂ = 0. В этом случае формула Непифагора превращается в обычную пифагорову. В других типах пространства компоненты не так просты, и их значения могут варьировать в зависимости от вашего местоположения. В общей теории относительности эти представления обобщены для трех пространственных измерений и, как и в специальной теории, включают время как четвертое измерение (в четырехмерном пространстве метрика имеет десять независимых компонентов)[256].
Работа Эйнштейна 1915 года предъявляла уравнение, описывающее распределение материи в пространстве (и времени) в связи с метрикой четырехмерного пространства-времени. Поскольку метрика определяет геометрию, уравнения Эйнштейна определяют форму пространства-времени. В теории Эйнштейна масса не производит гравитационного воздействия, а меняет пространство-время.
Хотя пространство и время взаимосвязаны, однако, если ограничиться определенными обстоятельствами, как то: малыми скоростями и слабой гравитацией, — пространство и время можно рассматривать более-менее порознь. В таком случае допустимо говорить об одном лишь пространстве и о его кривизне. Согласно теории Эйнштейна, искривление области пространства (усредненное во всех направлениях) определяется массой в этой области.
Как мы уже убедились, искривление отражено в отношении площади круга к его радиусу или объему сферы с таким радиусом. Уравнения Эйнштейна утверждают, что при заданной сферической области пространства с равномерно распределенной в ней материей, измеряемый радиус этой сферы будет меньше ожидаемого (с учетом ее объема) пропорционально значению массы внутри нее. Постоянная в этой пропорции чрезвычайно мала: на каждый грамм массы радиус уменьшается всего на 2,5 х 10–29 сантиметра, т. е. 0,000000000000000000000000000025 см. Для нашей планеты, с допущением равномерности ее плотности, разница в радиусах — 1,5 миллиметра. Для Солнца — полкилометра[257].
Проявления кривизны пространства-времени на Земле минимальны и лишь недавно получили практическое применение (системы спутниковой навигации, к примеру, чтобы сохранялась синхронизация, требуют релятивистских поправок настройки)[258]. Эйнштейн на протяжении многих лет и не предполагал, что изгибание света под действием сил тяготения вообще можно как-то измерить. Но вот наконец решил взглянуть в небо. Эксперимент принципиально прост: дождитесь следующего солнечного затмения и в том месте и в то время, где и когда затмение наблюдается, измерьте положение какой-нибудь звезды, что проявится рядом с Солнцем в процессе затмения (из-за этого затмение и нужно: если Солнце ничто не загораживает, звезду никак не увидать); далее найдите данные о положении этой звезды, скажем, полугодичной давности, когда свет ее достигал ваших глаз, не касаясь нашей родной звезды. Во время затмения проверьте, возникает ли эта звезда там, где «должна», — или слегка «в стороне».
«Слегка» в данном случае — и впрямь слегка: всего 1 3/4 угловой секунды, или 0,00049°. Сам Ньютон мог бы открыть это явление, хотя его теория предсказывала иное отклонение. К 1915 году Эйнштейн уже сформулировал свои уравнения поля и сделал наилучшее свое предсказание. Первая подлинная проверка общей теории относительности заключалась, таким образом, не в удостоверении изгибания света, а в том, насколько именно он изгибается. Уверенности Эйнштейну хватало.
Глава 28. Торжество синевласых
Для наблюдения за солнечным затмением 29 мая 1919 года были отправлены две британские экспедиции. Артур Стэнли Эддингтон вел в бразильский Собраль ту, которая добилась успеха[259]. Эддингтон писал перед своим отъездом: «Нынешние экспедиции к месту затмения могут впервые выявить вес света[260]; или же им удастся подтвердить странную теорию Эйнштейна о неевклидовом пространстве; или же они приведут к еще более далеко идущим последствиям — что нет никакого отклонения»[261]. На анализ полученных данных ушло много месяцев. Наконец, 6 ноября, результаты были объявлены на общем собрании Королевского научного и Королевского астрономического обществ. «Нью-Йорк Таймс», до сих пор ни разу не помянувшая Эйнштейна, учуяла, что этой-то новости найдется место на ее страницах[262]. Хотя, похоже, газета все равно неверно оценила важность этой новости: отправила обозревателем своего корреспондента по гольфу, Генри Крауча. Крауч даже на собрание не явился, однако с Эддингтоном все же поговорил.
На следующий день передовица лондонской «Таймс» гласила: «РЕВОЛЮЦИЯ В НАУКЕ», а ниже, помельче, «Новая теория Вселенной» и «Ньютоновским идеям конец». Отчет в «Нью-Йорк Таймс» вышел тремя днями позже, с заголовком «ТЕОРИЯ ЭЙНШТЕЙНА ТОРЖЕСТВУЕТ». Статья в «Нью-Йорк Таймс» воспевала Эйнштейна, одновременно выражая сомнение, не оптическая ли иллюзия этот эффект, и не спер ли Эйнштейн идею из романа Уэллса «Машина времени». Возраст Эйнштейна они переврали, сообщив, что ему «около пятидесяти», а ему было тогда сорок, зато фамилию напечатали правильно. Эйнштейн мгновенно стал мировой знаменитостью, а для многих — сверхъестественным гением. Одна восторженная школьница написала ему письмо с вопросом, существует ли он на самом деле. Всего за год о теории относительности было написано более сотни книг. Лекционные залы по всему миру ломились от желающих услышать популярное изложение теории. «Сайнтифик Америкэн» объявил награду в 5000 долларов за лучшее толкование длиной до 3000 слов. (Эйнштейн отмечал, что лишь он один среди всех его друзей не участвовал в этом конкурсе.)
Несмотря на преклонение широкой публики, некоторые коллеги взялись нападать на Эйнштейна. Майкельсон, глава физического факультета Университета Чикаго, принял наблюдения Эддингтона, но отказался соглашаться с теорией. Коллега Майкельсона с факультета астрономии говорил: «Теория Эйнштейна — заблуждение. Теорию, согласно которой “эфира” не существует и в которой гравитация — не сила, а свойство пространства, можно считать исключительно безумной выходкой, позором века»[263]. Никола Тесла также насмехался над Эйнштейном — но он, как выяснилось, и круглых предметов боялся.
Недавно за ужином Алексей высказал свое свежее художественное устремление: он желает покрасить волосы в синий. На дворе XXI век, дети уже красят волосы в синий никак не меньше пары десятилетий. Правда, девятилетних по-прежнему среди них немного. В следующий понедельник Алексей стал первым в своей школе, у кого волосы совпадали по цвету с чернилами. А Николай, четырехлетнее эхо старшего брата, устроил у себя на голове взрыв лаймово-зеленого.
Реакция школы оказалась довольно предсказуемой. Несколько детишек продемонстрировали интеллектуальные глубины и высоты сознания и объявили этот стиль крутым (в основном — друзья Алексея). Многие прочие дети не смогли смириться с таким отрывом от традиции и принялись обзывать Николая «черникой». Учитель потаращился, но от комментариев воздержался.
Физика во многом смахивает на четвертый класс школы. Физикам начала XX века неевклидово пространство виделось маргинальной областью науки. Любопытно, однако не слишком-то в основном русле, как и синие волосы. И тут является такой Эйнштейн и заявляет, что синие волосы у нас теперь — писк моды. Сопротивление в его случае длилось несколько десятилетий, но постепенно иссякло — старое поколение отмерло, а новое приняло те воззрения, в которых было более всего смысла; и уж во всяком случае не присутствовало твердое вещество под названием «эфир», пронизывающее все пространство.
Последний всплеск антирелятивизма случился в Германии — родине самых первых сторонников теории. Тогда в стране шли полевые учения у антисемитов. Нобелевский призер 1905 года Филипп Ленард и Нобелевский лауреат 1919 года Йоханнес Старк поддерживали тех, кто считал теорию относительности заговором евреев по захвату мира. В 1933 году Ленард писал: «Важнейший пример опасного влияния еврейских кругов на науку — Эйнштейн с этими его корявыми математическими теориями…»[264] В 1931 году в Германии появилась брошюра «Сто авторов против Эйнштейна»[265]. В полном соответствии с математической развитостью группы авторов в брошюре участвовало 120 оппонентов. Мало кто из них оказался знаменитым физиком.
Старинные союзники Эйнштейна — Планк и фон Лауэ — не побежали за всеми с корабля, ввиду чего Старк напал на них в своей речи на торжестве открытия института имени Ленарда:
…к сожалению, его[266] друзья и сторонники по-прежнему имеют возможность продолжать свою работу в его духе. Их главный покровитель Планк все также возглавляет Общество кайзера Вильгельма, его переводчик и друг герр фон Лауэ все еще допущен изображать советника по физике в Академии наук в Берлине, а этот теоретический формалист Гейзенберг, который с Эйнштейном два сапога пара, даже имеет университетскую должность[267].
Гейзенберг[268] воздал нацистам за доброту, возглавив их усилия по разработке атомной бомбы. По счастью, теорию относительности он знал не так глубоко, и поэтому нацистов обставили американские гении — итальянец Энрико Ферми, венгр Эдвард Теллер и немец Виктор Вайсскопф. Эйнштейн держался в стороне от заварухи, не отвечая ни серьезным оппонентам, ни психам.
Эйнштейн уехал на два месяца в Пасадину — в Калифорнийский технологический институт, а рейхспрезидент фон Гинденбург тем временем назначил Гитлера своим канцлером[269]. Штурмовики вскоре совершили налет на берлинскую квартиру Эйнштейна и его летнюю дачу. 1 апреля 1933 года нацисты захватили его собственность и предложили награду за его поимку как врага государства. В тот момент Эйнштейн путешествовал по Европе и попросил убежища в США — в новом Принстонском институте перспективных исследований. Судя по всему, решающим фактором[270] в выборе между Принстоном и Калтехом стало согласие принять и его ассистента — Вальтера Майера. Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк 7 октября 1933 года.
Эйнштейн провел свои поздние годы в попытке создать объединенную теорию всех сил. Для этого он вынужден был состыковать общую теорию относительности с электромагнитной теорией Максвелла и с теориями сильных и слабых ядерных взаимодействий, а также, что важнее всего, с квантовой механикой. Мало кто из физиков верил в подобную унификацию. Знаменитый австро-американский физик Вольфганг Паули отмахнулся от нее со словами: «То, что Бог разъял на части, никому не свести воедино»[271]. Эйнштейн же говорил так: «Ко мне в основном относятся как к окаменелости, ослепшей и оглохшей от бремени лет. Не то чтобы мне такая роль была отвратительна, поскольку она вполне соотносится с моим темпераментом»[272]. Нам еще предстоит убедиться, что Эйнштейн был на верном пути, но на много десятилетий обогнал свое время.
В 1955 году Эйнштейну поставили диагноз — аневризма аорты полости живота. Разрыв аневризмы причинил ему много боли и вызвал большую потерю крови. Глава хирургического отделения Нью-йоркской больницы обследовал ученого прямо в Принстоне и заключил, что операция возможна, однако Эйнштейн ответил: «Я не верю в искусственное продление жизни»[273]. Ханс Альберт, к тому времени — известный профессор гражданского строительства в Университете Калифорнии, — прилетел из Беркли и попытался переубедить отца. Но Эйнштейн умер ночью, в 1: 15 18 апреля 1955 года. Ему было семьдесят шесть лет. Ханс Альберт скончался от инфаркта восемнадцать лет спустя, в 1973-м.
Оглядываясь на сопротивление и вражду, какие ему пришлось пережить, на трепет и преклонение, которые он вызывал к себе, можно суммировать вклад Эйнштейна в геометрию его же прозаическими словами. О своей революционной работе он писал: «Когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не сознает, что его путь искривлен. Мне повезло это заметить»[274].
Часть V. История Виттена
В физике XXI века природа пространства определяет силы природы. Физики заигрывают с дополнительными измерениями, а суть идеи в том, что на фундаментальном уровне пространства и времени, может, и не существует.
Глава 29. Диковинная революция
Есть ли связь между природой пространства и законами, которым это пространство подчиняется? Эйнштейн показал, что присутствие материи влияет на геометрию, искажая пространство (и время). Для своего века — довольно радикальная мысль. Но в современных теориях природа пространства и материи переплетены между собой куда глубже, нежели представлял Эйнштейн. Да, материя может искажать пространство: там — самую малость, сям — чуть сильнее, если очень постарается. Однако в новой физике пространство может отыграться на материи гораздо больше. Согласно этим теориям, самые основные свойства пространства — например, его размерность — определяют законы природы и свойства материи и энергии, из которых состоит наша Вселенная. Пространство из емкости Вселенной превращается в судию, который решает, чему вообще быть.
В рамках теории струн существуют настолько малые дополнительные измерения пространства, что свободное место в них невозможно наблюдать в современных экспериментальных условиях (хотя косвенно, вполне вероятно, нам это вскоре удастся). Они, может, и крошечные, однако своей топологией, т. е. свойствами, обусловливающими их форму, — к примеру, плоскости, сферы, кренделя или бублика, — определяют, что внутри них существует (например, мы с вами). Сверни мы эти крошечные бубличные измерения в крендель и — пшик! — электроны (и, как следствие, люди) могут перестать существовать. Более того: струнная теория, по-прежнему плохо понятая, развилась в другую, М-теорию, о которой мы знаем еще меньше, но она, похоже, ведет нас к следующему заключению: пространство и время на самом деле не существуют, а являются лишь аппроксимациями чего-то более сложного.
В зависимости от свойств вашей личности вы к этому моменту либо приметесь хохотать, либо выкрикивать глумливые замечания в адрес ученых, тратящих тяжким трудом заработанные налоговые средства. Мы еще увидим, что сами физики долгие годы реагировали на происходящее так же. Некоторые — до сих пор. Но для тех, кто ныне работает в области теории элементарных частиц, теория струн и М-теория, хоть и не доказанные строго, — все равно в порядке вещей. И, независимо от того, будут ли доказаны или опровергнуты эти теории или их производные, станут ли они некой «окончательной теорией», они уже изменили и математику, и физику.
С явлением струнной теории физики вновь вернулись к партнерской дисциплине — математике, абстрактной науке, занятой со времен Гильберта правилами, а не реальностью. Теория струн и М-теория пока движимы не традицией озарения физиков и не экспериментальными данными, которых не хватает, но открытиями их математической структуры. Не в честь угадывания новых частиц льется текила, а за открытие того, как теория объясняет существование уже имеющихся. Вполне осознавая, что подобные открытия обратны обычному ходу науки, физики придумали новый научный термин — постсказание. В странной акробатике научного метода сама теория стала предметом (ментального) эксперимента, а поборники экспериментальности — теоретиками. Неслучайно Эдвард Виттен, ныне главный идеолог новой теории, получил не Нобелевскую премию, а медаль Филдза — математический эквивалент Нобелевки. Поскольку геометрия и материя — отражения друг друга, так же должны быть связаны между собой и их современные исследования. Виттен идет еще дальше: он утверждает, что струнная теория должна стать новой ветвью геометрии[275].
Все это похоже на предыдущие революции — они тоже меняли не только представления о пространстве, но и метод, каким это пространство исследуют. История этой революции, однако, отличается от предыдущих одной важной деталью: она все еще в разгаре, и никто не ведает толком, чем она обернется.
Глава 30. Десять причин моей ненависти к вашей теории
На дворе стоял 1981 год. Джон Шварц услышал в коридоре знакомый голос. «Эй, Шварц, ты нынче в скольких измерениях?» Это Фейнман, в те времена еще не «открытый», — культовая фигура лишь в разреженных сферах физики. Фейнман считал теорию струн сумасбродной. Шварц не возражал. Он уже привык, что к нему не относятся серьезно.
В тот год один старшекурсник представил Шварцу нового юного коллегу по фамилии Млодинов. Когда Шварц вышел, старшекурсник покачал головой. «Он лектор, а не настоящий профессор. Девять лет тут уже, а все никак постоянное место не получит». Смешок. «Работает над этой своей безумной теорией в двадцати шести измерениях». Вообще-то старшекурсник заблуждался: все начиналось, да, с теории двадцати шести измерений, но с тех пор она усохла до десяти. Все равно многовато.
Долгие годы теория кишела и другими «затруднениями», как их называют физики, — содержала предсказания, мало походившие на реальность. Отрицательными вероятностями. Частицами мнимых масс, движущимися быстрее света. И все равно Шварц оставался предан своей теории — ценой собственной карьеры.
Есть такой фильм, «10 причин моей ненависти»[276], он нравится Алексею. Это кино о группе старшеклассников, в котором героиня выходит к доске и читает всему классу стихотворение о десяти причинах ее ненависти к бойфренду, хотя на самом деле это стихотворение о ее любви к нему. Легко представить Джона Шварца, читающего подобный опус, посвященный его теории: он любил ее и не бросал — вопреки, а иногда и благодаря ее трогательным маленьким погрешностям.
Шварц видел в струнной теории нечто такое, чего не замечали прочие: некую глубинную математическую красоту, которая, по его ощущениям, не могла быть случайна. То, что развитие теории давалось с большим трудом, никак его не обескураживало. Он пытался решить задачу, о которую преткнулся Эйнштейн и все остальные после него: согласование квантовой теории с относительностью. И простого решения не предвиделось.
В отличие от теории относительности, первая обобщенная квантовая теория не рождалась десятки лет после открытия Планком квантования энергетических уровней. Все изменилось в 1925–1927 годах благодаря усилиям австрийца Эрвина Шрёдингера и немца Вернера Гейзенберга. Независимо друг от друга они открыли — возможно, точнее будет сказать «изобрели» — элегантные теории, объяснявшие, как заменить ньютоновы законы движения другими уравнениями, включавшими принципы квантовой теории, выведенные за последние несколько десятилетий. Две новые теории получили названия волновой механики и матричной механики соответственно. Как и в случае специальной теории относительности, следствия квантовой теории были заметны лишь в отрыве от повседневной жизни, на сей раз — не из-за бешеной скорости, а из-за малости размеров. Поначалу не только связь между двумя теориями и теорией относительности оставалась невнятной, но и их отношения между собой. Математически они выглядели столь же разными, сколь их первооткрыватели.
Вообразите Гейзенберга — добропорядочного немца, в идеальном костюме и при галстуке, на столе у него полный порядок. Постепенно превратившись из «всего лишь националиста» в «умеренного пронациста», Гейзенберг возглавил работу Германии над атомной бомбой. После войны он пытался отбиваться от издевок методом «ну-да-но-я-на-самом-деле-это-все-через-силу». Гейзенберг создал свою теорию, активно опираясь на экспериментальные данные, в сотрудничестве с коллегой-физиком Максом Борном и будущим штурмовиком Паскуалем Йорданом[277]. Вместе они разработали теорию, объединившую разрозненные физические правила и закономерности, наблюдавшиеся физиками более двадцати лет. Физик Мёрри Гелл-Манн описывал этот процесс так[278]: «Они слепили это все воедино[279]. Выработали всякие правила сложения. Как-то раз Борн был в отпуске, а они при помощи этих правил переизобрели матричное умножение. Они и не знали, что это. Когда Борн вернулся, он, должно быть сказал: “Постойте, господа, это же теория матриц”». Физика привела их к рабочей математической структуре.
А вот Шрёдингера представьте Дон Жуаном физики. Он как-то писал: «Не бывало такого, чтобы женщина переспала со мной и не пожелала бы, как следствие, прожить со мной всю ее жизнь»[280]. Тут самое время и место заметить, что Гейзенберг, а не Шрёдингер предложил принцип неопределенности.
В своем подходе к квантовой теории Шрёдингер более полагался на математические рассуждения, нежели на экспериментальные данные, как у Гейзенберга. Представьте серьезного Шрёдингера — с легчайшей тенью улыбки на лице, лохматого, почти как Эйнштейн. Он задумчиво что-то пишет во вполне школьную тетрадку. Пошумите — и он, нимало не заботясь об этикете, засунет в каждое ухо по жемчужине, чтобы не отвлекаться. Но одной тишины его творчеству мало. Его волновая теория появится не во время протяженного монашеского отшельничества, а в разгар того, что принстонский математик Герман Вайль назвал «поздним эротическим всплеском его жизни»[281].
Шрёдингер впервые записал свое волновое уравнение на свидании на горнолыжном курорте, пока его жена была в отъезде в Цюрихе. Говорят, что общество его загадочной визави питало его безумную плодовитость целый год. Такое сотрудничество обычно не отмечают в статьях; не было соавторов и у статей Шрёдингера. Имя этого конкретного соавтора, похоже, утеряно навсегда.
Хотя у Шрёдингера условия труда были получше, эквивалентность его волновой механики и матричной механики Гейзенберга вскоре доказал английский физик Поль Дирак. Единая теория, которую они представляли, получила нейтральное название квантовой механики. Дирак также расширил квантовую механику и включил в нее принципы специальной теории относительности (и разделил Нобелевские премии за квантовую механику 1932 и 1933 годов). Дирак, однако, общую теорию относительности в свои рассуждения не включил. И на то есть причина: сделать это невозможно.
Эйнштейн, родитель обеих теорий, отчетливо видел конфликт между ними. Хотя общая теория относительности глубоко ревизовала взгляды Ньютона на Вселенную, она сохранила одну из «классических» догм: определенность. Располагая нужной информацией о системе — хоть о вашем теле, хоть обо всей Вселенной, — вы могли бы, согласно парадигме Ньютона, рассчитать события будущего. А вот по квантовой теории это не так.
Именно это Эйнштейн терпеть не мог в квантовой механике. Сила чувства привела его к отвержению этой теории. Последние тридцать лет жизни он пытался расширить общую теорию относительности так, чтобы она включала все силы природы, и надеялся, что в процессе ему удастся разобраться с противоречием между теорией относительности и квантовой теорией. Не удалось. Через тридцать лет после смерти Эйнштейна Джон Шварц почуял, что нашел ответ.
Глава 31. Необходимая неопределенность бытия
Неопределенность в квантовой механике — дело принципа. Принципа неопределенности. Согласно ему, некоторые характеристики систем, количественно описанные ньютоновскими законами движения, не могут быть описаны бесконечно точно.
Недавно Алексею страшно понравилась одна старая хохма. Монашка, священник и раввин играют в гольф. Промазывая, раввин всякий раз восклицает: «Бога в душу, я промазал!» К семнадцатой лунке священник начинает закипать. Раввин обещает сдерживаться, однако, промахнувшись мимо очередной лунки, опять кричит: «Бога в душу, я промазал!» Тут священник предупреждает его: «Еще раз ругнешься, Бог тебя поразит на месте». У следующей по счету лунки раввин снова дал зевка и опять ругнулся. Небеса потемнели, поднялся ветер и сквозь тучи жахнула ослепительная молния. Когда дым рассеялся, перепуганный священник и остолбеневший раввин уставились на останки монашки, поджаренные до хруста. И тут с небес раздался громоподобный голос: «Бога в душу, я промазал!»
Алексей говорит, что это смешно, потому что непочтительно к Богу, т. е., иными словами, представляет божество несовершенным, способным на человеческие оплошности. Понятие о несовершенном Боге или Природе — вот что заботило многих физиков в квантовой механике. Богу же указать местоположение чего бы то ни было точно — раз плюнуть, нет?
Этот предел определенности в природе вдохновил Эйнштейна на знаменитое высказывание: «Квантовая механика действительно впечатляет. Но внутренний голос говорит мне, что это еще не настоящий Иаков. Эта теория говорит о многом, но все же не приближает нас к разгадке тайны Всевышнего. По крайней мере, я уверен, что Он не бросает кости»[282]. Если бы хохма была в ходу во времена Эйнштейна — а это очень старая шутка, — он, возможно, пробормотал: «Всевышний может метнуть молнию куда и когда пожелает».
Вероятно, — за исключением отношений Шрёдингера с особами противоположного пола — все в нашей жизни есть сплошная неопределенность. Так отчего же, спросим мы, принцип, утверждающий нечто очевидное, заслуживает столь величавого имени? Неопределенность принципа Гейзенберга — странного фасона. Это разница между классической и квантовой теорией — между пределами человеческих возможностей и, скажем так, божественных.
Загадайте ребенку загадку: все гамбургеры-«четверть фунтовики» в «Макдональдсе» весят по четверти фунта — правда или чушь? Детишки-циники скажут «чушь», исходя из логики, что компания, продающая сорок миллионов гамбургеров ежедневно, может крупно сэкономить на мясе, не докладывая сотую долю фунта в каждый. Но речь не о системной ошибке — в равной степени не может быть, что каждый гамбургер весит ровно 0,24 фунта. Весь фокус в том, что каждый бургер в «Макдональдсе» весит немножко по-разному.
Разница тут не сводится к кетчупу. Если аккуратно все измерить, выяснится, что каждый гамбургер имеет разную толщину, уникальную форму и личность — на микроскопическом уровне. Как и среди людей, среди гамбургеров нет двух одинаковых. С точностью до какого десятичного знака надо померить бургеры, чтобы все их различать по весу? Раз их продают свыше миллиарда в год, т. е. 109, этих знаков должно быть не менее 9. Однако вряд ли у этих бургеров поменяют название на «0,250000000-фунтовики».
Бургер бургеру рознь — то же верно и для экспериментальных замеров. Действия, производимые в процессе измерения, механическое и физическое состояние весов, потоки воздуха вокруг, местная сейсмическая активность, атмосферное давление — уйма мельчайших факторов, и каждый чуточку меняется при всяком следующем замере. Вводим различение потоньше — и с гарантией не получаем воспроизводимых результатов.
Вот это — не принцип неопределенности.
Квантовый принцип неопределенности идет дальше; он гласит, что определенные качества образуют комплементарные пары — пары, у которых есть определенное ограничение: чем точнее измерено одно качество, тем менее точно удастся измерить другое. Согласно квантовой теории, значение этих комплементарных свойств за пределами ограничивающей точности неопределенно, а не просто за пределами возможностей нашего оборудования.
Многие годы физики пытались доказать, что таково ограничение нашей теории, а не самой природы. Они предполагали, что где-то прячутся «скрытые переменные» — определенные, но неподвластные нашим измерениям. Оказывается, единственный вид измерения, доступный нам, — такой, что позволяет отмести эти самые скрытые переменные. В 1964 году американский физик Джон Белл объяснил, как это можно проделать[283]. В 1982-м эксперимент поставили, и он показал, что предположение о скрытых переменных неверно. Ограничение действительно обусловлено законами физики.
Математика принципа неопределенности утверждает: результат неопределенности двух комплементарных членов пары должен равняться числу, называемому постоянной Планка.
Местоположение — часть одной из комплементарный пар принципа неопределенности. Ее напарник, импульс, есть — без учета фактора массы — скорость объекта. Брачное свидетельство описывает ограничение для этой пары: погрешность одного меняется в обратной пропорции к точности второго. У этого ограничения нет исключений, это очень католический брак: никаких неверностей, никаких разводов. Умножаем погрешность определения местоположения на погрешность определения скорости и получаем число, равное числу герра Планка.
Постоянная Планка — малюсенькое число. В противном случае мы бы заметили квантовые эффекты гораздо раньше (если бы в таком мире вообще могли существовать). Прилагательное «малюсенький» в данном случае есть буквально «порядка миллиардных». Постоянная Планка примерно равна одной миллиардной миллиардной миллиардной, или 10-27 чего-нибудь, в данном случае — единицы эрг-грамма. Разумеется, значение постоянной Планка зависит от того, в каких единицах она выражена. Эрг-грамм — единица, с которой мы сталкиваемся в быту. Представьте неподвижно лежащий на столе однограммовый пинг-понговый шарик. Для большинства из нас «неподвижно лежащий» означает скорость, равную нулю. Физик-экспериментатор знает: измерение без указания пределов погрешности имеет мало смысла. Вместо описания «шарик лежит неподвижно» в записях экспериментатора появится скорее такая формулировка: «Шарик не движется быстрее одного сантиметра в секунду». В классической физике это и будет весь сказ. В квантовой механике даже эта не бог весть какая точность имеет цену: она устанавливает предел, с которым можно определить местоположение пинг-понгового шарика.
Предел точности в 1 сантиметр в секунду приводит к граничной точности, которая, как и постоянная Планка, — ма-а-аленькая-малюсенькая. Проделав вычисления, выясним, что местоположение шарика мы можем установить с точностью до 10-27 см. Поскольку такой предел не слишком стесняет, возникает знакомый вопрос: и кому это надо? До конца XIX века никому и не было надо — вернее, никто не обращал внимания. Но давайте-ка заменим пинг-понговый шарик на электрон. Как раз такую замену и произвели физики в конце позапрошлого века.
Помните оборот «без учета фактора массы», который столь непринужденно включен в определение импульса? Оно, может, в свое время и не производило особого впечатления, однако именно это уточнение — причина заметности квантовых эффектов в масштабах не пинг-понговых шариков, но атомов.
Мы определили массу шарика для пинг-понга в 1 грамм. Масса электрона — 10-27 граммов. В отличие от шарика, погрешность определения скорости в 1 см/сек для электрона превращается в ограничение определения точности импульса до 10-27 г-см/сек — из-за фактора массы электрона измерение скорости, казавшееся небрежным, делает определение импульса очень точным. Зато с возможностью определить местоположение электрона дело плохо.
Если, как и в случае с шариком для пинг-понга, мы определяем скорость электрона с точностью до ± 1 см/сек, местоположение электрона не удастся определить точнее, чем ± 1 см. Такое ограничение точности — совсем не малюсенькое. Напротив, оно довольно заметно. Паршивая выйдет игра в пинг-понг при такой точности определения местоположения шарика, но на атомном уровне ситуация именно такова. Для электронов в атоме определять их местоположение как «ну где-то в радиусе 10-8 см», что и есть примерные размеры атома, означает вынужденную неопределенность в части скорости электронов до 10+8 см/сек, а эта неопределенность практически равна самой скорости электрона.
Квантовой механике в формулировке Гейзенберга и Шрёдингера удалось весьма успешно описать явления и атомной, и даже ядерной физики своего времени. Но применение принципа неопределенности к гравитации в описании теории Эйнштейна приводит нас к довольно диковинным выводам о геометрии пространства.
Глава 32. Битва титанов
Эйнштейнов поиск объединенной теории поля получил не слишком активную поддержку в том числе и потому, что конфликт между общей теорией относительности и квантовой механикой становится очевиден лишь в областях настолько малых, что даже в наши дни нет никакой надежды наблюдать их впрямую. Но Евклид говорил, что пространство состоит из точек, и геометрия должна быть применима к любой сколь угодно малой области, какую только можно вообразить. Если же теории конфликтуют, значит, что-то не так с одной теорией или с обеими — ну или с Евклидом.
Область, в которой возникает этот самый конфликт, часто описывают как ультрамикроскопическую. Для приверженцев строгих цифр: это расстояние порядка 10-33 сантиметра, и называется оно планковской длиной. Для любителей зрительных образов: если увеличить планковскую длину до диаметра яйцеклетки человека, обычный детский игральный шарик раздуется до размеров наблюдаемой Вселенной. Планковская длина — о-очень маленькая. И все же по сравнению с точкой ее размер громаден сверх всякой меры.
Как-то ночью, после работы над этой главой, битва между Эйнштейном и Гейзенбергом явила себя во сне. Сон начался с того, что пришел Николай в образе Эйнштейна и показал мне кое-какие теоретические выкладки, которые он накропал цветным карандашиком в своем школьном альбоме по рисованию:
Николай в роли Эйнштейна: Пап, я открыл общую теорию относительности! Когда вокруг есть материя, пространство искривляется, а в пустом пространстве гравитационное поле равно нулю и пространство плоское. На самом деле, если взять достаточно малую область, пространство приблизительно плоское.
(Тут я уже собираюсь сказать: «Какая замечательная теория! Можно я ее на стенку повешу?» — как входит Алексей.)
Алексей в роли Гейзенберга: Пррошу пррощения. Гравитационное поле, как и любое другое, подчиняется принципу неопределенности.
Николай в роли Эйнштейна: И что?
Алексей в роли Гейзенберга: А то, что в пустом пространстве поле в среднем, может, и ноль, но на самом деле оно флуктуирует в пространстве и времени. И в прям очень маленьких областях эти флуктуации — мегаздоровенные.
Николай в роли Эйнштейна (ноет): Но если гравитационное поле флуктуирует, то флуктуирует и кривизна пространства, потому что мои уравнения показывают, что кривизна пространства связана со значением силы поля…
Алексей в роли Гейзенберга (насмехается): Ха-ха! Это означает, что пространство крошечных областей нельзя считать плоским… На самом деле, если приглядеться поближе — в масштабах планковской длины — возникают крошечные черные дырочки… Некрасиво…
Николай в роли Эйнштейна: Я сказал, хочу, чтобы крошечные области пространства были плоскими!
Алексей в роли Гейзенберга: А вот и нет!
Николай в роли Эйнштейна: А вот и да!
Алексей в роли Гейзенберга: Нет.
Николай в роли Эйнштейна: Да.
…Диалог продолжался в том же духе, покуда я не проснулся весь дрожа. (Это знак! Не следовало ложиться спать, не дописав главу.)
Одновременное применение принципа неопределенности и общей теории относительности к малым областям пространства приводит к фундаментальному противоречию с теорией относительности вообще. Кто прав — Гейзенберг или Эйнштейн? Если прав Эйнштейн, квантовая теория неверна. Но история с квантами не похожа на ошибочную: эксперимент и теория сходятся с точностью выше миллионной доли. Корнеллский физик Тоитиро Киносита, один из ведущих в квантовой электродинамике ученых, называет это «самой достоверной теорией на Земле, а может, и во всей Вселенной — в зависимости от того, сколько в ней инопланетян»[284].
Если квантовая теория верна, значит, ошибочна теория относительности. Да, у теории относительности были свои поводы торжествовать. Однако есть нюанс. Победы теории относительности связаны с наблюдением макроскопических явлений — со светом, движущимся мимо Солнца, или с летающими вокруг Земли часовыми механизмами. Общая теория относительности в малых масштабах элементарных частиц пока еще не проверена. Измерять воздействие сил тяготения на них невозможно — их массы для этого слишком малы. Поэтому физики предпочитают ставить под вопрос резонность теории относительности, особенно эйнштейновы допущения о приблизительной плоскости мельчайших областей пространства. Быть может, необходимо пересмотреть теорию Эйнштейна в отношении ультрамикроскопических областей.
Если Планк и впрямь победил в споре с Эйнштейном, и метрика ультрамикроскопического пространства флуктуирует в широком диапазоне значений, возникает другой вопрос, поглубже. Какова структура пространства на ультрамикроскопическом уровне? Ключ к ответу, похоже, — в идее, которую Фейнман и другие проглотили с таким трудом и за которую дразнили Шварца, однако он не считал это недостатком, а просто милой особенностью возлюбленной своей теории. В царстве ультрамикроскопичности есть, судя по всему, другие измерения, свернутые в себе самих, настолько малые, что, как и квант в 1899 году, остаются незамеченными. Они и есть ключевой ингредиент в спасительном снадобье для общей теории относительности. Именно о них размышлял, но позднее отбросил десятки лет назад сам создатель теории относительности.
Глава 33. Посланье в бутылке Клейна-Калуцы
За день до своей смерти Эйнштейн попросил, чтобы ему подали его последние расчеты по объединенной теории поля. Он тридцать лет бесплодно пытался изменить общую теорию относительности так, чтобы она охватывала и электромагнитные силы. Один из самых многообещающих вариантов возник у Эйнштейна в 1919 году, в самом начале его поисков, пока он разбирал почту. Идея посетила его сознание не напрямую, а через письмо одного нищего математика по имени Теодор Калуца.
В письме Эйнштейн нашел предложение, как можно объединить электромагнитные силы с гравитационными. У этой теории была одна маленькая странность. Эйнштейн написал в ответ: «Идея создания[285] посредством пятимерного цилиндрического мира никогда не приходила мне в голову…»[286] Пятимерный цилиндр? Да кому вообще такое могло прийти в голову? Никто не знает, как Калуца до этого додумался, однако Эйнштейн в том же письме добавил: «Мне чрезвычайно симпатична ваша мысль». Сейчас нам понятно, что Калуца обогнал время, однако пожадничал измерений.
Мы уже видели, что общая теория относительности описывала, как материя влияет на пространство через метрику, чьи компоненты — g-факторы — сообщают, как именно измерять расстояние между соседними точками на основании разности их координат. Количество g-факторов зависит от количества измерений пространства. Например, в трехмерном пространстве их шесть. В плоском расстояние равно (разница между координатами х)² + (разница между координатами у)² + (разница между координатам z)², т. е. gxx, gyy и gzz все равны 1, а факторы, соответствующие перекрестным — gxy, gyz и gxz — все равны нулю и их нет в уравнении. В четырехмерном неевклидовом пространстве из общей теории относительности выходит десять независимых g-факторов (принимая во внимание равенства типа gxy = gyx), все они описываются уравнениями Эйнштейна. Калуца сначала осознал вот что: если взять пять измерений, возникнут еще g-факторы, отвечающие дополнительному измерению.
Далее Калуца задался вопросом: если формально расширить эйнштейново поле до пяти измерений, какие уравнения получатся для дополнительных g-факторов? Ответ ошеломительный: выходят уравнения Максвелла для электромагнитного поля! Начиная с пятого измерения электромагнетизм вдруг возникает в теории гравитации. Эйнштейн писал: «Формальное единство вашей теории поразительно»[287].
Конечно, интерпретация метрики дополнительного измерения как физического электромагнитного поля требует некоторой возни с теорией. И что там, кстати, с той самой маленькой странностью — дополнительным измерением? Калуца утверждал, что оно конечно по длине, а еще точнее — такое маленькое, что мы бы и его и не заметили, даже если бы сами копошились внутри. Сверх того Калуца заявил, что новое измерение имеет новую топологию: в ней вместо прямой — окружность, т. е. оно замыкается на себе, свертывается (и поэтому, в отличие от конечной прямой, концов не имеет). Представьте Пятую авеню с нулевой шириной — в виде простой линии. В новом измерении Калуцы пересекающие ее улицы превратятся в окружности, прорезывающиеся из Пятой авеню. Разумеется, пересекающие улицы возникают с интервалом в квартал, но дополнительное измерение есть в каждой точке вдоль авеню. Таким образом если добавить линии новое измерение, она не обрастет окружностями, а превратится в цилиндр наподобие садового шланга. Только очень тонкого.
По сути, Калуца утверждал, что гравитация и электромагнетизм на самом деле суть компоненты одного и того же, но выглядят по-разному потому, что мы наблюдаем некоторое усредненное неощутимое движение крошечного четвертого пространственного измерения. Эйнштейн сомневался в теории Калуцы, однако чуть погодя все же передумал и в 1921 году помог Калуце опубликовать его теорию.
В 1926-м Оскар Клейн, ассистент профессора в Университете Мичигана, независимо от Калуцы предложил ту же теорию, но с некоторыми усовершенствованиями. Одно из них — осознание, что эта теория приводит к верным уравнениям движения частиц, если в этом загадочном пятом измерении частица имеет определенные значения импульса. Эти «разрешенные» значения оказались кратны определенному минимальному импульсу. Если допустить, как это сделал Калуца, что пятое измерение замкнуто на само себя, можно применять квантовую теорию для того, чтобы рассчитать из минимального импульса возможное значение «длины» этого свернутого пятого измерения. Если бы вдруг выяснилось, что измерение это — обозримого, макроскопического размера, теория оказалась бы под угрозой, поскольку мы этого измерения никак не наблюдаем. Но получился размер 10-30 сантиметра. Без проблем. Измерение скрыто от глаз будь здоров.
Теория Клейна-Калуцы намекала на формальную связь между теориями, но не на структуру, которая тут же предоставляла нечто совершенно новое. Следующие несколько лет физики искали другие предсказания, какие могла бы дать эта теория, — примерно в том же ключе, в каком Клейн рассуждал о размерах нового измерения. Им удалось найти новые доводы, которые вроде бы подразумевали, что с ее помощью можно предсказывать соотношение массы электрона и его заряда. Однако результат предсказания сильно расходился с реальностью. Где-то на полпути между этим затруднением и странным предсказанием пятого измерения физики охладели к новой теории. Эйнштейн в последний раз вернулся к ней в 1938 году.
Калуца, умерший за год до Эйнштейна, так почти и не продвинулся далее. Но кое-что с его неоперившейся теории ему по-крупному перепало. Когда он писал Эйнштейну, ему было 34 и он уже десять лет содержал семью на жалованье приват-доцента (примерный аналог ассистента профессора) в Кёнигсберге. Это самое жалованье лучше всего описывается в терминах дорогой его сердцу математики: за каждый семестр он получал 5 раз по х раз у немецких марок (или, говоря строго, золотых марок), где х было равно числу студентов в его классе, а у — числу лекционных часов еженедельно. В итоге получалось примерно 100 марок в год. В 1926 году Эйнштейн назвал такие условия жизни «schwierig», что примерно означает «только собаки могут жить так»[288]. С помощью Эйнштейна Калуца в 1929 году наконец получил профессорское звание в Университете Киля. Он перебрался в Гёттинген в 1935 году, где стал полноправным профессором. Там он и прожил еще девятнадцать отведенных ему лет. Однако вплоть до 1970-х возможность новых измерений всерьез не рассматривал никто.
Глава 34. Рождение струн
Кто знает, когда нахлынет вдохновение? Еще невозможнее узнать, куда оно заведет. История струнной теории начинается на вершине 750-футовой горы в Средиземноморье. Город называется Эриче, что на Сицилии, — неспешный, жаркий, улицы его узки и одеты в древний камень. Эриче был Эриче, когда по Земле еще бродил Фалес. Ныне город знаменит в первую очередь своим «Centro Ettore Majorana» — культурным и научным центром, в котором не один десяток лет проходят летние школы примерно недельной протяженности. Школы «Этторе Маджорана» — сборища студентов старших курсов и младших сотрудников факультетов, где они встречаются с ведущими учеными разных областей и прослушивают лекции по самым передовым темам науки.
Летом 1967 года одной из таких передовых тем оказался подход к теории элементарных частиц под названием «теория S-матриц». Габриэле Венециано[289], итальянский выпускник Института Вейцмана в Израиле, находился в аудитории и слушал своего интеллектуального героя — Мёрри Гелл-Манна. Гелл-Манн вскоре получит за свое открытие кварков Нобелевскую премию — их в то время считали внутренними составляющими семейства элементарных частиц, называемых адронами (в то же семейство входят протон и нейтрон). Вдохновение, которое Венециано обрел на той лекции, через несколько лет подвигнет его к созданию начал струнной теории. Темой тогдашней лекции Гелл-Манна были закономерности математической структуры S-матрицы.
S-матрицу придумал Гейзенберг, впервые в 1937 году применил Джон Уилер, а расцвет ее пришелся на 1960-е, и обеспечил его физик из Беркли Джеффри Чу. Буквой S обозначается «scattering» (рассеяние), поскольку главный способ изучения элементарных частиц физиками таков: физики разгоняют частицы до бешеных скоростей и энергий, после чего вляпывают их друг в дружку и смотрят, какие именно дребезги полетят во все стороны. Примерно как изучать устройство автомобиля путем организации автокатастроф.
В мелких авариях удается оторвать что-нибудь скучное, вроде бампера, а вот на гоночной скорости глазам пристального наблюдателя представится полет даже самых крепко ввинченных в пассажирское сиденье болтов и гаек. Но есть одна большая разница. В экспериментальной физике, влепив с размаху «шеви» в «форд», можно получить на выходе комплектующие от «ягуара». В отличие от автомобилей, элементарные частицы могут превращаться друг в друга.
Когда Уилер разработал матрицу рассеяния, уже собрался — и продолжал накапливаться — немалый корпус экспериментальных данных, однако успешной квантовой теории создания и исчезновения элементарных частиц не существовало даже в части электродинамики. S-матрица являла собой черный ящик, в который можно было что-нибудь засунуть — определения сталкивающихся частиц, их импульсов и т. д. — и получить на выходе аналогичные данные, но для вновь возникших частиц.
Для построения матрицы рассеяния, т. е. внутренностей черного ящика, вообще говоря, требовалась теория взаимодействия частиц. Но даже и без теории кое-что об S-матрице сказать можно — основываясь лишь на природных симметриях и общих принципах вроде согласованности с теорией относительности. Соль S-матричного подхода заключалась в выяснении, насколько далеко можно уехать на одних этих принципах.
В 50-х и 60-х годах прошлого века такой подход был практически повальным увлечением. В своей лекции в Эриче Гелл-Манн рассказал о некоторых поразительных закономерностях, называемых дуальностями, которые можно наблюдать при столкновении адронов. Венециано задумался, возникнут ли такие закономерности в более общем случае. Через полтора года он понял: все математические свойства матрицы рассеяния, которые он рассматривал, присущи одной простой математической функции — эйлеровой бета-функции.
Теория Венециано (дуальная модель Венециано) оказалась поразительным открытием. С чего бы потенциально сложной матрице рассеяния принимать столь простую изящную форму? Но таково оказалось первое математическое чудо в ряду многих, какие потом будут регулярно проявляться в струнной теории — как раз такие красивые результаты убедили Шварца, что он не впустую тратит жизнь на теорию струн.
Результат, полученный Венециано, показался физикам настолько элегантным, что вдохновил их на совершенно не S-матричный вопрос: как же устроены процессы столкновения частиц, из-за которых получается матрица рассеяния? Что же у черного ящика внутри? Если бы удалось с этим разобраться, прояснилась бы внутренняя структура сталкивающихся адронов, а также взаимодействие, именуемое сильным, которое ими управляет.
В 1970 году Ёитиро Намбу из Университета Чикаго, Хольгер Нильсен из Института Нильса Бора и Леонард Сасскинд из Университета Иешивы, ответили на вопрос: нужно моделировать элементарные частицы не как точки, а как малюсенькие колеблющиеся струны.
Мы теорию открываем или изобретаем ? Физики — дети, блуждающие в сумерках по парку с фонариками в поисках истины, или же дети с кубиками, возводящие башни, пока они не осыплются? Или, на самом деле, — и то, и другое? Тогда какого рода эта дуальность — как та, о которой говорил Гелл-Манн, или как та, что есть у волны и частицы?
Есть и менее приятные синонимы к глаголам «изобретать» и «открывать». Например, «стряпать» или «натыкаться на». Исходная струнная теория — под названием бозонной теории струн — однозначно была «стряпней». Ей не доставало естественности, она полнилась невероятными свойствами, и ее явно собрали в кучу, лишь бы воспроизвести озарение, посетившее Венециано. Но Намбу с коллегами кое на что и наткнулись. Они открыли струнную теорию практически в том же смысле, что Планк когда-то — квантовую. Оба набрели на идею: энергетические уровни можно представить количественно, а частицы можно представить как струны; в обоих случаях ни подлинное значение, ни широта охвата этих идей не были поняты, а на формирование осмысленной теории потребовались годы. Оба набрели на то, что могло быть новым законом природы — или просто математической ужимкой. И лишь годы усилий могли определить, что есть что. В случае с квантовой теорией потребовалось 25 лет — от Планка до Гейзенберга и Шрёдингера. Струнная теория уже проскочила этот рубеж.
Глава 35. Частицы-фиглицы!
За десяток лет до струн Джеффри Чу, один из самых многообещающих физиков конца 1950-х — начала 60-х, выступил на одной конференции с заявлением, что теория поля не годится. Не должно быть никаких элементарных частиц, сказал Чу. Следует мыслить частицы составленными друг из друга. Он предложил физикам поискать какую-нибудь такую теорию-про-одну-частицу-из-которой-вообще-всё, и теорию эту назвали в духе холодной войны «ядерной демократией». Более того, Чу не верил[290] в подход, предполагавший развитие различных теорий с оглядкой и приладкой к свойствам всяких разных сил. Он считал, что физикам надо как следует разобраться со всеми мыслимыми S-матрицами, и тогда они обнаружат, что лишь одна соответствует общим физическим и математическим законам. А все потому, что, по его мнению, Вселенная такая, какая она есть, потому что другого способа ее существования не может быть.
Теперь-то нам известно, что условия, выдвинутые Чу, недостаточны для исчерпывающего описания физики. Виттен называет теорию S-матрицы «подходом, а не теорией»[291]. Гелл-Манн говорит, что ее раздули сверх меры[292], и что это слишком помпезное название для подхода, который он же сам первым и представил на конференции в Рочестере, Нью-Йорк, в 1956 году. И все же, добавляет Гелл-Манн, «S-матричный подход оказался верным. Он и поныне применяется в теории струн». У Чу для подобных эстетических воззрений были веские основания. Даже нынешняя Стандартная модель, несмотря на ее успешность, не слишком симпатичная. Проблемы начались еще в 1932 году, когда открыли две новые экзотические частицы. Одну назвали позитроном — это античастица электрона. А вторая стала новым членом ядра, она смахивает на протон, только не несет на себе заряда, — это нейтрон. Физики неохотно приняли саму возможность существования новых частиц. Настряпали новых объяснений. Дирака, чья теория предсказывала существование позитрона, поначалу вынудили назвать ее чем-то типа «легкого протона» (у позитрона такой же заряд, как и у протона, однако масса составляет примерно 1/1000 протоновой). Производились попытки объяснить нейтрон как протон и электрон в очень тесных объятьях друг друга. И все же физикам с трудом удавалось удерживать позиции — точь-в-точь как родителям подростка. Вскоре они приняли не только новые частицы, но и понятие об антиматерии и двух новых взаимодействиях, сильном и слабом, играющих важную роль в ядре атома.
К 1950-м ускорители элементарных частиц позволили изучать десятки новых частиц — нейтронов, мюонов, пионов… Дж. Роберт Оппенгеймер[293] предложил давать Нобелевскую премию ученым, которые не открыли новую «элементарную» частицу[294]. Энрико Ферми отмечал: «Если б я мог запомнить названия всех этих частиц — стал бы ботаником»[295].
Физики сживались с переменами, разрабатывая новые квантовые теории поля, описывающие причины возникновения и исчезновения частиц. Квантовая механика была придумана для описания взаимодействия, а не создания, уничтожения или превращения частиц друг в дружку. В квантовой теории поля есть лишь один способ, каким осуществляется любое взаимодействие во Вселенной: через обмен частицами, известными под названием калибровочных. То, что физика на протяжении веков именовала «силой», есть, согласно теории поля, всего лишь более высокоуровневое описание обмена частицами между частицами.
Представим двух баскетболистов: они бегут по игровому полю и пасуют мяч друг другу. Спортсмены символизируют частицы. Их взаимодействие, сближает оно их или отдаляет друг от друга, осуществляется мячом — это калибровочная частица. В электромагнитных взаимодействиях калибровочная частица — фотон. В квантовой электродинамике заряженные частицы — электрон и протон, например, — электромагнитно взаимодействуют через обмен фотонами. Незаряженные частицы типа нейтрино фотонами не обмениваются.
Первая успешная квантовая теория поля как раз описывала электромагнитное поле — ее разработали в 1940-х Фейнман, Джулиан Швингер и Синъитиро Томанага. В 1970-х возникла новая теория, объединившая электромагнитное поле и поле слабых взаимодействий. Вскоре по аналогии с квантовой термодинамикой разработали теорию сильных взаимодействий, и в ней калибровочными частицами являются глюоны. Теория поля, учитывающая эти три взаимодействия, и есть то, что называется Стандартной моделью.
Если вы — ботаник, с вашей точки зрения физики проделали восхитительную работу. Классификация элементарных частиц в пределах Стандартной модели красою не блещет, хоть она и есть победа силы предсказания. К примеру, у элементарных частиц материи, в отличие от калибровочных частиц, есть семейства. В каждом семействе — по четыре частицы: электроноподобная, нейтриноподобная и два кварка. Одно такое семейство состоит из обычного электрона и нейтрино, а также из двух кварков, которые суть знакомые нам протон и нейтрон. Соответствующие частицы из двух других семейств отличаются только по массе — в этих «экзотических» семействах частицы значительно увесистее. Стандартная модель отражает эту структуру, однако она включена в теорию без всяких объяснений. Почему семейств три и почему по четыре члена в каждой? Почему массы такие, какие они есть? Стандартная модель не имеет ответа ни на один подобный вопрос.
Сила каждого взаимодействия — тоже данность без объяснения, зашифрованная в цифрах под названием константа связи. Реакция частицы на воздействие силы характеризуется количественно через заряд — обобщение от электрического заряда. Обыкновенно некоторая заданная частица несет более одного типа заряда, т. е. участвует в более чем одном виде взаимодействия. Эти заряды тоже не имеют объяснения в рамках теории.
Если у Ферми возникали сложности с запоминанием названий элементарных частиц, Стандартная модель все лишь усугубила. Чтобы запомнить уравнения этой модели, ему пришлось бы выучить значения девятнадцати невыводимых параметров. И это вам не симпатичные числа, которыми бы мог гордиться Пифагор, а уродцы с именами вроде угла Кабиббо и значениями типа 1,167391 х 10-5 (это константа связи Ферми в ГэВ-2)[296]. Книга Бытия гласит: «Да будет свет. И стал свет»[297]. Согласно современной физике, Бог к тому же старательно настроил постоянную тонкой структуры так, чтобы она в точности равнялась 1/137,035997650 (плюс-минус несколько миллиардных долей).
Не вдаваясь в философию науки, словосочетание «фундаментальная теория» содержит нечто, словно подразумевающее, будто десятки исследователей не должны зарабатывать себе на жизнь, измеряя девятнадцать «фундаментальных» параметров до точностей в семь десятичных знаков. Возникает желание похлопать этих теоретиков по плечу и спросить: «Вы вообще слыхали, что был такой мужик, звали Птолемеем?» При должной сноровке любой смышленый ученый может подогнать что угодно под любые данные.
Теоретики-струнники протестуют против того, чтобы эту модель считали фундаментальной. Они надеются, что однажды смогут ее вывести. Как и теоретики S-матрицы, но совсем не как теоретики поля, они добиваются результата, при котором не придется определять не только вводные параметры, но даже и структурные, вроде числа измерений пространства. Как и Чу, они нацеливаются найти теорию, полностью определяемую из общих принципов. Они верят, что из нее смогут понять происхождение и силу всех взаимодействий, виды и свойства частиц, структуру самого пространства. И в их теории — как и в мечте Чу — одна частица на все годится. Разница лишь в том, что, согласно их теории, частица есть струна.
Струна сделана из ничего, поскольку определение материального состава предполагает наличие некой более тонкой структуры, которой у струн нет. И вот поди ж ты — из них сделано все. При длине в 10-33 сантиметра они надежно защищены от наших взоров — на 1016. В таблице проверки зрения они, может, и ориентированы-то и горизонтально, и вертикально, и по диагонали. Но даже наш самый мощный микроскоп провалит эту проверку зрения. «Вниз? Вверх? В стороны?.. Простите, доктор, вижу одни точки».
Сокрытость струн из-за их крошечных размеров не должна удивлять: в конце концов их же вывели из теории, а не из наблюдений. Но определение степени их сокрытости смерти подобно. Согласно различным оценкам, ускоритель, потребный для прямого засечения струны экспериментально должен быть размерами от нашей галактики до всей Вселенной. Историк, выкопав потрепанный экземпляр этой книги в 3000 году, может, и хихикнет над такими оценками: к тому времени мы, вероятно, уже научимся разглядывать их, смешав вермут с водкой (в правильных пропорциях). Однако пока прямое наблюдение за струнами — пустой разговор.
В квантовой механике волны и частицы — дуальные аспекты одного и того же явления. В квантовой теории поля частицы и материи, и энергии считаются возбуждениями различных квантовых полей. Это верно и для теории струн, однако в ней есть лишь одно поле. Все частицы возникают из-за вибрационных возбуждений одного вида элементарных объектов: струн.
Представьте гитарную струну, натяжением настроенную до нужного напряжения. Музыкальные ноты такой струны называются модами возбуждения — в отличие от состояния струны в покое. В акустике они еще называются высшими гармониками. В струнной теории они проявляются как разные частицы.
Пифагорейцы первыми занялись изучением математических и эстетических свойств музыкальных звуков. Они обнаружили, что, если дергать струну, она производит звук, или частоту, которая сильно меняется в зависимости от длины струны. Эта фундаментальная частота[298] связана с модой вибрации, в которой возникает максимальное отклонение от состояния покоя струны в ее средней точке. Но струна может колебаться и так, что ее средняя точка останется неподвижной, а максимумы отклонений возникнут посередине между концами струны и ее серединой. Такова будет фундаментальная мода колебаний, если прижать струну посередине. Это колебание с двумя одинаковыми волнами в пределах одной струны, но с вполовину меньшей длиной волны и удвоенной частотой по сравнению с фундаментальной. В музыкальных терминах она именуется второй гармоникой и звучит на октаву выше.
Если дернуть струну, возникнут колебания в форме трех полных волн, четырех и т. д. (но никогда не дробное число, иначе нарушится условие, что концы струны зафиксированы). Это высшие гармоники. Ноте, взятой на скрипке или пианино, к примеру, обычно сопутствует более сильная относительная амплитуда первых шести гармоник, нежели те, что дают другие инструменты. Звук трубы органа, с другой стороны, относительно обделен более высокими гармониками. Благодаря высшим гармоникам музыкальные инструменты — и семейства элементарных частиц — столь разнообразны.
Струны из струнной теории не привязаны за концы, как гитарные. Они бывают открытые и замкнутые. Они могут щепиться и соединяться или сливаться концами и образовывать две петли. Струна щепится или слипается — свойства ее меняются: издалека похоже, будто возник новый вид частиц. Обмен калибровочными частицами на самом деле есть расщепление и соединение струн, плавающих в пространстве-времени.
Из всего этого получается, что частицы, которые мы наблюдаем, — музыкальные шкатулки, а их свойства — слышимая нами музыка, которую они играют. В зависимости от сорта исполняемой музыки эти шкатулки, похоже, бывают многих разновидностей. Согласно теории струн, все музыкальные шкатулки идентичны и отличаются не внешним видом, а тем, как именно в них колеблется струна.
К примеру, энергия колебания зависит от длины волны и амплитуды. Чем больше пиков и провалов вдоль ее длины и чем сами они больше, тем энергичнее колебание. Поскольку из теории относительности нам известно, что масса и энергия эквивалентны друг другу, нас, вероятно, не удивит, что за пределами черного ящика струны, колеблющиеся энергичнее, воспринимаются нами как более массивные.
Это верно и для других свойств, не только для массы, — например, для разных видов заряда. Почему бы и нет? В смысле теории поля масса частицы есть разновидность заряда — по отношению к гравитационному полю. Согласно струнной теории все частицы в природе, включая и калибровочные, при всем разнообразии всевозможных свойств, суть разные формы колебаний струны.
Во Вселенной великое множество и разнообразие частиц. Достанет ли колеблющейся струне богатства и насыщенности, чтобы охватить всю эту великую непохожесть? Не в евклидовом мире.
Но моды колебаний струны, а значит, и предсказание существования частиц и их свойств сильно зависят от числа измерений, в которых струна колеблется, и от топологии этих измерений. Вот он, источник глубинной связи между свойствами пространства и свойствами самой материи: согласно теории струн, структура пространства определяет физические свойства элементарных частиц и сил природы. В струнной теории всего трех пространственных измерений недостаточно. Именно точная геометрия и топология дополнительных измерений определяют теорию элементарных частиц и сил, которые предсказывает теория струн.
Струна в одномерном пространстве может колебаться лишь одним способом: растягиваться и сокращаться. Такие колебания называется продольными. В двух измерениях струна может колебаться и таким способом, однако теперь ей доступен еще один, новый вид колебаний: поперечный, — он происходит перпендикулярно длине струны. Их мы, по сути, и обсуждали. В трех измерениях направление поперечных колебаний может вращаться по спирали — вспомните пружину Слинки. В высших измерениях все лишь усложняется.
Топология тоже влияет на колебания. Топологию так запросто не определишь, но, грубо говоря, она имеет отношение к свойствам поверхностей и пространств, которые связаны с их свойствами, но не с их метрикой (отношениями расстояний) или кривизной. Отрезок прямой топологически отличается от круга, потому что у него есть два конца, а у круга — ни одного. А вот разница между кругом и эллипсом тополога не интересует — это всего лишь вопрос кривизны. Можно еще вот так представлять себе эту разницу: любые две фигуры, которые можно трансформировать друг в друга растяжением без разрывов, имеют с точки зрения тополога одинаковые свойства.
Как топология пространства влияет на струну? Предположим, струнной теории нужны лишь два дополнительных измерения. Поскольку эти дополнительные измерения в струнной теории предположительно малы, представим «маленькое» двухмерное пространство — квадрат или прямоугольник — вроде плоскости, только конечной. Это пространство имеет один топологический тип. Теперь свернем из него цилиндр. Говоря геометрически, кажется, что он искривлен, однако считается плоским, как планарное пространство. Это означает, что у него нулевая кривизна: любая фигура, нарисованная на плоскости, может быть свернута в цилиндр без искажения расстояний между любыми двумя точками. Но цилиндр отличается от плоскости соединенностью — топологически. Например, на плоскости любой круг или другая простая замкнутая кривая могут быть сжаты до точки в пределах того же пространства. На поверхности цилиндра существуют кривые, с которыми так поступить нельзя, — например, любая кривая, располагающаяся вокруг оси цилиндра. Колебательное движение этого вида у струны в цилиндрическом пространстве ограничено и отличается от колебаний на плоскости, поэтому струнная теория предписывает Вселенной, имеющей такую форму, иные виды частиц и их взаимодействий. Цилиндр близко связан с другой фигурой — тором, он же пончик. Чтобы получить тор из цилиндра, достаточно соединить его края. Но возможны и гораздо более сложные топологии — например, вместо пончика с одной дыркой можно взять пончик со множеством дырок. Каждый имеет разные колебательные спектры. Чем больше измерений добавляем, тем сложнее возможные пространства, особенно если допустить неплоскость этих пространств. И во всех этих разнообразных пространствах возможные моды колебаний разнятся. Такое богатство видов колебаний и позволяет теории струн объяснять разнообразие элементарных частиц и их взаимодействий — во всяком случае, в теории.
Тут было бы так мило заявить, что из-за всяких логических требований к дополнительным измерениям струнной теории возможен лишь один вид пространства и что свойства элементарных частиц, соответствующие колебаниям струн в таком пространстве, — аккурат те, что мы наблюдаем в природе. Ага, размечтались. Но есть и хорошие новости. По крайней мере сгодятся не любые дополнительные измерения. Похоже, их должно быть шесть (к этому мы еще вернемся), и у них обязаны присутствовать особые свойства — они, к примеру, должны быть свернуты, как те, что в теории Калуцы. В 1985 году физики открыли класс пространств с самыми подходящими особенностями. Они называются пространствами Калаби-Яу[299] (или формами Калаби-Яу — они, вообще говоря, конечны). Как можно догадаться, шестимерные пространства Калаби-Яу несколько сложнее, чем, скажем, пончик с шоколадной глазурью. Но общее с пончиком у них есть — дырка. На самом деле число этих дырок может быть разным, и сами они тоже непростые, многомерные объекты, но это всё детали[300]. Суть в следующем: существует семейство струнных колебаний, связанных с каждой дыркой. Таким образом, струнная теория предсказывает наличие семейств у элементарных частиц. Это пример одной из замечательных «производных» от экспериментально наблюдаемых фактов, которые Стандартная модель вынуждена была включать «вручную», без теоретического объяснения. Это были хорошие новости.
А плохо вот что: существуют десятки тысяч известных видов пространств Калаби-Яу. Большинство содержит в себе более трех дырок, хотя элементарных частиц есть всего три семейства. А для расчетов, необходимых для вывода свойств частиц, которые лишь заявлены Стандартной моделью, т. е., допустим, массу и заряд частицы, физикам необходимо знать, какое из великого множества пространств выбрать. Пока никому не удалось найти такое пространство Калаби-Яу, которое давало бы физическому миру, каким мы его знаем, точное описание, т. е. Стандартную модель или фундаментальный физический принцип, который оправдал бы выбор именно этого пространства. Некоторые скептики считают, что такой подход никогда не принесет плодов. Но подобных критиков гораздо меньше, чем было поначалу, когда работа над теорией струн равнялась поцелую профессиональной смерти.
Глава 36. Струнные неприятности
Когда Намбу с коллегами предложили струнную теорию, у нее были некоторые особенности. Например, их теория не согласовывалась с теорией относительности, если не заставить некий неприятный фактор равняться нулю: (1 — (D — 2)/24). Любой старший школьник скажет, что у этого уравнения одно решение: D = 26. Но с этого все только начинается: D в этом уравнении есть число измерений пространства. Вскоре все заинтересуются работами Калуцы, вот только его пять измерений не покажутся ни избыточными, ни диковинными, а недостаточно диковинными.
У теории были и другие проблемы. Как говорилось ранее, когда вероятности некоторых процессов рассчитывали согласно правилам квантовой механики, математика выдавала отрицательные ответы. Теория также предсказывала существование неких частиц, называемых тахионами, чья масса не являлась действительным числом, а двигались они быстрее света. (Теория Эйнштейна, строго говоря, не запрещает такого; она лишь не позволяет частицам двигаться в точности со скоростью света.) А еще она предсказывала существование кое-каких дополнительных частиц, которых никто никогда не наблюдал.
Если местный прогноз погоды предсказывает отрицательные 50 % вероятности шторма, выпадение осадков вверх и осыпь жаб с небес, компьютерная модель метеорологов, скорее всего, не вызовет у вас доверия. Физики тоже настроились скептически. Но предположите, что прогноз при этом предсказал температуру воздуха — и угадал. Связь между бозонными струнами и поведением адронов оказалась слишком интригующей — рука не поднималась ее отмести.
Много чего в теории уже выглядело довольно неуклюжим, но вскоре физики поняли, что есть и еще одно узкое место, совсем уж затруднительное. В квантовой механике все частицы могут принадлежать к одному из двух типов: бозоны и фермионы. Технически говоря, разница между бозонами и фермионами — в типе внутренней симметрии, известной как «спин». Но на практическом уровне эта разница выражается в том, что никакие два фермиона не могут иметь одно и то же квантовое состояние. Это вполне хорошее свойство, если городить, скажем, атомы, из которых сделана материя. Это означает, что электроны в атоме не будут толпиться все разом на самом нижнем энергетическом уровне. Если б толпились, они у всех химических элементов там преимущественно и оставались бы. А на самом деле атомы элементов периодической системы получаются путем заполнения электронами энергетических уровней, одного за другим, вплоть до внешних; благодаря этому атомы разных элементов имеют разные физические и химические особенности. У бозонов такого ограничения нет. Поэтому материя сделана из фермионов. Калибровочные частицы, обеспечивающие взаимодействия между фермионами, — бозоны. Однако в бозонной теории струн все частицы… что? Именно — бозоны.
Вот с этой-то закавыкой струнной теории Шварц и взялся разбираться в первую очередь. Этим он завоевал расположение своего наставника и возможность остаться в лучшем университете, где его работа хоть и не вызывала доверия, но, по крайней мере, могла быть замечена.
В 1971 году Пьер Рамон из Университета Флориды вывел струнную теорию для фермионов, обнаружив начатки формы новой симметрии, названной суперсимметрией, и она связала бозоны и фермионы. Тут-то Шварц, совместно с Андрэ Невё, развил теорию, известную под названием спиновой теории струн, которая включала в себя частицы и фермионного, и бозонного типа, избавлялась от тахионов и уменьшала число требуемых измерений с двадцати шести до десяти. Эта работа оказалась значимой поворотной точкой и в истории струнной теории, и в карьере Шварца.
Гелл-Манн, работавший тогда в Женевском ЦЕРНе[301] (Европейская лаборатория физики частиц), говорит: «Как только вышла статья Шварца, я его нанял». Они даже не встречались. Следующей осенью Шварц перебрался в Калтех из Принстона, где ему отказали в пожизненном профессорстве. Пока Фейнман считал теорию струн одной из тех патентованных панацей-однодневок, что вечно появлялись и исчезали, Гелл-Манн разделял веру Шварца. «На что-нибудь она должна была сгодиться, — говорил он. — Я не понимал, на что именно, но на что-нибудь-то уж точно». В 1974-м Гелл-Манн притащил в Калтех погостить еще одного теоретика струн, Джоэла Шерка. Шварц и Шерк вскоре сделали потрясающее открытие[302].
В теории струн была частица со свойствами глюона, калибровочной частицы сильных взаимодействий. Но существовала при этом и досадная неловкость — дополнительная частица, тоже из категории калибровочных, от которой вроде бы не было никакого толка. До работы Шварца и Шерка длину струны считали равной 10-13 сантиметров, что есть примерный диаметр адрона. Но они обнаружили, что если предположить куда меньший размер — 10-33 сантиметра, т. е. планковскую длину, — дополнительная калибровочная частица отлично подходит по свойствам под гравитон — гипотетическую калибровочную частицу поля тяготения. Струнная теория — это же не только теория адронов, она включала в себя и гравитацию, а может, даже и электрослабые взаимодействия!
Но постойте-ка. Разве мы не выяснили, что смешение гравитации с квантовой механикой приводит к хаосу и противоречию? В теории Шварца и Шерка — именно потому, что струны не считались лишенными размерностей точками, а объектами конечной длины, — проблем ультрамикроскопичности не возникло. Они нашли то, что сочли непротиворечивой квантовой теорией поля, из которой могли вывести уравнения Эйнштейна, но которая на ультрамикроскопическом уровне вела себя иначе именно так, как требовалось для снятия противоречий между общей теорией относительности и квантовой механикой. Эйнштейн, опубликовав статью об относительности, ожидал нападок. Шварц и Шерк — шквала восторгов.
Шварц и Шерк покатались по миру с лекциями. Публика вежливо поаплодировала, после чего забыла об их работе. Пристань к ней с вопросами, она бы сказала, что не верит. В защиту «публики»: математика была (и остается) чрезвычайно трудной и сложной. «Публика не пожелала вложиться в понимание, а без вельможной санкции никаких усилий от нее не дождешься»[303], — говорит Шварц.
Гелл-Манн сошел бы за такого вельможу, но сам он мало что сделал в этой области исследования. Те немногие статьи их совместного со Шварцем авторства, как хмыкал сам Шварц, «были среди тех двух непамятных для нас обоих»[304]. Джону Шварцу профессорская кафедра в Калтехе не светила — он мог рассчитывать лишь на череду продлений его ставки исследователя. «Я не мог добыть для Джона постоянной профессорской работы, — говорит Гелл-Манн. — Люди были настроены скептически»[305]. В 1976 году Шерк и другие показали, как включить суперсимметрию в теорию струн, создав наконец так называемую теорию суперструн. Вроде бы еще один большой прорыв, но всем опять оказалось неинтересно. Интересной смотрелась теория-соперник — супергравитация, а также более традиционная теория поля sans гравитации — Стандартная модель. Объединив электромагнитное взаимодействие со слабым и сильным ядерными, Стандартная модель двигалась от победы к победе, включая экспериментальное создание в 1983 году W- и Z-бозонов — калибровочных частиц слабого взаимодействия.
Струнная теория надолго села на мель. Никто не понимал, как произвести с ее помощью хоть какие-нибудь практически значимые расчеты. Остались загвоздки с дополнительными измерениями и прочие неувязки. У Шерка случился нервный срыв. Он шатался по улицам Парижа. Слал странные телеграммы физикам уровня Фейнмана. Он все еще как-то умудрялся работать — хоть часть дня, поражая врачей и своих коллег. Затем он разошелся с женой, и та уехала в Англию вместе с детьми. В 1979 году он совершил самоубийство, что стало для маленькой компании струнников великой потерей. В начале 1980-х у струнной теории обнаружились новые напасти. Всем казалось, что Шварц застрял в переулке без всякого просвета впереди — в тупике.
Кое-кто поговаривал, что Шварц повторяет «зряшные» усилия руководителя своей докторской диссертации — Джеффри Чу. На достижение своей цели Чу, как и Шварц, потратил двадцать пять лет, трудясь над теорией S-матрицы. Первые несколько из этих лет он провел в славной компании, а последние пятнадцать возился фактически один — подвергаясь, как и Шварц, эпизодическим нападкам. В конце концов Чу оставил свою мечту. Оглядывая сделанное, можно сказать, что усилия Чу не пропали втуне: Шварц говорит, что «неясно, возникла бы струнная теория без него. Она выросла из S-матричного подхода»[306].
В Калтехе Гелл-Манн, несмотря на все перипетии, оставался могучим союзником. «Я был счастлив и гордился, что они[307] работали у нас в Калтехе, — говорит он. — Было в этом что-то сокровенное.
Я нутром чуял. И поэтому держал у себя в Калтехе заповедник редких видов. Я много занимался природоохраной в странах третьего мира. Тем же я занялся и в Калтехе»[308]. В 1984-м Шварцу удался еще один прорыв, на сей раз — совместно с Майклом Грином (тот работал в Колледже королевы Марии в Лондоне). Они обнаружили, что в струнной теории некоторые нежелательные параметры, которые могут приводить к аномалиям, чудесным манером взаимно уничтожаются. Этот результат они представили тем же летом в виде шуточного скетча на семинаре в отеле «Джером» в Эспене. В финале постановки Шварца уносили со сцены люди в белых халатах, а он вопил, что вывел теорию всего на свете. Горький юмор скетча отражал его ожидания — что и на этот результат никто не обратит внимания и его все забудут.
Но в этот раз, не успели Шварц и Грин дописать статью по итогам работы, позвонил человек по имени Эдвард Виттен. Он узнал о достигнутых результатах от тех, кто был на семинаре. Шварц был в восторге: хоть кто-то заинтересовался его трудами. Но Виттен — не просто какой-то там уверовавший исследователь. Он был самым влиятельным физиком и математиком в мире. За несколько месяцев Виттен (в ту пору в Принстоне, а чуть погодя — в Калтехе, со Шварцем) и его коллеги добились нескольких крупных результатов — например, определения пространств Калаби-Яу как претендентов на звание тех самых свернутых измерений. Этого хватило, чтобы убедить сотни физиков начать работать над струнной теорией. Шварц наконец добился той самой вельможной санкции, в которой нуждался.
Внезапно Шварцем заинтересовались другие могучие университеты, пожелавшие заарканить новоиспеченного великого ученого. Гелл-Манн решительно взялся выбивать ему пожизненное профессорство. Даже в новых обстоятельствах это не было просто. Один чиновник сказал: «Мы не знаем, изобрел ли этот человек нарезной хлеб, но даже если так, люди все равно скажут, что он добился этого в Калтехе, так что незачем его тут держать»[309]. И все же через двенадцать с половиной лет Шварц все-таки получил профессорство. На несколько лет быстрее Калуцы.
Ныне статья Шварца и Грина именуется «первой революцией суперструн». Виттен говорит: «Без Джона Шварца струнная теория, скорее всего, просто сошла бы на нет, возможно, для того, чтобы ее переоткрыли в XXI веке»[310]. Но эстафетная палочка сменила руки. Пройдет десять лет, и Виттен возглавит, а потом и произведет свою революцию в струнной теории.
Глава 37. Теория, ранее известная как струнная
К началу 1990-х популярность струнной теории пригасла. За несколько лет до этого «Лос-Анджелес Таймс» даже предъявила публике позицию одного из критиков, предавшегося размышлениям о том, что теоретикам-струнникам, вероятно, должны «приплачивать университеты, а еще им надо разрешить развращать впечатлительных юных студентов»[311]. (В наше время, что утешительно, «Л. А. Таймс» в основном выбирает темы поближе к местным реалиям, например, как там дела у пары Уоррен Бейти — Аннетт Бенинг.) Восторги поутихли не без причины. Струнник Эндрю Строминджер сокрушался, что «есть кое-какие серьезные неприятности»[312]. Часть этих неприятностей сводилась к недостатку новых ошарашивающих предсказаний, выжимаемых из теории струн. Но возникло и другое затруднение — столь же досадное, что и стародавние: выходило, что струнных теорий — пять разных видов. Не пять разных кандидатов Калаби-Яу — те-то пять всех радовали, — а пять фундаментально разных теоретических структур. Перефразируя Строминджера, иметь пять разных уникальных теорий природы не эстетично[313]. Неурожай продлился десять лет — еще одна обширная пустыня, которую Шварцу пришлось пересечь. Правда, на сей раз в большой компании искателей земли обетованной и с пророком во главе.
У каждого поколения физиков есть свои лидеры. В десятилетия до струнной теории ими были Гелл-Манн и Фейнман. Последние несколько десятков лет — Эдвард Виттен. Брайен Грин из Колумбийского университета говорит: «Если отследить интеллектуальные корни всего, над чем я когда-либо работал, они ведут к стопам Виттена»[314]. Сам я впервые услышал о Виттене в конце 1970-х — как о выпускнике-физике из Университета Брандейса, на несколько лет меня старше. Мне перепало несколько замечаний научных руководителей в духе «вы, конечно, голова, но не Эд Виттен». Вот интересно, думал я, они и женам своим говорят: «Ты, конечно, хороша, но вот моя давнишняя подружка была вообще ого-го»? Вообще-то, я себе такое легко мог представить. Но все-таки хотелось знать, что это за гений такой.
К моему разочарованию, выяснилось, что он по специальности историк, т. е. спец во вненаучной дисциплине из тех, что имели интеллектуальную глубину школьного курса с поправкой на объем домашнего чтения, по мнению нас, физиков по специальности. Хуже того: Виттен прослушал всего один курс по физике. Судя по всему, физика, в которой он столь безнадежно меня обскакал, была для этого Эйнштейна не более чем досужим развлечением.
Я с удовольствием выяснил, что Виттен работал на кампанию Макговерна[315] в 1972-м, а это значило, что, хоть и выраженный антиниксоновец, он явно недоразвит в части «осмысленного расходования собственного времени». Ну и к тому же, раз он весь из себя гений, отчего ж тогда Макговерн не выиграл? Хотя нет, Макговерн победил в Массачусетсе — но только там. Может, все из-за Виттена? Несколько лет назад я выяснил: не из-за него. Пенсионера Макговерна добыл один журналист, которому не терпелось узнать мнение сенатора об «умнейшем человеке в мире», и Макговерн сообщил, что Виттена он не помнит. Но потом согласился с определением, добавив, что «Виттену хватило ума поддержать Макговерна на выборах-72, а я обо всех сужу по этому критерию»[316].
После Брандейса Виттен оказался аспирантом-физиком в Принстоне. Поскольку физику ему раньше не преподавали, Виттена не могли принять на учебу, однако, судя по всему, у них существовала специальная программа приема для деток, которым суждено стать самыми умными людьми на свете. Когда же мы наконец познакомились, я сам был студентом-выпускником Беркли, где, прежде чем меня принять, уж точно хорошенько прочесали частым гребнем все мои оценки и иные навыки, полученные в процессе изучения реальных курсов физики.
Виттен оказался долговязым черноволосым парнем в очках, оправленных в черный пластик. Довольно самоуверенный, но в целом милый, он говорил так тихо, что приходилось щурить уши, чтобы разбирать его слова. (Обычно оно того стоило.) Посреди той самой лекции, где я его впервые увидел, он вдруг умолк — со всей очевидностью думал некие глубокие думы. Но молчал он так долго, что публика начала хлопать, как невежды на концертах Бетховена, что путают конец части произведения с его финалом. Виттен сказал нам, несколько раздражившись, что его симфония еще не доиграна.
Ныне Виттена часто сравнивают с Эйнштейном. На то, видимо, есть масса причин, однако главная, вероятно, — в самих сравнивающих, которые мало о каких физиках слыхали. Таково проклятие легендарного статуса Эйнштейна: он стал клише, и всякого норовят назвать Эйнштейном того-то или Эйнштейном сего-то. Вот что тебе светит, если ты — «кадиллак» среди физиков. Между Эйнштейном и Виттеном, да, есть некоторое поверхностное сходство. Оба евреи, оба провели много лет в Институте прогрессивных исследований, демонстрировали живой интерес к Израилю и увлекались миротворческими инициативами. Письма двенадцатилетнего Виттена против войны во Вьетнаме в редакцию местной газеты «Балтимор Сан» были опубликованы[317], а позднее Виттен состоял в миротворческих группах в Израиле[318].
Но если уж вам так необходимо их сравнивать, Виттен в его трудах куда больше похож на Гаусса, нежели на Эйнштейна. Никакой старый друг не объяснял Виттену современную геометрию — как и Гауссу. И, как Гаусс, он своей работой серьезно влияет на направление развития современной математики, в отличие от работ Эйнштейна. Есть и оборотная сторона: подход Виттена (и всех остальных) к струнной теории, а ныне — к М-теории, зиждется на математических прозрениях, а не на физических принципах, как некогда у Эйнштейна. Возможно, не произвольно, а из-за исторического стечения обстоятельств: на теорию струн когда-то наткнулись. Новый принцип физики в ее сути, подобие «счастливейшей мысли» для Виттена, если и есть, то еще не обнаружен.
В марте 1995 года Эдвард Виттен говорил о струнной теории на конференции в Университете Южной Калифорнии. Со времен суперструнной революции Шварца прошло одиннадцать лет, и для многих теория струн постепенно разваливалась. Речь Виттена все изменила. Он объяснил еще одно математическое чудо: все пять различных струнных теорий, по его утверждению, — лишь разные приблизительные формы одной и той же масштабной теории, ныне именуемой М-теорией. Физики в аудитории выпали в осадок. Нэйтен Сейберг из Университета Ратгерз, следующий докладчик, настолько впечатлился речью Виттена, что вымолвил: «Лучше мне податься в дальнобойщики»[319].
Этот прорыв Виттена теперь называют второй революцией суперструн. Согласно М-теории, струны являются не фундаментальными частицами[320], а примерами более общих объектов — бран (сокращение от мембран). Браны — версии струн в измерениях высоких порядков, тогда как сама струна — одномерный объект. Мыльный пузырь, например, — 2-брана. Согласно М-теории, законы физики зависят от более сложных колебаний этих более сложных сущностей. И в М-теории есть одно дополнительное свернутое измерение — итого получается одиннадцать, а не десять измерений. Но самое странное в этой теории вот что: пространство и время в некотором фундаментальном смысле не существуют.
У М-теории есть, оказывается, такое свойство: то, что мы воспринимаем как местоположение и время, т. е. как координаты струны или браны, есть на самом деле математические наборы — матрицы. Лишь в приблизительном смысле — когда струны далеко разнесены в пространстве (хотя в житейском смысле все равно близко) — эти матрицы смахивают на координаты, поскольку все диагональные элементы набора становятся одинаковыми, а внедиагональные устремляются к нулю. Со времен Евклида это — самое глубинное изменение в понимании пространства.
Виттен говаривал, что «М» в названии М-теории означает «“мистерия” или “магия” или “матрица”, это мои любимые слова»[321]. Недавно он добавил к этой подборке слово «мутная»[322] — и вот это, видимо, не самое любимое слово. М-теорию понять еще сложнее, чем струнную. Никто не знает, какие в ней возникнут уравнения, и еще меньше известно об их решениях. Вообще-то, про всю теорию мало что известно — помимо того, что она вроде бы существует, эта самая широкая теория, в которой пять видов теорий струн суть всего лишь пять вариантов аппроксимации. И все же идеи, порожденные М-теорией, уже привели к поразительнейшему намеку на то, что есть что-то в этой самой идее струн: к предсказанию, связанному с физикой черных дыр[323].
Черные дыры — одно из явлений, предсказанных общей теорией относительности. Их характерная особенность заключается в их черноте (для физиков это означает, что никакой свет или иное излучение не могут из них вырваться). В 1974 году Стивен Хокинг сказал: р-р-р-р, неправильный ответ! С учетом законов квантовой механики приходится заключить, что черные дыры — не вполне черные. А все оттого, что, по принципу неопределенности, пустое пространство не вполне пусто: оно заполнено па́рами частица — античастица, которые существуют лишь краткий миг, после чего самоуничтожаются в ничто. Согласно очень хитроумным вычислениям Хокинга, когда это происходит совсем рядом с черной дырой, та может всосать одного члена пары, а второго выкинуть в космос — и вот их-то можно наблюдать как излучение. Значит, черные дыры светятся. Это к тому же означает, что в них ненулевая температура, в точности так же, как свет от углей указывает на некоторое количество тепла. К сожалению, температура типичной черной дыры — меньше одной миллионной градуса, а это слишком мало, чтобы засекли астрономы. Но физиков понимание того, что у черных дыр есть хоть какая-то температура, привело к изумительному выводу. Если у черных дыр есть температура, в них есть кое-что под названием энтропия — более того, этой самой энтропии в них будет уйма: если записать ее численно, она займет больше одной строки в этой книге.
Энтропия — мера беспорядка системы. Если знать внутреннюю структуру системы, можно вычислить ее энтропию, подсчитав число возможных состояний, в которых она может находиться; чем их больше, тем выше энтропия. Например, если у Алексея в комнате беспорядок, у нее есть множество возможных состояний, в которых она может пребывать: тут — хомячки, там — гора грязной одежды, еще где-нибудь — старые комиксы, а также все эти объекты могут быть перемешаны, и тогда «состояние» у системы будет иное. Чем больше у него в комнате всякого барахла, тем больше возможных состояний (в отличие от распространенного убеждения, состояние высокой энтропии не имеет ничего общего с аккуратным или каким ни попадя размещением объектов внутри системы, а лишь с возможным числом этих размещений). Но если бы в его комнате было пусто, она могла бы находиться лишь в одном состоянии, поскольку ничто в ней нельзя поменять местами, и энтропия при этом равнялась бы нулю. До Хокинга черные дыры воспринимались как лишенные внутренней структуры, т. е. чем-то вроде пустой комнаты. Но теперь они скорее похожи на комнату Алексея. Если бы Хокинг спросил, я бы подтвердил: я всегда говорил, что комната Алексея — это черная дыра.
Физики лет двадцать ломали голову над результатами Хокинга. Сочетать отдельные теории относительности и квантовые теории — дело хитрое. Где же они, эти самые состояния внутри черной дыры, на которые указывает энтропия? Никто не понимал. И вот в 1996 году Эндрю Строминджер и Кумрун Вафа опубликовали шикарный расчет: применив соображения М-теории, они продемонстрировали, что можно создать (теоретически) черные дыры некоторых разновидностей из бран; для этих черных дыр разные состояния — это состояния бран, и их можно посчитать. Энтропия, вычисленная ими этим методом, согласовалась с предсказательными расчетами Хокинга, которые он получил совсем иным способом.
Этот результат стал поразительным свидетельством того, что М-теория делает что-то правильно, и все же остался лишь еще одним постсказанием. Теории же нужно, как настоятельно напоминают нам эти зануды-эксперименталисты, хоть какое-то опытное подтверждение из реального мира. Надежда на экспериментальное свидетельство М-теории жива — по двум причинам. Первая — возможное открытие в следующем десятилетии суперсимметричных частиц. Это может произойти в Большом адронном коллайдере[324] в женевском ЦЕРНе. Вторая проверка на реальность — поиск отклонений от закона тяготения[325]. Согласно Ньютону, а на этом уровне — также и Эйнштейну, два объекта лабораторных размеров должны притягиваться друг к другу с силой, пропорциональной обратному квадрату расстояния между ними. На половине дороги между ними их взаимное притяжение возрастает вчетверо. Однако, в зависимости от природы дополнительных измерений, в рамках М-теории допустимо, что при очень тесном сближении объектов сила их взаимного притяжения будет увеличиваться гораздо быстрее. И хотя физики проверили действие других сил вплоть до масштабов 10-17 см, поведение гравитационной силы пока изучено лишь до расстояний, больших 1 см. Исследователи из Стэнфордского университета и Колорадского университета, Боулдере, сейчас ставят эксперименты с гравитацией на малых расстояниях с применением «десктопных» технологий.
Шварц не волнуется. Он говорит: «Я верю, мы нашли уникальную математическую структуру, которая непротиворечиво сочетает квантовую механику с общей теорией относительности. Поэтому она почти наверняка правильна. И поэтому, хоть я и ожидаю открытия суперсимметрии, эту теорию я не оставлю, даже если суперсимметрии не обнаружится»[326].
Природа развивается по своему внутреннему порядку. Математика являет его нам. Станет ли М-теория дивным учебником завтрашних студентов колледжей — или всего лишь примечанием к лекции по истории науки под названием «Тупики»? Орем ли Шварц и Декарт ли Виттен, или оба они вместе — Лоренц, городящий безнадежную механическую теорию из несуществующего эфира, нам неведомо. Юный Шварц знал лишь одно: такая красивая теория не может ни на что не сгодиться. Ныне целое поколение исследователей смотрит на природу и видит ее струны. И по-старому смотреть на мир уже вряд ли получится.
Эпилог
Детьми мы складываем головоломки. Вырастая, живем в них. Как же стыкуются кусочки? Эта головоломка — не для отдельных людей, а для единого организма под названием человечество. Есть ли и впрямь законы у природы? Как мы о них узнаём? А вдруг эти законы — лишь подтасовка местных правил, или все-таки есть во Вселенной единство? Для человеческого мозга, скромного серого комка, который по-прежнему слишком часто претыкается на «простых» предметах вроде любви, мира или приготовления съедобного ризотто, величие и сложность космоса уж точно темны невообразимо, немыслимо. И все-таки уже больше ста поколений мы все складываем и складываем эту мозаику.
Нам, людям, свойственно искать порядок и логику в делах мира вокруг нас. Мы унаследовали инструментарий от греческих геометров, что дали нам не только способ точного мышления в математике, но и научили нас искать в природе эстетику. Они обретали удовлетворение в округлости Солнца, Земли и планетных орбит, поскольку для них круг и сфера были идеальными формами. Прошли Темные века, воскресли «Начала» Евклида и родился экспериментальный метод — и мы обнаружили, что порядок шире, чем простое «что есть природа»: он и в том, «почему таков закон ее». Эксперименты XVII века показали, что все тела падают, независимо от их состава, формы или веса — или от того, роняет их Галилей или собрат по эксперименту Роберт Гук[327]. Наблюдения подтвердили, что те же законы, которым подчиняется притяжение Земли к ньютонову яблоку, властны над Луной и движением далеких планет вокруг их тамошних звезд. И эти законы, судя по всему, не менялись от начала времен. Что за сила обязывает Вселенную и все объекты в ней следовать определенным особым правилам? И почему законы не меняются со временем или с местом — миллиарды лет и триллионы миль? Немудрено, что многие всегда обретали ответы в Боге. Однако наука движется курсом, положенным греческими геометрами, их инструмент — математика. И со времен греков математика оставалась сердцем науки, а геометрия — сердцем математики.
В евклидовом окне нам открылись многие чудеса, но мы и представить себе не могли, куда они заведут. Постигать звезды, воображать атом и пытаться понять, как фрагменты этой головоломки складываются в космический порядок, для нашего биологического вида — особое удовольствие, быть может, величайшее. Ныне наше знание о Вселенной охватывает расстояния столь обширные, что нам никогда не преодолеть их, и расстояния столь малые, что нам их не узреть. Мы осмысляем времена, которых не счесть никакими часами, измерения, которых не уловить никаким инструментом, и силы, которых никому не почувствовать. Мы обнаружили, что в разнообразии или даже хаосе есть свои простота и порядок. Красота природы — шире и глубже изящества газели или прелести розы, она и в удаленнейшей галактике, и в мельчайшей трещине бытия. Если современные теории окажутся верными, мы приблизимся к грандиозному озарению о пространстве, к пониманию игр материи и энергии, пространства и времени, мельчайшего и бесконечного.
Истина ли наше понимание физического закона или оно — лишь одно из многих возможных описаний? Отражает оно Вселенную или внутреннее восприятие, присущее нашему виду? Одно чудо, что физическое имеет закономерности, а другое — что мы умеем их замечать, но величайшее из чудес возникнет, если наша теория окажется манифестацией абсолютной истины — и по форме, и по содержанию. Тем не менее геометрия и история вели нас в некоем определенном направлении. Постулат параллельности не мог быть доказан в пределах евклидовой теории, и поэтому нам неизбежно явилось искривленное пространство, пусть и запоздав на 2000 лет. Относительность и квантовая механика были полностью независимы и противоречили друг другу философски, однако, согласно теории струн, похоже, существует третья, совершенно другая теория, из которой можно вывести первые две. Если хокингова смесь квантовой теории и теории относительности дает нам предсказание энтропии черной дыры, а независимые расчеты Строминджера с применением струнной теории с этим предсказанием сходятся, не предполагает ли эта связь некую глубинную истину?
Эти самые глубинные истины мы и продолжаем искать. Перед Евклидом и гениям после него, перед Декартом, Гауссом, Эйнштейном и — кто знает, время покажет — Виттеном, а также перед всеми, на чьих плечах они стояли, мы в большом долгу. Мы им благодарны. Они пережили радость открытия. А нам дали возможность ощутить радость не меньшую — радость понимания.
Благодарности
Спасибо:
Алексею и Николаю — за то, что пожертвовали наше общее время мне, их отцу, пока я возился с этой книгой (впрочем, знаю, что потерял-то от этого в основном я, а не они);
Хизер — за то, что сидела с ними и за себя, и за меня;
Сьюзен Гинзбёрг — за то, что она лучший агент на свете, но, самое главное, за ее веру в меня;
моему редактору Стивену Морроу — за понимание и помощь в фокусировке видения, основанные на самом жидком из возможных предложений, и за ставку на то, что я могу (рано или поздно) сдать текст;
Стиву Арселла — за его чудесную заботливую руку при создании иллюстраций;
Марку Хиллери, Фреду Роузу, Мэтту Костелло и Мэрилин Бёрнз — за их время, критику, предложения и дружбу, можно в любом порядке;
Брайену Грину, Стэнли Дезеру, Джерому Гонтлетту, Биллу Холли, Тордуру Йонсону, Рэнди Роджелу, Стивену Шнецеру, Джону Шварцу, Эрхарду Сейлеру, Алену Уолдмену и Эдварду Виттену — за чтение всей рукописи или ее частей;
Лорену Томасу — за помощь в кое-каком переводе с довольно архаического французского;
Джеффри Чу, Стэнли Дезеру, Джерому Гонтлетту, Мёрри Гелл-Манну, Брайену Грину, Джону Шварцу, Хелен Так, Габриэле Венециано и Эдварду Виттену — за согласие на интервью;
и Минетте Тэверн из Гринич-Виллидж — за организацию уютного места для встреч и работы.
Наконец, хотелось бы отдельно отметить две организации:
Нью-йоркскую публичную библиотеку — за наличие даже самых малоизвестных книг под рукой, невзирая на паршивое финансирование библиотек;
«Доувер Пабликейшенз» — за переиздание и, следовательно, спасение если не от исчезновения, так от забвения, многих изумительных старых книг по физике, математике и истории науки.
Примечания
1
О равнодушии вавилонян к знанию ирландский поэт и драматург Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) написал в своем стихотворении «Заря», начинающемся так:
Я был бы невеждой, как та заря, Что сверху вниз глядела, зря, Как меряет город жена царя Иглой от броши своей, Иль на дряблых людей, что взирали Из мелочного Вавилона На беспечность планет и пути их И таянье звезд от взошедшей луны, А сами в скрижали суммы писали…Здесь и далее прим. автора, кроме оговоренных особо.
(обратно)2
Michael Williams, A History of Computing Technology (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985), стр. 39–40.
(обратно)3
Интересно о происхождении счета и арифметики у Уильямза, гл. 1.
(обратно)4
Williams, стр. 3.
(обратно)5
R. G. W. Anderson, The British Museum (London: British Museum Press, 1997), стр. 16.
(обратно)6
Pierre Montet, Eternal Egypt, trans. Doreen Weightman (New York: New American Library, 1964), стр. 1–8.
(обратно)7
Pierre Montet, Eternal Egypt, trans. Doreen Weightman (New York: New American Library, 1964), стр. 1–8.
(обратно)8
Georges Jean, Writing: The Story of Alphabets and Scripts, trans. Jenny Oates (New York: Harry N. Abrams, 1992), стр. 27.
(обратно)9
Геродот писал, что развитие египетской геометрии стимулировали задачи налогообложения. См.: W. K. C. Guthrie, A History of Greek Phulosophy (Cambridge, UK: University Press, 1971), стр. 34–35, и Herbert Turnbull, The Great Mathematicians (New York: New York University Press, 1961), стр. 1.
(обратно)10
Rosalie David, Handbook of Life in Ancient Egypt (New York: Facts on File, 1998), стр. 96.
(обратно)11
Эти и другие поразительные факты можно найти благодаря вкладу Алексея в эти примечания — вот где: James Putnam and Jeremy Pemberton, Amazing Facts about Ancient Egypt (London and New York: Thames & Hudson, 1995), стр. 46.
(обратно)12
Хороший обзор вавилонской и шумерской математики см.: Edna E. Kramer, The Nature and Growth of Modern Mathematics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981), стр. 2–12.
(обратно)13
Для сравнения египетской и вавилонской математик см.: Morris Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (New York: Oxford University Press, 1972), стр. 11–22. См. Также: H. L. Resnikoff and R. O. Wells, Jr., Mathematics in Civilization (New York: Dover Publications, 1973), стр. 69–89.
(обратно)14
Также известен как «папирус Ахмеса»; Александр Генри Ринд (Райнд, 1833–1863) — шотландский юрист и египтолог. — Прим. пер.
(обратно)15
Resnikoff and Wells, стр. 69.
(обратно)16
Kline, стр. 11.
(обратно)17
Цит. по: The First Mathematicians (март, 2000); сходная, но более сложная риторическая задача есть у Клайна, стр. 9.
(обратно)18
Kline, стр. 259.
(обратно)19
О жизни и работе Фалеса см.: Sir Thomas Heath, A History of Greek Mathematics (New York: Dover Publications, 1981), стр. 118–149; Jonathan Barnes, The Presocratic Philosophers (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), стр. 1–16; George Johnston Allman , Greek Geometry from Thales to Euclid (Dublin, 1889), стр. 7–17; G. S. Kirk and J. E. Raven, The Presocratic Philosophers (Cambridge, UK: University Press, 1957), стр. 74–98; Hooper, стр. 27–38; Guthrie, стр. 39–71.
(обратно)20
Meander (англ.) — изгиб, извилина, излучина, поворот. — Прим. пер.
(обратно)21
Reay Tannahill, Sex in History (Scarborough House, 1992), стр. 98–99.
(обратно)22
Richard Hibler, Life and Learning in Ancient Athens (Lanham, MD: University Press of America, 1988), стр. 21.
(обратно)23
28 мая 585 года до н. э. по современному летоисчислению; битва между лидийцами и мидянами. — Прим. пер.
(обратно)24
Hooper, стр. 37.
(обратно)25
Erwin Schroedinger, Nature and the Greeks (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), стр. 81.
(обратно)26
Hooper, стр. 33.
(обратно)27
О милетской жизни см.: Adelaide Dunham, The History of Miletus (London: University of London Press, 1915).
(обратно)28
См.: Guthrie, стр. 55–80, и Peter Gorman, Pythagoras, A Life (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), стр. 32.
(обратно)29
Gorman, стр. 40.
(обратно)30
Хорэс Грили (1811–1872) — американский журналист и политик, социалист-утопист, прославился фразой в своей редакторской колонке, опубликованной 13 июля 1865 г.: «Ступайте на Запад, молодой человек, ступайте на Запад…» — Прим. пер.
(обратно)31
Наиболее полная биография Пифагора, со всеми ссылками, — гормановская. Также см.: Leslie Ralph, Pythagoras (London: Krikos, 1961).
(обратно)32
См.: Donald Johanson and Blake Edgar, From Lucy to Language (New York: Simon & Schuster, 1996), стр. 106–107.
(обратно)33
См.: Donald Johanson and Blake Edgar, From Lucy to Language (New York: Simon & Schuster, 1996), стр. 106–107.
(обратно)34
Square deal (англ. букв.) — «квадратная сделка», употребляется в значении «справедливая, честная сделка». — Прим. пер.
(обратно)35
Gorman, стр. 108.
(обратно)36
Gorman, стр. 19.
(обратно)37
Gorman, стр. 110.
(обратно)38
Gorman, стр. 111.
(обратно)39
Gorman, стр. 111.
(обратно)40
Gorman, стр. 123.
(обратно)41
Для интересующихся математикой приведем доказательство. Обозначим длину диагонали как с и начнем с допущения, что с можно выразить в виде дроби — скажем, m/n, в которой у m и n нет общих делителей, и они ни в коем случае не четные одновременно. Доказательство производится в три этапа. Первый: заметим, если с² = 2, значит, m² = 2n². Словами: m² — четное число. Поскольку квадраты нечетных чисел — нечетные, значит, и m само по себе должно быть четным. Второй: поскольку m и n не могут быть оба четными, значит, n должно быть нечетным. Третий: взглянем на уравнение m² = 2n² с другой стороны. Поскольку m — четное, его можно записать как 2q, при любом q. Если заменить m в m² = 2n² на 2q, получим 4q² = 2n², что то же самое, что и 2q² = n². Это означает, что n², а следовательно, и n — четное.
Мы только что доказали, что если с можно записать как с = m/n, то m есть нечетное, а n — четное. Получается противоречие, а значит, исходное допущение, что с можно записать как с = m/n, — ложное. Такого рода доказательства, когда мы допускаем отрицание того, что стремимся доказать, а потом показываем, что отрицание ведет к противоречию, называется reductio ad absurdum. Это одно из изобретений пифагорейцев, и поныне полезное для математики.
(обратно)42
Muir, стр. 12–13.
(обратно)43
Kramer, стр. 577.
(обратно)44
Gorman, стр 192–193.
(обратно)45
Спиноза, знаковый философ XVII века, писал «Этику» — свой главный труд — в стиле евклидовых «Начал», вплоть до определений и аксиом, с помощью которых, как он считал, строго доказывал теоремы. См. также «Историю западной философии» Бертрана Расселла: Bertand Russell, A History of Western Philosophy (New York: Simon & Schuster, 1945), стр. 572. Авраам Линкольн, еще будучи никому не известным юристом, изучал «Начала» с целью улучшить свои навыки логики, см.: Hooper, стр. 44. Кант читал евклидову геометрию неотъемлемой частью человеческого мозга, см. Расселл. (На рус. яз.: Бенедикт Спиноза, «Этика», М., СПб, Азбука, Азбука-Аттикус, 2012, пер. Я. Боровского, Н. Иванцова; Бертран Рассел, «История западной философии», М.: Академический проект, 2009, пер. В. Целищева. — Прим. пер.)
(обратно)46
Heath, стр. 354–355.
(обратно)47
Heath, стр. 354–355.
(обратно)48
Heath, стр. 356–370, см. также: Hooper, стр. 44–48. В 1926 году Хит лично продолжил историю «Начал», опубликовав свое издание, перепечатанное издательством «Доувер»: Sir Thomas Heath. The Thirteen Books of Euclid’s Elements (New York: Dover Publications, 1956).
(обратно)49
«Мальтийский сокол» (1930) — детектив-нуар американского писателя Сэмюэла Дэшилла Хэммета (1894–1961). — Прим. пер.
(обратно)50
Kline, стр. 1205.
(обратно)51
«Let’s Make A Deal» — американская телевикторина телеканала «Эн-би-си», транслировавшаяся с 1963 по 1968 гг. — Прим. пер.
(обратно)52
Трудный выбор, на котором основана программа «Поспорим», часто называют задачей Монти Холла, по имени ведущего программы. Проще всего разобраться в решении, нарисовав диаграмму-дерево, последовательно иллюстрирующую возможные варианты выбора. Этот метод применяется для наглядного описания теоремы Байеса в: John Freund, Mathematical Statistics (Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971), стр. 57–63. (Здесь и далее по тексту в квадратных скобках имена собственные даются в соответствии с произносительной нормой в тех случаях, когда она расходится с привычным написанием. — Прим. пер.)
(обратно)53
Martin Gardner, Entertaining Mathematical Puzzles (New York: Dover Publications, 1961), стр. 43. (На рус. яз.: Гарднер М., «Математические досуги», М: «Мир», 1972, пер. Ю. Данилова. — Прим. пер.)
(обратно)54
История про трудности с перигелием Меркурия изложена в: John Earman, Michael Janssen, and John D. Norton, eds., The Attraction of Gravitation: New Studies in the History of General Relativity (Boston: The Center for Einstein Studies, 1993), стр. 129–149. А еще есть хорошее, хоть и краткое, изложение этой же темы в: Abraham Pais, Subtle Is The Lord (Oxford: Oxford University Press, 1982), стр. 22, 253–255; цитата Леверье дана на стр. 254; «высшая точка» — на стр. 22. Геометрия всей этой истории изложена в: Resnikoff and Wells, стр. 334–336.
(обратно)55
Три хороших современных обзора «Начал» Евклида есть в: Kline, Mathematical Thought, стр. 56–88; Jeremy Gray, Ideas of Space (Oxford: Clarendon Press, 1989), стр. 26–41; Marvin Greenberg, Euclidean and Non-Euclidean Geometries (San Francisco: W. H. Freeman & Co., 1974), стр. 1–113.
(обратно)56
Kline, стр. 59.
(обратно)57
Здесь и далее — пер. с греч. Д. Д. Мордухай-Болтовского. — Прим. пер.
(обратно)58
H. G. Wells, The Outline of History (New York: Garden City Books, 1949), стр. 345–375. Линию времени см.: Jerome Burne, ed., Chronicle of the World (London: Longman Chronicle, 1989), стр. 144–147.
(обратно)59
Russell, стр. 220.
(обратно)60
Афиняне одолжили Птолемею III драгоценные манускрипты Еврипида, Эсхила и Софокла. Хоть он их и не вернул, ему хватило щедрости отдать сделанные им копии. Греки, скорее всего, не слишком удивились. Они запросили с Птолемея III (и оставили себе) целое состояние. См.: Will Durant, The Life of Greece (New York: Simon & Schuster, 1966), стр. 601.
(обратно)61
«U.S. News & World Report» (с 1933) — американский новостной журнал. В последние годы стал особенно известен своей системой ранжирования и ежегодным отчетам об американских колледжах, университетах, школах и медицинских центрах. — Прим. пер.
(обратно)62
Геометрия его расчетов объяснена в: Morris Kline, Mathematics and the Physical World (New York: Dover Publications, 1981), стр. 6–7.
(обратно)63
Бытует несколько разных вариантов этой истории. Согласно некоторым, Эратосфен замечает отсутствие тени, глядя в колодец, и определяет расстояние до Сиена по рассказам странников. Версия, приведенная здесь, есть в: Carl Sagan, Cosmos (New York: Ballantine Books, 1981), стр. 6–7. (На рус. яз.: К. Саган, Космос, СПб: Амфора, 2008, пер. А. Сергеева . — Прим. пер.)
(обратно)64
Kline, Mathematical Thought, стр. 106.
(обратно)65
Kline, Mathematical Thought, стр. 106.
(обратно)66
Kline, Mathematical Thought, стр. 158–159.
(обратно)67
Обзор работ Птолемея см.: John Noble Wilford, The Mapmakers (New York: Vintage Books, 1981), стр. 25–33.
(обратно)68
Kline, Mathematics in Western Culture, стр. 86.
(обратно)69
Kline, Mathematical Thought, стр. 201.
(обратно)70
Kline, Mathematics in Western Culture, стр. 89.
(обратно)71
Историю Гипатии см.: Maria Dzielska, Hypatia of Alexandria, trans. F. Lyra (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995). См. также: Kramer, стр. 61–65, и Russell, стр. 367–369.
(обратно)72
Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (London: 1898), стр. 109–110. (На рус. яз.: Эдвард Гиббон, «История упадка и разрушения Римской империи», в 7 т., М.: Наука, 2006, пер. В. Неведомского. — Прим. пер.)
(обратно)73
Dzielska, стр. 84.
(обратно)74
Dzielska, стр. 90.
(обратно)75
Dzielska, стр. 93–94.
(обратно)76
Resnikoff and Wells, стр. 4–13.
(обратно)77
David Lindberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago: University of Chicago Press, 1978), стр. 149.
(обратно)78
Город и река в штате Мичиган, США. — Прим. пер.
(обратно)79
William Gondin, Advanced Algebra and Calculus Made Simple (New York: Doubleday & Co., 1959), стр. 11.
(обратно)80
Два прекрасных рассказа об истории создания карт см.: Wilford and Norman Thrower, Maps and Civilization (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
(обратно)81
Resnikoff and Wells, стр. 86–89.
(обратно)82
Согласно некоторым источникам — в 1699-м, однако поскольку изобретение не было опубликовано сразу, точную дату установить затруднительно. — Прим. пер.
(обратно)83
Dava Sobel, Longitude (New York: Penguin Books, 1995), стр. 59.
(обратно)84
Wilford, стр. 220–221.
(обратно)85
Космический корабль из вселенной «Звездного пути» (Star Trek) — американского научно-фантастического кино— и телесериала (с 1966), созданного сценаристом и продюсером Джином Родденберри (1921–1991). Действие сериала происходит в XXIII веке. — Прим. пер.
(обратно)86
Morris Bishop, The Middle Ages (Boston: Houghton Mifflin, 1987, стр. 22–30.
(обратно)87
Ок. 193 см. — Прим. пер.
(обратно)88
Jean, стр. 86–87.
(обратно)89
Jean Gimpel, The Medieval Machine (New York: Penguin Books, 1976), стр. 182.
(обратно)90
Bishop, стр. 194–195.
(обратно)91
Robert S. Gottfried, The Black Death (New York: The Free Press, 1983), стр. 24–29.
(обратно)92
Robert S. Gottfried, стр. 53.
(обратно)93
Описание средневекового университета и университетской жизни см.: Bishop, стр. 240–244, и Mildred Prica Bjerken, Medieval Paris (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1973), стр. 59–73.
(обратно)94
«Зверинец» (Animal House) — американская комедия (1978) реж. Джона Лэндиса. — Прим. пер.
(обратно)95
Bishop, стр. 145–146.
(обратно)96
Bishop, стр. 70–71.
(обратно)97
Gimpel, стр. 147–170; Bishop, стр. 133–134.
(обратно)98
Wilford, стр. 41–48; Thrower, стр. 40–45.
(обратно)99
Russell, стр. 463–475. Об Абеляре см. также: Jacques LeGoff, Intellectuals in the Middle Ages, trans. Teresa Lavender Fagan (Oxford: Blackwell, 1993), стр. 35–41. (На рус. яз.: Жак Ле Гофф, «Интеллектуалы в Средние века», СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2003, пер. А. Руткевича . — Прим. пер.)
(обратно)100
Jeannine Quillet, Autour de Nicole Oresme (Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 1990), стр. 10–15.
(обратно)101
Ныне городок Флёри-сюр-Орн, Кальвадос, область Нижняя Нормандия. — Прим. пер.
(обратно)102
Reay Tannahill, Food in History (New York: Stein & Day, 1973), стр. 281.
(обратно)103
Теория распределений. Для интересующихся математикой — отличное классическое описание на студенческом уровне см.: M. J. Lighthill, Introduction to Fourier Analysis and Generalized Functions (Cambridge, UK: University Press, 1958).
(обратно)104
Работы Орема по графикам см.: Lindberg, стр. 237–241; Marshall Clagett, Studies in Medieval Physics and Mathematics (London: Variorum Reprints, 1979), стр. 286–295; Stephano Caroti, ed., Studies in Medieval Philosophy (Leo S. Olschki, 1989), стр. 230–234.
(обратно)105
David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science (Chicago: University of Chicago Press, 1992), стр. 290–301.
(обратно)106
Clagett, стр. 291–293.
(обратно)107
Lindberg, The Beginnings, стр. 258–261.
(обратно)108
Lindberg, The Beginnings, стр. 260–261.
(обратно)109
и
(обратно)110
В русской традиции — Псалтирь, 92: 1. Сходная мысль выражена в Пс. 96: 10: «Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется» (рус. трад. Пс. 95:10). — Прим. пер.
(обратно)111
Charles Gillespie, ed., The Dictionary of Scientific Biography (New York: Charles Scribner’s Sons, 1970–1990).
(обратно)112
Лучшая современная биография Декарта: Jack Vrooman, Rene 2 Descartes (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1970). Описание сплетения его жизни с математикой см.: Muir, стр. 47–76; Stuart Hollingdale, Makers of Mathematics (New York: Penguin Books, 1989), стр. 124–136; Kramer, стр. 134–166; Bryan Morgan, Men and Discoveries in Mathematics (London: John Murray, 1972), стр. 91–104.
(обратно)113
В разных источниках приводится разный возраст. Распределение этих данных выглядит равномерным.
(обратно)114
Muir, стр. 50.
(обратно)115
Muir, стр. 50.
(обратно)116
Kline, Mathematical Thought, стр. 308.
(обратно)117
Molland, стр. 40.
(обратно)118
которая называется окружностью
(обратно)119
на окружность круга
(обратно)120
Пер. с греч. Д. Д. Мордухай-Болтовского. — Прим. пер.
(обратно)121
«Вестсайдская история» (West Side Story) — американский мюзикл 1957 года (музыка Леонарда Бернстайна, слова Стивена Сондхайма), адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». «Истсайдская история» — вероятно, одна из серий американского телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» (1990–2000). — Прим. пер.
(обратно)122
Описание работ Птолемея см.: Wilford, стр. 25–34. В 1569 г., за несколько десятков лет до рождения Декарта, у картографии случилась своя революция: Герхард Кремер, более известный под своим латинизированным именем Герард Меркатор, издал карту мира новой разновидности. Этой картой Меркатор решил задачу проекции сферы Земли на плоскую поверхность — способом, особенно удобным для навигаторов. И хотя карта Меркатора растягивала и сжимала реальные расстояния, углы между кривыми сохранялись правильные, т. е. на карте они были такими же, как и на земной поверхности. Это важно, поскольку самый простой курс для кормчего — двигаться под фиксированным углом к северу, по указанию стрелки компаса. Математически говоря, важность этой карты в том, что она трансформировала координаты. Сам Меркатор никакой математикой не занимался — он составил карту эмпирически. Картезианская геометрия позволяет производить математический анализ, и в результате понимание картографии получается гораздо глубже. Декарт знал о карте Меркатора, но нам неведомо, насколько успехи картографии повлияли на Декарта — и повлияли ли вообще, поскольку он не утруждался указывать ссылки на чужие работы в своих. О математике, стоящей за трудами Меркатора, см.: Resnikoff and Wells, стр. 155–168.
(обратно)123
Декарт не просто унаследовал всю алгебру, потребную для его работы. Он сам изобрел значительную ее часть. Во-первых, он предложил современный вид записи с применением последних букв алфавита для обозначения неизвестных переменных и первых — для обозначения постоянных. До Декарта язык алгебры не блистал изяществом. К примеру, Декарт записал бы 2x² + x³, а до него то же выражалось так: «2 Q плюс C», где через Q обозначали квадрат (carre 2), а через С — куб. Запись Декарта совершеннее, потому что она исчерпывающе фиксирует и неизвестное число, возводимое в квадрат и в куб (х ), и характер степеней х (2 и 3). Применив это более изящное написание, Декарт смог складывать и вычитать уравнения и производить с ними другие арифметические операции. Он смог классифицировать алгебраические выражения согласно типу кривой, которую они представляли. Например, он опознал уравнения 3х + 6y — 4 = 0 и 4х + 7у + 1 = 0 как представляющие прямые, которые он изучил в общем случае ax + by + c = 0. Таким образом, он преобразовал алгебру из науки, изучающей мешанину отдельных уравнений, в дисциплину оформленных классов уравнений, см.: Vrooman, стр. 117–118. Более общую историю алгебраических символов см.: Kline, Mathematical Thought, стр. 259–263, и Resnikoff and Wells, стр. 203–206.
(обратно)124
По таблице, приведенной в «Нью-Йорк Таймс» 11 января 1981 г. и процитированной у Тафта.
(обратно)125
Теперь нам становится понятнее декартово определение окружности. Если окружность имеет центр в точке начала координат, и координаты точки на окружности — х и у, тогда требование, чтобы х и у отвечали уравнению х² + у² = r², попросту означает, что все точки на окружности должны находиться на расстоянии r от центра; это простое интуитивное определение, знакомое нам со школы.
(обратно)126
Хоть мы и объяснили это для плоскости, двухмерного пространства, декартовы координаты просто будет распространить на три и более измерения. К примеру, уравнение сферы х² + у² + z² = r², изменение состоит лишь в дополнительной координате z. Таким образом, физические теории могут быть описаны с помощью произвольного числа пространственных измерений. Выясняется, что обычная квантовая механика принимает чрезвычайно простой вид при бесконечном числе пространственных измерений, и это свойство применяется для нахождения приблизительных ответов для уравнений, решение которых иначе затруднительно. Интересующимся математикой рекомендуем: L. D. Mlodinow and N. Papanicolaou, «SO(2,1) Algebra and Large N Expansions in Quantum Mechanics», Annals of Physics, том 28, № 2 (сентябрь, 1980), стр. 314–334.
(обратно)127
Vrooman, стр. 120.
(обратно)128
На рус. яз.: М., СПб: ОГИЗ Москва — Ленинград, 1948, пер. А. И. Долгова. — Прим. пер.
(обратно)129
На рус. яз.: М., СПб: ОГИЗ Москва — Ленинград, 1948, пер. А. И. Долгова. — Прим. пер.
(обратно)130
Vrooman, стр. 84–85.
(обратно)131
Vrooman, стр. 89.
(обратно)132
Vrooman, стр.152–155, 157–162.
(обратно)133
Vrooman, стр.152–155, 157–162.
(обратно)134
Об отношениях Декарта и Кристины см.: Vrooman, стр. 212–255.
(обратно)135
О странствиях разных частей тела Декарта после смерти см. там же, стр. 252–254.
(обратно)136
Heath, стр. 364–365.
(обратно)137
О споре Прокла с Птолемеем см.: Kline, Mathematical Thought, стр. 863–865.
(обратно)138
Джон Плейфэр (1748–1819) — шотландский математик и географ, профессор математики в Эдинбургском университете. — Прим. пер.
(обратно)139
Средневековая исламская цивилизация внесла огромный вклад в развитие всей математики, не только сохранив работы греков, но и развив алгебру. Подробности см.: J. L. Berggren, Episodes in the Mathematics of Medieval Islam (New York: Springer-Verlag, 1986); коротко о жизни Сабита ибн Курра см. там же, стр. 2–4. Его попытка доказать постулат параллельности описана у Грея, стр. 43–44. Попытки других исламских математиков также приводятся у Грея.
(обратно)140
Уоллис
(обратно)141
Сэр Генри Сэвил (1549–1622, в русскоязычной традиции — Савиль) — английский математик, учредил в Оксфорде в 1619 г. на собственные деньги две профессорские ставки — по геометрии и астрономии; эти две кафедры под именем «савилианских» получили большую известность. — Прим. пер.
(обратно)142
Имеется в виду торговая марка автомобилей класса «люкс» «ниссан-инфинити», принадлежащая японской компании «Ниссан Моторз». — Прим. пер.
(обратно)143
Подробнее см. у Грея, стр. 57–58.
(обратно)144
Подробное жизнеописание Гаусса см. в: G. Waldo Dunnigton, Carl Friedrich Gauss: Titan of Science (New York: Hafner Publishing Co., 1955).
(обратно)145
Muir, стр. 179.
(обратно)146
Muir, стр. 181.
(обратно)147
Muir, стр. 182.
(обратно)148
Muir, стр. 179.
(обратно)149
Muir, стр. 179.
(обратно)150
Hollingdale, стр. 317.
(обратно)151
Hollingdale, стр. 65.
(обратно)152
Muir, стр. 179.
(обратно)153
Dunnington, стр. 24.
(обратно)154
Dunnington, стр. 181.
(обратно)155
в треугольнике
(обратно)156
т. е. евклидовой
(обратно)157
Хоббз
(обратно)158
Russell, стр. 548.
(обратно)159
Kline, Mathematical Thought, стр. 871.
(обратно)160
Russell, Introduction to Mathematical Philosophy (New York: Dover Publications, 1993), стр. 144–145.
(обратно)161
Dunnington, стр. 215.
(обратно)162
См. Greenberg, стр. 146. Анализ представлений Канта о пространстве и времени см.: Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, стр. 712–718, и Max Jammer, Concepts of Space (New York: Dover Publications, 1993), стр. 131–139.
(обратно)163
Традиционный греческий салат.
(обратно)164
«Критика чистого разума», т. IV. Пер. с нем. Н. Лосского. — Прим. пер.
(обратно)165
Файнмен
(обратно)166
Я сам неоднократно беседовал об этом с Фейнманом в Калифорнийском технологическом институте, Пасадина, в 1980–1982 гг.
(обратно)167
Dunnington, стр. 183. Подробнее о жизни Бойяи см.: Gillespie, Dictionary of Scientific Biography, стр. 268–271; о жизни Лобачевского см.: Muir, стр. 184–201; E. T. Bell, Men of Mathematics (New York: Simon & Schuster, 1965), стр. 294–306; Heinz Junge, ed., Biographien bedeutender Mathematiker (Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1975), стр. 353–366.
(обратно)168
«Nicolai Ivanovich Lobachevski» авторства Тома Лерера (р. 1928) — американского автора-исполнителя, сатирика и математика. — Прим. пер.
(обратно)169
Как ни странно, бумаги, найденные после смерти Бойяи, показали, что он был тайным евклидовцем: даже после открытия неевклидова пространства продолжал попытки доказать евклидову формулировку постулата параллельности, несмотря на то, что она развенчала бы его собственную работу.
(обратно)170
Dunnington, стр. 228.
(обратно)171
Подробности о модели Пуанкаре см. у Гринберга, стр. 190–214.
(обратно)172
Для пущей математической точности необходимо заметить, что есть и другой вид кривых, называемых в модели Пуанкаре прямыми. Это диаметр, т. е. любой отрезок линии, проходящий через центр блина и упирающийся концами в его границы. Эти кривые ничем принципиально не отличаются от других линий Пуанкаре: диаметр перпендикулярен границе блина и может быть рассмотрен как дуга бесконечно большей окружности.
(обратно)173
«It’s a Small World (After All)» — песня Роберта и Ричарда Шерманов, написанная в начале 1960-х гг. для одноименного аттракциона в Диснейленде. — Прим. пер.
(обратно)174
В начале XVIII века Джероламо Саккери, священник-иезуит и профессор Университета Павии, изучал работы Валлиса и последователя Сабита — Насира ад-Дина. Вдохновленный их трудами, он тоже увлекся освобождением Евклида от всех обвинений. Мы знаем доподлинно, что таково было его намерение, поскольку в год своей смерти, в 1733-м, Саккери опубликовал книгу под названием «Евклид, освобожденный от всех обвинений» («Euclides ab Omni Maevo Vindicatus»). Как и его предшественники, Саккери заблуждался. Но одно ему удалось доказать верно: формулировка постулата параллельности, приводящая к эллиптическому пространству, также приводит к логическому противоречию с другими аксиомами Евклида.
(обратно)175
Фраза из американского киномюзикла «Роки Хоррор, кинофильм» (The Rocky Horror Picture Show, 1975, реж. Джим Шэрмен, в российском прокате известен как «Шоу ужасов Роки Хоррора»). — Прим. пер.
(обратно)176
Подробнее о работах Гаусса в геодезии см.: Dunnington, стр. 118–138.
(обратно)177
Пер. С. Степанова. — Прим. пер.
(обратно)178
Из интервью со Стивеном Млодиновым 9 октября 1999 г.
(обратно)179
Отличный обзор работ и интеллектуального наследия Римана с некоторыми биографическими сведениями, см.: Michael Monastyrsky, Riemann, Topology, and Physics, trans. Roger Cooke, James King, and Victoria King (Boston: Birkhauser, 1999). Обзорное жизнеописание Римана см. также: Bell, стр. 484–509. (Оригинальное издание первой работы: Монастырский М. И. Бернхард Риман. Топология. Физика. М.: Янус-К, 1999. — Прим. пер.)
(обратно)180
В двух томах, 1830 (Paris: A. Blanchard, 1955). О стремительном прочтении Риманом этой работы см.: Bell, стр. 487.
(обратно)181
Bell, стр. 495.
(обратно)182
Во время автобусной поездки 1 декабря 1955 г. в городе Монтгомери, Алабама, Паркс отказалась по требованию водителя Джеймса Блейка освободить свое место для белых пассажиров. Общественная реакция на поступок Паркс привела к бойкоту автобусных линий города. Действия участников бойкота превратили Розу Паркс в международный символ сопротивления расовой сегрегации и принесли национальную известность лидеру бойкота, Мартину Лютеру Кингу-мл., сделав его важнейшей фигурой в движении за гражданские права. — Прим. пер.
(обратно)183
Цит. по: Kline, Mathematical Thought, стр. 1006.
(обратно)184
Вид оружия из американского фантастического сериала «Звездный путь». При запуске очень ярко вспыхивают. — Прим. пер.
(обратно)185
Хилберт
(обратно)186
David Hilbert, Grundlanden der Geometrie (Berlin: B. G. Teubner, 1930). Эта цитата приведена и в: Kline, Mathematical Thought, стр. 1010–1015, а также: Greenberg, стр. 58–59. Гринберг тоже предлагает интересное обсуждение неопределенных переменных, стр. 9–12.
(обратно)187
Кляйн
(обратно)188
Gray, стр. 155.
(обратно)189
Kline, Mathematical Thought, стр. 1010.
(обратно)190
Более глубокое представление об аксиомах Гильберта можно получить у Гринберга, стр. 58–84.
(обратно)191
Kline, Mathematical Thought, стр. 1010–1015.
(обратно)192
Понятие из области математики, называемой теорией игр. — Прим. пер.
(обратно)193
Отличное объяснение см.: Ernest Nagel and James R. Newman, Godel’s Proof (New York: New York University Press, 1958), а также в классике широкого диапазона, которую вдохновила эта книга, напр.: Douglas Hofstadter, Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (New York: Vintage Books, 1979).
(обратно)194
Monastyrsky, стр. 34.
(обратно)195
Monastyrsky, стр. 36.
(обратно)196
Жизнеописание Майкельсона см.: Dorothy Michelson Livingston, The Master of Light: A Biography of Albert A. Michelson (New York: Scribner, 1973).
(обратно)197
См. Harvey B. Lemon, «Albert Abraham Michelson: The Man and the Man of Science», American Physics Teacher (ныне American Journal of Physics ), том 4, № 2 (февраль, 1936).
(обратно)198
Brooks D. Simpson, Ulysses S. Grant: Triumph Over Adversity 1822–1865 (New York: Houghton Mifflin, 2000), стр. 9.
(обратно)199
«Нью-Йорк Таймс», 10 мая 1931 года, стр. 3, цит. по: Daniel Kelves, The Physicists (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995), стр. 28.
(обратно)200
Adolphe Ganot, Elements de Physique, ок. 1860, цит. по: Loyd S. Swenson, Jr., The Etheral Aether (Austin, TX: University of Texas Press, 1972), стр. 37.
(обратно)201
Хёхенс
(обратно)202
G. L. De Haas-Lorentz, ed., H. A. Lorentz (Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1957), стр. 48–49.
(обратно)203
Об эфире Аристотеля см.: Henning Genz, Nothingness: The Science of Empty Space (Reading, MA: Perseus Books, 1999), стр. 72–80.
(обратно)204
Pais, стр. 127.
(обратно)205
Аллюзия на итальянский вестерн Il buono, il brutto, il cattivo (1966) режиссера Серджо Леоне. — Прим. пер.
(обратно)206
Вот что он пишет: «Нам неизвестно, чем является эта среда, и, похоже, наша судьба — оставаться в неведенье, коль скоро мы не можем наблюдать ее саму, а лишь объекты, что делаются зримыми под ее влиянием… И все же она не влияет на нас… если допустить, что нам известны законы этих явлений. Эти законы были выведены почти столь же безупречно, как и гравитационные». E. G. Fischer, Elements of Natural Philosophy (Boston, 1827), стр. 226. Английское издание возникло путем перевода с немецкого на французский знаменитым термодинамиком М. Био, и лишь затем — на английский.
(обратно)207
На самом деле Френель отреагировал на открытие поляризации света, которое сделал в 1808 году французский физик Этьенн Луи Малюс. Согласно Френелю, поляризация возможна оттого, что свет способен колебаться в одном из двух направлений перпендикулярно своей траектории. Отсечение одной или другой составляющей приводит к поляризации. Волны, колеблющиеся только вдоль направления своего движения, не имеют этого свойства.
(обратно)208
Две биографии Максвелла, написанные с разрывом в 100 лет: Louis Campbell and William Garnet, The Life of James Clerk Maxwell (London, 1882; New York: Johnson Reprint Co., 1969) и Martin Goldman, The Demon in the Aether (Edinburgh: Paul Harris Publishing, 1983).
(обратно)209
далее следуют четыре уравнения
(обратно)210
Интересующиеся математикой, вот вам математические уравнения Максвелла для свободного пространства: ∇ × E = 4πρ; ∇ × B = 0; ∇ × B — δE/δt = 4πj; ∇ × E + δB/δt = 0, где p и j — источники, а Е и В — поля.
(обратно)211
Метод Ламаза («роды по Ламазу») — техника подготовки к родам, разработанная в 1950-х годах французским акушером Фернаном Ламазом в качестве альтернативы медицинскому вмешательству во время родов. — Прим. пер.
(обратно)212
Haas-Lorentz, ed., стр. 55.
(обратно)213
Haas-Lorentz, ed., стр. 55.
(обратно)214
Джеймс Клерк Максвелл, «Эфир», Британская Энциклопедия, 9-е изд., том VIII (1893), стр. 572, цит. по: Swenson, стр. 57.
(обратно)215
Swenson, стр. 60.
(обратно)216
Swenson, стр. 60–62.
(обратно)217
В лекции, прочитанной в Филадельфии в Академии музыки 24 сентября 1884 года. Запись лекции: Sir William Thomson (Lord Kelvin), «The Wave Theory of Light», — в: Charles W. Elliot, ed., The Harvard Classics, том 30, Scientific Papers, стр. 268. Цит. по: Swenson, стр. 77.
(обратно)218
Swenson, стр. 88.
(обратно)219
Swenson, стр. 73.
(обратно)220
Майкельсон еще не раз в своей научной карьере повторит эксперимент — так же, как и многие другие; отдельно стоит отметить его последователя в Кейсе — Дэйтона Клэренса Миллера. Майкельсон никогда бы не смог принять несуществование эфира. И даже в 1919 году Эйнштейн все еще надеялся получить поддержку Майкельсона для своей теории, однако от Майкельсона удалось добиться лишь двусмысленной статьи в его книге 1927 года, за несколько лет до смерти ученого. См. Denis Brian, Einstein, A Life (New York: John Wiley & Sons, 1996), стр. 104, 126–127, 211–213; и Pais, стр. 111–115.
(обратно)221
G. F. FitzGerald, Science, том 13 (1889), стр. 390, цит. по: Pais, стр. 122.
(обратно)222
Kenneth F. Schaffner, Nineteenth-Century Aether Theories (Oxford: Pergamon Press, 1972), стр. 99–117.
(обратно)223
Эпицикл — понятие, используемое в древних и средневековых теориях движения планет, включая геоцентрическую модель Птолемея. Согласно этой модели, планета равномерно движется по малому кругу, называемому эпициклом, центр которого, в свою очередь, движется по большому кругу — деференту. — Прим. пер.
(обратно)224
Замечания Пуанкаре были изданы в книге La Science et l’Hypotese, и их пристально изучали Эйнштейн и некоторые его бернские друзья. Книгу затем переиздали: Henri Poincare, Science and Hypothesis (New York: Dover Publications, 1952).
(обратно)225
Биографий Эйнштейна существует множество. Две мне показались особенно полезными: Brian и Ronald Clark, Einstein: The Life and Times (London: Hodder & Stoughton, 1973; New York: Avon Books, 1984). Кроме того, у Пайса тоже получилась великолепная научная биография, у которой есть преимущество: личный взгляд на предмет.
(обратно)226
Цит. по: Hollingdale, стр. 373.
(обратно)227
«Eine neue Bestimmung der Molek ldimensionen», Annalen der Physik, том 17 (1905), стр. 289. (Здесь и далее: работы Эйнштейна в пер. на рус. — Собрание научных трудов в четырех томах. М.: Наука, 1965–1967. Под ред. И. Е. Тамма, Я. А. Смородинского, В. Г. Кузнецова. — Прим. пер.)
(обратно)228
Pais, стр. 89–90.
(обратно)229
Браун
(обратно)230
Annalen der Physik, том 17 (1905), стр. 891.
(обратно)231
Hollingdale, стр. 370.
(обратно)232
Albert Einstein, Relativity, trans. Robert Lawson (New York: Crown Publishers, 1961).
(обратно)233
В теории относительности время считается измерением, однако в плоском или близком к плоскому пространстве-времени разнесенность, т. е. релятивистская версия расстояния, определяется в терминах временно́й разницы минус пространственная разница. Это означает, к примеру, что кратчайший путь между двумя событиями с нулевой временно́й разницей есть путь (линия в пространстве) с наибольшей (т. е. наименее отрицательной) разнесенностью.
(обратно)234
Brian, стр. 69.
(обратно)235
Brian, стр. 69–70.
(обратно)236
Цит. по: Pais, стр. 152. К сожалению, через несколько месяцев Минковский скоропостижно скончался от аппендицита.
(обратно)237
Pais, стр. 151.
(обратно)238
Pais, стр. 166–167.
(обратно)239
Pais, стр. 167–171.
(обратно)240
Pais, стр. 179.
(обратно)241
Pais, стр. 178.
(обратно)242
Церера (1 Ceres ) — самая близкая к Земле карликовая планета в поясе астероидов Солнечной системы. — Прим. пер.
(обратно)243
В русскоязычной литературе часто встречается полное название — принцип эквивалентности сил гравитации и инерции. — Прим. пер.
(обратно)244
Эта формулировка принципа эквивалентности приведена в: Charles Misner, Kip Thorne, and John Wheeler, Gravitation (San Francisco: W. H. Freeman & Co., 1973), стр. 189.
(обратно)245
Charles Misner, Kip Thorne, and John Wheeler, стр. 131.
(обратно)246
Этот эффект наблюдали в 1960 г.: R. V. Pound, G. A. Rebka, Jr., Physical Review Letters, том 4 (1960), стр. 337.
(обратно)247
/~judy/einstein/science.html (июнь 1999).
(обратно)248
Pais, стр. 213.
(обратно)249
Pais, стр. 212.
(обратно)250
Pais, стр. 213.
(обратно)251
Pais, стр. 216.
(обратно)252
Pais, стр. 239.
(обратно)253
Пятью днями ранее, 20 ноября, Гильберт представил вывод того же уравнения Королевской академии наук в Гёттингене. Этот вывод он произвел независимо от Эйнштейна и в некотором смысле качественнее, но этот вывод явился лишь последним шагом в построении теории, которая, по признанию Гильберта, была творением Эйнштейна. Эйнштейн и Гильберт восхищались друг другом и никакое первенство никогда не оспаривали. Гильберт говорил: «Не математики, а Эйнштейн проделал всю работу». См. Jagdish Mehra, Einstein, Hilbert, and the Theory of Gravitation (Boston: D. Reidel Publishing Co., 1974), стр. 25.
(обратно)254
Pais, стр. 239.
(обратно)255
На самом деле, за исключением случаев с применением прямоугольных координат в плоском пространстве-времени, это определение приложимо исключительно к бесконечно малым областям, и тогда расстояния обязательно складывать с применением методов математического анализа. Математически пишем так: ds² = g₁₁dx₁² + g₁₂dx₁dx₂ + … + g₃₄dx₃dx₄ + g₄₄dx₄².
(обратно)256
Десять компонентов: g₁₁, g₁₂, g₁₃, g₁₄, g₂₂, g₂₃, g₂₄, g₃₃, g₃₄ и g₄₄ (избыточность устраняем применением равенства gij = gji).
(обратно)257
См. Richard Feynman, Robert Leighton, and Matthew Sands, The Feynman Lectures on Physics, том II (Reading, MA: Addison-Wesley, 1964), гл. 42, стр. 6–7.
(обратно)258
Marcia Bartusiak, «Catch a Gravity Wave», Astronomy, October, 2000.
(обратно)259
Некоторые современные ученые считают, что Эддингтон мог сжульничать по части кое-каких своих результатов. См., напр.: James Glanz, «New Tactics in Physics: Hiding the Answer», «Нью-Йорк Таймс», 8 августа 2000 г., стр. F1.
(обратно)260
т. е. его притяжение полем тяготения — «ньютонов» анализ
(обратно)261
Pais, стр. 304.
(обратно)262
Описание экспедиции Эддингтона и реакции на нее см. у Кларка, стр. 99–102.
(обратно)263
Brian, стр. 102–103.
(обратно)264
Brian, стр. 246.
(обратно)265
См. «The Reaction on Relativity Theory in Germany III: “A Hundred Authors Against Einstein”» в: John Earman, Michel Janssen, and John Norton, eds., The Attraction of Gravitation (Boston: Center for Einstein Studies, 1993), стр. 248–273.
(обратно)266
Эйнштейна
(обратно)267
Brian, стр. 284.
(обратно)268
Хайзенберг
(обратно)269
30 января 1933 г. — Прим. пер.
(обратно)270
Brian, стр. 233.
(обратно)271
Brian, стр. 433.
(обратно)272
Pais, стр. 462.
(обратно)273
Pais, стр. 462.
(обратно)274
/~judy/einstein/himself.html (апрель, 1999).
(обратно)275
Ivars Peerson, «Knot Physics», Science News, том 135, № 11, 18 марта 1989 г., стр. 174.
(обратно)276
10 Things I Hate About You — американская молодежная комедия 1999 года, реж. Джил Джангер. — Прим. пер.
(обратно)277
Engelbert L. Schucking, «Jordan, Pauli, Politics, Brecht, and a Variable Gravitational Constant», Physics Today (октябрь, 1999), стр. 26–31.
(обратно)278
Из интервью с Мёрри Гелл-Манном, 23 мая 2000 г.
(обратно)279
из экспериментальных данных
(обратно)280
Walter Moore, A Life of Erwin Schroedinger (Cambridge, UK: University Press, 1994), стр. 195.
(обратно)281
Walter Moore, A Life of Erwin Schroedinger (Cambridge, UK: University Press, 1994), стр. 138.
(обратно)282
Из письма Эйнштейна Максу Борну 4 декабря 1926 г., архивы Эйнштейна 8–180. Цит. по: Alice Calaprice, ed., The Quotable Einstein (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).
(обратно)283
Белл опубликовал свое предложение в недолго просуществовавшем журнале «Physics». Обычное экспериментальное подтверждение физиков: A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Physical Review Letters, том 49 (1982). Позднейшие усовершенствования можно найти в: Gregor Weihs et al., Physical Review Letters, том 81 (1998).
(обратно)284
Toichiro Kinoshita, «The Fine Structure Constant», Reports on Progress in Physics, том 59 (1996), стр. 1459.
(обратно)285
объединенной теории
(обратно)286
Pais, стр. 330.
(обратно)287
Pais, стр. 330.
(обратно)288
Dictionary of Scientific Biography, стр. 211–212.
(обратно)289
Из интервью с Габриэле Венециано, 10 апреля 2000 г.
(обратно)290
George Johnson, Strange Beauty (New York: Alfred A. Knopf, 1999), стр. 195–196.
(обратно)291
Из интервью с Эдом Виттеном, 15 мая 2000 г.
(обратно)292
Из интервью с Мёрри Гелл-Манном, 23 мая 2000 г.
(обратно)293
Оппенхаймер
(обратно)294
Цит. по: Michio Kaku, Introduction to Superstrings and M-Theory (New York: Springer-Verlag, 1999), стр. 8.
(обратно)295
Цит. по: Nigel Calder, The Key to the Universe (New York: Penguin Books, 1977), стр. 69.
(обратно)296
Константы приводятся по: P. J. Mohr and B. N. Taylor, «CODATA Recommended Values of the Fundamental Constants: 1998», Review of Modern Physics, том 72 (2000).
(обратно)297
Быт. 1: 3. — Прим. пер.
(обратно)298
Неплохое объяснение музыки струн см.: Kline, Mathematics and the Physical World, стр. 308–312; глубже см.: Juan Roederer, Introduction to the Physics and Psychophysics of Music, 2-е изд. (New York: Springer-Verlag, 1979), стр. 98–119.
(обратно)299
P. Candelas et al., Nuclear Physics, B258 (1985), стр. 46.
(обратно)300
Технически говоря, под дырками физики подразумевают определенное значение некоторой математической количественной характеристики, именуемой эйлеровым числом, и его можно рассчитать для каждого пространства Калаби-Яу. Эйлерова характеристика есть топологическое понятие, которое легко визуализировать для двух или трех измерений, но оно применимо и к более высоким измерениям. В трехмерности твердый объект имеет число Эйлера, равное двум, будь то куб, сфера или суповая плошка, тогда как у объектов с дырками (или ручками), вроде пончика, кофейной чашки или пивной кружки, число Эйлера равно нулю.
(обратно)301
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN , фр. ). — Прим. пер.
(обратно)302
Цитаты в этом абзаце взяты из интервью с Мёрри Гелл-Манном, 23 мая 2000 г.
(обратно)303
Из интервью с Джоном Шварцем, 30 марта 2000 г.
(обратно)304
Из интервью с Джоном Шварцем, 30 марта 2000 г.
(обратно)305
Из интервью с Мёрри Гелл-Манном.
(обратно)306
Из интервью с Джоном Шварцем, 13 июля 2000 г.
(обратно)307
Шварц и Шерк
(обратно)308
Из интервью с Мёрри Гелл-Манном.
(обратно)309
Из интервью с Мёрри Гелл-Манном.
(обратно)310
Из интервью с Эдом Виттеном, 15 мая 2000 г.
(обратно)311
Цит. по: K. C. Cole, «How Faith in the Fringe Paid Off for One Scientist», «Лос-Анджелес Таймс», 17 ноября 1999 г., стр. А1.
(обратно)312
Faye Flam, «The Quest for a Theory of Everything Hits Some Snags», Science, 6 июня 1992 г., стр. 1518.
(обратно)313
Строминджер цит. по: Madhursee Mukerjee, «Explaining Everything», Scientific American (январь, 1996).
(обратно)314
Из интервью с Брайеном Грином, 22 августа 2000 г.
(обратно)315
Джордж Макговерн (1922–2012) — американский политик, сенатор от Южной Дакоты и кандидат на президентских выборах 1972 г. от Демократической партии. — Прим. пер.
(обратно)316
Alice Steinbach, «Physicist Edward Witten, on the Trail of Universal Truth», «Балтимор Сан», 2 февраля 1995 г., стр. 1К.
(обратно)317
Jack Klaff, «Portrait: Is This the Cleverest Man in the World?», «Гардиан» (Лондон), 19 марта 1997 г., стр. Т6.
(обратно)318
Judy Siegel-Itzkovitch, «The Martian», «Джерузалем Пост», 23 марта 1990 г.
(обратно)319
Mukerjee, «Explaining Everything».
(обратно)320
Отсюда и название этой главы: так назывался цикл лекций, прочитанных одним из пионеров М-теории Майклом Даффом из Сельскохозяйственного и политехнического университета Техаса.
(обратно)321
Douglas M. Birch, «Universe’s Blueprint Doesn’t Come Easily», «Балтимор Сан», 9 января 1998 г., стр. 2А.
(обратно)322
J. Madeline Nash, «Unfinished Symphony», «Тайм», 31 декабря 1999 г., стр. 83.
(обратно)323
Вдумчивое обсуждение черных дыр и М-теории см.: Brian Greene, The Elegant Universe (New York: W. W. Norton & Co., 1999), гл. 13.
(обратно)324
«Discovering New Dimensions at LHC», CERN Courier (март, 2000). См. .
(обратно)325
P. Weiss, «Hunting for Higher Dimensions», Science News, том 157, № 8, 19 февраля 2000 г. См. .
(обратно)326
John Schwarz, «Beyond Gauge Theories», неопубликованный препринт (hep-th/9807195), 1 сентября 1998 г., стр. 2. Из лекции, представленной на конференции WIEN-98 в Санта Фе, Нью-Мексико, в июне 1998 г.
(обратно)327
Хук
(обратно)



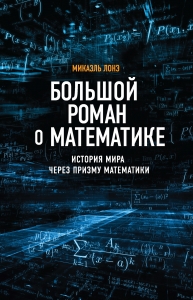
Комментарии к книге «Евклидово окно», Леонард Млодинов
Всего 0 комментариев